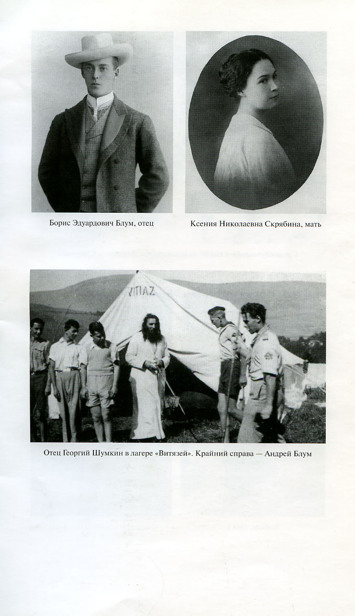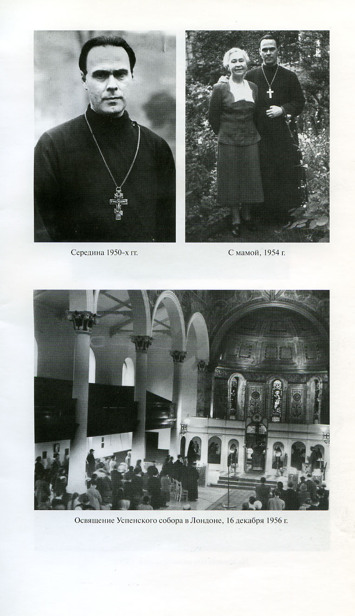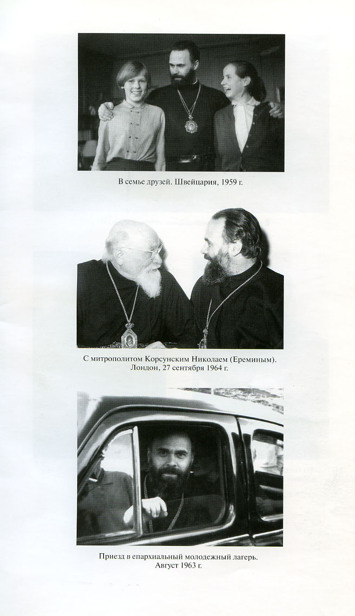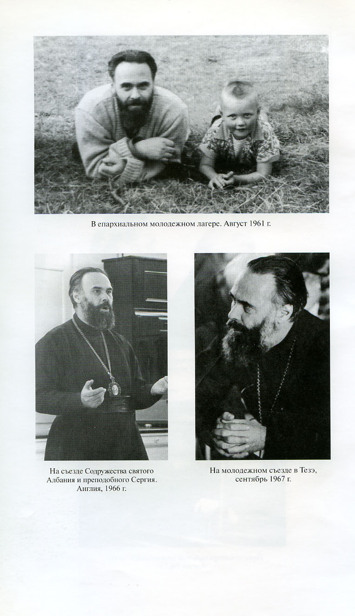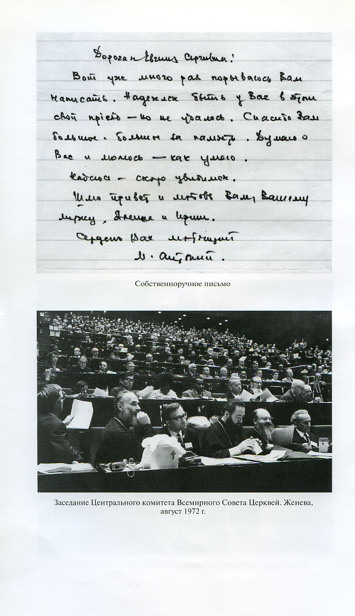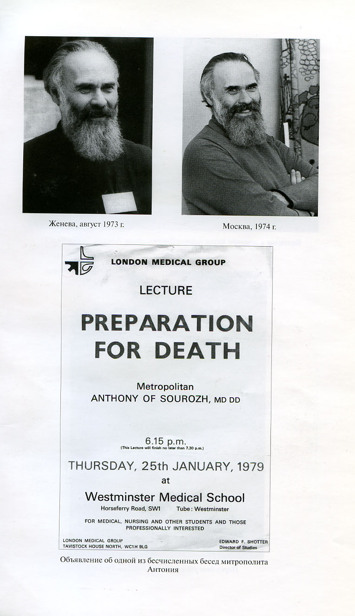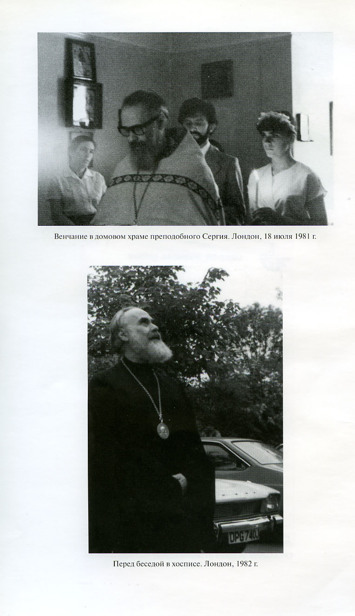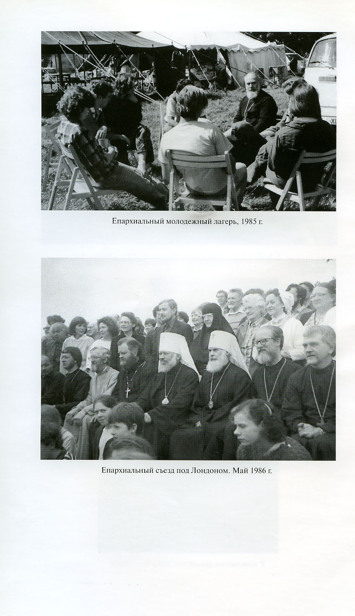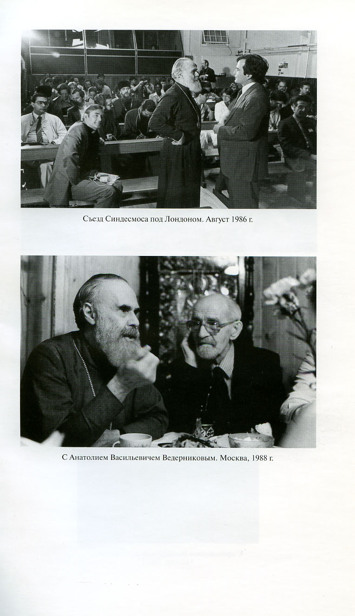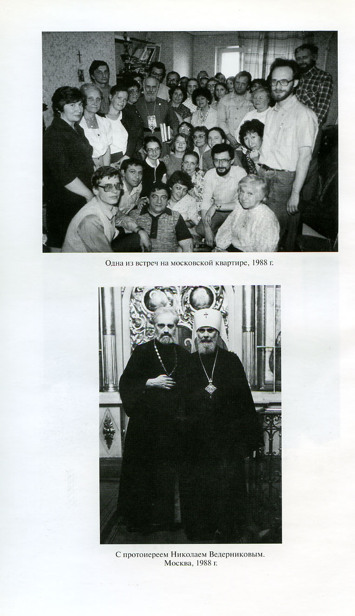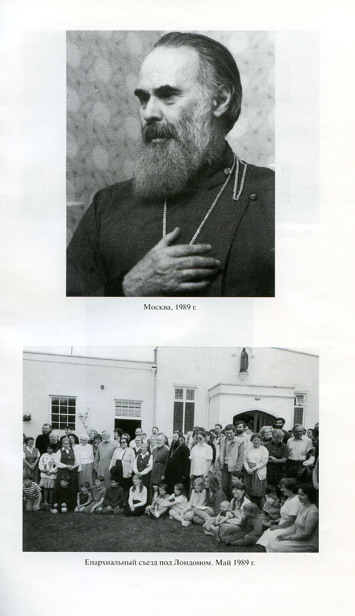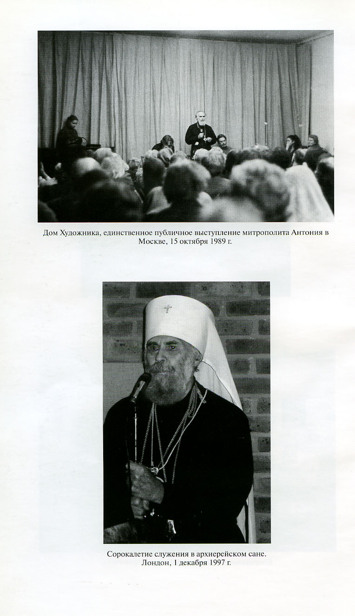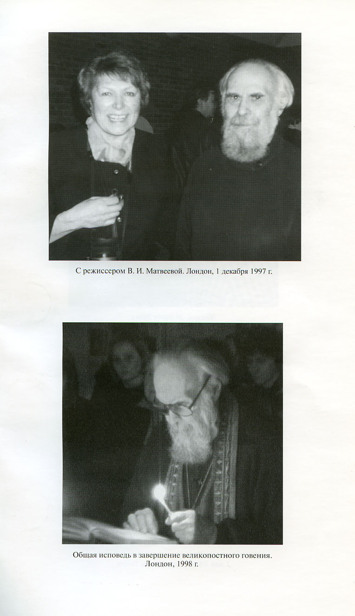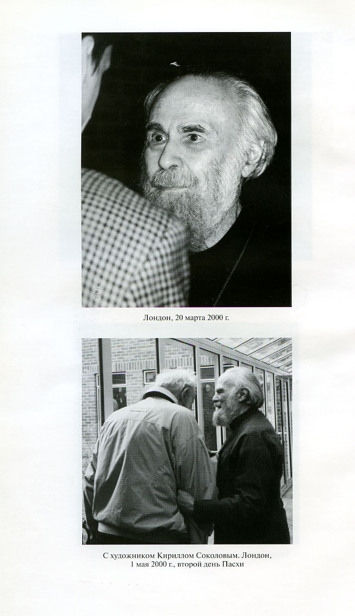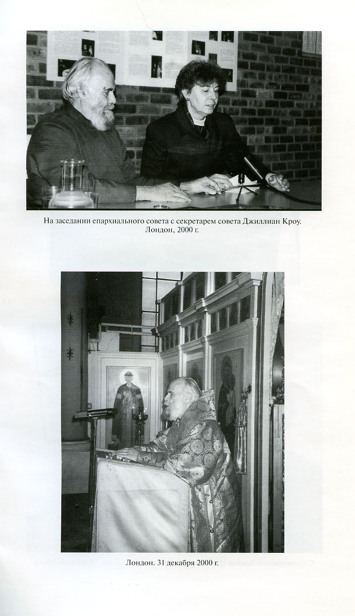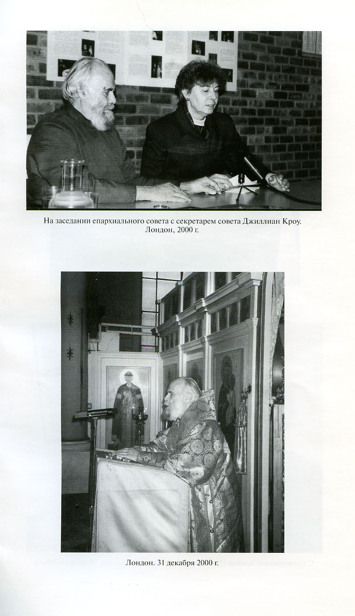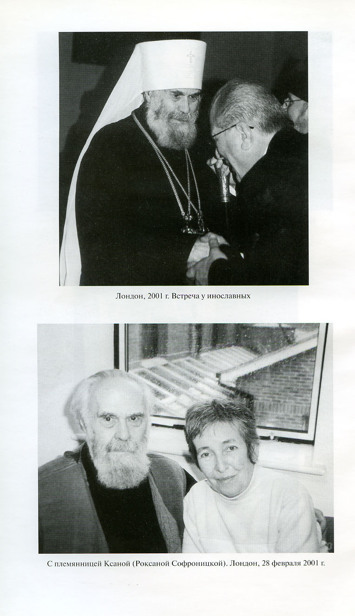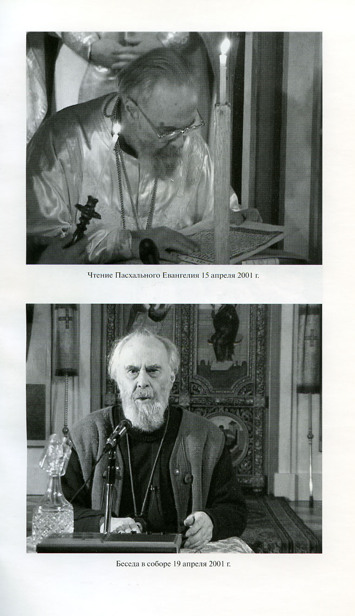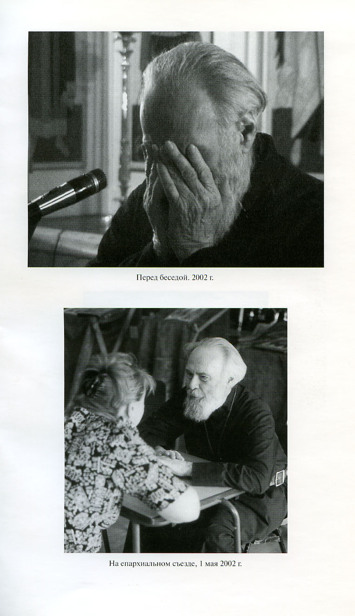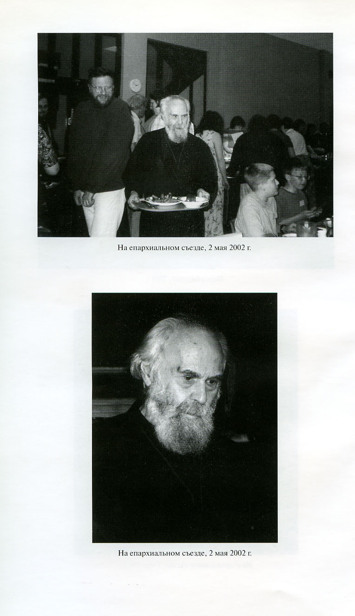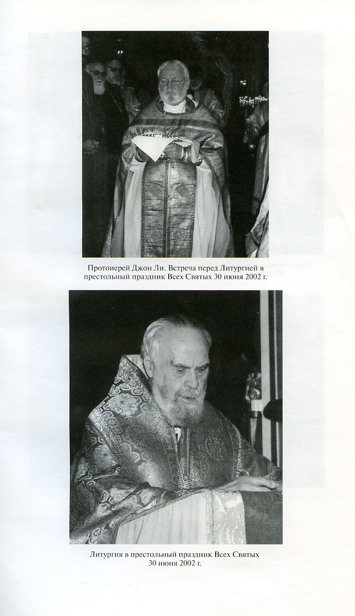БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Митрополит Антоний Сурожский (в миру Андрей Борисович Блум) родился 19 июня 1914 г. в Лозанне в семье российского дипломата. Мать, Ксения Николаевна, — сестра композитора А. Н. Скрябина. Раннее детство митрополита Антония прошло в Персии, где его отец, Борис Эдуардович, был консулом. После революции в России семья оказалась в эмиграции и после нескольких лет скитаний по Европе в 1923 г. осела во Франции. Детство и юность митрополита Антония были отмечены тяжкими лишениями и страданиями, присущими эмиграции, и твердой решимостью, разделяемой близкими митрополита Антония, жить для России. В возрасте четырнадцати лет при чтении Евангелия пережил личную встречу с Христом и с тех пор посвятил всю свою жизнь проповеди Евангелия. Сразу же, по его словам, открыл, что Христос Евангелия и Церкви – Один и Тот же, и пришел в Церковь. С 1931 г. прислуживал в храме Трехсвятительского подворья, единственного тогда храма Московской Патриархии в Париже, и с тех пор всегда хранил каноническую верность русской Патриаршей Церкви. В этом приходе обрел духовного отца в лице архимандрита Афанасия (Нечаева), выходца с Валаама, который соединил юного ученика со всей традицией духовного делания. В 1939 г. Андрей Блум окончил биологический и медицинский факультеты Сорбонны. Интерес к естественным наукам и глубокое внимание к человеку в его целостности сохранил на всю жизнь. Перед уходом на фронт хирургом французской армии, 10 сентября 1939 г., тайно принес монашеские обеты, а в 1943 г. был пострижен архимандритом Афанасием в монахи с именем Антоний. Во время немецкой оккупации — врач в антифашистском подполье. В 1948 г. рукоположен в иеромонаха и послан в Англию духовным руководителем Православно-англиканского Содружества св. мч. Албания и прп. Сергия. В 1950 г., по смерти протоиерея Владимира Феокритова, стал настоятелем храмов св. апостола Филиппа и прп. Сергия Радонежского. В 1956 г. приход храма ап. Филиппа получил новое помещение, храм Успения Божьей Матери и Всех Святых (освящение состоялось 16 декабря). Апостольская ревность отца Антония оживила жизнь в приходе (школа для детей, летний лагерь, издание приходского журнала, внебогослужебные беседы на русском и английском языках), а его открытость пробудила интерес к православию со стороны инославного окружения. Участвовал в работе Всемирного Совета Церквей и в экуменических встречах на местном уровне, позднее отошел от активного участия в экуменической работе, когда ВСЦ стал все больше отходить от церковной тематики к социальной и политической деятельности. В 1957 г. хиротонисан во епископа Сергиевского, викария Патриаршего Экзарха Западной Европы. В 1960 году совершил первую поездку в Москву, с тех пор бывал в России неоднократно. Его служения в далеко не самых известных храмах, всегда необъявленные заранее, собирали тем не менее тысячные толпы. Владыка стремился непосредственно общаться контакты не только с руководством Русской Православной Церкви, но и с рядовыми верующими, глубоко вникая в жизнь Русской Церкви в условиях атеистического государства. Года с 1968 начались потайные встречи и беседы на московских квартирах с группами, все более многочисленными, людей, жаждущих его слова. Кроме того, верующие в России слушали Владыку в религиозных передачах из Англии, и невозможно сказать, сколько людей в Советском Союзе пришли к вере благодаря его проповеди Евангелия и христианской жизни. С 1962 г. — архиепископ, правящий архиерей возникшей благодаря его трудам на Британских островах Сурожской епархии; с 1963 — и.о. Экзарха: назначение, которое приветствовала Англиканская Церковь и многие христианские деятели Европы. С 1966 г. — митрополит, в 1966—1974 — Экзарх Патриарха Московского в Западной Европе, ушел с этого поста в 1974 году. В 60-е годы вышло несколько книг о молитве на английском языке, давно уже ставших классическими, они переведены на множество языков мира и по-прежнему переиздаются. Все годы своего служения Владыка окормлял непрерывно растущую паству своей епархии, ежедневно принимал множество людей, подавая им утешение, совет и передавая им частицу своей силы и света, а также посредством книг, радио- и телебесед проповедовал Евангелие во всем мире. Первые книги на русском языке вышли в Париже (1976 и 1982), с концом советской эпохи сборники проповедей и бесед выходят в России и странах СНГ (тираж перевалил за миллион). В 1979 г. храм Успения и Всех Святых был выкуплен общиной, в 1993 году было построено приходское здание с большим залом для встреч, библиотекой, канцелярией, церковной лавкой. Еженедельные беседы с прихожанами лондонского прихода и верующими, приезжавшими из России все в большем числе, Владыка проводил десятилетиями и не прервал во время последней болезни. Уже смертельно больной, служил в последний раз Пасхальную заутреню 27 апреля 2003, скончался 4 августа того же года.
За годы его служения в Великобритании (1948—2003) из единственного русскоязычного прихода выросла живая многонациональная епархия с тридцатью общинами по всей стране, а духовное влияние, оказанное владыкой Антонием на людей самых разных убеждений по всему миру, не поддается измерению. Богословская мысль и пастырская деятельность митрополита Антония была отмечена почетным званием доктора богословия университетов Абердина и Кембриджа, Духовных Академий Москвы и Киева.
ОТ РЕДАКЦИИ
Первая книга Трудов вышла в свет в 2002 году и была предварена большой статьей с редакционным комментарием, посвященными богословию митрополита Антония Сурожского. Мы не будем повторяться. Скажем несколько слов о структуре этой второй книги. Первоначально она задумывалась как приношение к 90-летию Владыки и планировалась к выходу в 2004 году. Четвертого августа 2003 года митрополит Антоний скончался.
Первая книга, по мысли редакции, представляла самые важные для автора темы, вводила в его мысль и подводила к порогу Церкви. Вторая книга в большой мере посвящена теме самой Церкви. Более всего и несколько иначе, чем раньше, Владыка говорит о тайне Церкви, о своем понимании и переживании ее, о различных аспектах церковной жизни в беседах последних лет, вынесенных в начало книги. Он делится с нами своими «размышлениями, тревогой, вопрошанием».
Владыка ничего не писал, все тексты, собранные в этой книге, представляют собой запись живой, устной речи, и мы надеемся, что читатель почувствует особенности этой речи, прямой во всех смыслах слова. Естественно, устные жанры не предполагают разъясняющих примечаний и библиографических ссылок, поэтому все они даны редакцией, причем многие примечания повторяют уже сказанное в первой книге. Митрополит Антоний цитирует творения святых отцов так, как он их пережил и, может быть, дополнил личным духовным опытом, поэтому в подавляющем большинстве случаев мы не даем точной ссылки на источник цитаты. Обратим внимание читателя еще на одну особенность речи Владыки: иногда, особенно в беседах последних лет, он передает собственный духовный опыт, но делает это сокровенно, говоря в третьем лице.
Книгу предваряет биографическая справка и слово протоиерея Джона Ли, ближайшего помощника Владыки, сказанное в июне 2005 г. на епархиальной ассамблее, несколько переработанное для настоящего издания.
Эта книга составлена преимущественно из выступлений и бесед владыки Антония, никогда не появлявшихся в печати. К ним присоединены тексты, увидевшие свет в ставших недоступными читателю изданиях, и некоторые проповеди митрополита Антония, потому что «Владыка был таким проповедником слова Божия, каких не бывает на этом свете».
Все точные библейские цитаты, кроме особо оговоренных, приводятся по Синодальному переводу в издании Московской Патриархии. Собранные в этой книге лекции, проповеди и беседы митрополит Антоний произнес на русском, английском и французском языках. Все переводы, кроме особо оговоренных случаев, сделаны Е. Л. Майданович. Библиографию трудов митрополита Антония читатель найдет в конце книги.
Редакция благодарит за помощь в подготовке книги А.С. Агаджаняна, протоиерея Александра Геронимуса, дьякона Григория Геронимуса, Е.Д. Богданову, Н.В. Брагинскую, М.Л. Гринберга, А.И. Кырлежева, В.И. Матвееву, Е.В. Орлову, Е.П. и Е.Г. Утенковых, Б.Х. Хазанова, И.В. Чаброва. Особо благодарим О.А. Седакову за перевод богослужебных текстов.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Пока человек жив, отношения с ним могут меняться час от часу, день ото дня, год от года. С его смертью все это уходит, и только тогда наступает ясность.
Именно это, как мне кажется, имеет место в наших отношениях с покойным митрополитом Антонием. Меня просили коротко рассказать о том, как я ощущаю его наследие нам — епархии, приходу и лично мне. Оглядываясь вокруг, я вижу людей, знавших Владыку много дольше, чем я, и каждый, кто знал его, может утверждать, что поддерживал с ним особенные, личные отношения.
Расскажу немного о моих отношениях с владыкой Антонием. Впервые мы встретились в 1971 году, тогда я учительствовал недалеко от Оксфорда. Владыка посетил церковь, которая была в частном доме. Как многие, я сразу попал под воздействие его проницательного взгляда, почувствовал необыкновенно внимательное отношение ко мне лично. Это покорило меня, в тот день я записал в дневник: «Какой замечательный человек!» Тогда же Владыка посоветовал мне оставаться в Синодальной Церкви, к которой, по его словам, он питал большую симпатию. Владыка пригласил меня заезжать к нему в Лондон, но я ответил, что скоро возвращаюсь домой в Америку. Мы не виделись до 1973 года, когда случайно встретились в Гайд-Парке, он пригласил меня зайти, и я согласился… Потом я стал просто ходить в церковь; он, заметив меня, кивал головой и улыбался. Однажды, когда нам удалось поговорить, он спросил меня, учился ли я в семинарии. Я сказал: «Да, я ходил в семинарию, но не в ту, какую надо». Владыка сказал: «Ну, это не имеет значения. Вы закончили курс?» И я ответил: «Да, все пять лет». — «А почему вы не стали священником?» — «Я не знаю, видимо, на то не было Божией воли». Владыка положил руку мне на плечо и сказал: «Я думаю, Господь изменил Свое мнение». И так начались наши беседы, в конце концов я был рукоположен и стал священником Лондонского прихода. Думаю, наша дружба возрастала медленно, оттого что я никогда не верил, что митрополит может быть в дружбе с кем-нибудь вроде меня. Я действительно в такое не верил!
Так начался совершенно исключительный этап моей жизни, за неимением лучшего выражения я бы назвал его «бегом с препятствиями». В первые годы нашей дружбы отношения были очень неровными, в большой мере из-за обычая Владыки отменять встречи в последний момент. Однажды мы с женой раз семь подряд переносили наши рабочие дела, пристраивали детей и все прочее, а я пришел к Владыке и снова нашел на двери записку. Я заявил, что больше не намерен терпеть подобное, и мы поссорились. Когда Владыка провожал меня до двери, он произнес — я до сих пор слышу его глубокий голос и русский акцент: «Позвольте сказать, дорогой Джон: я очень рад, что мы не муж с женой».
С тех пор Владыка перестал отменять наши с ним встречи в последнюю минуту, но часто просил передать кому-нибудь свои извинения. Тут вспоминаются два случая. Как-то зимой он позвонил мне в будний день ровно в то время, когда улицы забиты машинами, и попросил провести вместо него беседу в Эссексе, в Ромфорде, в половине восьмого. Я согласился поехать, но предупредил, что не поспею ко времени. Пока он извинялся, я спросил: «Кстати, какая тема беседы?» — «Ангелы», — ответил Владыка, и мы рассмеялись. В другой раз звонок раздался в три часа дня в пятницу, он сказал, что плохо себя чувствует, и попросил поехать в Херефорд у границы Уэльса и провести говение для клириков Херефордской англиканской епархии. Я отказался: если бы аудитория состояла не из духовенства, я бы поехал.
В последние годы и во время болезни Владыка как будто все больше полагался на меня — уж не знаю, почему: нам все еще случалось спорить. Как-то он хлопнул за мной дверью, я постучался, и когда он сердито открыл мне, я произнес: «Я еще не все сказал». Владыка рассмеялся и жестом пригласил войти.
Если быть уж совсем откровенным: не могу даже сказать, что мне недостает Владыки. Поначалу мне было не по себе от этого, но теперь я понял, что причина тут в том наследии, которое он нам оставил. Для меня, как и для многих, наследие это очень живо. Состоит оно, на мой взгляд, из трех частей: это Церковь, затем молитва и богослужение и, наконец, личные отношения.
К моменту нашей первой встречи наша семья принадлежала к синодальному приходу. Я мыслил очень узко и главным считал соблюдать правила.
Еще в нашем самом первом разговоре с митрополитом Антонием он сокрушался, что столько правил и традиций отброшено. Не думаю, что Владыка сознательно стремился произвести впечатление, — он на самом деле так чувствовал. Более того, в день, когда он рукоположил меня священником — вы знаете, что он всегда говорил несколько слов рукополагаемому в момент, когда тот должен пройти Царскими вратами, — он сказал мне: «Я рукополагаю тебя, чтобы ты помог хранить равновесие между старым и новым — не бойся ни того, ни другого».
Один из принципов, которому он постепенно научил меня, — лучше нарушить правило, чем сломать человека. Для меня это было ново. Мои отец с матерью были фермерами и их родители тоже, жизнь шла по строгим правилам: встаешь в пять утра, одеваешься—и живешь по часам.
Владыка учил, что рука, протянутая к событиям и людям, должна быть легкой — так поступает Бог по отношению ко всем нам.
Он привел меня к пониманию того, что ответы на главные вопросы ищешь долго и, что еще важнее, ответы эти не одинаковые для всех.
Из сказанного может показаться, что митрополит Антоний был либералом худшего толка, но это не так. «Всегда имей правило под рукой, — говорил он мне, — это лучшая указка, но не всегда решающая».
Владыка любил Россию, любил русских людей, любил многое русское, но был убежден до глубины души, что Церковь не бывает ни русской, ни греческой, ни сербской, ни даже английской; напротив, Церковь — это всеобщая дружба со Христом.
Об этом можно говорить еще очень долго, я многое узнал о Церкви от Владыки, и это навсегда останется со мной и со многими из нас, но теперь я перейду ко второй теме, к теме молитвы и богослужения.
Это болезненная для меня тема, потому что, боюсь, мы теряем, по крайней мере в Лондонском соборе, привитое Владыкой отношение к молитве и богослужению. Владыка всегда учил меня приходить в церковь заранее, чтобы успеть приготовить все, что нужно, найти и заложить в книгах места чтений и так далее, потому что служба исключает посторонние разговоры.
Те, кто продолжает ходить в собор, не могли не заметить возрастающие перемены по сравнению с тем, что было при Владыке. Священники разговаривают, дьяконы разговаривают, естественно, алтарники тоже не стесняются разговаривать. И после этого священники смеют одергивать собравшихся: не болтайте! Все это очень грустно, и я не могу мириться с тем, что такова «русская привычка»: будь она хоть греческая, сербская, румынская, какая угодно — это дурная привычка и прямое покушение на наследие митрополита Антония: я так ясно помню, как он досадовал, как отвечал сквозь зубы, когда его о чем-то спрашивали во время службы. Очень часто в ответ звучало решительное «нет!». Мне очень больно наблюдать, что теперь служба сопровождается суетой, обсуждением предстоящих действий, — ничего этого быть не должно. Надо сказать, владыка Василий изо всех сил старается удержать службу на былой высоте, но из вежливости отвечает на вопросы священников, дьяконов алтарников — это они (а порой и я сам) виноваты в отступлении от завещанного митрополитом Антонием. Наш собор, наша епархия всегда отличались в этом отношении, а теперь, как говорят, в других приходах молитвенный дух более живой, чем в соборе. Мена это очень печалит, это должно всех нас печалить, и смею надеяться, нам еще удастся тут что-то исправить.
Наконец, о личных отношениях. Как я уже говорил, у каждого из нас были свои, особенные отношения с владыкой Антонием. Тот факт, что сам он был в первую очередь человеком для доверительной беседы, порой создавал административные трудности, но мне кажется, что дух уважения, с которым он относился к каждому человеку, распространялся по всей епархии. Наше духовенство всегда было братством. Неприступность, чувство собственного значения вовсе нам не свойственны — это совершенно определенно Антониева печать на нас. Многие из нас, особенно лондонцы, слышали от разных людей одну и ту же историю. Человек звонит в дверь и просит позволения посмотреть собор, а потом рассказывает: «Нас провел по храму старый привратник». Этим «старым привратником» оказывался митрополит Антоний!
Существенно и то, что Владыка не требовал какого-либо комфорта: он легко терпел жару, холод, голод, усталость; ничего этого он не замечал. Я не помню, чтобы он купил хоть что-нибудь ради удовольствия или просто удобства. И еще: каждый год на Рождество мы готовили Владыке подарки, но он их немедленно передаривал, и мы перестали это делать. Я думаю, многие с этим сталкивались: Владыка все раздавал. За эти 25 лет, однако, множество раз мне случалось говорить ему об остро нуждающихся людях, он ни разу не отказался помочь и как-то находил нужные деньги, иногда весьма значительные.
Осталось сказать несколько слов о последних днях Владыки. Думаю, я вправе поделиться этими воспоминаниями.
В феврале 2003 года, после того как у Владыки появилась кровь в моче, а он несколько месяцев упрямо отказывался показаться врачам, ему поставили диагноз: рак мочевого пузыря. Он указал на меня как на next-of-kin, на ближайшего ему человека, поэтому я присутствовал на встречах с врачом. На первой после операции встрече врач был настроен оптимистически. Когда мы уже садились в машину, я заметил: «Что ж, все неплохо. Врач говорит — прогноз хороший». Владыка Антоний посмотрел на меня и произнес: «Он ошибается». И рассказал свой сон: ему приснилась бабушка. Вид у нее был торжественный, она держала календарь и молча листала его. Быстро промелькнули февраль, март, апрель, май, июнь. Когда дошло до июля, движение замедлилось и на четвертом августа остановилось. И он сказал мне: «Я умру четвертого августа».
Началось долгое лечение — облучение и химиотерапия. Я возил Владыку на сеансы ежедневно почти восемь недель, ему требовались большие дозы обезболивающих. Однако лечение не дало результатов, и 23 июля Владыке пришлось лечь в Тринити-хоспис. Опять-таки, я проводил там целые дни. Я выслушал последнюю исповедь Владыки, соборовал и причастил его. Довольно скоро после этого он потерял сознание и во второй половине дня четвертого августа скончался.
Незадолго до этого он спросил, готов ли я оказать ему последнюю услугу, и я сквозь слезы ответил согласием. Владыка дал мне список имен и просил молиться об этих людях до конца моей жизни, как он сам молился, — имена он просил никому не открывать.
Владыка ушел от нас. Он был святым, но был и грешником. Он был мудр, но делал ошибки. Он видел славу человека и, я верю, встретил Бога.
Однажды, когда я на него за что-то рассердился, Владыка сказал мне: «Джон, ты деревенский мальчик, ты знаешь, что из навоза может вырасти добрый плод, — так и думай обо мне».
Протоиерей Джон Ли Лондон, 2005
Сокращенные названия библейских книг
Ветхий Завет
Быт — Бытие, Исх — Исход, Лев — Левит, Чис — Числа, Втор — Второзаконие, Нав — Книга Иисуса Навина, Суд — Книга Судей израилевых, Руфь — Книга Руфи, 1 Цар — Первая книга Царств, 2 Цар — Вторая книга Царств, 3 Цар — Третья книга Царств, 4 Цар —Четвертая книга Царств, 1 Пар — Первая книга Паралипоменон, 2 Пар — Вторая книга Паралипоменон, 1 Езд — Первая книга Ездры, Неем —Книга Неемии, 2 Езд — Вторя книга Ездры, Тов — Книга Товита, Иудифь — Книга Иудифи, Есф — Книга Есфири, Иов — Книга Иова, Пс —Псалтирь, Притч — Притчи Соломона, Еккл — Книга Екклезиаста, Песн — Песнь песней Соломона, Прем — Книга Премудрости, Сир —Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова, Ис — Книга порока Исайи, Иер — Книга пророка Иеремии, Плач — Плач Иеремии, Посл Иер —Послание Иеремии, Вар — Книга пророка Варуха, Иез — Книга порока Иезекииля, Дан — Книга порока Даниила, Ос — Книга пророка Осии,Иоил — Книга порока Иоиля, Ам — Книга пророка Амоса, Авд — Книга пророка Авдия, Иона — Книга пророка Ионы, Мих — Книга пророка Михея, Наум — Книга пророка Наума, Авв — Книга пророка Аввакума, Соф — Книга пророка Софонии, Агг — Книга пророка Аггея, Зах —Книга пророка Захарии, Мал — Книга пророка Малахии, 1 Мак — Первая книга Маккавейская, 2 Мак — Вторая книга Маккавейская, 3 Мак —Третья книга Маккавейская, 3 Езд — Третья книга Ездры.
Новый Завет
Мф — Евангелие от Матфея, Мк — Евангелие от Марка, Лк — Евангелие от Луки, Ин — Евангелие от Иоанна, Деян — Деяния святых апостолов, Иак — Послание Иакова, 1 Пет — Первое послание Петра, 2 Пет — Второе послание Петра, 1 Ин — Первое послание Иоанна,2 Ин — Второе послание Иоанна, 3 Ин — Третье послание Иоанна, Иуд — Послание Иуды, Рим — Послание к Римлянам, 1 Кор — Первое послание к Коринфянам, 2 Кор — Второе послание к Коринфянам, Гал — Послание к Галатам, Еф — Послание к Ефесянам, Флп — Послание к Филиппийцам, Кол — Послание к Колоссянам, 1 Фес — Первое послание к Фессалоникийцам (Солунянам), 2 Фес — Второе послание к Фессалоникийцам (Солунянам), 1 Тим — Первое послание к Тимофею, 2 Тим — Второе послание к Тимофею, Тит — Послание к Титу, Флм —Послание к Филимону, Евр — Послание к Евреям, Откр — Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис).
Вместо введения. Беседы последних лет[1]
Беседы 2002 года
Мои беседы в этом году будут несколько своеобразны: это больше мои размышления, моя тревога, мое вопрошание, чем учение, которое я мог бы вам преподать. Мне хочется вслух продумать, что представляет собой Церковь — не как заведение и не как здание, а как место, где живые души встречают Живого Бога, но и не в меньшей мере встречают друг друга.
Когда так выражаешься, думается: это дело нетрудное, Бог нам всем открыт, стоит к Нему обратиться, стоит свое сердце открыть Ему и все будет хорошо. Оно было бы очень просто и очень хорошо, если бы мы умели стать перед Богом и открыться до самых глубин. Встать перед Ним не только в момент молитвы, хотя это решающий момент, когда мы можем научиться открываться Богу, но в течение всей нашей жизни, изо дня в день, из десятилетия в десятилетие, порой в течение очень долгой и сложной жизни. И сложность этой жизни играет большую роль, потому что, в зависимости от того насколько она сложна, насколько извне, через обстоятельства или через общение с людьми, перед нами встают вопросы, иногда переворачивается вся наша жизнь и все наше сознание.
И вот мне хочется в течение нескольких бесед с вами поделиться (в беспорядочном, может быть, виде) тем, что у меня накопилось за долгую теперь жизнь о Церкви, о том, что она собой представляет в сущности и о том, как она воплощается и находит себе выражение в нашей жизни, среди людей. В своем роде можно многое понять об этом из того, как проходит жизнь в семье: отец, мать, дети, родственники, как будто самые близкие друг другу, а вместе с этим как сложны бывают их взаимные отношения. Не так-то просто быть отцом или матерью, как непросто ребенку или подростку понимать своих родных, как непросто людям одного поколения понимать другое поколение, внуки не всегда легко понимают строй души, ума и подход к жизни своих прародителей. И этот ряд бесед, который в каком-то отношении будет не организованный, не в виде преподавания какой-то истины, а попыткой поделиться чем-то с вами, я начну с чего-то очень личного.
Я стал верующим не через Церковь. И я Богу очень за это благодарен в том смысле, что ранние мои годы не были оформлены церковностью или оформлены какими-то убеждениями, которые я исповедовал бы, не понимая, в сущности, их содержания. И то, что я говорю о детстве, можно сказать о жизни, о подходе и опыте очень многих взрослых людей, которые исповедуют свою веру, будь то православную или инославную, будь то христианскую и нехристианскую, — исповедуют ее формально, исповедуют то, что им было передано, но чего они не пережили сами, что для них не является их собственным опытом, который выражается в тех или других словах. Я думаю, что нетрудно найти примеры тому.
Если вы возьмете Символ веры — в каком-то смысле он очень прост.
[2] Там сказаны вещи несложные о Боге, о Церкви, но если мы начнем задумываться над тем, что сказано, останавливаться на словах, которые употреблены, то мы станем глубже и глубже вникать в то, что хотели наши предки нам передать теми или другими выражениями. Эти выражения у них вырвались из опыта. Они их высказали много столетий назад на языках, на которых мы больше не говорим. Перевод передает нам смысл, но вместе с этим он не всегда передает тот как бы крик души, который был вложен в эти слова, когда они были впервые провозглашены. Многие слова стали для нас условными. Мы их понимаем даже не задумываясь. Не в том смысле, что они условные и мало что значат: они значат что-то, они трогают нашу душу. Но если поставить перед собой вопрос о том, что они значат, как передать их содержание чужому человеку, человеку, который чужд нашему опыту, мы видим, что это далеко не так просто. Я вам уже давал примеры этого. Слово любовь — такое сложное слово, слово свобода — такое многогранное слово. Мы, употребляя эти слова, знаем, что мы хотим сказать в основе, но если задумаемся поглубже, то оказывается, что это совсем не так просто.
Как я уже вам сказал, Бог мне открылся каким-то непосредственным образом. Многие уже знают о том, как это было, и я это коротко повторю, потому что это очень важно, мне кажется. Я рос вне Церкви, мои родители были верующие, но никогда об этом не говорили. Они жили какой-то глубокой жизнью, которой они не делились, в храм мы никогда не ходили. Мой опыт Церкви был совершенно как бы внешний и чуждый мне. Для меня ничего не значило богослужение, для меня ничего не значило то, что говорится там. Я помню, как меня подростком раз повели в церковь, чтобы мне показать ее, дать мне как-то пережить богослужение и посмотреть, какая будет моя реакция. И опыт был очень неудачный, я бы сказал — смешной, не в честь мне. Мы вошли, стали почти у двери. Меня впервые обдали тучи ладана, я потянул носом и упал в обморок. Меня увели домой, и из этого я сделал первое свое заключение о церкви: теперь я знаю, как избежать посещения церкви, — когда меня в следующий раз поведут, я сразу потяну носом, упаду в обморок и больше никогда в нее не вернусь. Вот мой опыт церкви. Речь не шла о богослужении даже, еще меньше шла об учении Церкви.
Когда мне было лет четырнадцать, я был участником русской организации «Витязей». Организация была пламенно русская, национальная, нас готовили быть русскими до самых глубин, знать язык, его любить, его понимать, знать русскую историю, знать русскую словесность, ценить все, что является русским. Для многих из вас, которые выехали из России сейчас, это, может, не так поражающе, но подумайте, что это происходило в двадцатые годы, вскоре после революции. Нас учили жить для России, узнавать о ней все, что только можно узнать, полюбить ее не только сердцем и умом, но готовностью жизнь отдать. Нас учили тогда военному строю, с тем чтобы мы могли рано или поздно вернуться в Россию, ее освободить от коммунистического ига. Нас готовили также к тому, чтобы в Россию в свое время принести все то, чем богат был Запад. Нам говорили, что мы должны учиться изо всех сил, что мы должны познавать все, чему можно научиться на Западе, с тем чтобы, когда будет возможным, это принести на Родину и отдать своему народу. Вот чем мы жили, но не Церковью.
Это не совсем правда: у нас в организации был священник, замечательный, хотя совершенно незаметный человек, — отец Георгий Шумкин. Нам, маленьким мальчикам, он казался страшно старым. Ему тогда было лет тридцать с небольшим. У него были длинные волосы, длинная борода. Мы на него смотрели — я бы сказал: как на икону, если бы только мы верили в иконы, — как на образ чего-то не этого мира. И у него было одно свойство, которое у меня осталось в душе на всю жизнь благодарностью ему, умилением перед ним: он нас, мальчиков, умел любить, любить всех без различия. Когда мы были «хорошие» (в кавычках, потому что особенно хорошими мы никогда не были), его любовь была ликующей радостью, светящейся радостью. Когда мы делались дрянными, его любовь не уменьшалась, но она превращалась в жгучую боль, в страдание. Тогда, конечно, я не понимал этого, я только это переживал. Когда я поступал не так, делал не то, мне было ужасно думать о том, как ему больно, потому что я его любил по-своему. Я только много-много лет спустя понял, что в его лице я оказался перед иконой Бога, — Бога, Который так возлюбил человечество, что Он Своего Сына отдал, чтобы нас спасти, ликуя о тех, которые верные, и отдавая Сына на смерть за тех, которые неверные — неверные ни себе, ни другим, ни Ему.
В этой организации в какой-то воскресный день при хорошей погоде мы играли в волейбол. Это была страсть моей жизни. И вдруг игру прервал один из моих начальников и сказал: «Мальчики, мы сегодня пригласили священника с вами побеседовать, уходите с поля». Я с негодованием на него посмотрел: «Вы что, погода хорошая, воскресный день, мы свободны, и вы хотите нас загнать в какую-то комнату слушать священника! Я в Бога не верю, в священников не верю, в церковь не хожу, зачем мне туда идти?». Он был человек с умом, с сообразительностью. Он не сказал мне, что это будет хорошо для моей души — я бы ответил или что души у меня нет, или что ничего хорошего от этого не будет, а только раздражение и злоба. Он мне сказал: «Ты понимаешь, что этот священник разнесет по всему Парижу, если никто из вас не придет на его беседу. Ты не можешь так подвести нашу организацию». Это я мог понять. Я сразу ушел с поля и пошел на беседу.
Беседовал с нами один из самых больших богословов русской эмиграции, отец Сергий Булгаков. Беседа его, несомненно, была и глубока, и прекрасна, но он не привык, видно было, беседовать с детьми. Он с нами говорил на таком языке, который до меня не доходил. Я вам уже сказал, что нас готовили к тому, чтобы, если нужно, ценой нашей жизни, с оружием в руках освобождать Россию, а он нам говорил о том, что Христос — образ смирения, образ любви, образ беззащитности… И меня это все больше и больше возмущало. Я не могу за таким Учителем идти, не могу, потому что это противоречит всему, чему меня учат и куда меня зовут. Я честно отсидел всю беседу, слушал и злился. И на поле игры я не вернулся, а прямо помчался домой и всю дорогу себе твердил: если это — вера, если это — Бог, я ничего общего с этим иметь не хочу!
Когда я приехал домой, я спросил у мамы, есть ли у нее Евангелие. Евангелие у нее оказалось, оно и сейчас у меня есть. Я решил прочитать, проверить, таков ли образ настоящего Христа, Каким Он был представлен нам. Я смутно помнил, что Евангелий больше, чем одно, и острым умом сообразил, что если так, то одно должно быть короче других, и поэтому начал считать страницы и нашел, что самое короткое Евангелие — это Евангелие от Марка. И тут, если я смею так выразиться, Бог меня поймал, потому что Евангелие от Марка было написано именно для таких молодых дикарей, как я. Оно было написано для римской молодежи, молодежи страны, еще не принявшей христианской веры. Оно было написано прямо, твердо, понятно. Я начал его читать, и тут случилось нечто, о чем мне не раз говорили: что, вероятно, меня что-то ударило в голову и я с тех пор перестал быть нормальным. Я не спорю с этим, я не могу быть иным. Между первой и началом третьей главы Евангелия я вдруг с совершенной ясностью ощутил, что по ту сторону стола, перед которым я сижу и читаю, стоит Христос. Я ничего не видел, ничего не обонял, ничего не слыхал, это было не вещественное восприятие, а какая-то совершенно ясная уверенность, что Он стоит тут и что я в Его присутствии. Я откинулся к спинке стула и молчал, и воспринимал это Присутствие, и потом подумал: если Христос, о Котором сказано в Евангелии, что Он был распят и умер на Кресте, — здесь, Живой и передо мной, значит, верно и другое, что в Евангелии сказано, чему я верить не мог, — что Он воскрес и живет во веки веков… И я помню, что я тогда подумал: если это так, тогда Ему можно верить.
Я вам все это рассказываю не потому что, как кто-то (кажется, Достоевский) писал: с интересом человек может говорить о чем угодно, с аппетитом — только о себе самом. Я вам это рассказываю, чтобы показать, сказать, почему я верю и как вера ворвалась в мою жизнь. Это не было системой умственных догадок, это не было системой мировоззрения, это был непосредственный опыт встречи с Живым Богом. И из этой встречи я сделал прямое, немедленное заключение: если это так, тогда то, что Он говорит, то, к чему Он нас призывает, — правда. И если я хочу быть Его учеником, я должен научиться тому основному, о чем Он говорит.
И тут я хочу вам сказать еще немножко больше. Вы меня простите, что я столько о себе говорю, но, мне кажется, это очень важно у преддверия того, что я хочу в будущих беседах говорить о Церкви. Я решил посмотреть еще страницы других Евангелий. Я открыл книгу наугад и попал на место в Евангелии от Матфея, где говорится, что Бог Свое солнце светит на добрых и на злых (Мф 5:45), то есть равно, без различия, не откидывая одних и принимая других. Я тогда остановился в изумлении. Это опять-таки было поворотным моментом в моей жизни.
Жизнь тогда была очень трудная, болезненная, мучительная. К четырнадцати годам я пришел к заключению, что человечество — как джунгли, что всякий человек — как дикий зверь, который тебя разорвет, если только ты не умеешь защититься. О любви никакой речи не было, кроме как семейной любви. Жизнь — это область ненависти, грубости, беспощадности, в которой можно остаться живым, только если стать бесчувственным, окаменелым. И вдруг я вижу, что Бог любит всех без различия, добрых и злых. Я долго сидел в раздумье и потом, помню, сказал себе: если я хочу быть с Богом, то я должен научиться любить тех, которые меня будут мучить, терзать, разрушать… Мне не представилось, что это дело легкое, но мне представилось так: если я хочу быть учеником Христа, если я хочу быть учеником Бога, то у меня выхода другого нет. Это первое.
Дальше я повернул несколько страниц и попал на рассказ о блудном сыне (Лк 15). И в этом рассказе меня несколько вещей поразило. Первым меня поразил образ отца. Сын, которого он воспитывал в надежде, что он будет с ним до конца его дней, будет наследником его дома, его жизни, этот сын в какой-то момент решил, что ему скучно, что такая жизнь не для него, что он хочет городской жизни, и он сказал отцу: «Дай мне теперь то, что мне осталось бы после твоей смерти». Мы это не переживаем так, верно, как отец пережил. «То, что мне осталось бы после твоей смерти» — это значит: «Я не могу дождаться момента, когда ты умрешь, чтобы от твоих трудов разбогатеть и быть свободным. Сговоримся: умри сейчас для меня, и я уйду. Я тебя забуду, и ты меня забудь». Вот как прозвучали для меня эти слова. Я любил своих отца и мать, и меня это ударило очень глубоко и больно в душу. И что сделал отец: он разделил свое имение, дал мальчику его долю и отпустил с миром, с любовью, со слезами в душе, но без одного слова упрека. И дальше этот мальчик пошел в мир. Пока у него было богатство, средства привлечь других людей, которые хотели поживиться от него, вокруг него были какие-то люди. А когда у него ничего не стало — и вдруг никого не стало, и он вдруг понял, что никакой любви, никакой близости между ним и этими людьми никогда не было. И он подумал о том, какова была любовь отца, какова была близость между ними. Отец его не вышвырнул, он согласился умереть в его глазах. И мальчик решил вернуться, и на пути он твердил себе покаянные слова: отче, прости меня, я согрешил против неба и перед тобой, я не достоин быть твоим сыном, прими меня как одного из твоих наемников… И он уже подходил к дому, и, верно, отец его издали увидел.
Я не сомневаюсь в том, что отец несколько раз в день выходил смотреть вдаль, не возвращается ли мальчик. И мальчик не возвращался. И вдруг отец видит его, он в лохмотьях, босиком, обездоленный, наверное, голодный, идет домой, — домой, в родной дом. И отец бросился к нему навстречу, и сын бросился к его ногам и начал свою исповедь: «Я согрешил против неба и перед тобой, я недостоин называться твоим сыном…» И тут его отец остановил, потому что недостойным сыном, да, он мог быть, но достойным наемником, чужим человеком по отношению к родному отцу — нет. Отец его остановил и не дал этих слов сказать. И он обратился к своим слугам, позвал их: вернулся сын, принесите, как сказано в Евангелии, первую его одежду. И в некоторых западных переводах слова «первую одежду» переводят как «самую лучшую одежду, которую в доме вы можете найти». И это, мне думается, не так. Отец не думал нарядить своего сына в чужой кафтан. Он велел слугам принести из того укромного места, где он ее хранил со всей любовью, со всей болью сердца, ту одежду, которую сын сбросил с плеч, когда оделся попугаем для того, чтобы идти в город. И сын сбросил лохмотья, надел одежду, которая была его одеждой, сыновней одеждой, одеждой того, который как будто никогда из дому не уходил, и вернулся домой. Это меня тоже так поразило, что я до сих пор не могу об этом говорить без глубокого чувства.
Вот два места в Евангелии, которые вместе с чувством, с сознанием присутствия самого Христа перевернули мою жизнь. И с тех пор у меня очень острое чувство, что быть верующим не заключается в том, чтобы поверить тому, что другие люди говорят о Боге, о Христе, о Святом Духе, о Божией Матери, о Церкви, о человеке. Быть учеником Христа — это значит хоть один отрывок, несколько строчек из Евангелия так пережить, чтобы это перевернуло твою жизнь. Вы сами понимаете — мне тогда было четырнадцать лет, мою жизнь это перевернуло до самых глубин только внутренне. Я не стал жить по-иному, продолжал ходить в школу, продолжал ходить на собрания «Витязей», продолжал готовиться к освобождению России, продолжал стараться стать русским до глубин души, да, но это все было по-новому. Бог вошел в мою жизнь тогда.
И вот хочу перед каждым из вас поставить этот вопрос: вы когда-нибудь читали Евангелие так, чтобы оно до вас дошло, как меч, который пронзает сердце? Какой-нибудь образ, какое-нибудь слово, что-нибудь дошло до вас так, что вы могли сказать: я теперь уже не тот. Я не стал лучше, но я стал иной. Я еще не стал лучше; для того чтобы лучше стать, мне придется бороться, вероятно, годами, я до сих пор лучше не стал, но эти слова перевернули все в моей жизни… Почитайте Евангелие, поставьте перед собой вопрос о том, что оно вам говорит. Не объективно — о Христе, о Боге, о том или другом, а вам лично, как оно врезается в вашу жизнь. А если не врезается — и это примите как факт, потому что во многом Священное Писание остается для нас внешним, оно не пронизывает нашу жизнь и душу. Подумайте: если только одно место дойдет до вашей души, это уже начало жизни во Христе и со Христом. Но именно до души, не до ума, не до объективного понимания, не до богословского восприятия.
После того что я вам рассказывал, я своему отцу упомянул, что прочел Евангелие, нечто в Евангелии, и спросил, как мне его читать, потому что там столько, столько, — чего в нем искать? (Большей частью вам говорят: читайте Евангелие и отмечайте то, в чем оно вас обличает. Неправда, не этого ищите! Ищите в Евангелии то, что вас вдохновляет, то, от чего сердце делается трепетным, то, от чего в уме делается светло, то, что вас побуждает сказать: Господи, неужели я, какой есть, что-то имею общее со Христом?! Его слова до меня дошли, они звучат в моем сердце, в моем уме. Если только я сумею превратить свою жизнь, они станут самой жизнью.) И отец мне сказал вещь, которую я очень оценил на протяжении последующих лет. Он мне сказал: «Каждый день читай по несколько строчек Евангелия и ставь перед собой вопрос. Первый: что на самом деле здесь говорится? не то, что, как тебе кажется, сказано, а то, что на самом деле сказано. Второе: что ты уже об этом знаешь в собственном опыте, из собственной жизни? И в-третьих: что в этом нового, о чем ты никогда не имел представления и чего, может быть, еще и понять не можешь? Делай это в течение целой недели с одним-единственным отрывком Евангелия и дай ему тебя преобразить».
Я и вам могу посоветовать не обязательно точно так же поступать, но так же относиться к тому, что вы читаете в Евангелии. Что на самом деле тут сказано? Часто мы так привыкли к этим словам, что можем пройти мимо них и сказать: ну да, да, это я уже слышал!.. Неужели мы можем, если мы думаем о Евангелии не как о книге, а как о Христе, говорящем с нами, сказать: да, да, это я уже от Тебя слышал, мне это больше неинтересно?..
А это бывает. У меня был случай, от которого душа до сих пор ужасается. Я читал Евангелие во время богослужения на Литургии и в конце службы должен был проповедь сказать, а когда я читал Евангелие, оно до меня не дошло. Это были слова, которые я уже давно знал, но сердце мое не дрогнуло, ум не просветился. Я эти слова произносил устами и оставался для них чужим. Я подумал: я не могу сказать лживую проповедь, сказать людям о содержании этого отрывка, когда оно до меня не дошло… Я решил поступать честно. Я вышел и сказал: «Вот что сегодня случилось. Христос лично со мной говорил, Он говорил то, что вы все слышали, каждый из вас как-то это воспринимал, а единственное, что я мог ответить Христу: то, что Ты мне говоришь, меня не интересует, мне никакого дела нет до этого. Какой это ужас!». И, обращаясь к людям, я сказал: «Поставьте перед собой вопрос: бывает ли с вами, когда вы читаете Евангелие, что вы только и можете сказать: это меня не интересует, это мне чуждо?».
Вот подход, который может обновить нашу жизнь, который может сделать каждого из нас другим человеком. Если каждый из нас хоть немножечко станет иным, то вся община начнет делаться иной. И тогда Церковь перестанет быть обществом людей, которые на словах исповедуют то или другое, но до кого эти слова, которые они исповедуют, не доходят как огонь, как жизнь. Подумайте об этом.
Я на этом кончу свою беседу. Я надеюсь, искренне надеюсь, что вы мне простите то, что говорил о себе все время, но я худшего примера не мог найти. В следующий раз я буду говорить о том, что представляет собою Церковь не как общество людей, исповедующих на словах то или другое, а людей, каждый из которых связан со Христом ниточкой одной, но такой ниткой, которая является жизнью.
Помолчим немножко, помолимся и разойдемся.
В продолжение прошлой моей беседы, которая, насколько я знаю, некоторым из вас показалась странной, непонятной, я хочу сейчас с вами поговорить о том, как первые ученики встречали Христа, кем они были и кем Христос оказался для них. Это не только предмет любопытства или догадливости, это важно, потому что в какой-то мере мы все на положении этих ранних учеников. В какой-то момент мы оказываемся лицом к лицу со Спасителем Христом. Это может быть при разных очень обстоятельствах. Это может быть в радости, это может быть в страхе, это может быть в горе, но мы оказываемся перед Ним и обретаем Его таким, каким мы раньше Его не знали. И этот момент очень важный в том, что я хочу вам сегодня сказать.
Мы всегда думаем о Христе как о взрослом человеке, думаем о Нем, как мы читаем в Евангелии, что Он ходил, проповедовал сначала в Галилее, потом в Иудее, что окружен был сначала небольшой группой учеников, а затем целыми толпами, и потом оказался один. До этого был какой-то подготовительный период, о котором, конечно, можно только даже не догадываться, а гадать. Это период, в течение которого Он жил сначала ребенком, затем подростком, затем юношей в деревне Назарет. Кто же вокруг Него тогда был? И как люди могли Его видеть? Я имею в виду — не глазами телесными, а каким-то внутренним восприятием. Кем Он был по сравнению с ними?
Если говорить о Назарете, то надо вспомнить, что недалеко от Назарета — Кана Галилейская, недалеко Капернаум, откуда происходил целый ряд Его учеников. И вот первое, что думается: Он окружен детьми, окружен подростками, Он не выделяется от них каким-то небывалым поведением. Есть апокрифические рассказы о том, каким Он был, но это все выдумки.
[3] То, что мы знаем, это что Он рос, как всякий ребенок и всякий подросток и юноша. И Он был окружен своими сверстниками. Была ли какая-нибудь разница между Христом и ними, которая подготовила их к тому, что когда они позже встретились с Ним, это было для них не мгновенное откровение о чем-то неизвестном, небывалом, а завершением чего-то? Мы можем представить Его, как апокрифические Евангелия нам Его описывают: торжественным, вечно собранным, далеким от всех, чуждым от всего того, что составляет нормальную, обычную, здоровую жизнь юноши или ребенка. Он был ребенком, Он был подростком, Он был юношей, как все, но что-то в Нем было, что Его, может быть, выделяло не в сознании людей, а в опыте, который они о Нем получали.
Есть стихотворение у одного из русских писателей, кажется, у Алексея Толстого, там описывается встреча Христа с грешницей. Она Его встречает лицом к лицу, не встречав раньше, и поэт нам говорит:
В Его смиренном выраженье Восторга нет, ни вдохновенья, Но мысль глубокая легла На очерк дивного чела.
[4]И вот мы можем себе представить Христа именно таким: не чуждым тому, что вокруг Него делается, не особенным в таком смысле, что люди на Него смотрели и думали: Он на нас не похож, ничего между нами и Им нет общего… Он был, какими они были, с той разницей, что в Нем была такая внутренняя собранность, такое глубинное молчание, то, что Феофан Затворник называет внутрьпребывание, которое Его делало иным. Он мог участвовать во всей жизни тех, кто вокруг Него был, каков бы ни был их возраст или состояние, но Он был весь внутри Себя, а не определялся тем, что делалось вокруг. Он отзывался на то, что делалось вокруг, на людей, на события, но Он ими не определялся, Он весь был Сам Собой. И это замечательная вещь, которая меня всегда поражала в этом стихотворении и при чтении Евангелия, что, каковы бы ни были обстоятельства вокруг, Он был Самим Собой. Ему не приходилось выходить из Себя для того, чтобы встретиться с теми или другими событиями или людьми. Он был весь внутри и из глубин Своих глядел на людей, и созерцал события, и в них участвовал.
И вот можно себе представить, как вокруг Него еще в детстве, и в юности, и в ранние годы были те самые люди, о которых мы потом слышим. Первый раз (и много раз спустя, признаюсь), когда я читал Евангелие и слышал о том, как Христос встретил на берегу озера Петра и Андрея, и сынов Зеведеевых, и им сказал: идите за Мной, и как они оставили все и пошли за Ним (Мк 1:16—18), я думал: каким это образом? что в Нем было такое, что Он, чужой для них Человек, мог их позвать, и они послушались? Теперь я думаю, что Он им не был чужим человеком. Они жили в той же деревне со дня своего и Его рождения, они с Ним общались все время, они Его знали, и они в Нем всю жизнь ощущали то, что я назвал раньше внутрьпребыванием, собранностью. Это был человек, который на все отзывался, но изнутри, из глубин, Он не определялся тем, что вокруг Него; и они Его переживали, да, как единственного в своем роде человека. И к ним подошел тогда не просто чужой Человек. Как бы авторитетно Он ни сказал: «Бросьте свое ремесло, идите за Мной», — они Его знали, и знали внутренним чутьем, что если Он так им говорит, значит, пришло время чему-то совершиться. Так они оставили и лодку, и отца, и свое ремесло и пошли за Ним: если Он так говорит, тому должна быть какая-то такая глубинная причина, и надо последовать Его зову.
Он призывал за собой идти и других. Вы наверно помните рассказ о том, как позже Христос встретился с Нафанаилом (Ин 1:43—51). Он вел беседу с людьми, а потом подошел к Нафанаилу и позвал его за Собой. Нафанаил Ему сказал: «Откуда Ты меня знаешь?». И Христос ответил потрясающую вещь: когда ты молился под смоковницей, Я тебя видел. Из житий святых мы знаем, что Нафанаил в то время молился Богу, чтобы пришел наконец обещанный Мессия, обещанный Спаситель мира, что он обращался к Богу. И вот этот Человек, небывалый по Своей внутренней стройности, ему говорит: когда ты молился, Я тебя видел. Разумеется, не физическими своими глазами, — это все могли видеть, но Он его видел, Он был Тот, к Которому была обращена молитва Нафанаила.
И так мы видим, как один после другого люди к Нему приближались, сначала малая группа. Я упомянул некоторых из них и вернусь к некоторым еще. А затем эта группа росла, и в этой группе были люди самого разного строя, самой разной зрелости: одни были близки к Богу, одни уже имели в себе глубину, другие еще искали в надежде найти что-нибудь, а третьи даже не искали, а с любопытством, с интересом смотрели, что это за Человек, Которого окружают многие, которые за Ним следуют, которые порой бросили все, что составляло их прежнюю жизнь, и теперь с Ним неразлучны. Некоторые с любопытством слушали. Помните рассказ о том, как слово падает, словно зернышко в землю? Его слова одних касались. Он говорил общим языком для всех, но в том, что Он говорил, вдруг один или другой человек узнавал ответ на то, о чем он недоумевал, может быть, годами. Или вдруг Его слова раскрывали в человеке вдохновение, желание понять и последовать за Тем, Который может этому научить, раз Он мог такие слова сказать. Были такие, которые слушали и пожимали плечами: что Он там говорит — слова, которые мы не понимаем, сказки рассказывает, которые для нас никакого значения не имеют! И уходили. А некоторые, послушав, уходили к себе домой, унося в памяти и в сердце воспоминание о двух вещах: во-первых, о том слове, которое их коснулось и как бы в сердце ударило и заставило их задуматься и по-новому осмыслить жизнь или что-то определенное в жизни. И второе: Его облик, то, что Он — не как другие проповедники; Он не ходил, стараясь вызвать вокруг Себя восторг, вдохновение, собрать учеников, которые шли бы в бой. Он каждого оставлял свободным. Он был весь внутри Себя, Он говорил то, что каждому может быть спасением, но никого не принуждал и никого не старался приманить, как многие другие учителя всех времен делали и делают.
Но даже те ученики, которые за Ним пошли рано, как Петр, например, знавший Его еще юношей, не сразу созрели. Они шли за Ним, постольку поскольку понимали то, что Он им говорит, поскольку могли не только умом и сердцем это воспринять, но чувствовали, что могут даже в жизнь воплотить. А порой они отзывались мгновенно на что-то, что их поражало своей истинностью, а потом оставались в недоумении. Тот же Петр однажды сказал Христу, что Он — Спаситель (Мк 8:29), а через несколько дней недоумевал, и когда Христа арестовали, трижды отрекся от Него: решил, что ошибся (Мк 14:66—72). Сердце ему подсказало правду, а ум его запутал, он еще не созрел до понимания.
Есть еще один человек, о котором я хочу упомянуть, — это Фома, которого мы называем Фома неверный, то есть Фома, который оказался без веры, не поверил. Вы помните, что случилось, когда Христа распяли. Ученики Его стояли поодаль. Ближе ко Кресту стояли женщины, которые следовали за Христом, потому что сердце их оторвать от Него было невозможно, тогда как ум учеников мог заколебаться непониманием, недоумением: Христос нам обещал победу, и теперь мы видим, как Он поражен. Он умирает на Кресте, где же та победа, которую мы чуяли, на которую мы надеялись?.. Женщины, по-видимому, так вопрос не ставили, для них был только ответ: это Человек, Которому мы отдали свою верность, свою преданность, свою любовь, мы не уйдем от Христа. И вот когда Он умер, все ученики убежали, все скрылись в дому Марка, заперлись, как сказано, от страха. И спустя два дня, когда ученики были все вместе собраны в страхе, в отчаянии, в недоумении, вдруг перед ними явился Христос живой, воплощенный, воскресший. Это было не приведение, Он им показал Свои руки и ноги: смотрите, это Я Сам. И ученики возрадовались: Христос воскрес, значит, Он не побежден!
Фома в тот момент не был с ними, но когда он вернулся, ему сказали: Христос воскрес, Он был здесь!.. И как мне кажется (но это моя догадка, поэтому, может быть, и неправильная), Фома посмотрел на других учеников и увидел, что они успокоены воскресением Христа, что они счастливы, что Он воскрес, что они радуются, но сами остались теми же людьми, которыми были раньше, теми же самыми людьми. И он не мог поверить полностью в Воскресение, потому что он наверно себе представил, что если бы они встретили Христа воскресшего, что-то должно было такое случиться с ними, такой переворот внутренний, что они были бы новой тварью. И он сказал: «Если я сам не увижу ран на Его руках и ногах и ран в Его боку, не поверю, потому что одной вашей радостью о том, что вы видели воскресшего Христа, я не убежден, было ли это вправду, или это было приведение, или что. В чем дело, как может быть, что вы остались теми же людьми? у вас только прошел страх и настала радость, а иной разницы я в вас не вижу». И на восьмой день снова явился им Христос, и Фома был с ними, и Христос его позвал и сказал: «Не будь неверующий. Ты хотел прикоснуться Моих ран, прикоснись: вот Мои руки, вот Мой бок». И в тот момент Фоме даже не нужно было прикасаться, он узнал Христа живого. Если Он жив, то и остальное — правда. И он тоже поверил, но он остался, как и другие, учеником, который теперь знает, что победа одержана, но которого победа еще не охватила, не преобразила самого (Ин 20:19—29).
Христос обещал, что пройдет какое-то время и Дух Святой сойдет на них, и они пойдут Его проповедовать, и велел им оставаться вместе, не выходить на проповедь преждевременно, потому что людям надо было передать не рассказ о том, что они пережили. Люди могли пожать плечами и сказать: «Вы, может быть, лжете, или, может, это была иллюзия», — как, вероятно, Фома подумал; что-то должно было случиться.
И действительно, в пятидесятый день после распятия Дух Святой сошел на учеников (Деян 2:1—4), и они стали иными людьми, новой тварью, не по смелости, не по внешнему облику, а потому что жизнь воскресшего Христа влилась в них. Дух Святой их пронизал, как огонь пронизывает железо. Железо остается железом, но оно сияет, оно горит. Такими стали ученики. И тогда они вышли на проповедь. И люди, которые их встречали, уже встречали не обыкновенных своих современников, которые рассказывали о том, что их Учитель воскрес, а людей, на которых можно было посмотреть и сказать: да, их Учитель несомненно воскрес, — что-то с ними случилось такое, чего мы никогда не видали и не переживали.
В Евангелии мы читаем тоже рассказ о путниках в Эммаус (Лк 24:13—35), как двое учеников шли из Иерусалима вдаль и остановились в маленьком поселке. По дороге они встретили Человека, Которого они не узнали, Который с ними заговорил и спросил их: почему вы такие убитые, почему вы идете так понуро, что с вами случилось? И они Ему объяснили, что их Учитель, о Котором они так надеялись, что Он Спаситель, что Он все переменит в жизни, был распят, побежден, и что они уходят, куда глаза глядят. И Христос начал с ними говорить, им кое-что объяснять, постольку поскольку они могли понять. Они остановились перекусить в деревне, и в какой-то момент Христос разломил хлеб и им роздал. И в этом движении они узнали то, что когда-то было, как Христос разламывал хлеб и делил его со Своими учениками. Они в Нем узнали Христа и, узнав Христа, поверили без сомнения в Его воскресение, потому что Он живой был в их присутствии. Тут можно себе поставить вопрос, каким образом они могли Его сразу не узнать — они же Его раньше видели. Да, но они видели Его как бы телесными глазами, они не уловили чего-то в Нем. И когда Он явился им после воскресения, это был тот же Христос, но вместе с этим в Нем была торжествующая Вечная Жизнь.
Вы наверно помните рассказ из жизни Серафима Саровского, как Мотовилов спрашивал Серафима о том, что случается с человеком, когда Дух Святой сойдет на него
[5]. И Серафим ничего не ответил особенного, но Мотовилов отшатнулся, потому что Серафим весь воссиял таким светом, что ломило глаза. Серафим его спросил: в чем дело? И дальше идет рассказ о том, как Мотовилов увидел лик Серафима, но уже не тот, который он знал. Это был лик Серафима, да, но, как сказано, словно он сиял изнутри солнца, черты лица менялись постоянно, его можно было узнать или не узнать, он весь пронизан был небывалым, неописуемым светом. И Мотовилов закрыл глаза, и Серафим ему сказал: «Не бойся. Ты не мог бы меня видеть таким, если бы в данную минуту ты сам не был преображен светом Святого Духа».
Вот это, мне кажется, и произошло с учениками в Эммаусе и со многими, которые потом встречали Христа. Только постольку поскольку они сами были преображены, они могли узнать Христа. И мы теперь тоже смотрим на икону, и что мы видим? Мы видим зарисовку, которая изображает лик Христа Спасителя, но он не всегда одинаков. Как же это так? Потому что икона всегда в той или другой мере выражает собой Христа, Каким Его внутренними очами видел и всем существом переживал иконописец. Каждый видит своими глазами, каждый описывает небывалым до того образом. И каждая икона, с одной стороны, не похожа на другую, а вместе с тем выражает то же чудо воплощения Сына Божия. И в какой-то мере можно сказать, что каждая икона — это, да, воплощенный Христос, иначе не было бы чудотворных икон, но вместе с этим есть в ней нечто иное.
То, что я вам говорил сейчас, относится к каждому из нас. Так же, как толпа, которая следовала за Христом, мы все — вокруг Христа. Сейчас во время богослужения, и вне храма, и все время мы видим вокруг себя людей, которые являются иконами. Каждый человек есть образ Божий, бесконечно не похожий на другой, пока мы не войдем в глубины этого человека и не встретим Самого Христа — Бога воплощенного. И тут надо еще одно сказать: что каждый из нас в какой-то мере уже есть икона, которая оживотворена благодатью Святого Духа, но эта благодать заложена в наши глубины и не всегда, и не все время, и не одинаково сияет вокруг нас.
Я на этом кончу свою беседу и надеюсь, что в ней было хоть что-нибудь понятное, потому что мне так хотелось вам дать уловить что-то, что мне самому очень трудно уловить: что Христос является нам всем, что Он есть среди нас, что стоит посмотреть друг на друга — и мы видим икону, но эта икона затемнена как бы с двух сторон: с одной стороны, икона несовершенна, а с другой стороны, наш взор несовершенен. Есть моменты, когда, глядя на человека, мы видим в нем Христа и переживаем присутствие Святого Духа. Есть моменты, когда мы этого не видим, потому что наше зрение потухло или потому что этот человек на время потух, или потому что пелена спустилась между им и нами. Задумаемся над тем, что представляет собой каждый из нас. Каждый из нас похож на учеников, которые после Распятия увидели Христа, которые знали, что Он жив, что Он победил смерть, что Он воскрес. И мы можем ликовать об этом, но это еще не значит, что мы пронизаны Святым Духом. И когда Дух Святой сходит на нас в Крещении, в молитве, это не значит, что мы начинаем гореть, как купина неопалимая в пустыне. Это значит, что Дух Святой, как жизнь, спустился в наши глубины, там живет, и постепенно эти глубины раскроются.
Помолчим, помолимся и разойдемся по домам. У меня сейчас нет сил благословить каждого из вас, но сколько есть сил, я о каждом молюсь, — о том чтобы снизошла благодать Святого Духа на каждого, чтобы каждый из нас ожил, чтобы мы стали едины, единым телом, единой жизнью. В следующий раз я буду говорить именно с этой точки зрения о Церкви, а теперь помолчим немножко и помолимся на расставание.
В течение наступающих бесед я хотел бы поставить вопрос о том, что мы собой представляем как приход, как епархия, как русские люди, собравшиеся на чужбине, слившиеся в значительной мере с жителями различных стран, куда нас привело русское рассеяние. И для начала мне хотелось бы вспомнить то, что происходило много-много лет назад, и что может нам дать мысль о том, что сейчас происходит.
Я попал в эмиграцию семилетним мальчиком в 1920 году. Тогда о Церкви у меня не было никакого представления, но было — о, какое острое, какое страстное! — чувство потери Родины, потому что Родина для нас именно была потеряна. Те из вас, которые теперь приезжают на чужбину, не теряют своей Родины, не только потому что у них остаются родные там, а потому что Россия остается доступной. Вы можете ездить туда, ваши родные могут вас посещать, вы можете переписываться, вы можете чувствовать, что только расстояние вас разделяет. Не так было в нашем поколении. В нашем поколении было страшное чувство, что мы покинули Родину, где жить больше не могли, потому что многим из нас грозила смерть, лагерь, пытки, убийство, потому что с точки зрения нашей Родины — о, не людей, не родных, не русских людей, а правительства — мы стали не только чужими, мы стали врагами, не только нежеланными, но такими, которых надо уничтожить, если только была бы на это возможность. И мы оказались в странах рассеяния.
Страны эти нас воспринимали по-разному. Франция принимала всех, но никого не обеспечивала. Можно было умереть с голоду под мостом, это правительства не касалось. Нам была дана возможность жить в стране, где не было гонения, активного гонения, опасности смерти не естественной, а жуткой, насильственной. Туда приехали тысячи и тысячи русских эмигрантов, они находили работу — или голодали. Я помню, как довольно многие, когда наступала зима, делали вид, будто переходят границу между Францией и Бельгией, с тем чтобы их арестовали, посадили в тюрьму, и тогда в течение зимних месяцев у них был кров и пища, потому что сажали таких всего на три месяца, а как наступала весна, их гнали обратно во Францию. Но весной уже можно было жить под открытым небом.
Тогда отзывчивость людей оказалась изумительная. Всякий русский был для другого русского свой человек. Если чем можно было поделиться — делились. Редко деньгами, потому что их не было, но порой куском хлеба, кровом, одеждой, а порой только добрым словом: прости, у меня ничего нет, что я мог бы тебе дать…
Я вспоминаю человека, который был одним из наших юношеских руководителей (это относится уже к середине или ко второй половине двадцатых годов). Он был человек суровый, которого не все любили, потому что он был не то что холоден, но замкнут, заперт. Он был руководитель строгий, справедливый, но не связывался с нами душой, и мы его уважали, но не любили, сердце наше на него не отзывалось. Довольно много лет спустя я между двумя периодами службы во Французской армии был в Париже, участвовал в Сопротивлении, и в это время для того, чтобы было чем жить, стал преподавателем в Русской гимназии
[6]. Он там был воспитателем. И вот мне помнится такая сцена. Я иду в гимназию, а впереди меня шагов на сто идет этот Леонид Николаевич. При дороге сидит нищий, перед ним лежит шапка, и он отчасти с надеждой, отчасти без надежды смотрит на проходящих. Проходящие одетые, проходящие сытые, проходящие из своего дома идут, вероятно, на работу и вернутся домой. Им там будет тепло, будут свои, будут родные, будут друзья, а он сидит при дороге без ничего. Иногда прохожие бросают монетку, но даже не смотрят на него, а только на шапку, куда падает монета. И вдруг случилось совершенно неожиданное: мимо нищего проходил Леонид Николаевич, он остановился, снял шапку и что-то нищему сказал, денег ему не дал, но нищий вскочил на ноги и обнял его.
Когда мы оба оказались в гимназии, Леонида Николаевича окружили его ученики: кто этот человек, перед которым вы сняли шапку, с которым вы коротко побеседовали, который вас обнял, расцеловал и следил за вами глазами, когда вы уходили? Кто он такой? Ваш родственник, близкий друг, знакомый?.. Леонид Николаевич нелегко открывал свою душу, но когда дети стали настаивать, и молить, и приставать, он им сказал правду. Он сказал, что этого человека он не знал. Сам он шел из другого края Парижа в гимназию пешком, потому что на билет в метро у него не было денег. Дать что-нибудь нищему он поэтому не мог, но он остановился и снял перед ним шапку, чтобы ему показать, что почитает его как человека, отдал ему как бы человеческую честь. И нищий никогда этого не мог забыть. Позже я с этим нищим разговаривал, и он сказал, что никогда в жизни никто его так не обогатил, как этот бедный прохожий, который ему не смог даже копейки дать.
Прошло несколько лет, и Леонид Николаевич умер с голоду. Мы не знали, что он, оказывается, питался только из того, что находил в мусорных ящиках, потому что не на что было покупать еду, а гимназия оплачивала так, что нельзя было жить с этого. Вот что было, хотя это даже не совсем начало эмиграции, но это реальность русской эмиграции.
Были и другие люди. Вы все знаете наверно по книжкам, по рассказам о матери Марии Скобцовой. Она была русской писательницей, попала в эмиграцию и решила делиться своим знанием, своим опытом с теми людьми, которые находятся на работах, чтобы оживить их сердце, открыть снова их ум, чтобы что-то блеснуло в их жизни. И она поехала в один из городов, где на заводе было много русских, бывшие военные там целой группой поселились. Она объявила, что прочтет лекцию о Достоевском, но как только она заикнулась об этом, начался крик: «Брось, нам не до Достоевского, нам нужен кто-нибудь, кто бы постирал наше белье, кто бы нам приготовил немножко пищи, кто помог бы нам вычистить помещения, в которых мы живем». Она остановилась и сказала: «Конечно, это самое главное! Скажите, куда мне идти». И она в течение двух недель, если я помню хорошо, чистила, мыла, стирала, и когда эти недели прошли и она думала уже уезжать, к ней эти же люди обратились: «О нет, не уезжайте, прочтите нам лекцию о Достоевском».
После этого она создала дом в Париже, куда принимала русских нищих. Она ходила по таким углам в Париже, куда другие боялись заходить из-за воров, разбойников, грубости, оттуда вызволяла, извлекала людей, которые пали так низко, что уже не надеялись когда-нибудь оправиться. Она их приводила в этот дом, она их мыла, одевала, заботилась о них. Многие уходили после этого обратно нищенствовать, и она снова ходила за ними; и так в течение всего остатка жизни. Остаток жизни был непростой. Когда пришли немцы и оккупировали Париж и большую часть Франции, арестовали ее сына-подростка (он когда-то был мальчиком в моем отряде), взяли в лагерь и сказали, что его выпустят при условии, что она сама придет и сдастся в плен. Она пришла, сына не выпустили, но ее арестовали, и она попала в концентрационный лагерь и там погибла.
Но погибла опять-таки той героической смертью, которая соответствовала ее жизни. Целую группу женщин вызвали для того, чтобы послать на смерть в газовые камеры. Среди них была молоденькая девушка, которая билась и плакала со страху. Мать Мария (она тогда уже давно приняла монашество) к ней вышла из толпы свободных людей и сказала: «Не бойся смерти, в смерти ничего страшного нет». — «Как мне в это поверить?» — сказала девушка. — «А я с тобой пойду». И она, лишняя, пошла на смерть. Ее сын тоже погиб. Это было начало жизни и смерти, и, я бы сказал, — воскресения целого поколения людей, которые потеряли Родину, у которых ничего не осталось, кроме беззаветной любви к Родине и сознания, что всякий соотечественник — самое близкое существо на свете, для которого можно, надо жизнь отдавать, а порой и смерть.
В этом поколении было чувство, что мы лишены самого драгоценного, самого святого, что только есть: Родины, которую любили без оглядки и которая нас отвергла декретом Сталина, запрещавшим нам называться русскими. Мы стали, как тогда говорили, «беженцы». И тогда нам пришлось оглянуться на мир, который вокруг нас был. Я говорю «нам»: сам я тогда был слишком молод в начале, конечно, но я одно знал: что Родина ушла, и что мы находимся, я в том числе, на чужбине, что надо выучить язык данной страны, что надо приспособиться к новой жизни, что возврата на Родину не будет, — или нам удастся освободить родную землю от нового ига.
Тогда создались юношеские организации, куда принимали детей восьми-девяти лет и старше и где нас учили самому святому и заветному: Родину любить больше всего на свете, всей душой, всем умом, всей слабостью и крепостью своей. Нам говорили: «Ты теперь в чужой школе. Выучи язык, учись всему, чему только можешь научиться теперь, начиная с младших классов, но позже, может быть, и в университете, учись всему, что когда-нибудь тебе удастся принести обратно на Родину, которая в этом будет нуждаться». Учились в средней школе в таком вот духе. Конечно, не все учились хорошо, конечно, мы были и ленивы, и забывчивы, и рассеяны, но где-то у нас было сознание, что мы живем только ради того, чтобы собрать знания и силы для того, чтобы их вернуть любимой ненаглядной Родине, потому что мы верили, что если власти нас и отвергли, то Родина нам остается матерью, любимой и любящей матерью. И это, конечно, так было, но тогда доступа на нее не было.
Я говорил о Франции, потому что большую часть детства и юношества там провел, но до того первый мой опыт была Австрия, где нас рассматривали как дикарей, потому что Австрия во время войны сражалась с Россией. Мы не только были чужие, на нас смотрели с подозрением. Мы ни языка не знали, ни обычаев не знали, и пришлось всему учиться. В Вене тогда русской церкви не было, и мы только между собой, очень-очень немногие, встречались и общались. И в других странах было так. А в некоторых странах отношение было мучительное. Помню, одним летом я оказался в теперешней Югославии, в Словении, в городе Марибор, который когда-то принадлежал Австрии. Я шел с бабушкой по улице и заговорил по-русски. И проезжающий кучер схватил кнут и со всего маху меня ударил и закричал: «Погибель тебе, русскому!».
Теперь никто, приезжающий из России, ничего подобного не переживает. Конечно, переживаешь, что ты уже не дома, что это не твоя родина, но это — страны, которые нас принимают, которые открыты нам, для которых, мы, конечно, часто остаемся чужими, но приемлемыми чужими. А тогда повисал двоякий вопрос: с одной стороны, остаться русским, чего бы это ни стоило, даже жизни, потому что ничего более драгоценного у нас не было. А с другой стороны, не потерять нашей веры, потому что наша вера была верой России. Православие через все границы, даже через колючую проволоку концентрационных лагерей нас, связывало с людьми на родной земле. И это не всегда давалось легко. Мне было семь-восемь лет, когда я был в начальной школе в Вене. Один раз в неделю полагалось идти на урок Закона Божия. Директор никакого понятия не имел о том, что такое Православие, и поэтому на первой неделе учительница меня повела к раввину. Он на меня посмотрел и спросил: «Почему у тебя не покрытая голова?». Я ему ответил чистосердечно, как отвечает семилетний мальчик: «Мама меня учила с раннего детства, что в комнате головной убор не носят, потому что там может быть распятие или икона». Он на меня посмотрел с негодованием и сказал: «Ты христианин?». Я ответил: «Да». — «Вон!». И я вылетел из класса. Меня в коридоре поймала директриса: ты христианин? — и повела к католику. Он поставил тот же вопрос: что ты, кто ты? православный? — еретика в своем классе я терпеть не стану, вон!.. И это было концом всего моего религиозного образования. Я вернулся к вере, к Богу, к Церкви много лет спустя и совершенно по-иному.
Тогда мы чувствовали, знали, что мы на чужбине и чужие. И зачем мы там оказались? зачем? что нам делать? неужели только жить отчаянием, тоской по родине?— потому что не было речи о том, чтобы приспособиться и стать французами, немцами, австрияками и так далее. Мы хотели быть русскими, только русскими. И тогда создались, как я вам уже сказал, юношеские организации, которые нас стали готовить к тому, чтобы остаться до глубин души и умом, и сердцем, и волей, и всем-всем, что только в нас было, русскими. Учили нас русскому языку, истории, литературе, тому что называлось «родиноведение», то есть всему тому, что нам раскрывало тайну, глубину, красоту нашей потерянной родины. И вместе с этим — Православие. Православие нам преподавалось людьми, которые его сохранили, несмотря на ужасы первой войны и русской революции, и которые, как святыню, его берегли и хотели передать из поколения в поколение.
Я говорил уже, что жизнь была порой тяжелая — нищенство, голод, бездомность. Вспоминаю одну нашу церковь в Париже. Там был епископ и шесть-семь священников. Жили они под одной крышей, жили впроголодь, ели только то, что прихожане, такие же голодные, как они, оставляли у дверей церкви в картонках, после того как сами хоть немножко поели. Денег не было почти никаких. Как-то я пришел в этот храм вечером, вижу: на каменном полу лежит наш владыка Вениамин (Федченков). Он тогда был архиепископом, потом стал митрополитом, о нем многие знают. Я его спросил: «Почему вы здесь лежите?». Он так пожался, улыбнулся, говорит: «Да, знаешь, на моей кровати нищий лежит, на матрасе — другой, на коврике — еще один, в одеялах завернулся четвертый, а комната маленькая, мне там места не хватило». Это было откровение о величии нищенства, откровение, потому что это был не протест против него, это было принятие нищенства как призвания, как дара Божия, который делает человека равным всякому другому человеку, самому бездомному, самому нищему, самому голодному, так что ему не надо стесняться или стыдиться — мы равные. Так же как в случае, который я вам рассказал, Леонид Николаевич оказался равным нищему, который сидел при дороге. И вот так раскрылось богатство, драгоценность, святость бедноты и нищенства — в лице матери Марии, в лице владыки Вениамина, сотрудников его, из которых одни были с большим образованием, а другие очень просты.
Среди простых мне вспоминается отец Василий Заханевич. Он был деревенским священником в свое время, богословского образования у него было, вероятно, ровно сколько нужно, чтобы священником стать. И мне вспоминается, как я случайно услышал его разговор с высококультурным человеком. «Я не могу быть верующим, — говорил тот, — я окончил среднюю школу, университет, богословскую школу, верить в Бога я не могу». И отец Василий на него посмотрел большими сияющими глазами (он тогда медленно умирал от чахотки) и говорит: «Сашенька, разве так важно, что ты в Бога не веришь? Ему от этого ничего, а то важно, что Бог в тебя верит!». И Саша этого не забыл никогда, и в свое время сам священником стал.
Вот какие были люди, и в окружении страны, которая была в значительной мере чужда. Многие не знали языка или кое-как перебивались, но одно замечательное свойство было у всех: была благодарность той стране, которая нас приняла, благодарность тем людям, которые давали нам возможность жить. И еще — но это проявилось постепенно — новое отношение к этим людям. На нас со всех сторон напирали люди разных вероисповеданий, желая нас обратить в свою веру, а мы отчаянно отстаивали свою веру. Когда мне было лет девять, моя мать меня привела в одну католическую школу, которая предлагала места русским детям. Священник там нас опросил, согласился, что я буду принят в эту школу, и мы уже уходили; он нас остановил рукой и сказал: «Да, еще одно: конечно, мальчик станет католиком». И помню, я повернулся с глубоким негодованием и сказал маме: «Я не на продажу!», — и мы ушли.
Нападки на нас со стороны инославия родили в нас сознание ценности православной веры наряду с ценностью и русского языка и всего русского. И вместе с тем мы постепенно врастали в жизнь тех стран, куда нас привела судьба, и стали относится с живым чувством к тем людям, которые нас окружали. Мы отчаянно держались своей русскости и своего Православия, именно отчаянно. И вдруг мы почувствовали, увидели вокруг себя такой духовный голод… Когда я говорю «мы», это, конечно, ко мне не относится, я тогда был мальчиком. Но люди взрослые, мои родители, их сверстники, люди старше их ощутили, что страны, где мы находимся, не пережили того ужаса, который пережили мы, и для них Бог оставался нереален, далек, а Церковь — только формальной, и поняли, что им надо передать и это сокровище. Об этом заговорил Бердяев, который в одной статье писал, что мы не напрасно, не случайно оказались в рассеянии, среди людей иной веры, иной национальности, с чужими людьми. Бог, говорил он, нас послал, рассеял по всему миру, чтобы всему миру принести самое драгоценное, что было у России: не только русскость, но русское Православие
[7].
И тогда началось небольшое движение в этом направлении: с благословения митрополита Евлогия был создан маленький кружок людей
[8] для того, чтобы Православие принести Франции. Это звучало почти что смешно-грандиозно, потому что их было пять-шесть человек, и никто у них не спрашивал о Православии. Там был Владимир Николаевич Лосский, были три брата Ковалевских, были и другие люди. И это открыло целому поколению новое отношение к окружающим людям: это не была чужбина, это были люди, к которым мы посланы, чтобы принести им не только драгоценность всего русского, но драгоценную небесную православную веру, молитву, новую жизнь. И это было началом целого возрождения. До этого было сопротивление всему иностранному и инославному, а тут мы раскрылись. Был основан первый миссионерский приход в Париже для того, чтобы поделиться Православием с французами. Я с ужасом отмахнулся от мысли, что могу участвовать в этом, потому что я хотел только русского, только русского, и мой духовный отец
[9] мне сказал: «Ты полностью владеешь французским языком — иди в этот приход, делай переводы, встречай людей, предавай им самое драгоценное, что у нас есть». С какой болью и неохотой я на это пошел! И потом я начал видеть, как дар Православия может менять жизнь людей нерусских, как вдруг раскрываются души, открываются умы, новое отношение к нашей Родине, к нашей Церкви рождается. Так начался новый период нашей жизни.
Я вам все это рассказываю, потому что это относится непосредственно и к нам здесь. По-иному, но с той же ответственностью лежит здесь на нас задача, Богом поставленная. Бог создал трагическое русское рассеяние, чтобы православная вера достигла края мира, и мы призваны в этом участвовать, не только старые эмигранты моего поколения, но новые эмигранты или приезжающие вновь из России: приносить русскость, но приносить и Православие. Оно нужно не как третье, или четвертое, или пятое вероисповедание, а как совершенное новое взаимоотношение между Богом, человеком и людьми.
Я надеюсь, что вы мне простите эту беседу, которая кажется просто рассказом о себе и о нашем поколении; но я хотел с вами этим поделиться как вступление в то, что я сказать хочу о нашем призвании здесь, теперь и в будущем.
Мы говорили прошлый раз о том, что было во Франции. Оно не похоже на то, что было здесь, и сегодня я проведу основную беседу о том, что представляет в моих глазах Сурожская епархия, то есть мы все, — не как организация, а как собор людей, которые соединены единой верой во Христа и готовностью следовать Его заветам и стать Его учениками. Это не мгновенно сделается, но при готовности отречься от себя, отречься от всего, что разделяет, и последовать за Христом, мы можем этого достичь.
Я приехал в Англию пятьдесят с лишним лет назад. Тогда в приходе была сотня с небольшим представителей первой эмиграции поколения моей матери и бабушки, и были некоторые более молодые люди, моих лет и немножко старше. Настоятель прихода, отец Владимир Феокритов, был замечательный — и как человек, и как священник. Как человека я его воспринял, если так можно выразиться, как хрустальную скалу: он был весь чист и прозрачен, в нем не было никакой неправды, в нем была цельность. Этот человек избрал в свое время священство, вместо певческой карьеры (ему тогда предлагали в Ла Скала стать певцом) он решил стать дьяконом. Его послали сюда, и он остался таким же хрустально-прозрачным человеком удивительной чистоты и цельности.
Но, с другой стороны, в нем была некоторая застенчивость. Он чувствовал, что он, может быть, не в уровень того дела, которое ему выпало: быть настоятелем православного русского прихода, единственного тогда в Великобритании. У него была семья, жена и дети, которые были верующие, здравые верующие люди. И вокруг него, как я уже сказал, собралась старая эмиграция и немногочисленные их внуки. Все службы шли на славянском языке, потому что так естественно было этой ранней эмиграции не отрываться ни от чего, что было Россией, что не только напоминало о России, но доводило до сердца, до сознания то, что было у них отнято. И в церкви на какое-то короткое время они все могли забыть и быть только там, в русской молитвенной стихии.
Детей почти не было, потому что из-за языка они неохотно приходили. Когда они были маленькими, их приводили, когда они становились немножко старше, они отказывались идти или приходили редко. Они не были неверующими, они не были неблагочестивыми, но для них происходившее в храме было непонятно. Непонятно было еще и то, что церковь в русской эмиграции тогда разделилась на две части: малая, очень малая часть была под Московской Патриархией, громадное большинство принадлежало к Зарубежной Церкви, и настроение у Зарубежной Церкви было боевое, неприязненное
[10]. Настоятель зарубежного прихода
[11], с которым мы делили один храм около станции Виктории, освящал храм после каждого раза, когда я там служил, — он считал, что храм осквернен нашим присутствием. Помню, как много лет спустя один из обращенцев, которого я, после подготовки к принятию в Православие, принял, ушел от нас и мне написал письмо, что ему пришлось долго очищаться от того осквернения, которое я нанес ему Причащением Святых Даров в Патриаршей Церкви. Настроение было очень тяжелое.
В какой-то момент я решил пробиться к отцу Виталию и к нему пошел. Я не знал, как он меня примет, но когда он вошел в комнату, где я его ожидал, я к нему обратился со словами: «Христос посреди нас!». И он ответил: «И есть и будет!». И с этого началось возрождение наших отношений. Я у него бывал потом каждый месяц, и мы всегда говорили о том, что сущностно, но его подход был непримиримый. Я как-то его спросил: «Отец Виталий, как вы можете так относиться к Церкви в России, которая не только под гнетом, но под гонением? С такой ненавистью вы говорите о ней! Разве нам не велено любить врагов наших? Если даже вы считаете Церковь, которая в России несет крест мученичества, врагом вашим, неужели вы можете не любить ее членов?». И он мне ответил очень страшную вещь, он сказал: «Я готов любить моих врагов, но врагов Божиих я буду ненавидеть всегда!». При таком настроении наши два прихода жили совершенно врозь. Встречались люди только в личном порядке и то с осторожностью.
Вначале наш приход (еще до того, как я в нем участвовал) ютился в частном доме, и службы происходили в гостиной для того малого числа людей, которые остались верными Русской Церкви в России. (Тут был и забавный момент. У хозяев была маленькая собачка, которую они назвали Packy, и каждый раз, когда отец Владимир в богослужении провозглашал: Паки, паки миром Господу помолимся, это собачушка начинала лаять и выть за дверью. Так что и она принимала участие в богослужении по-своему.) Вначале, таким образом, вся наша эмиграция была только русская, ничего нерусского нельзя было допустить. И когда я приехал сюда с опытом, который у нас был во Франции, я почувствовал, что что-то назревает: я оглянулся и увидел, что есть подростки, которые не понимают службы, есть дети, которые отказываются приходить, и надо для них что-то сделать.
Я тогда по-английски не говорил, и поэтому началось это не сразу, но очень быстро мы создали небольшую школу для детей по субботам. Мы преподавали Закон Божий, преподавали то, что мы называли «родиноведением», то есть русскую историю, литературу, язык, все, что помогало им быть русскими, чтобы они могли в Церкви себя найти и Бога найти, и общую жизнь найти со своими родителями и прародителями. В этой школе, кроме предметов, которые я упомянул, преподавалось пение — не церковное пение, а русские песни. Я, конечно, в этом не участвовал, а только стоял и слушал, и случилось нечто, что у меня осталось в сердце навсегда. Дети разучивали народные русские песни, народные напевы. И как-то одна девочка ко мне подошла и говорит: «Знаешь, с тех пор как нас начали учить русским песням, у меня что-то пробудилось в душе, словно раньше какие-то струны дремали в моем сердце, а как мы запели русские мотивы, они зазвучали». И это меня очень поразило и мне напомнило, что, как бы мы ни отдалялись от того поколения, которое было русским по рождению, — моих прародителей, моих родителей, меня самого и моих сверстников, нельзя отрываться от русской стихии, нельзя дать никому, кто принадлежит к этой русскости, отпасть и не приобщиться к тому, что она может дать. С этого началась небольшая школа, где я преподавал, как умел, Закон Божий.
А затем мы начали беседы и для взрослых. Они начались не так уж замечательно. После одного из съездов, который устроило Содружество святых Албания и Сергия
[12], был приглашен прочесть доклад в приходе Владимир Николаевич Лосский, но ему пришлось спешно уехать во Францию, и он попросил меня его заменить. Разумеется, заменить его я никак не мог, но мог что-то принести из того, чему научился от него и от людей его поколения. Тогда в церковном доме был зал в подвальном помещении, где мы собирались. И вот отец Владимир Феокритов меня привел, мы спускаемся по лестнице, и я слышу громкий голос одной дамы из наших смелых, твердых, убежденных прихожан: «Это же стыд! Мы пригласили большого богослова, крупного человека, и нам сейчас подсовывают какого-то неизвестного никому докторишку. Давайте все уйдем, чтобы он понял, что мы не хотим его здесь видеть!». Я тогда был на последней ступеньке лестницы, убежать было невозможно, да и не хотелось. Я вошел и сказал: «Я слышал то, что сейчас говорилось. Конечно, я вас задерживать не стану. Я отвернусь, а вы спокойно уходите себе домой», — и стал лицом к стенке. И через несколько минут мне та же самая смелая дама говорит: «Да нет, мы решили все остаться и вас послушать». Вот с чего начались наши приходские беседы для взрослых, с чего начались наши занятия с детьми. И конечно, параллельно шли занятия с хором, которые вел Михаил Иванович Феокритов, брат отца Владимира и отец жены нашего теперешнего отца Михаила
[13].
А потом пришло поколение тех, для которых русский язык уже не был языком молитвы, спонтанной, естественной молитвы, общения с Богом или с теми, кого они любят. И тогда наш приход сделал нечто, чему я до сих пор дивлюсь. До того я для отдельных людей раз или два раза в месяц служил Литургию: для маленькой группы немецкоговорящих — на немецком, для другой группы — по-французски и для одного человека, который был в состоянии вытерпеть мой английский язык, я служил на английском языке. И вот я поставил вопрос перед приходом: что нам делать? есть люди, которые не справляются еще с русским языком, как с ними быть? И тогда приход совершил поступок, который мне кажется героическим, потому что то были люди, которые все, все потеряли, кроме своего языка. И весь приход проголосовал за то, чтобы регулярно совершалось богослужение на английском языке. Это было что-то потрясающее, это был героизм. Но это также был признак подлинной, вдумчивой, серьезной любви взрослых или старшего поколения по отношению к более молодым.
И мы начали тогда, во-первых, переводить богослужебные тексты, затем перестраивать русскую церковную музыку на английский язык; служили сначала вечерню, потом начали раз в месяц служить Литургию по-английски. И образовалась небольшая группа, которая была чисто православная, чисто русской, славянской традиции и вместе с этим выражала эту традицию на своем естественном, родном английском языке. Им тогда пришлось много пострадать от моего незнания языка, от моего произношения, но они все вытерпели. И постепенно родилась группа, которую владыка Николай Парижский
[14], бывший тогда нашим епископом, благословил быть английской православной группой в приходе и нам в благословение подарил икону святого Иоанна Крестителя, которая вот здесь висит на правой стене. Это было начало.
От славянского языка приход не ушел, но постепенно нужда в английском языке увеличилась, потому что целое поколение, которое родилось здесь, училось здесь, могло молиться всей душой, всеми силами души только на английском языке и с трудом включалось в славянский. Появились мужья и жены, англичане и англичанки, и создался сложный приход, где были и русские, и англичане, и были все едины. И для них служились службы вначале врозь, а потом вместе, потому что русские не захотели отделиться от своих родных мужей, жен, подрастающих детей, и стали приходить на англоязычные службы, а также и англоязычные верующие стали приходить все больше в церковь, потому что начали глубже, больше понимать богослужение, которое они пережили на своем родном языке. Так образовался тот приход, который потом разросся и теперь является нашим приходом.
Помню, когда я взял — не на себя, а на нас всех — этот храм, ответственность за него, обязался его выкупить у англикан, создать в нем православный центр веры, мысли, единства, чувства, мне покойная вдова профессора Франка позвонила и сказала: «Отец Антоний, я всегда знала, что вы сумасшедший, но не в такой мере! Какой смысл нам, сотне вымирающих людей, взять на себя созидание такого храма?». И я ей ответил: «На наших костях мы создадим храм, который нужен будет тысячам людей». И это не было пророчество, это был крик души, это была уверенность, что не напрасно Господь нас послал на Запад и нам дал этот храм неожиданно, непонятно для чего. И так оно и случилось.
А кроме того, случилось что-то, о чем я как-то задумывался, но не планировал. Ввиду того, что мы начали служить и на славянском, и на английском языках, стали появляться у нас в приходе люди других национальностей, для которых их Церкви не совершали богослужений на понятном им языке. В Греческой Церкви английский язык не употреблялся, как не употреблялся он и у сербов, и в других приходах. И постепенно к нам стали приходить люди, которые могли молиться, когда мы совершали службу на английском языке, бывшем, что называется, lingua franca: общим языком для всех людей, которые живут здесь. За все эти годы мы совершали, например, венчание на восьми разных языках. К нашему счастью, у нас достаточно священников, говорящих на языках Запада, чтобы мы могли служить для каждой пары, для каждого отдельного человека, за исключением одного раза, когда я не смог служить венчание на японском языке. Но до этого мы совершали службы на языке этих людей так, чтобы каждое слово могло дойти до их сердца, чтобы они не только стояли и претерпевали, а могли влиться в молитву. И это иногда имело большое значение.
Как-то ко мне пришла русская девушка с женихом. Жених говорил только на английском языке и на своем, кажется румынском, языке. Он мне сказал, что не хочет принимать участия в богослужении, в котором он ничего понимать не будет, и кроме того, он неверующий, зачем ему эта служба… Мы с ним разговорились, и по ходу разговора он сказал: «А что Церковь знает о человеческой любви, о дружбе, о человеческих отношениях, чего я не знаю?». Я ему сказал: «Знаете что, давайте посмотрим чин обручения и чин венчания. И дальше вы увидите, знает ли Церковь о любви то, чего вы еще не знаете». И мы начали вместе читать чин обручения. Мы до конца этого чина не дошли, еще только половину прочли с ним, и он меня остановил и сказал: «Я хочу отложить женитьбу. Церковь знает то, о чем у меня никакого понятия нет. Можете со мной пройти всю службу и опыт Церкви?». И мы в течение полугода с ним работали, и он стал православным и венчался — благодаря тому, что разговор был возможен на языке, на котором он говорил. И сейчас у нас замечательное положение, когда у нас в приходе ячейка русских, говорящих на английском языке, и англичан, которые влились в Православие. Даже если они не знают русского языка, они могут следить за службой и молиться духом, когда произносятся молитвы и поет хор.
Я вам все это рассказываю, потому что это все очень важно для нас: в данное время у нас большой наплыв русскоязычного народа, и мы должны все обратить внимание и на русскоговорящих, и на англоговорящих.
Как я уже говорил, началось с маленькой группы, какой-то сотни, людей вымирающей первой эмиграции и нескольких более молодых людей. Мне тогда было лет 35, Ане Гаррет — то же самое, некоторым другим было лет 50, и 60, и 70, но все это должно было кончиться. И мы строили, строили с убеждением, строили навсегда, на будущее, и это будущее вдруг, внезапно ворвалось в нашу действительность. Перемены наступили в России. Когда сюда приезжал Патриарх Алексий
[15], он мне сказал: «Будьте готовы к тому, что в течение ближайших лет из России на Запад и в Америку выедут миллионы русских людей. И вы будьте готовы принять тех, которые окажутся в Англии». Тогда это было нереально, тогда это было видение, но оно осуществилось: в самое короткое время потоком стали приезжать сюда русские люди, соотечественники наши, приезжать сюда для того, чтобы обосноваться или чтобы временно работать и принять какое-то участие в здешней жизни. Одни женились, другие вышли замуж, у кого-то были дети, которых они не хотели оставить, описывать я не стану обстоятельств: вы их все знаете лучше меня.
Но еще вдобавок появились люди, для которых все это ново. Я сейчас думаю о тех многих русских, которые приехали из России, здесь только недавно и поэтому еще не слились со стихией Англии, или вышли замуж, или женились и остаются здесь, и их дети не только на русском языке говорят, но начинают говорить все свободнее и свободнее на английском языке. И мы всем должны дать то, что русское Православие имеет, сберегло за столетия, дать на том языке, на котором они могут это принять.
И это зависит не от одних священников. Как вы знаете, у нас священники в основе говорят на английском языке. Отец Михаил говорит на русском, другой отец Михаил
[16] говорит на русском, отец Александр
[17] говорит на греческом языке, я говорю на русском языке, и мы все говорим и на английском языке. Но не все могут справляться с русским. Вы, наверное, говоря по-русски естественно, не ощущали никогда того, что ощущает иноязычный человек: до чего русский язык богат, но и сложен и труден. И все наши священники, включая отца Иоанна
[18] и нашего владыку Василия
[19], могут говорить на русском языке, хотя он им не так естествен, как язык, в котором они воспитывались, но они делают все что могут. И говорят не всегда идеально, но если человек к ним приходит с открытым сердцем, то он получает больше, чем то, что слова могут передать. Я вам дам пример. К одному из наших священников пришла русская женщина, поисповедалась, он перед ней извинился, что будет говорить на плохом русском языке, но сделал попытку и все сказал, что надо было сказать. Когда исповедь была кончена, она ему сказала: «Можно вам сказать что-то личное?» — «Да». — «Ваши советы были замечательны, но грамматика ваша — ужасная». И я думаю, что нам надо с этим считаться, люди должны быть готовы на то, что человек им принесет свое сердце, свою душу, весь свой православный опыт, все богатство жизни, которое он накопил, но не всегда сумеет его выразить на том языке, на котором хотелось бы это все слышать.
Я это знаю по себе: в течение долгого времени я учился английскому языку, как умел, то есть я целыми днями сидел, читал книгу со словарем и потом при помощи моей матери старался производить английские звуки. И я боялся говорить на английском языке, так же как некоторые наши священники боятся говорить на русском, чтобы не осквернить русский язык и чтобы вместо серьезного восприятия их слов люди не остановились бы со смехом на их грамматических ошибках. Месяца три после моего приезда, после того как я читал, читал, читал, старался произносить английские звуки, меня пригласили в Содружество святых Албания и Сергия прочесть доклад. Я его написал на русском языке, моя мать перевела на английский, я потом с ее помощью его вокализировал, то есть старался производить английские звуки, и прочел этот доклад. В аудитории тогда был старый священник-француз
[20], которого я знал во Франции, когда мне было лет семнадцать. Он ко мне подошел и сказал: «Отец Антоний, я никогда в жизни ничего более скучного не слыхал, нежели ваш доклад. Вам надо перестать доклады читать, вам надо их говорить». Я возразил: «Отец Лев, вы же понимаете, что я английского языка не знаю, что как только я открою рот, то ляпну что-нибудь, и тогда что будет?». И он мне ответил: «Тогда, — и тут он улыбнулся от уха до уха, — мы сможем от души смеяться, вместо того чтобы погибать со скуки». И я начал говорит без записок. Люди смеялись, и я смеялся.
И вот я думаю, что нам всем надо собрать все силы для того, чтобы наша многоязычная община (потому что кроме русских и англичан есть еще люди разных национальностей) могла слиться в одну-единственную, единую веру, чтобы мы, веруя в Единого Бога, исповедовали Православие в его чистоте и помогали друг другу всеми силами осилить разницу, которую производят языки. Вы наверно знаете, как трудно перевести с одного языка на другой что бы то ни было, а со славянского языка переводить на английский неимоверно трудно порой. И так же трудно порой бывает перевести со славянского языка и на русский, потому что слова переменили свое значение. Надо врастать в значение слов, в знание языка, раньше чем мы сможем представить перевод, который будет равен оригинальному тексту.
И сейчас мы находимся в таком периоде, где нам надо изо всех сил, едиными силами строить русское Православие, чисто русское Православие, но порой многоязычное, чтобы русский язык, славянский язык не терялись, но чтобы люди, которые не принадлежат к нашей стихии, могли быть православными до корней своих благодаря тому, как мы будем им передавать нашу веру на их языке. Это трудная задача, я эту задачу знаю, я больше пятидесяти лет с этим борюсь в себе и в других. Будем помогать друг другу и создавать общину, которая была бы чисто русской церковно-богословской традиции и вместе с этим сумела бы эту традицию воплотить и передать людям другого языка. Мы сейчас должны научиться создать общину не только многоязычную, а общину, которая едина в своей вере и многообразна в своем человеческом опыте. Это значит, что все те из вас, которые пришли к Православию из инославия или иноязычия, должны обратиться своим вниманием ко всем русским, которые приезжают из России, и с ними поделиться тем опытом Православия, который они приобрели, и одновременно должны от тех, которые приезжают из России, получать опыт русского трагического Православия.
Это не значит отречение от русского, это не значит отречение от русскости, это значит нечто другое. Я уже об этом упоминал, и у меня разрывается сердце от боли, когда я вспоминаю ту сотню людей, которые были готовы пожертвовать всем, для того чтобы дать Православие другим людям. Мы начали строить, не зная того, нечто, что гораздо больше нас и больше нашего видения: много лет спустя я прочел у Бердяева слова, которые я вам уже упоминал, где он говорит, что мы не напрасно оказались за границей, что буря, которая разрушила тогдашнюю Россию и нас выкинула вон, не выкинула нас только для того, чтобы мы были беженцами и научились голодать, холодать и друг друга поддерживать братски, сестрински, что страшной русской революцией мы были посланы Богом для того, чтобы принести в весь мир православную веру. Веру, которая являет чистоту веры христианской, по нашему убеждению и по убеждению тех многих-многих, которые за десятилетия стали православными, потому что нашли полноту веры.
Но тут я должен сделать отступление. Для меня богослужение имело тогда (как и теперь имеет) абсолютное значение. В нем — я знал — вложена вся наша вера, но не умственная вера, не богословские выкладки, а опыт о Боге, Которого мы встречаем в богослужении и о Котором богослужение нам раскрывает истину. Как я вам уже говорил, я стал верующим не через Церковь, а через непосредственную потрясающую встречу со Христом Спасителем. И мне показалось, что именно так должны мы принести нашу православную веру в инославный мир: не борясь с теми или другими богословскими выкладками, а являя то, чем является православная вера и жизнь, являя, Кто Бог, Каким знаем Его мы. Вы, наверное, помните слова апостола Павла, который говорит после потрясающей встречи на пути со Христом, что не я живу, во мне живет Христос (Гал 2:2). То, что тогда случилось, всего его не только переменило, но преисполнило. Он оставался Павлом, но в нем раскрылась такая глубина, такое единство с Богом… Кто-то мне говорил, что это можно сравнить с тем, что бывает, когда смотришь на музыкальный инструмент, или когда он вдруг зазвучит. Павел был таким инструментом — вдруг коснулась струн Божественная рука, и все в нем запело, причем не человеческими мыслями, а мыслями Самого Бога. «Не я живу, во мне живет Христос, Он говорит через меня, Он творит чудеса, Он судит». И с какой верой судит Он тот мир, который Он пришел спасать, когда говорит, что будут спасены те, которые в Него верят, будут спасены те, которые верят в Закон Ветхий, будут спасены те, которые верят в голос своей совести (Рим 2). Он никого не исключал из возможности спасения, хотя путь созревания совести, внутреннего человеческого опыта, того опыта, который описывает сам апостол Павел, может быть долгий.
И мне подумалось, что если мы здесь, то должны явить западному миру именно это. Явить не выкладки умственные, хотя они замечательно, дивно изложены в православном богословии, но явить то, что является сущностью нашего опыта Бога и православной веры. Православие — это в первую очередь не правоверие, это способность достойно прославлять Бога всей своей жизнью. И поэтому Филаретовский катехизис
[21] нам говорит о том, что основа Православия — это Символ веры, в котором коротко сказано все, что о Боге надо знать, а затем — заповеди блаженства, которые — путь верующего человека и вместе с этим расцвет этого человека; и наконец, «Отче наш». Вот на чем святитель Филарет основывал православную веру, вот на чем мне хотелось основать нашу общую жизнь. Да, на простоте, на цельности, на силе Символа веры; но также на призыве Самого Христа так прожить, чтобы стать блаженными через исполнение вот этих девяти заповедей, и так прожить, чтобы мы могли сказать «Отче наш», не говоря только друг о друге, но как Христос нам сказал: Говорите: Отче наш… (Лк 11:2), то есть стать детьми Его Отца, братьями, как Он Сам нас называет, Самого Христа.
И вот я начал здесь проповедь Православия, именно Православия как жизни, как трагической жизни, которую мое поколение и поколение более взрослых, чем я, пережило в 1920-х годах и позже. И проповедь веры, сравнивая учение православной веры, как оно раскрывается в Литургии, во всенощной, в молебнах, во всех службах наших и просто даже в вечерних молитвах и утренних молитвах, вообще в учении Православия о молитве, о том, как мы можем открыться Богу и соединиться с Ним неразлучной любовью, преданностью. И люди стали приходить, и наш приход начал обогащаться новыми членами. Одни были русские, которые до того оставались вне Церкви и не могли найти полноту своей духовной жизни просто в богослужении, которое они не понимали и смысл которого вдруг уловили в богослужении здесь, потому что оно воспринималось как собственный крик души, и как ответ Христа, и Его пути в человеческие души. Мы стали проводить беседы, раскрывать перед ними глубины Православия и вместе с этим хрустальную его простоту, не усложненность философией Запада или Востока, а хрустальную простоту того, что Бог открывает человеческому сердцу в любви, в отдании Себя ему. Наш приход, который начал с того, что был чисто русским и так держался отчаянно, слезно своей русскости, потому что это — все, что у нас было, жертвенно открылся. И вдруг оказалось, что люди, приходящие извне, могут приобщиться к нам, не отнимая у нас ничего, но принося новое чувство, новое сознание живости Православия и единства.
Мы должны создать епархию, подобную ранней Церкви: Церковь, которая открыта всем, в которой все могут найти Бога, Живого Бога, Христа Спасителя, найти свою веру на любом языке и выразить ее на любом языке. Эта тема меня много лет волнует, отчасти потому что мне самому пришлось найти способ выразить русское Православие, в котором я был воспитан, на языке, который мне был чужд, для людей, которые мне были новы и порой непонятны. И мы должны, как ранняя Церковь, влиться в общество, в котором находимся, и принести туда Христа, Господа, Бога, Спасителя нашего, новую жизнь.
Я надеюсь, что то, что я вам сказал, очень личное, для вас имеет какой-то смысл, принесет какой-то плод в вашей жизни, в жизни ваших детей, ваших родных, ваших близких, и мы сможем стать в этой стране, хотя бы малая община, светочем чистого Православия, свободного от порабощения какой бы то ни было земной стихией. Если вы помните, двадцатые-тридцатые годы были годы гонения в России, трагические годы, и не только мы, русские, но и приходящие к нам приобщались к трагедии России. Иногда удавалось встретить кого-нибудь оттуда, кто раскрывал перед нами величие своей души и ужас, который его охватил. А иногда, просто молитвенно соединяясь с родной Церковью, мы соединялись также и с Родиной нашей. И мы почувствовали, что слова Бердяева справедливы, что мы посланы сюда, чтобы принести жизнь — не умственную веру, не богословские выкладки, не борьбу за ту или другую философию, а жизнь во Христе. И мы сделали попытку это сделать. Я не скажу, что удачно, я не могу сказать, что мы являемся примером того, о чем я говорю, но это то, к чему мы устремлены с самого начала, то, чего мы хотим, то, для чего мы готовы, я уверен, отдать жизнь свою. И когда я говорю о жизни, я не говорю романтически о том, чтобы умереть мучениками, я говорю о том, чтобы посвятить всю жизнь тому, чтобы Христос стал жизнью нашей и чтобы через это люди вокруг нас могли встретить Христа. И на этом мы стали строить и продолжали, и продолжаем, и я, если останусь жив еще несколько лет, буду продолжать изо всех сил строить православную общину, православный приход, православную епархию.
Но тут между нами и обычным, привычным Православием, которое люди переживают в России, есть разница, и это очень важно. Как ранняя Церковь строилась на каждом из ее членов, не на строгой иерархии, а на единстве верующих, готовых жить и умирать за Христа, так и здесь. Я с самого начала призывал людей к тому, чтобы Церковь была единой. Когда я услышал недавно высказывание о том, что в Церкви епископ имеет власть, что он властвует над священниками, а священники должны управлять мирянами, меня охватил ужас. Нет, мы все едины, мы все — дети одного и того же Бога, братья и сестры Христовы по Его собственному слову и свидетельству.
И с самого начала мы стали строить приход на том основании, что каждый священник является слугой, а не управляющим, не начальником, а, если можно так сказать, рабом, который свою жизнь отдал для того, чтобы служить другим людям, и что все, все без остатка участвуют в этом строительстве, с верой, что мы все едины в этом строительстве. И это оказалось путем к раскрытию нашему. Я, кажется, упоминал, как более сорока лет назад ко мне обратился митрополит Николай Крутицкий и предложил стать епископом в Америке. И я ему ответил: «Нет. Мне нужно по меньшей мере тридцать или сорок лет, чтобы началось здесь поместное Православие. Чтобы не только русские были православные, но чтобы все те, которым Православие нужно, могли его найти в нашей среде через нас, не через священников одних, а через верующих, через сияние Церкви».
И позже, когда я встретил патриарха Алексия I
[22], он мне сказал, чтобы я строил здесь Православие, которое было бы открыто и русским, и нерусским, чтобы русскость не терялась, но чтобы она раскрыла свою природу и охватила все, что есть живого, истинного, Божьего на Западе. Он мне это дал как поручение. Я к этому устремился. Не знаю, удалось ли мне или нет что-либо сделать в этом направлении, но это то, к чему я рвался и продолжаю рваться. И в результате у нас не только свои русские, но у нас и свои англичане, жены, мужья, дети смешанных браков, но также к нам приходят люди из других православных Церквей, потому что они здесь находят бездонное, безграничное Православие, жизнь во Христе.
И тут очень нам важно устоять: устоять на этой свободе, устоять на том, чтобы быть открытыми для всех и для всех отдать всю свою жизнь. Вот о чем я мечтал и мечтаю: строить и приход, и епархию нашу, не противореча тому или другому, а отдавая все, что у нас есть, стать такой общиной, куда люди могли бы прийти и сказать, как говорили еще во втором столетии, если поверить тогдашнему писателю Тертуллиану: «Как они друг друга любят!»
[23]. Не сентиментально, не пошло, а любят, видя друг во друге живую икону Христа, любят с готовностью отдавать все свои силы для того, чтобы в другом человеке родилась вера, родилась радость о Боге, родилась вечная жизнь. Вот к чему мы должны стремиться, вот на чем я мечтал построить наш приход и нашу епархию, вот что восприняли те, которые стали священниками, после того как были прихожанами или друзьями моими. Вот к чему я вас призываю: строить, строить Тело Христово, чтобы все мы были, как апостол говорит, членами этого Тела, как рука, нога, глаз, ухо, язык, каждый со своим призванием, со своими возможностями, чтобы все, все участвовали в этом строительстве.
При этом, конечно, бывают срывы, бывают несчастья, но эти несчастья не надо превращать ни во вражду, ни в соперничество, ни в борьбу, а в попытку друг друга понять глубже и понять глубже наше призвание. Вот что я вам хотел сказать о природе нашего прихода и о природе нашей епархии, о том, к чему я надеялся дальше вести всех, кто к нам придет. Я надеюсь, что у меня хватит сил и времени, потому что годы идут, и умственные, и душевные силы, и телесные силы уходят, но это не важно, потому что ничто не зиждется на мне, все зиждется на вас — верующих православных людях, на вас, здесь собравшихся, и на несметном количестве русских и нерусских людей, которые составляют нашу епархию. Вы должны построить то, на что у меня времени не хватит. Подумайте об этом, и когда вы встречаете противоречие, соперничество, недоброжелательность — не боритесь, откройтесь, постарайтесь понять и постарайтесь дать другому человеку понять, чтобы победила правда и жизнь Христова.
На этом я кончу свою сегодняшнюю беседу. Это будет последняя в ряду этих бесед о Церкви, о епархии, о приходе. В следующий раз неминуемо, потому что для этого эти собрания и устраиваются, будет столкновение людей, которые не сочувствуют пути, который я избрал, и не понимают многого или, может быть, понимают то, чего я не умею понять. Встретимся, чтобы друг друга понять, чтобы друг друга поддержать, чтобы победила любовь, чтобы победил Христос. Аминь на это!
Помолчим несколько времени, помолимся.
После прошлой беседы я получил несколько писем с замечаниями и вопросами. И я хочу начать с одного очень важного момента: это вопрос о том, каково наше отношение к Московской Патриархии, к Русской Церкви. Этот вопрос для меня никогда не подымался в течение всей моей взрослой жизни. Но сейчас он поставлен мне другими людьми.
Для меня он остается разрешенным и хрустально ясным: наша епархия, и наш приход, и все те, кто хочет быть верными и приходу, и епархии, и за пределами его — Церкви, должны быть всецело верными Русской многострадальной, мученической Церкви. Я принадлежу к поколению, которое избрало верность Русской Церкви в момент ее гонения, в момент, когда быть верным Русской Церкви в эмиграции считалось политической изменой. Многие тогда испугались при мысли, что через Церковь советское правительство, советская власть может овладеть эмиграцией — не вещественно, а духовно. Громадное большинство эмиграции и в Европе, и в других частях мира избрало отпадение от Русской Церкви. Во Франции, где я тогда жил, всего около сорока человек остались верными Русской Церкви в Париже и десяток — на юге Франции. И многие из нас были тогда отвергнуты самыми близкими своими друзьями, как изменники борьбы с коммунизмом. Мы же считали, что мы хотим неразлучно оставаться едиными с мученической Церковью, с каждым человеком, который в России несет бремя своей веры и гонения. Россия была тогда так далека, так недостижима, вернуться в нее было невозможно, и никто из России тогда не мог оказаться на Западе. И самые близкие нам друзья иногда выкидывали нас из своих домов, потому что мы остались верными Церкви Российской. Таково было мое положение и положение многих. И мы тогда создавали хоть маленькие приходы, но которые оставались верными и родной Церкви, и родному народу, и родной земле Российской.
Таково наше положение Сурожской епархии. Нам говорили часто, что невозможно принадлежать Московской Патриархии без того, чтобы мы стали как бы проводниками идей или действий, которые несовместимы с нашей политической и духовной независимостью. В тогда гонимой Русской Церкви мы встретили понимание, которого часто эмиграция потом не сумела показать родной Церкви. Мы тогда сумели отстоять нашу политическую и человеческую свободу и одновременно быть свидетелями того, что мы неразлучно едины с теми, которые в страшном плену в Советском Союзе. Я помню, как еще в 1930-х годах к нам обратился митрополит Крутицкий с просьбой поддержать не помню какое начинание Русской Церкви, которое нам показалось сомнительным с политической и нравственной точки зрения. Мы отказались наотрез и получили в ответ его благословение. Такие же проблемы вставали и позже, и позже также мы получали от Русской Церкви плененной, которая при этом рисковала очень многим — жизнью своих членов, — благословение на свободу. Поэтому наша Сурожская епархия была и останется верной Русской Церкви до конца.
Раньше, чем мы разойдемся, я хочу еще раз затронуть вопрос о русскоговорящих верующих нашей епархии и, в частности, больше всего, конечно, нашего прихода. Сейчас сотни русских людей выехали из России не по страху, не под угрозой смерти или концлагерей, а потому что они хотят строить свою жизнь свободно и по-своему. Для них то, что постепенно выросло в нашем приходе — двуязычие, является препятствием. И вот тут нам надо принять решение, и творческое решение. Мы не можем, я не согласен разрушать то, что я старался строить в течение 54 лет, то есть чистое Православие, чисто русско-православное, но вместе с этим во всяком случае двуязычное, если не многоязычное. Нам не удалось до сих пор удовлетворить нужды очень многих русских людей, которые приехали из России и для которых иностранные языки чужды, во всяком случае, в молитве. Я поэтому обратился в Патриархию с просьбой о том, чтобы создать здесь, чтобы мы сами создали здесь второй приход чисто русского языка, с одним или двумя русскими священниками из России, потому что здесь у нас нет кандидатов сейчас на рукоположение. Но для этого нужно, чтобы русские, прибывшие теперь в Лондон, во всяком случае, взяли на себя труд и ответственность. Это может занять пару месяцев, но это должно быть сделано вами. Для этого нужно создать небольшой комитет, который взял бы ответственность за организацию такого русского прихода. Это значит, что надо собирать деньги, на которые можно было бы оплачивать одного или двух священников, собрать деньги, на которые можно было бы содержать небольшой хотя бы храм, как мы это делали вначале, и собрать дружную, единодушную группу людей, которая хотела бы создать подлинно русский приход.
До меня дошло, что было отправлено письмо Патриарху с просьбой создать здесь так называемый ставропигиальный
[24] приход под руководством владыки Анатолия
[25]. Тут есть две проблемы. Первая — что владыка Анатолий наотрез отказывается брать на себя управление таким приходом, потому что он уже является главой ставропигиального прихода в Манчестере. С другой стороны, создание ставропигиального прихода значило бы раскол нашей епархии: часть оставалась бы в Сурожской епархии, а другая часть была бы непосредственно под управлением Патриарха Алексия. На это я не соглашусь. Поэтому пусть те, которые мечтают о чисто русском приходе, создадут такой комитет, подумают о том, где и как собрать деньги. Когда мы создали этот храм, нас было 120 человек. Сейчас русских несколько сотен, и поэтому это возможная вещь. Поиски священника начаты были мною уже полгода назад, и есть надежда, что один или два священника теперь найдутся, которых можно будет познакомить с русскоговорящей общиной и которые смогут вместе с другими создавать такой приход, пока этот приход не превратится в то, чем стал Лондонский приход: приход, где мужья или жены — англичане, где дети уже говорят не свободно по-русски; но это займет 10—15—20 лет. Но имейте в виду, что к этому рано или поздно придет, и надо строить, строить будущее в единомыслии.
Скажу одно полушутливое, полусерьезное заключение. Есть люди, которые говорят, что, пока я здесь, ничего никуда не двинется. Не теряйте надежды: мне скоро будет 89 лет, и жить мне не придется без конца, поэтому вы от меня отделаетесь вовремя. И если к тому времени вы успеете создать что-нибудь стоящее, тогда вы будете радоваться и моему уходу, и тому, что вы создали, а я буду ликовать за вас и, чем смогу, сотрудничать.
Давайте теперь помолчим немножко, помолимся вместе о том, чтобы Дух Святой сошел на нас как сила единства, как сила взаимной любви, как сила любви к родине, любви к Церкви. Помолчим немножко и потом помолимся, и разойдемся по домам, и унесем с собой мир и желание строить мир.
Беседы 2000—2001 г.
Молитва
За прошлый год, когда я бесед вовсе не вел, я старался продумать и прочувствовать то, чему научился, вернее, чему меня научили за многие-многие годы. И мне хочется теперь с вами поделиться именно этим — что за этот год у меня собралось на душе. Как обычно, мои беседы не будут организованными, академическими беседами, я буду с вами делиться тем, что постепенно, за многие годы, Бог положил мне на сердце.
Первое, о чем я хотел бы с вами говорить, хотя я не впервые к этой теме обращаюсь, — это молитва, но не с точки зрения техники, о которой вы можете прочесть в учебниках, в творениях отцов и в писаниях богословов, а с очень практической точки зрения, с точки зрения человека, который хочет найти путь к Богу.
Очень часто люди, которые хотят молиться, начинают с того, что читают перед Богом молитвы, составленные столетия тому назад или в наше время людьми, которые жили духом, у которых в душе молитвы поднимаются волной к Богу. И часто бывает, что, читая эти молитвы, мы не можем в них влиться полностью, особенно если подумать о том, что вечерние молитвы, утренние молитвы, которые большей частью мы читаем, были составлены — я к этому слову «составлены» вернусь через минуту — святыми, они не были составлены академически, у письменного стола людьми, которые задумывались над тем, как бы лучше с Богом поговорить. Они вырывались из души человека в трагические или радостные моменты его жизни. Они вырывались, как кровь бьет из раны. Иногда это были молитвы ликования: вспомните, например, те молитвы, которые поются в пасхальную ночь. Иногда — молитвы глубокой скорби и покаяния: подумайте о великопостных службах или просто, в частности, о 50-м псалме: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззакония моя… Царь Давид эту молитву произнес в момент, когда вдруг обнаружил, что греховностью своей оказался активной причиной смерти, убийства другого человека, у которого он украл жену (2 Цар 11). И когда вдруг эта мысль ударила его в сердце, как кинжал, у него вырвалась эта молитва, как я уже сказал, как кровь бьет из раны.
Когда мы ее читаем, мы неспособны влиться в эту молитву, большей частью. Подумайте о том, как в церкви читают псалмы, читается эта молитва: спокойным, ровным голосом. Это неплохо, но с каким чувством эту молитву читают — соединяясь с ужасом, который пережил царь Давид в этот день, в эту ночь, в этот период его жизни? или как бы от имени всех грешников, так что эта молитва, которая была личная, которая была криком ужаса о себе самом, растворяется в тысячи, и тысячи, и тысячи отдельных переживаний?
Я так говорю, потому что это относится к каждой из тех молитв, которые указаны нам в молитвослове. И тут еще одно замечание мне кажется очень важным. Эти молитвы были не только написаны в моменты трагедий или ликования. Они были написаны святыми, множеством святых, которые глубоко ушли своим опытом в Бога, в самих себя. И невозможно нам даже мечтать о том, что, читая эти молитвы, мы сможем слиться с опытом одного святого за другим. Это немыслимо. Они эти молитвы произносили из глубин своего опыта, опыта отдельного человека — да, но святого, то есть человека, который прошел через целую жизнь, познал Бога, познал себя, познал жизнь и это все выразил в той или другой молитве. Поэтому, когда мы их читаем, мы даже мечтать не должны о том, что можем просто взять да слиться с каждой этой молитвой, так слиться, что этот святой и мы станем будто едины. Мы не можем мечтать о том, чтобы в течение короткого времени стать как бы носителями опыта целого ряда святых.
С другой стороны, в каждой молитве есть нечто, что в той или другой (пусть малой) мере уже принадлежит нашему собственному опыту. Но есть многое, что этому опыту не принадлежит, что превосходит нас колоссально. И вот когда мы читаем молитвы, мы должны первым делом, раньше всего быть честными перед Богом и перед тем святым, слова которого произносим, потому что иначе молитва превращается в ложь, в попытку убедить Бога в том, что в нас живут такие чувства, которых мы даже издали не прикасались.
Как же к этому относиться? Я думаю, что самое простое — делать то, что советует в своих писаниях святой Феофан Затворник: продумывать и прочувствовать молитвы, не тогда когда ты их произносишь перед Богом, а когда у тебя есть какой-то досуг и ты можешь сесть, взять книжку, прочесть одну молитву, вчитаться в нее и поставить перед собой ряд вопросов.
Первый вопрос таков: то, что здесь сказано, я понимаю или нет? Очень часто бывает, что то, что выражено в молитве, нам кажется понятным, а на самом деле оно слишком превосходит наш опыт для того, чтобы мы могли сказать: «Да, я это полностью понимаю». Поэтому надо попробовать понять, что точно значат эти слова, что именно этот святой сказал в этот момент из глубин своей души Живому Богу. Мы читаем молитвы большей частью на славянском языке, и не все слова нам понятны. Иногда святой говорил совсем не то, что мы ему приписываем в нашем непонимании. Я много лет читал молитвы по молитвослову, и только спустя, постепенно осознал, что многое, что мне казалось понятным, своим, я понимал превратно, что я не понимал верно слова, которые там употреблены. И поэтому когда Феофан Затворник говорит, что следует продумывать молитвы, надо просто понять, что в них сказано.
Второе. Надо поставить перед собой вопрос: есть у меня что-нибудь общее с этим святым и с этой молитвой? Те слова, которые здесь написаны, могу ли я произносить от себя, а не только повторяя, словно чужие слова, оставаясь как бы в стороне от них? Могу ли я эти слова произнести от себя или это будет неправда? Я могу вам дать один пример, который уже давал, но, возможно, не все его слышали, а те, кто слышали, может, простят мне повторение. В молитве Господней: Прости меня, как я прощаю своим должникам… мы ударение ставим на «прости меня», а «как я прощаю» произносим будто в придаток. Но у меня был очень печальный случай, когда мне стало совершенно ясно, что в придаток этих слов нельзя повторять.
Подростком я как-то поссорился «насмерть» с одним из своих товарищей. Когда я вечером захотел произнести молитву Господню, мне стало ясно, что я не могу честно сказать прости, как я прощаю, когда у меня и в мыслях нет желания простить его. Я тогда обратился к своему духовному отцу
[26]: что мне делать? Он на меня посмотрел с наивным выражением лица (наивным он не был!) и мне сказал: «А в чем тут проблема? Когда ты дойдешь до этого места в молитве, вместо того чтобы сказать: остави мне долги мои, как я оставляю моим должникам, включая этого твоего товарища, ты честно скажи: Господи, моих долгов Ты не прощай, потому что ему я не прощаю и никогда не прощу». Я пришел в ужас: как же я могу молить Бога о том, чтобы Он меня не простил? Отец Афанасий оставался кремнем: правда остается правдой, если ты не можешь простить, то и не проси, чтобы Бог тебе простил; уходи. Я ушел, и когда дошло до молитвы, я не мог произнести этих слов. Вы сами понимаете, что обратиться к Богу с молитвой о том, чтобы Он мне не простил моих грехов, как я не прощаю обиду, которую мне нанес товарищ, я не мог. Через несколько дней я к отцу Афанасию вернулся и говорю: «Не могу!» — «Ну что же, если ты не можешь, попробуй вот что сделать: перескочи; дойдешь до этого места и перейди к следующему прошению, а это оставь в стороне». Я попробовал, но в стороне оставить не мог, потому что я нуждался в прощении, нуждался в милости Божией, я не мог просить Бога о том, чтобы Он вообще забыл про меня. Я попробовал раз, другой и снова вернулся. Отец Афанасий мне говорит: «Ну что? Один только выход — когда дойдешь до этого места, скажи: Господи! Прости мне мои грехи, но лишь поскольку я прощаю другим. А дальше — твое дело научиться прощать».
И он меня заставил в течение долгого времени продумывать мои отношения со всеми людьми, которые были вокруг меня, и поставить перед собой вопрос резко, остро о том, кому я прощаю от всей души, кому я прощаю сколько-то, кому я вовсе не прощаю, а стараюсь о нем забыть. Это заняло довольно долгое время. И в какой-то момент мне вдруг стало ясно, что это безумие, что даже молясь о том, чтобы Бог меня простил, постольку поскольку я прощаю, я навлекаю на себя Божие осуждение. Потому что пока у меня нет в душе настоящего прощения, а только желание простить — это неправда: ведь мое желание простить заключалось только в том, чтобы самому быть прощенным. Настоящего желания не было, потому что, не будь вопроса о том, чтобы меня Бог простил, я бы и не беспокоился о том, могу ли я сам простить. И постепенно, постепенно я дошел до момента, когда смог сказать: Господи, прости, потому что я его прощаю!
Вы, может быть, думаете, что этим дело кончилось. Это было только начало, и это начало длится до сих пор, потому что, по мере того как живешь, ты обнаруживаешь, что ненависти у тебя, может быть, нет ни к кому, злобы настоящей нет, хотя бывают вспышки гнева, неприязни, но настоящее прощение по отношению к людям, которые тебя окружают, которые хоть чем-нибудь тебя ранили, обидели, унизили, не так просто принести Богу. Приходится поставить вопрос о каждом человеке, которого ты знаешь, и сказать себе: я его хочу простить, но, во-первых, есть ли у меня причина его прощать? Он, может быть, меня нечаянно обидел, но хотел ли он меня обидеть? И мой гнев, мое негодование, моя мстительность духовная не являются ли ответом на случайный, ничтожный грешок этого человека? И дальше, ставить вопрос о том, могу ли я сказать честно: Господи, я его прощаю от души, я его прощаю всей своей посильной любовью, я хочу, чтобы мы вошли в вечность вместе, как братья, как брат и сестра, чтобы было счастьем встретиться в вечности. Но и на земле, если что-нибудь, что принадлежит мне, мешает его внутреннему освобождению, о Боже, очисти это!
Есть ветхозаветное предание о том, как один из пророков молится Богу, и видит, как его молитва, как пламя, подымается с земли и вдруг превращается в туман, который ветер сбивает к земле. Он обратился к Богу и говорит: как же так, Господи, я от всей души молюсь Тебе, и моя молитва, как дым, стелется по земле. В чем дело? чем я согрешил перед Тобой? И Бог ему отвечает: ты обидел одну вдову, и она молится о том, чтобы ты был наказан за ту рану душевную, которую ты ей нанес. И пока она тебя не простит, твоя молитва к небу подняться не может. Ее молитва, словно сильный ветер, сдувает твою молитву
[27].
Значит, молясь, мы связаны друг со другом очень глубоко. И это очень важно. И потому, когда мы собираемся молиться, мы должны раньше всего стать перед судом нашей совести и поставить перед собой вопрос: в каком я сейчас состоянии? Хотя бы за этот день: не поднялось ли во мне какое-нибудь темное чувство, греховное чувство, злое чувство? Жертва этого чувства, может быть, об этом и не знает, это неважно; важно то, что во мне оно есть или было, хотя прошло. И тогда только можно обернуться к Богу и сказать: Господи, вот что со мной происходит, этот человек для меня чужд, а вместе с тем он мне должен бы братом быть, сестрой быть. Ты же его так возлюбил, что Сам стал человеком для того, чтобы он спасся, а я прохожу мимо него. Может, без злобы, но отвращая свой взор, он для меня не существует, я его знать не хочу, он мне чужд.
И вот, перед тем как молиться, надо поставить этот вопрос перед собой. Для начала оглянуться на самых близких, на самое близкое наше окружение: как я отношусь к тем, которых я сегодня просто встретил? что произошло между нами? этот человек вошел ли в мое сердце путем любви, сострадания, желания добра с моей стороны, или я закрыл дверь перед ним? Или еще хуже: не отвернулся ли я от кого-нибудь? Не захотел его возненавидеть или обидеть и поэтому избежал встречи с ним, не только разговора, но чтобы глазами не встретиться?
Поэтому, когда речь идет о том чтобы молиться, скажем вечерними молитвами, надо дать себе время, не тогда когда до молитвы доходит, а в разные моменты дня, и недели, и месяца, и года, и жизни продумывать каждую из этих молитв, и подумать: могу ли я это честно сказать перед Богом? Есть молитвы, которые легко сказать, потому что мы себе не отдаем отчета в том, что говорим. А иногда вдруг те или другие слова всплывают и наполняют нас недоумением или ужасом. В одной из первых молитв, которую священник тайно читает в Литургии, говорится: Господи, слава Твоя непостижима, держава Твоя несказанна
[28]… Это сказать легко, мы так себе Бога представляем: великим, славным, величественным, державным. А дальше идет: Милость Твоя безмерна, человеколюбие Твое неизреченно… И это мы можем повторить тогда, когда ничто нас болью не коснулось, но если вдруг нас коснется что-то, что нас перевернет, ужаснет — легко ли это сказать?
Я вспоминаю одну женщину, пожилую уже, у которой умер внучек. Она мне сказала: «Я больше с Богом разговаривать не могу! Он у меня отнял внука, который ничем перед Ним не был виноват, Он его убил, когда ему было всего десять лет! Как я могу обращаться к Богу с молитвой, когда Он стал для меня ужасом, чудовищем?!». Я ей тогда сказал (это было сразу после войны): «А скажи: за все годы твоей жизни — первой войны, революции, эмиграции, второй войны, преследования тех или других людей — сколько тысяч детей погибло? Почему же ты могла молиться Богу перед лицом этого ужаса?». И она мне ответила с прямотой, о которой нам следует задуматься: «Какое мне до них было дело, — это не мои дети, это не мои внуки!». Часто бывает, что мы можем спокойно отнестись к тому, что происходит, потому что это не касается нас непосредственно, не пронизывает наше сердце, как кинжал. И нам следует задуматься над тем, как мы относимся к ужасу жизни. Могу ли я сказать от всей души: Милость Твоя безмерна, человеколюбие Твое неизреченно — перед лицом того, что происходит? Есть люди, которые это могут сказать, потому что они сами прошли через ужас и вместе со Христом устояли. А мы можем только верой укрепить себя, соединиться с ними, помня, что с ними было и как они это восприняли.
Есть в Новом Завете, в книге Откровения, одно место, где после ужасов конца мира мученики, страдальцы становятся перед Богом и как бы оправдывают Его за свою собственную трагедию: Ты прав был, Господи, во всех путях Твоих (Откр 15:3; 16:7). Но может ли каждый из нас это сказать? Мне эту молитву приходится читать за каждой Литургией; я ее читаю тоже и дома и заставляю себя продумывать ее, прочувствовать и стоять как бы на Страшном суде перед этими словами, поскольку я до конца, может быть, их не могу произнести. Есть минуты, когда колеблется — я хотел сказать вера: нет, не вера — душа, все нутро колеблется, и тогда вера должна стать не уверенностью, а доверием. Уверенностью она может быть тогда, когда ты можешь сказать: да, я понимаю, Ты прав… А в моменты, когда вдруг заколеблется душа, когда перед ужасом, даже мелким ужасом собственной жизни или всем ужасом земной жизни стоишь в недоумении и говоришь: Господи, как Ты можешь это все претерпеть, вынести? как Ты можешь не вступить в бой? — тогда можно сказать: Господи, я не понимаю, но поскольку я Тебя знаю, я могу с доверием к Тебе отнестись. Если Ты так поступаешь, я могу поверить. Да, это ужасно, но есть какая-то причина, есть какое-то основание, есть какое-то объяснение тому, что происходит… Но это не всегда легко. Бывают моменты такой трагедии в жизни людей, когда сказать: Твоя милость безмерна, Твое человеколюбие неизреченно человек может только — я хотел сказать: из «безумного» доверия к Богу — с доверием к Богу, превосходящим всю логику, все его собственное понимание, сказать это только потому, что уверен: постольку поскольку я Тебя, Господи, знаю, я могу Тебе довериться даже в этом ужасе.
Это крайнее положение. Но когда мы читаем молитвы, есть некоторые вещи, которые мы можем вместе со святыми сказать от себя; есть вещи, которые мы можем сказать, как я только что говорил, усилием веры, доверия; есть вещи, о которых можно сказать: Господи, я этого не знаю, не пережил, я даже не могу понять, как это может быть; я этого от себя сказать не могу, но я это повторю не только Тебе, но себе, так, чтобы это вкоренилось в меня, и чтобы, как семя, которое брошено в землю, эти слова постепенно взросли, превратились в росток и выросли, может быть, в целое дерево.
А есть такие места, которые я не могу повторить, которые я должен оставить в Твоей руке, сказав: Господи, от себя, даже повторяя слова святого, даже стараясь слиться с его опытом, я не могу этого сказать, я не дорос, прости!.. Пример — тот, что я вам только что приводил о молитве Господней.
Когда вы будете вечером молиться, читайте молитвы и говорите Богу, для начала хотя бы, честно: это, Господи, я могу сказать от себя, я могу слиться с этими словами всей душой, всей жизнью своей. С этими словами я могу согласиться; хотя они превосходят мое понимание, мое разумение, но я доверяю и Тебе, и святому, который это пережил и мог это сказать. А этого, Господи, я сказать от себя не могу, я это прочту для того, чтобы оно запечатлелось в моей памяти, в моей душе. Может быть, рано или поздно я пойму, сейчас — не могу.
Если мы будем так молиться, так продумывать каждую молитву, не тогда когда становимся молиться, а когда у нас есть полчаса времени, чтобы взять молитвенник и подумать над первой молитвой, над второй, над третьей, то постепенно мы поймем себя, мы поймем, хотя бы зачаточно, опыт того святого, который запечатлел свой опыт в этих словах. И, может быть, поймем также нечто о Боге, о чем мы не подозревали раньше.
Хочу обратить ваше внимание еще на некоторые моменты. Я говорил, что, по совету святителя Феофана Затворника, мы должны вчитываться в молитвы, которые будем употреблять молитвенно, вечером ли, утром ли, в течение ли дня, вчитываться в них так, чтобы понять, что в них сказано. И это требует внимательного отношения к словам, но также внимательного отношения к тому, что через эти слова хочет нам передать тот или другой святой. Вы наверно знаете, как бывает, когда идет разговор между двумя людьми: один говорит, а другой слушает поверхностно, потому что уже готовит ответ, или вопрос, или отповедь. И поэтому у слушающего нет внутри настоящего молчания, и он не может услышать за словами, которые доходят до его слуха, тех чувств, тех мыслей, которые говорящий хочет ему передать.
И вот одна из наших задач заключается в том, чтобы научиться так молчать, чтобы слышать. Вы наверно знаете по опыту то, о чем я сейчас упомянул. Для того, чтобы слышать, надо открыться, а для этого надо внутренне замолчать полностью, до самых глубин.
Есть рассказ у одного английского писателя о том, как молодая женщина шла по Вестминстерскому мосту, и упал на этот мост самолет. Она была убита. Ее тело унесли, но душа ее осталась на том месте, где ее застигла смерть. Ее, конечно, никто не видел, но и она никого не видела, потому что она никогда никакого внимания не обращала ни на кого. Никто не существовал для нее, кроме нее самой, и где-то на краю — ее муж, которого она любила эгоистично, обладательно, а другие люди не существовали. И когда ее душа оглядывалась с этого моста на дома по ту и другую сторону реки, она не видела ничего, кроме голых, мертвых стен, в которых вечером зажигались огни, свет. Людей она не замечала, хотя они толпами мимо нее проходили, — до какого-то момента, когда вдруг мимо нее прошел ее муж, единственный человек на свете, который существовал для нее. И встреча с этим существующим человеком ее вернула к сознанию того, что вокруг нее находится. Она стала видеть людей, как тени, но они были тут, они не отсутствовали.
Она пошла по мосту, и спустилась к реке, и стояла на набережной, и глядела на Темзу. Когда она была во плоти, воды Темзы вызывали в ней только глубокое отвращение: это были воды оскверненные, воды, несущие с другого конца Англии в море все отбросы человеческой жизни. Они были густыми от грязи и оскверненными, от чистоты воды ничего не оставалось. И когда у нее было тело, она на эти воды смотрела с отвращением, потому что думала: какой ужас, если бы мне надо было погрузиться в них, какой ужас, если мне надо было бы испить от этой воды! Но теперь тела у нее нет, и, как говорит этот писатель, она стала видеть эти воды безотносительно себя самой. И что же она увидела? Под слоем оскверненной, густой, грязной воды она стала видеть душевными очами новые глубины: более чистые воды, светлые воды, просто воды. И вдруг в сердцевине этих вод она увидела блестящую струйку воды, которую она узнала, ту воду, которую Христос дал самарянке (Ин 4:4—42)
[29].
Если бы мы умели друг на друга так смотреть! Но мы друг на друга смотрим, именно как она смотрела, когда была в теле. Мы не можем освободиться от тела, разумеется, но верой, любовью, просвещенностью Святого Духа мы можем забыть о своей телесности в этом отношении, о том, что нас отделяет от другого человека, можем отрешиться от того, что нам его делает страшным, или противным, или непонятным, или просто чужим. И если только молитвенно, благоговейно мы будем вглядываться в другого человека, то мы начнем видеть в нем уже не верхний оскверненный слой, а все новые и новые глубины, из которых одни еще не очищены, но глубже них находится чистота, которую Господь сотворил, когда Он посылал живую душу в этот мир.
Вам, может, кажется, что это никакого отношения не имеет к молитве и к чтению молитв; мне, наоборот, кажется, что это имеет очень большое отношение. Потому что когда мы читаем молитвы, даже когда мы вчитываемся в них с вниманием, мы на них смотрим через нашу как бы сгущенность, через нашу полуслепоту. И мы можем в этих молитвах увидеть, услышать то, что в них заложено, только если освободимся от себя самих, только если сможем сказать себе: не озирайся на себя, не думай свои мысли параллельно с мыслями, которые высказаны святым, вслушивайся в его слова, вдумывайся в его думы, вживайся в его чувства. И это нам передается, конечно, через слова молитвы, которые начертаны в книге или которые мы уже знаем наизусть, но большей частью их не слышим, потому что так к ним привыкли, что слова скользят по нашему вниманию, они уже не врезаются в наше сознание, они нас не ранят и не исцеляют. И нам надо научиться тому внутреннему глубокому молчанию, которое необходимо для того, чтобы воспринять опыт другого человека — святого ли, грешника ли. Когда мы читаем молитвы, которые нам Церковь подарила, собрала за тысячелетия и занесла в маленькие молитвословы, чтобы мы оживали благодатью, духовной глубиной и жизнью святых, то мы должны научиться молчать.
Первое, что я хочу сказать по этому поводу практически, это то, что раньше, чем приступить к чтению молитв, будь то наизусть, будь то по молитвеннику, нам надо стать перед Богом, стать молчаливо и вслушаться в безмолвие нашей комнаты, в тишину, которая нас окружает, и сказать: Господи! Как дивно, что Ты тут, и что Ты мне даешь стать перед Тобой, быть в Твоем присутствии, что Ты не закрываешься от меня! — и постоять в изумлении. И это изумление может повторяться изо дня в день, потому что после каждого такого опыта какая-то новая глубина открывается в нашей душе.
И вот научимся становиться в невидимое присутствие Божие, в неощутимое порой Его присутствие, верой стать перед Ним, верой в том смысле, в котором это слово обозначает уверенность: Вездесущий, Иже везде сый, как говорится в молитве Святому Духу, Он — здесь, мне не нужно даже это ощущать, достаточно мне это знать. Он здесь, и Он мне, мне, ничтожному, недостойному, грешному, разрешает стоять в Своем присутствии… Порой через некоторое время такого стояния — я говорю о минутах, а не о часах — становится вокруг нас и в нас самих так тихо и спокойно: некуда стремиться, нечего добиваться, быть тут с Ним — такое счастье! А порой, если Господь сочтет это для нас нужным, полезным, бывает, что Он нам даст с какой-то ясностью, светлостью, силой ощутить Свое присутствие. Но добиваться этого не надо. Нам нужно научиться так Богу доверять, чтобы не пробиваться к Нему, а знать, что Он больше нас хочет этой встречи, больше нас хочет нашего приобщения Себе, больше, чем мы сами, хочет нас ввести в наши собственные, безмолвные глубины. Как это дивно!
Порой бывает, что так ясно делается: хотя я не вижу ничего, не слышу ничего — Господь тут. А порой бывает, что этого чувства нет, но по вере я знаю, что Тот, Который меня сотворил для того, чтобы я вошел в глубины Божественной жизни, Тот, Который меня сотворил, и не только создал, но и умер за меня, конечно, тут присутствует.
Я помню одну девочку, которая это пережила — сколько ребенок может пережить, но пережила тоже, что иногда Господь так близок, а иногда, когда она рвется к Нему, она не может до Него дойти. И мать сказала ей замечательную, как мне кажется, вещь, она сказала этой девочке: «Ты знаешь, что бывает, когда мы в прятки играем. Ты сначала закроешь глаза и тихонько стоишь и ждешь. И в какой-то момент, когда я спрячусь, я аукну; и ты откроешь глаза и попробуешь пойти на звук, который ты слышала, ты будешь ходить в одну сторону, в другую, искать. Когда я увижу, что ты растеряна, я снова аукну; и ты найдешь более прямой путь в ту сторону, где я нахожусь. И ты меня найдешь. А иногда вдруг ты испугаешься, что ты одна и я куда-то ушла: куда же я могла деться, что ты меня не видишь? И если только я замечу, что тебе стало страшно и одиноко, что слезы появились на твоих глазах, я выйду из прятки своей, и побегу к тебе, и ты бросишься ко мне в объятия». И она прибавила: «Так бывает с Богом. Когда мы Его ищем, Он аукнет, а потом дает нам искать для того, чтобы увериться, как нам нужно Его найти, как нам хочется Его найти, как рвется вся наша душа к Нему. И чтобы мы тоже осознали, как одиноко без Него, как страшно, как при полном солнечном свете без Бога делается вокруг нас темно». Вот чему нам надо научиться для того, чтобы начать молиться: научиться становиться перед Богом, зная, что Он тут, и в изумлении трепетно знать, что Он меня, грешного, недостойного, слепого, допускает стать перед Ним и быть с Ним, даже если я Его не ощущаю. Какое диво, какая радость!
Когда мы осознаем или верой в Его присутствие, или опытно, что Бог тут, мы можем начать говорить те или другие молитвы. И молитвы, мне кажется, надо выбирать. В вечерних, утренних молитвах, в акафистах, в чинопоследованиях есть молитвы, которые ударяют нас в сердце, которые нас трогают, которые нас умиляют, которые уже стали частично нашим опытом, не обязательно молитвенным, а житейским. И надо с этих молитв начинать, чтобы эти молитвы растопили наше сердце, просветили наш ум, дали крепость нашей воле, нашей устремленности к Богу. Иногда это даже не обязательно молитвы, которые положено читать в тот или другой момент, а молитвы, которые сейчас говорят мне что-то очень важное. Я вам дам пример: молитва, которой я часто начинаю молиться по вечерам, никакого отношения к вечерним молитвам не имеет, это молитва, которая положена после принятия пищи: Благодарим Тя, Христе, Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небесного Твоего Царствия. Но яко посреди учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир дая им, приди к нам и спаси нас
[30].
Я эту молитву говорю во множественном числе, как бы включая в нее, вернее вмещая в свою душу, всех тех, кто мне дорог, всех знаемых моих, всех тех, кого я помню, всех тех, которые когда-то прошли через мою жизнь, всех тех, кого я не сумел любить, когда можно было и надо было любить, всех, всех без исключения, всю тварь Божию. И когда я становлюсь так на молитву и говорю: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий — я обращаюсь к Тому, Который так возлюбил и меня, и всех тех, кого я хочу помянуть, даже не помня их имена, что я могу это сделать, превосходя себя, охватывая весь мир. И я Его благодарю. И тут — не всегда, не каждый раз, потому что иначе те же слова могут превратиться в механическое повторение — я начинаю думать: за что я Тебя, Господи, сегодня благодарю? Иногда за то, что Он меня создал, что я есть, иногда с особенной силой за то, каким образом, чудом Он вошел в мою жизнь. Благодарю за то, что у меня родители были, которые меня любили и которых я любил и люблю и которые меня научили любить… Я не буду сейчас говорить обо всем, о чем я могу благодарить Бога, но это я вам дал как пример.
И так можно долго, долго стоять, как бы проходя в памяти всю свою жизнь, все содержание своей жизни и принося это в словах благодарности: Боже! Ты мне это дал. Никакими своими силами я не мог бы этого добиться, достичь, а Ты мне это подарил. И это — земное счастье, это земная красота, это радость земная. Но мы призваны к большему, да, к большему. И дальше идут слова: Не лиши нас и небесного Твоего Царствия… Все, за что я Тебя благодарю, Господи, это не только земное, оно пронизано Твоей благодатью, оно освящено Твоим благословением. О Боже, сделай, чтобы все, что было земное в моей жизни, было проникнуто, пронизано благодатью и присутствием Всесвятого Духа, чтобы все, все земное стало хоть зачаточно Царствием Небесным!
И отсюда так легко перейти к молитве о тех, кого мы на земле любили, кого мы за их жизнь и за их любовь благодарим, и начать молиться также, особенно, о тех, которые теперь почили в Царствии Божием. Иногда мы можем молиться с радостью о том, что их смерть была торжеством — торжеством вечной жизни. Перед своей смертью мой духовный отец, отец Афанасий, который болел некоторое время, мне написал записку: «Я познал тайну созерцательного молчания, я теперь могу спокойно умереть». И три дня спустя он скончался на моих руках. Вот это тайна созерцательного молчания. Но этого надо искать. И искать так, чтобы все земное стало Царством Божиим, как в этой молитве после принятия пищи говорится.
Но мы можем подумать: как же так? как я могу надеяться на такое чудо? на такое чудо приобщенности к Богу, бесконечной Его близости, постоянной Его близости даже в минуты, когда я не ощущаю ее? не сознаю этого? И дальше молитва говорит слова, которые могут нас утешить: Но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир дая им, приди к нам и спаси нас — так же, как Ты пришел к Своим ученикам, приди и к нам и спаси нас.
Вспомним, что случилось, о чем речь идет. Христос был взят, Он был судим, Он был осужден на смерть. Его били, над Ним надругались, Его распяли на кресте. У этого креста была Матерь Божия, Которая безмолвно отдавала Своего Сына. Она знала, Кто Он, знала, что Он — Сын Божий, Который Ею был рожден в мир для того, чтобы спасти мир. Сердце Твое пройдет оружие, — сказал Ей праведный Симеон (Лк 2:35). И Она не противилась ни распятию, ни умиранию, ни смерти Божественного Своего Сына. Она Его отдавала для спасения мира. Около креста находился также Иоанн, самый молодой из учеников, который был связан со Спасителем и с Божией Матерью чистотой любви. В то время он еще не был Иоанном Богословом, он был юношей Иоанном, который так возлюбил Спасителя Христа, что не побоялся последствий того, что он при Нем будет во время Его распятия, умирания и смерти.
А где же были другие? Недалеко, но все-таки поодаль, потому что им не давали подойти, были женщины, которые шли за Христом и служили Ему еще с Галилейских времен. В них тоже, как в Иоанне, восторжествовала любовь и не дала места ни страху, ни измене. А где же были ученики? Ни одного не было. Один из них, Иуда, повесился за свое предательство. А где же были другие десять? Они спрятались в дому Марка, в ужасе, не понимая того, что случилось: они ожидали победы Христа, и Он всеконечно поражен, Он умер, ничего больше нет, никакой надежды нет. И что же будет с Его учением? Неужели Он ошибся и в Себе, и в том, что говорил о Себе? Неужели все, все, все было маревом, дурманом, нереальностью? И что же с ними будет — они же были открыто Его учениками?! Их будут искать, преследовать, может быть, так же распинать! Они были в ужасной растерянности. И вдруг вечером воскресного дня перед ними — Христос, живой, в теле, но в теле новом, обновленном, в теле, которое всецело пронизано Божеством. И первые слова, которые Он им сказал: Мир вам! (Ин 20:19). И они возрадовались: Христос жив! Он одержал победу, весь страх с них спал, и ликование вошло в их жизнь.
И когда мы эти слова произносим: Яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир дая им — мы должны помнить, что можем произнести эти слова, даже если мы недостойны, даже если мы грешны, даже если мы отпадаем от Христа, не исполняем Его учения, бежим от опасности, от риска. Он к нам так же может прийти, как Он пришел к Своим ученикам, и Он нам даст Свой мир, такой мир, который земля дать не может. И мы можем в безмолвии и в ликовании тогда стоять перед Ним.
Вот как передо мной раскрывается эта простенькая молитва после вкушения пищи и почему ею мне хочется начинать все свои молитвы, после того как я постоял перед Христом, да, перед Христом, Который пришел ко мне, недостойному, грешному, в каком-то смысле предателю, пришел ко мне и позволил мне стоять перед Ним: «Я тут, не бойся!».
Дальше я хочу продолжить разбор некоторых выражений в наших молитвах и также поговорить о необходимости понять то, что сказано в них. Но об этом — дальше, а сейчас я надеюсь, что то, что я вам сказал — для меня так важное, так значительное, — и до вас дошло, и что это вам тоже поможет, как меня научил отец Афанасий, молчать перед Богом, и только когда молчание станет глубоким, употреблять слова, которые не могут разбить это молчание.
Я продолжаю свои беседы о молитве, может быть, в несколько беспорядочном виде, потому что мне хочется вам передать многое, что у меня накопилось на душе в течение очень многих лет, но что организовать в систему невозможно. Сердце можно только открывать, и давать дорогим тебе людям заглянуть в него как можно глубже, и давать им постичь через то несовершенное, может быть, малое, что собралось на душе, то, что ты сам способен узнать, познать, пережить, и, может быть, выразить гораздо лучшим образом.
Хочу отчасти вернуться к мыслям, которые я высказал последний раз о необходимости внимательно продумывать те слова, те выражения, которые мы употребляем в молитве, — будь то выражения, которые мы находим в писаниях отцов Церкви, подвижников, в молитвах вечернего и утреннего правил или даже в собственных молитвах, чтобы каждое слово имело свое подлинное, полное значение. Это не всегда легко, потому что большинство молитв, которые мы находим в молитвослове, были написаны не на славянском языке, а либо на среднегреческом, на византийском языке, либо на сирийском или на других языках. Мы читаем перевод, и перевод этот, конечно, выражает то, как были поняты оригинальные слова переводчиками. И иногда это имеет громадное значение, потому что некоторые слова в нашей душе рождают глубокое переживание как таковые, потому что они связаны в нашей жизни, в жизни нашего народа, в жизни порой нашей семьи с чем-то очень важным. Иногда то или другое слово сразу раскрывает душу к какому-то пониманию.
Мне сейчас вдруг вспомнилось слово одного из хороших австрийских писателей, который в одном из своих очень сложных стихотворений говорит: «И тот многое передал слушателю, который сказал слово „печаль“»
[31].
Да, те из нас, которые пережили что-либо в жизни, что глубоко их ранило или что оставило за собой след неисцельной грусти, когда они услышат слово «печаль», или «грусть», или «тоска», или «боль» — отзовутся на это. Но, конечно, те, кто либо по молодости, либо по обстоятельствам жизни никогда не познали ничего из тех переживаний, которые укладываются в слове «печаль», «страдание», не воспримут так это слово.
Иногда бывает, что то или другое слово даже на славянском языке не доходит до нас с тем смыслом, который переводчики вложили в него, когда они переводили с византийского или с восточных языков те или другие молитвы, скажем, Ефрема Сирина, Исаака Сирина. Я сейчас думаю вот о чем. Есть место в Евангелии, где Христос говорит: Кто не возненавидит отца или матерь и не последует за Мной, тот Меня недостоин (Лк 14:26). И много раз люди обращались ко мне и говорили: как же возможно, что Христос, Который нам заповедал любовь — любовь до готовности жизнь отдать за ближнего, не то что за любимого, лично любимого, а за всякого ближнего, кому нужна любовь, — может так выражаться? И если подумать об этом, то приходится заглянуть, может быть, даже в словарь, и узнать, что в то время, когда переводилось Евангелие на славянский язык, слово «ненавидеть» не значило вовсе или значило не только отрицательное, враждебное, ненавистное отношение к другому человеку. «Ненавидеть» происходит от слова «видеть», и, в сущности, Христос говорит: если кто неспособен отвернуться от своего отца или матери для того, чтобы последовать за Мной, тот не Мой ученик. И это совсем другое, чем положительная ненависть, положительное отрицание любви. Можно любить глубочайшим образом отца и мать, но сказать: да, но меня зовет Господь к такому подвигу, к такой жизни, которая не оставляет мне возможность всю свою жизнь, все свое время отдавать вам.
Это один пример, но такие примеры мы можем найти и в других местах. Я помню, как наивно, может быть, один человек мне говорил: как жестоки некоторые псалмы; там сказано: «Выну очи мои ко Господу» (Пс 24:15, славян.). Неужели для того, чтобы служить Богу, я готов вырвать свои глаза? Нет, просто на славянском языке слово «выну» значит «всегда»: Всегда обращены очи мои ко Господу. Мы постоянно делаем такие ошибки, когда читаем какие-нибудь тексты, молитвы в частности, и Евангелие, и псалмы, или даже когда мы говорим с другими людьми на языке, который нам не родной. А славянский язык в каком-то смысле как бы глубоко русский язык ни был в нем укоренен, родным для нас не является. Мы должны вчитываться в текст, узнавать значение слов, какое они имели в то время, когда был переведен этот текст, и из этого делать заключение для себя.
И это очень важно, потому что если так читать Евангелие, если так читать молитвы, которые нам предложены в виде вечерних, утренних молитв, канонов и так далее, то они оживают, иначе остается только скорлупа, остаются, да, слова, которые что-то значат. И мы часто думаем: которые, наверное, значат больше, чем я могу понять, — но и все.
Поэтому я и останавливаю ваше внимание на этом. Читаете ли вы Евангелие, читаете ли вы, вне молитвенного времени, а для того, чтобы уразуметь их, утренние, вечерние молитвы — обратите внимание на слова, потому что они порой бывают так полны глубины, человечности. Возьмите, например, псалом, где царь Давид говорит такую стройную речь Богу и вдруг, говоря на современном языке, между двумя запятыми восклицает: О, Ты Радость моя
[32]! Вот это спонтанное, живое, непосредственное отношение, которое мы находим у него в этом примере так явно, мы можем находить в очень многих других местах и Священного Писания, и молитв святых. Поэтому я вам советую последовать совету святителя Феофана Затворника: конечно, молись вечерними и утренними молитвами, конечно, читай псалмы, но прочитывай эти молитвы с размышлением в момент, когда ты не молишься, для того, чтобы понять, о чем идет речь и что ты будешь говорить Богу, для того чтобы говорить не пустое, чтобы говорить настоящими словами, чтобы каждое слово было для тебя действительно осмысленно.
Я сейчас говорю не о том, чтобы эти слова возбуждали какие-то особенные чувства, а чтобы они доходили до сознания, потому что если они до сознания не доходят, то они и до сердца не дойдут. Мы не можем надеяться на то, что звучность слов всегда доведет до нас понимание. Однако тут надо помнить, что не напрасно многие из молитвословий были положены на музыку. Но они были положены на музыку двояким образом. В позднее время композиторы брали те или другие молитвы и, вдохновляясь своим музыкальным опытом, облекали их в музыку своего времени, XIX, XVIII века, и делали их порой совершенно чуждыми тому, что было вложено в них молитвенниками пустыни, молитвенниками, которые подвизались героически в борьбе со всем злом, какое в них было. И поэтому так важно (как мы стараемся это делать у нас в храме и как сейчас возрождается в России) искать те мелодии, которые выражают собой глубину и истинность текста, которые не украшают его, не делают его «привлекательным», а выражают музыкально то, что заложено словесно.
Я сейчас снова процитирую вам нечто. Есть немецкая писательница Мария фон Эбнер-Эшенбах, она написала маленькое четверостишие, которое меня всегда поражает: в малой песенке что такое покоится, что можно так ее любить? В ней есть немножко благозвучия, немножко песенности и целая душа… И вот из благозвучия, из песенности мы можем иногда дойти как можно ближе к той душе, из которой вырвались те или другие слова. И надо вслушиваться, а не только вчитываться в слова, потому что порой их звучность до нас доходит и доносит до нас то, чего мы просто умом, головой не можем постичь.
И тут я хочу сказать еще нечто, как бы отходя от систематического изложения. Ошибка! Источник ссылки не найден.Очень важно, чтобы дети были погружены в родительскую молитву. Я помню, тот же Феофан Затворник, который является одним из самых великих духовных наставников, говорит, что пока ребенок во чреве матери, с самого момента его зачатия, все, что происходит с матерью, происходит и с ним. С точки зрения биологической ясно, тут не о чем спорить. Но замечательно то, что действительно они составляют одно целое, одну жизнь и что если мать будет молиться, то она эту молитву произносит как бы вместе с тем ребенком, который зачат в ней. И если мать поет некоторые молитвы, то до ребенка доходят не только слова (я, конечно, не говорю, что ребенок, зачатый во чреве, понимает слова, которые произносятся), но и то переживание, которое мать вкладывает в эти слова. Если эти слова положены на такую песенность, которая соответствует их смыслу, их содержанию, тогда они каким-то еще более глубоким образом соединяются, переплетаются с жизнью этого ребенка не только психологически, но и физически.
Я вам хочу дать пример. Довольно много лет тому назад у нас здесь в хоре пел замечательный старик, Федоров. Он пел с раннего детства в храме и вжился в это пение не как в музыку без содержания, а как в музыку, которая выражает глубокое, глубинное содержание тех молитв, которые положены на нее. В какой-то момент он заболел раком, поступил в больницу. Я его стал навещать каждый день. В начале он меня просил служить молебен — короткий, потому что ему было не под силу даже долго молиться, и он пел. Потом он перестал петь, потому что у него уже сил не хватало, и я тогда читал эти песнопения. А потом настал день, когда я пришел в больницу, и старшая сестра мне говорит: «Вы напрасно сегодня пришли. Федоров потерял сознание, и он сейчас просто умирает, ему дают несколько часов жизни. И самое ужасное, добавила она, то, что его жена и дочь, которые все эти месяцы были за границей, наконец добрались до Англии, пришли с ним повидаться, хотя бы проститься, и они не могут проститься. Он лежит без сознания и видно, что он просто уходит».
Я прошел в комнату, где он лежал, и сказал жене и дочери сесть рядом по одну сторону его кровати. И потом я сделал то, чего никогда не думал делать. Я подумал о том, что церковные песнопения были как бы музыкой его собственной души, встал на колени рядом с кроватью, на другой стороне от его родных, и стал петь песнопения Страстной седмицы и Пасхи. Я петь не умею, но душа моя отзывается на эти песнопения. Я пел некоторое время и мог ощутить, как Павел Васильевич начинает приходить в себя, как его сознание подымается из такой глубины, до которой никаким образом докричаться нельзя было. И вдруг он открыл глаза. Я ему говорю: «Павел Васильевич, вы умираете. Приехали ваша жена и дочь, посмотрите налево, где они сидят, и проститесь с ними перед смертью». И они простились, они друг друга поцеловали, обняли, посмотрели друг на друга. И потом я ему сказал: «А теперь, Павел Васильевич, вы можете спокойно умереть. Благослови вас Господь!». Я его перекрестил, и он ушел постепенно из области сознания в область бессознательности, и умер в течение нескольких минут. Это показывает, как глубоко молитвенные песнопения переплелись с его душой, и не только слова, а даже то несовершенное пение, в которое я мог облечь их.
И другой пример я хочу вам дать. Опять-таки довольно много лет тому назад (мне тогда было 19 лет, и вы можете понять, что это было столетия тому назад!) я пришел как-то вечером в Трехсвятительское подворье в Париже, и на клиросе должен был читать и петь такой старичок, дьякон Евфимий, который потерял голос по многолетию, но читал и пел. Я стал рядом с ним. Он мне давал простые вещи читать, а сам читал другое и пел. И он читал с такой искрометной быстротой и пел так скоро, что я даже глазами не мог по книге уследить. И когда он кончил, с юношеской наглостью я ему сказал: «Отец Евфимий, вы у меня сегодня украли всю службу, а что хуже — вы ее у себя украли, потому что вы не могли понимать того, что вы пели и читали». И он заплакал и мне сказал: «Ты меня прости, я об этом не подумал. Но знаешь, я родился в маленькой деревушке, и семья была настолько бедна, что меня прокормить не могли, и когда я был четырехлетним мальчиком, меня отдали в монастырь. Там я слышал эти песнопения, и как только я начал петь, я их стал петь со слуха, а когда научился читать, я стал их петь, следя глазами, а потом и читать стал. И эти молитвы, эти песнопения так переплелись со мной, что теперь достаточно мне посмотреть в книге на слово, мне даже не надо его произносить, мне не надо его петь — будто Божия рука касается моего сердца, и мое сердце начинает петь, словно оно арфа в руке Божией». Мне так стыдно было! Так стыдно было, что я его упрекнул в том, что он так может молиться, как я никогда не сумею молиться. Ему было достаточно увидеть слово, и вся молитвенная его жизнь воплощалась тогда в звук и в переживание души.
Вот почему я говорю, что так важно, когда есть дети, чтобы мать молилась и про себя, и вслух, пока ребенок еще во чреве, потому что все, что она переживет, переживает ребенок одновременно с ней — не сознательно, конечно, а каким-то непостижимым образом. Если она может эти молитвы воплотить в пение, то и это дойдет до него. И когда ребенок выйдет из чрева и будет жить самостоятельным образом, надо над ним молиться, надо ему петь молитвы, чтобы они переплелись — я постоянно употребляю это слово, потому что другого не могу найти, — переплелись с его душой и чтобы эти слова, эти мотивы стали едиными с его духовной жизнью.
Это относится также и к людям, которые позже приходят к вере. Но для этого, как я уже сказал, надо вдумываться в значение слов, надо вслушиваться в их звучность, надо соединять эти слова со всем, что мы знаем из собственного опыта. Я вам упомянул слово «печаль». Конечно человек, скажем, ребенок, который печали не переживал, это слово не прочувствует особенно. Но взрослый человек, который прошел через печаль, или через страдание, или через боль, когда эти слова произносятся, не может мимо них пройти, они ударяют его в душу. Но надо для этого, чтобы эти слова как бы углубились в нашем сознании.
Есть слова в молитвах, которые мы произносим с переживанием и вместе с этим без великого понимания, с относительным пониманием или даже вовсе без понимания. Например, молитва, которую мы Великим постом читаем, молитва Ефрема Сирина: Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки. Аминь. Все эти слова до нас доходят, потому что мы их слышим в контексте великопостных молитв и великопостных богослужений. Но если поставить вопрос каждому из нас, что значит каждое из этих слов, что воплощено в этом слове, что мы понимаем, когда произносим то или другое слово, оказывается, что мы очень многого в этих словах не понимаем. Я провел здесь несколько лет тому назад ряд бесед на эту молитву
[33], и это было и для меня, и для других откровением, потому что я тогда вернулся к источникам: что эти слова значили на византийском языке, что эти слова значили на славянском языке, что это значит в опыте каждого из нас.
В каждой из вечерних или утренних молитв есть слова, которые очень богаты содержанием, но к которым мы так привыкли, что уже это содержание не улавливаем, оно нас в душу не бьет, в сердце не бьет, не ранит, не тревожит и не возносит. И вот почему я так настаиваю на том, что слова, которые мы употребляем в молитве, мы должны прочитывать, продумывать. Мы должны ставить перед собой вопрос: а что я знаю об этом? что я знаю о целомудрии? что я знаю о смирении? что я знаю о любви? и так далее. И если продумать эти слова хорошенько, из года в год, из десятилетия в десятилетие, как-то начинаешь делаться родным для тех святых, которые эти слова составили, которые выбрали эти слова для того, чтобы выразить свой опыт.
Вам, может быть, кажется неинтересным то, что я говорю, мое настояние на том, что нам надо углубляться в значение слов. Но это мы делаем постоянно вне церкви и вне молитвы. Кто из нас не читал русскую поэзию? Кто из нас не переживал те или другие стихотворения в зависимости от своего возраста, от своего человеческого опыта, от того, чему нас научили? Возьмите любой сборник стихотворений, и вы увидите, что некоторые вещи до нас доходят, только потому что у нас есть какой-то зачаточный опыт, и этот опыт углубляется при чтении.
Мне сейчас вспомнилось, сейчас не помню, чье, стихотворение.
Дол туманен, воздух сыр, Туча небо кроет. Грустно смотрит тусклый мир, Грустно ветер воет. Не страшися, путник мой, — На земле все — битва, Но в тебе живет покой, Сила и молитва.
[34]Каждое из этих слов может до нас дойти. До ребенка, может быть, меньше, потому что у него нет опыта тех или других переживаний, но для взрослого человека, который, возможно, прошел через боль, страх, ужас, тоску, эти слова могут быть спасительными, могут ему открыть сердце к плачу — и это тоже очень важно. Отцы Церкви много говорят о том, что нам надо молиться со слезами. Но они говорят не о том, что надо сентиментально читать молитвы, их читать так, чтобы взволновать себя и других. Я помню, как мы раз попросили одного человека на клиросе читать, и Михаил Иванович
[35] после двух слов его остановил, потому что там было столько эмоций и так мало живого опыта, начались эмоциональное перепады голоса, модуляции и т. д., ничему не соответствующие. Если трезво эти слова сказать Богу, Который слышит, они дошли бы до самого этого человека и до тех, кто был в церкви; а тут — я помню, как все вдруг шарахнулись: Боже мой, что же это такое происходит на клиросе?!
Нам надо научиться трезво произносить молитвы, произносить каждое слово с той долей понимания, которому нас жизненный опыт научил. И для этого надо продумывать: что я знаю об этом? Когда мы читаем Евангелие, именно так надо ставить вопрос. Христос говорит то или другое, мы можем сказать себе: раз Христос говорит, значит, Он прав. Конечно, Он прав, но это не значит, что я от этого переменился. А если я эти слова выслушаю и поставлю перед собой вопрос: а я что об этом знаю? Возлюби ближнего, как самого себя (Мк 12:31): а я себя самого как люблю? Я все делаю для того, чтобы себя удовлетворить, утешить, обрадовать, но настоящая ли это любовь к самому себе? Становлюсь ли я более зрелым, более похожим на тот образ Божий, который во мне заложен?
Я сейчас не хочу распространяться об этом, но советую вам: подумайте, что те или другие слова значат в вашем опыте? Вы можете начать с того, чтобы читать русскую поэзию или прозу и ставить перед собой вопрос: что я знаю о том или о другом? Этот поэт вложил в слова свою душу, свою радость, свое страдание, свою тоску, свою надежду — я приобщен к ним или нет? Думаю, что это очень важно. И если мы будем так учиться молиться, углубляться в значение слов, просто в их значение, и углубляться в то эхо, которое они пробуждают в нас, тогда мы начнем молиться словами святых с каким-то живым чувством.
Я все повторяю одно и то же, потому что мне это кажется таким важным, таким отчаянно важным. Потому что постоянно слышишь: вот, читай эти молитвы и этого будет достаточно… Для чего и для кого? Бог эти молитвы слышал десятки, тысячи раз, миллионы раз, для Него они не новы, для Него ново было бы то чувство, которое ты вложишь в эту молитву. Когда царь Давид говорил: «Господи, прости меня, я согрешил перед Тобой» — эта молитва была им сказана, как я уже вам говорил, после того как он стал причиной убийства человека, жену которого он украл. И вдруг он опомнился и с ужасом начал кричать к Богу: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей! По множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое… Беззаконие его — он знал, что это такое: это убийство, это прелюбодеяние, это разрушение всего святого. Тогда эти слова не могли до Бога не дойти. Но когда мы их читаем без всякого чувства, что мы согрешили, а просто как уставное чтение — молимся ли мы? Может быть, до нас рано или поздно дойдет. Это не значит, что не надо этими словами молиться, но надо сознать, что сегодня я никакого содержания в них не вложил, и остановиться, и сказать: Господи, прости! Я это Тебе говорил, и ни сердца, ни сознания моего в этих словах не было. Прости меня и прими за молитву вот эти слова стыда и покаяния, а не те слова, которые я впустую повторял.
Мне кажется, что над этим надо работать всю жизнь, и работать как бы себе на радость, работать так, чтобы твоя душа углублялась, делалась более чуткой, оживала, и чтобы она соединялась все глубже и глубже с Богом путем сознания и опыта тех святых, которые эти молитвы, как кровь, вылили из своей души и которые нам их передали, говоря: смотри — это кровь моя, это душа моя! Приобщись тому, что я пережил, потому что это было реальностью.
Я уже говорил о том, что в молитвах есть такие места, которые мы можем сказать вместе со святым от себя, но есть места, до которых мы не доросли. Тогда надо признать: Господи, я это говорю по вере, доверяя святому, доверяя Тебе, говорю по вере, что это так, но я еще не могу влить свою душу в эти слова. А иногда бывает так — я об этом тоже упоминал, — что я не могу тех или других слов сказать, потому что сейчас единственный мой ответ на эти слова: Нет, Господи!.. Я вам упоминал уже о том, как мы стоим перед судом своей совести, когда читаем молитву Господню и говорим: Остави нам долги наша, якоже мы оставляем должником нашим… Когда мы произносим «мы» в одиночку, это значит «я». И тут мы должны остановиться и поставить перед собой вопрос (или предварительно об этом подумать): есть ли у меня враги, которым я не прощаю? могу ли я их простить? хватит ли у меня силы для этого? или не могу? и тогда что мне делать?.. Я вам уже рассказывал, как я поставил этот вопрос своему духовному отцу, поссорившись с одним товарищем, и как нелегко далось усвоить бескомпромиссный ответ отца Афанасия.
Если вы так будете стараться молиться, то все слова молитвослова станут живыми. И тогда молитва уже будет не уставным упражнением, не чтением, которое мы приносим Богу с расчетом, что мы, можно сказать, свою дань Ему отплатили и теперь квиты с Ним. Мы Ему приносим эту молитву вместе с тем или другим святым, и так учимся молиться от себя. И тогда случится с нами то, что с одним мальчиком случилось. У него была мать, очень страстная уставщица, и каждый вечер этот несчастный ребенок должен был слышать все вечерние молитвы. Ему было тогда лет девять, большей частью он даже не понимал того, что там сказано на славянском языке. Как-то она все вычитала; он посмотрел и сказал: «Мама, а теперь, что мы отмолитвословились, нельзя ли помолиться немножко?». И тогда он обратился к Богу и Ему стал говорить что-то свое.
И другой пример у меня есть — человека, который теперь профессор в отставке в Америке. Когда он был маленьким Петей, как-то на пасхальной неделе он стал перед иконой (мать сидела в креслах) и начал тараторить: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» — сказал раз, сказал два, сказал три… Мать говорит: «Петя, не надо так, это неблагочестиво». И Петя повернулся к ней, и с уверенностью, которую только ребенок может проявить, сказал: «Мама! Ты ничего не понимаешь! Он очень рад!». И Петя был прав: Бог слышал его сердце, а не просто его слова.
Вот попробуйте так научиться с Богом говорить: помолчав, побыв с Ним немножко, поблагодарив Его за то, что, хотя я грешник, хотя я ничем не хорош, Ты мне даешь право и возможность стать перед Тобой, Господи, побыть с Тобой. Ты здесь, и Ты меня любишь, если даже я неспособен Тебя любить как следует… И потом Ему говорить какие хотите молитвы, в любом порядке, начиная с тех, которые вас сейчас трогают, и говоря своими словами то, что не сказано у святого, развивая эту тему, если нужно, сокращая, меняя ее, но чтобы это была твоя молитва на основании молитвы святого.
Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святой, Троица Святая, слава Тебе!
Продолжая беседы о молитве, я дошел до места, которое мне кажется очень трудным, и я надеюсь, что то, что я хочу вам передать, что родилось у меня в душе в течение последнего года и приобрело громадное значение для меня, я смогу хоть несовершенно выразить, но так, чтобы вы могли уловить то, что я хочу сказать, и сами продумали, пережили и дошли гораздо дальше, чем я могу дойти.
Все началось с того, что много лет я читал вечерние молитвы и в конце этих молитв находил те очень простые слова, которые я сегодня вечером произнес перед беседой: Упование наше, Отец, Прибежище наше, Сын, Покров наш, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Я их повторял как несомненную истину. А после многих-многих лет вдруг меня поразило, что это не только исповедание веры, то есть убеждение, но что это обращение к Богу, в которое можно вложить много тепла, сколько-то опыта и понимания и из которого можно ожидать все больше и больше глубины нашего понимания о Боге и о самих себе.
Можно произнести их как утверждение веры: Упование мое — Отец. Прибежище мое — Сын. Покров мой — Дух Святый. Но вдруг меня поразило, что я хочу произнести эти слова иначе, обратиться к Лицам Святой Троицы со всем живым чувством, которое за десятилетия постепенно нарастало, и сказать: Упование наше, Отец! Прибежище наше, Сын! Покров наш, Дух Святой! Троице Святая, слава Тебе!
Вам может показаться, что разницы тут никакой особенной и нет. Но разница для меня в том, что первая формулировка, утверждение, выражалась у меня в уме, а вторая, которую я только что произнес, звучала у меня в сердце. В нашем соотношении с Богом играет роль и ум, и сердце, а также и воля, и жизнь, и я хочу остановиться на этих словах, потому что они для меня раскрыли еще нечто очень значительное — то есть значительное для меня, который этого не понимал, и, может быть, очень незначительное для вас, если вы гораздо глубже переживаете молитву и Литургию, чем я могу их пережить.
Я стал задумываться над тем, что нам эти слова говорят о Боге. Упование наше, Отец… Упование может значить — надежда, но может тоже значить — цель, к которой устремлена вся наша душа, вся наша жизнь, то, что мы надеемся встретить, или того, кого мы надеемся встретить. Это говорит о том, что если я могу сказать об Отце, что Он — мое упование, это значит, что вся моя жизнь должна быть устремлена к Нему, как стрела летит в мишень.
И это у меня связалось с другой мыслью — о том, что в начале Евангелия от Иоанна сказано о Христе: И Слово было у Бога (Ин 1:1). Таков русский перевод, но на оригинальном, греческом, языке употреблено иное слово: не «с Богом», а «к Богу», προς τον Θεον, и это говорит о том, что Сын весь устремлен к Отцу. Он не только пребывает с Отцом, в каком-то смысле во Отце, но вся Его устремленность — к Нему, к Отцу, вся Его любовь — это устремление быть с возлюбленным Отцом.
И если так думать об устремленности Сына к Отцу, как об этом говорит Евангелие от Иоанна, это не моя выкладка или выдумка, то можно еще вспомнить другое. Когда ученики просили Христа научить их молиться, Спаситель им сказал: молитесь так: Отче наш, Иже еси на небесех… — и дальше Он произнес всю молитву Господню, которую мы читаем постоянно (Мф 6:9—13). И мы всегда думаем о том, что когда мы говорим «Отче наш», мы включаем в это слово «наш» всех людей, которые нас окружают, в первую очередь людей, которых мы глубоко, искренне, чисто любим: Ты наш Отец. А дальше начинается подвиг, принятие в сердце людей, которые нам так естественно не близки, а порой даже чужды, а порой переживаются враждебно. И тогда эти слова Отче наш делаются как бы программой внутреннего подвига, преодоления в себе всего того, что мешает нам считать каждого ближнего, как бы он ни был к нам враждебно настроен, нашим братом.
Но есть нечто, что меня поразило вновь, снова и снова поражало. Это то, что когда Христос сказал: молитесь так: Отче наш… — Он не говорил только о том, что мы должны молиться в сознании, что мы окружены людьми, которые тоже — дети Божии, которые братья, сестры наши, потому что у них с нами один и тот же Отец. Меня поразило, что Христос после Своего Воскресения сказал женам-мироносицам: пойдите к братьям Моим и скажите им о том, что Я воскрес (Ин 20:17). К братьям Моим… И в другом месте Евангелия Он говорит: Я больше вас не называю слугами, потому что Я с вами поделился всем тем, что открыл Мне Мой Отец (Ин 15:15).
И вот, когда мы произносим эти слова «Отче наш», мы говорим что-то такое потрясающее. Мы говорим не только о том, что всякий человек, как бы он ни был враждебен ко мне или как бы ни был мне чужд, мне брат и сестра и что, если я хочу сказать «Отче наш», я не могу исключить никого из этой молитвы. А это требует большой вдумчивости, глубокого и строгого испытания себя, потому что кто из нас может, произнося эти слова, включить в них тех, которых он не любит, которые ему чужды или которые к нему враждебны?.. И, с другой стороны, когда мы говорим «Отче наш», мы это можем сказать правдиво, только поскольку являемся братьями и сестрами Христа Спасителя, постольку поскольку мы с Ним так едины, что Его Отец становится нашим Отцом. Это так дивно и вместе так страшно, страшно не в смысле испуга или боязни, а какого-то священного трепета, ужаса священного о том, что я лишь постольку могу назвать Бога Отцом, поскольку верой и жизнью стал братом или сестрой Христу.
И тогда то, что сказано в Евангелии от Иоанна: Слово было к Богу, то есть устремлено в глубины Божии, становится приложимо также и к нам, но лишь постольку поскольку мы врастаем в такую близость, братскую, сестринскую близость со Христом, что то, что сказано о Нем, может быть сказано о нас. Отец делается тогда нашим упованием, нашей надеждой и точкой нашего устремления, той глубиной Божества, куда мы устремляемся. Христа мы знаем из Евангелия, из рассказов святых, из опыта Церкви, даже из нашего личного, пусть неглубокого, небольшого опыта, а Бог Отец остается для нас до конца времен непостижимой тайной. О Нем говорили отцы именно так, чтобы мы могли увидеть эту тайну, приобщаясь к ней в созерцании ее, но не воображая, будто мы ею обладаем.
О Боге говорят духовные писатели, отцы как о свете непостижимом. Он есть свет. Он есть свет, который озаряет все, который является источником всякой светлости. Но вместе с этим святой Григорий Нисский говорит, что этот свет настолько силен, светится с такой силой, что мы не можем его созерцать, что, если мы только взглянем в его направлении, все делается темным, мы слепнем на мгновение. И он говорит о Боге как о непостижимой тьме — не в том смысле, что в Нем нет света, а в том смысле, что мы не можем Его видеть как свет, потому что бываем ослеплены этим светом. И только во Христе, врастая в единство с Сыном Божиим, мы можем сколько-то улавливать отблеск этого Божественного Отцовского света на лике Самого Христа.
Придет время, когда будет все завершено, когда история мира придет к концу, когда, как сказано в Священном Писании, Бог будет все во всем (1 Кор 15:28), и тогда и мы будем пронизаны Божественным светом, и тогда и мы сможем созерцать этот свет, как ангелы его созерцают.
Об ангелах я хочу сказать одно слово по этому поводу. Святой Григорий Палама говорит, что ангелы — это как бы вторичные светы, что мы не можем видеть Божий свет, не ослепнув, но ангелы пронизаны этим светом в меру, в которой тварность может его нести, и что, созерцая ангелов, святые видели свет, который является Божественным светом, пронизающим ангелов Божиих.
Мы призваны к тому, чтобы рано или поздно тоже приобщиться к этому свету; и когда мы приобщимся — и постольку поскольку сможем приобщиться к нему, — мы тоже сможем созерцать свет Божий, хотя полноту этого света никто никогда не познает, потому что Бог — бездонная глубина, Свет непостижимый. И когда мы говорим: «Упование мое, Отец», мы говорим: «О Боже, как мне хочется, подобно Твоему Слову, быть устремленным к Тебе, устремленным всем моим существом, устремленным даже не в глубины Твои, Господи, но в такую близость, чтобы не стремиться ни к чему другому».
Но вы скажете: значит ли это отречение от всего остального? от тварного мира? от людей, которых мы естественной любовью любим и которые нас любят? Нет, потому что этот свет — Божественная любовь, которая охватывает всех, всю тварь, и ангелов Божиих, и людей, и все существующее.
Но как мы к этому можем устремиться? Желанием, тоской, надеждой, но сами, своими силами, мы этого достигнуть не можем. Что же мы можем сделать? И тут открывается образ Сына Божия: Упование мое, Отец; Прибежище мое, Сын… Что значит, что Он наше прибежище? Это значит, что мы сироты, отпавшие от полноты богообщения, сироты, которые тоскуют по Отцу, по жизни, по непостижимой красоте Божественной. И во Христе мы встречаемся со всем тем, чем является Бог, но в доступном для нас образе. Христос есть Слово — Слово в том смысле, что Он Собой выражает всю сущность, всю тайну, всю красоту, всю непостижимость Божию, но выражает так, что, насколько это доступно каждому из нас, в меру нашей духовной прозрачности, мы можем что-то познать. Он нам прибежище, мы к Нему прибегаем, поскольку только Сын может перед нами открыть Отца, потому что Он является Сыном, Сыном, Который ничем не различен от Отца. Он Бог, как Отец, но в домостроительстве Божием является Его выражением, которое мы можем воспринять.
Сын Божий… Он нам говорит об Отце, в Нем мы видим, в воплощенном образе, то, что живет таинственно иным образом в ангелах — Божие присутствие, но в какой-то мере не то чтобы затемненное, а принесенное нам так, чтобы мы не ослепли от этого сияния и не сгорели от этого огня. В каком-то смысле Христос, как и Церковь, — об этом мы будем еще говорить — является как бы купиной неопалимой. Он — свет, Он — огонь, Он — горение, и к Нему мы можем подойти. Но где-то мы должны остановиться, потому что даже почва, на которой Он стоит, свята, и мы можем подойти к Нему, только сняв обувь, то есть со всем смирением, с отдачей себя, с полным поклонением Богу.
Но Слово, как вы сами знаете, — это выражение истины, это выражение правды, это выражение реальности, поскольку мы можем их воспринять. Оно не скрывает истину, но каждый из нас может эту истину познать и воспринять, насколько сам способен, насколько он богоприемный, насколько сердце у него очищено, насколько ум не осквернен, насколько даже плоть принесена Богу в дар — даже несовершенно, но так, чтобы она принадлежала Ему, как мы это делаем, когда причащаемся Святых Тайн, как это делается, когда крестится младенец или взрослый человек, когда очищается скверна, и даже плоть наша делается Божией, Божиим достоянием, Божиим храмом.
Христос является истиной, Он провозглашает нам не только Собой, но каждым Своим словом истину о Боге. Но выразить словом непостижимое нельзя, и воспринять такое слово не всякий из нас может. И поэтому в Евангелии сказано нечто, что смущает некоторых: что хула на Христа может проститься, хула на Духа Святого — нет (Лк 12:10). Что же это значит? Хула на Христа — это значит, что я слышу Твое слово, и я не могу его понять, я слышу Твое слово, но не дорос и не могу его принять. Я Тебя, Господи, или Тебя, Иисус Назарянин, даже не могу принять за своего учителя, я еще не дорос до этого… Слово — это объективное явление Божие вне нас. Мы можем Его созерцать, мы можем Его слышать, но мы должны расти долго и вглубь для того, чтобы эти слова стали понятными и чтобы через слова мы познали Слово, то есть Того, Который Собой выражает непостижимого Отца.
А о Духе сказано иное. Отцы Церкви говорят, и в Новом Завете есть намеки о том, что Святой Дух — как огонь, Он как пламя. Если мы прикоснулись, подошли к огню, мы этот огонь воспринимаем внутренним опытом. Вы сами знаете, мы все знаем, что если мы подойдем к источнику огня, то нам делается тепло, нас пронизывает тепло огня, проникает до самых глубин. Если мы стоим на улице и видим, как в камине чужого дома горит огонь, то мы можем сказать: да, оно красиво, но до меня не доходит, меня не греет. Эта красота, может быть, — тепло для тех, которые внутри этой комнаты, но не для меня. Но если я нахожусь перед источником огня, если я весь постепенно бываю пронизан этим теплом и тут же говорю: «Нет, я в это тепло не верю, оно не существует, это неправда» — то никто не может нам помочь, потому что мы отрицаем не Духа Святого как такового, а наш собственный опыт, то, что мы достоверно, за пределом всякого сомнения об этом знаем.
Вот что говорит мне эта короткая молитовка: Упование мое, Отец!.. Я, Господи, хотя бы в светлые минуты моей жизни, весь к Тебе устремлен, ничего другого, кроме Тебя, я не хочу, не ищу! Это не значит, что я отрицаю других людей, что отворачиваюсь от них. Я ведь знаю, что Твоя любовь объемлет нас всех, и что Христос сказал «Отче наш», говоря о том, что Ты — Его Отец и наш Отец, и эти слова охватывают всех, всех, всех тайной Божественной Любви.
Христос является для нас откровением, Он перед вами открывает Бога. Если мы Его переживаем (я не говорю — видим, потому что видеть глазами — недостаточно), то перед нами раскрывается какое-то познание об Отце через Его познание Отца. Это дивно, это радостотворно, и это трепетно. И поэтому мы можем сказать, как сказано в Евангелии, что Христос есть дверь овцам, дверь, через которую мы все можем войти и оказаться на тех пажитях, где светит Божественный Свет, Отчий свет. Он — дверь овцам (Ин 10:7). Но не только дверь, потому что до двери надо дойти, и нам сказано о Христе, что Он — путь, и истина, и жизнь (Ин 14:6). Он — Путь, потому что Он нам указал Своей жизнью и Своим учением, как нам надо преобразоваться внутренне, жить внешне, соотноситься друг со другом в тайне Церкви и в тайне сотворенного мира. Он нам указал дорогу. И эта дорога: Будьте как Я… Научитесь от Меня…
Все Евангелие, весь образ Христов и все наше богообщение в молитве, как бы она ни была слаба, нам говорит именно об этом. Он — Путь, если следовать по Его пути, мы рано или поздно дойдем до этой Двери. И Он — Истина, потому что этот путь может быть только путем истинным, путем, где нет неправды, где нет лжи и обмана. Истина — удивительное слово. Отец Павел Флоренский в примечании к одной из своих бесед говорит, что истина — это естина, это то, что есть, но есть в самом абсолютном смысле слова, не относительно по сравнению с другими истинами, а та единственная, которая является полнотой, реальностью
[36].
Но есть еще другое. В течение столетий люди, поскольку начинают познавать и понимать истину, стараются ее защитить от других людей, которые ее иначе понимают, от этого начинаются разделения между людьми. Этих разделений апостол Павел не боится, он говорит: между вами неминуемо будут разделения, для того чтобы явлены были наиболее мудрые, наиболее искусные (1 Кор 11:19). В течение всей истории будут разделения, потому что понять Бога, понять Христа, выразить опыт о Святом Духе никто не может в таком совершенстве, чтобы все другие восприняли. Разделения неминуемы. Но если мы будем прислушиваться друг ко другу, стараться понять, из какого опыта происходят мысли и слова другого человека, то мы все, вопрошающие и утверждающие, вырастем в новое и более глубокое понимание.
Столетиями мы стараемся защитить истину, будто она хрупкая, бессильная, неспособная сама себя защитить. А вместе с этим самое словопроизводство на древних и некоторых современных языках нам говорит совсем о другом. Латинское слово veritas происходит от глагольного корня vereor, который значит «защищать». Истина — это та сила, которая может нас защитить, а не то бессилие, которое нам надо защищать. То же самое говорят немецкое слово Wahrheit и английское слово verity. Истина не нуждается в нашей защите, нашей защитой мы часто ее затемняем. К истине надо приобщиться безмолвием, приобщиться молитвой, приобщиться созерцанием, приобщиться тем, что мы слушаем, что Дух Святой говорит, раскрывая перед нами смысл слов Христовых.
Христос — Путь, Он — Истина и Он — Жизнь. Если мы идем тем путем, который есть Христос, если мы идем тем путем, который есть Истина, то мы врастаем в такую меру и глубину жизни, которая является Божественной жизнью в нас. Это мы видим в святых, это мы видим даже в грешниках, в которых вдруг просияет такая глубина, такая красота, такая святость.
И вот, Отец — упование наше, Сын — наше прибежище, Дух Святой — наш покров, Троица Святая — слава Ей!
О Троице я говорил в других беседах и не буду к этому возвращаться. Скажу только два слова. Отец является непостижимой нам любовью, Он любит нас так, что Он нас сотворил, зная, что мы отпадем от Него, зная, что мы будем неверными, и зная, какой ценой Он нас будет спасать. Сын изначально был избран Отцом для того, чтобы быть жертвой заколения, быть Тем, Который провозгласит истину и жизнь, Который будет путем, Который будет дверью и Который многими будет отвергнут и убит.
И тут встает вопрос о тайне смерти, и мне хочется только коротко сказать о том, что тайна смерти каким-то образом постижима и в глубинах Божиих, потому что любовь, которая доходит до своего абсолютного предела, это такое отношение к другому, то есть к другу своему, что человек и Бог могут о себе самом забыть настолько, что существует только другой. И поэтому, кажется, святой Григорий Богослов говорит о том, что каждое из Лиц Святой Троицы без удержу, неограниченно любит Каждого Другого и, любя, так забывает о Себе Самом, как будто Его больше нет. И Каждый возвращен к сознанию того, что Он есть, любовью Других, Которые так же пережили Себя Самих и Которые из этой как бы мистической смерти возвращают (Каждый — Каждого) к полноте жизни и единства Друг со Другом.
Развивая тему, которой я прикоснулся прошлый раз, говоря о молитве: Упование мое, Отец, Прибежище мое, Сын, Покров мой, Дух Святый, я попробую продумать вместе с вами те мысли, которые мне пришли за последние год-полтора, и которые связывают эту молитву с тайной Самой Церкви.
В Ветхом Завете мы видим рассказ о том, как в Иерусалимском храме было одно место, которое называлось Святое Святых. Это было место, которое принадлежало полностью, исключительно Самому Богу. В эту храмину имел право входить только первосвященник, и то лишь один раз в году после специальных молитв и очищения. Самое помещение было свято, пол, по которому он должен был идти, был свят. Вы наверно помните рассказ о купине неопалимой, к которой Моисей подошел, куст, который в пустыне стоял и горел. И голос ему сказал: не подходи к этому участку земли, не сняв обувь свою, потому что почва эта свята (Исх 3:5). И в другом месте, говоря о Моисее, нам Священное Писание рассказывает о том, как, когда он поднялся на гору Синайскую и там молился и слышал глас Божий, ему было сказано, что он не может взглянуть на Бога и остаться живым (Исх 33:20). Эти отрывки нам говорят о том, что есть такая глубина в Боге, которой мы не смеем прикоснуться, к которой даже подойти страшно.
Вы, может, помните, как я говорил как-то, что Отец есть бездонное молчание, из которого только могло родиться Слово, полностью, в совершенстве, выражающее тайну, лежащую в этом молчании
[37]. Говорили мы и о том, что Отец есть свет, но такой Свет, на который человек взглянуть не может, свет, который ослепляет человека, если бы он даже мог взглянуть на него; и этим объясняется то, что святой Григорий Нисский говорит о Боге как о тьме непостижимой. Не потому, что Он темен, а потому что всякий человек, который взглянул бы в Его сторону, ослеп бы от преизбытка этого света.
А Церковь является странным, таинственным местом и обществом. Это место, где непостижимое встречается с повседневным. В древности говорили, что Церковь — эсхатологическое явление, от греческого слова το εσχατον, которое значит «предел». Но предел не в том смысле, что это грань, которая разделяет, а такой предел, где встречаются две области: с одной стороны — Божественная тайна, вся полнота ее, и, с другой стороны — все тварное, не только человек, но и сотворенный Богом мир. Это грань, где порой сливаются обе эти области, порой одна возносится ввысь, а другая снисходит вниз.
Вы наверно помните, как в Литургии в какой-то момент священник восклицает: Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся! Твоя от Твоих: все, что Твое, мы теперь приносим Тебе… И после этого священник возносит руки и молится о том, чтобы Дух Святой сошел на этот хлеб и это вино, о которых только что шла речь. Твоя от Твоих: то, что Тебе принадлежит… Все тварное каким-то образом возносится Богу как дар, и Бог этот дар не только принимает, но Он изливает в него Свою благодать, больше того — Он принимает этот дар и соединяется с ним. Ведь в Божественной литургии приносятся хлеб, вино, — это же плод земли. Хлеб — это зернышко, которое было брошено в землю, и которое возросло, и которое собрали. Из него сделали хлеб, который приносится в алтарь, чтобы этот хлеб непостижимым образом стал Телом Христовым. Так же и вино, которое делается Кровью Христовой. (В каком полном смысле слова — я попробую объяснить позже.)
И это приносится как плод земли, это сама земля, но не только. Все это приносится человеком, — человеком, который поверил в любовь Божию, который поверил в Его величие, который поверил в Его непостижимость, и потому может верить, что земное способно стать небесным. Это мы видим в Божественной литургии каждое воскресенье, в каждый праздник, и это диво, в котором мы участвуем, потому что мы приносим этот хлеб в виде просфор, и Дух Святой сходит на этот хлеб, на это вино. Это — место встречи, это та грань, где встреча совершается, не грань, которая разделяет, как я уже сказал, а грань, где совершается соединение, непостижимое единство.
Но, с другой стороны, это единство в каком-то смысле ограниченное, потому что еще не пришел конец времен, когда, как сказано в Писании, будет Бог все во всех и во всем (1 Кор 15:28). Это только начало. И в этом смысле эсхатологические явления, все явления, совершающиеся на этой грани, имеют полноту вечности, полноту Бого-общения, и вместе с этим являются как бы островком в мире, который еще полностью не преображен, не освящен, не стал святыней.
Я говорил о Боге Отце именно как о непостижимом в Его величии, в Его святости. Еврейское слово «святость»
[38] нам говорит не только о совершенной, непостижимой чистоте, красоте, величии, оно нам говорит о том, что святость Божия должна в нас вызывать трепет, страх. Не испуг, а именно страх, то есть такое состояние, когда ты можешь только пасть на колени и оставаться в присутствии Божием, в священном ужасе, но не в страхе в обычном смысле этого слова.
А место этой встречи — алтарь. Алтарь является гранью, эсхатологической гранью, и поэтому как трепетно должны бы мы вступать в алтарь! Мы так привыкли к храму, мы привыкли к его разделению на разные части, к тому, что священник, дьякон, входят в алтарь, к тому, что прислужники там бывают, но как нам надо было бы обновить в себе этот священный ужас! Я с вами говорю прямо и лично и скажу тут: я никогда не вступал в алтарь до дня, когда меня ставили дьяконом. У меня был такой ужас, такой трепет о том, что алтарь — область Божия и что мне, мирянину, войти в нее нельзя. И не потому, что я мирянин. Мирянин — член Церкви, частица Тела Христова, но даже этого недостаточно для того, чтобы вступить в алтарь. Да, мы продолжаем в него вступать, мы детей допускаем, мы взрослых допускаем, но как дети и взрослые должны быть воспитаны в сознании о том, что они вступают в такую священную область, в которую святые боялись вступить!
Мне вспоминается разговор с отцом Георгием Флоровским. Его отец был священником, и отец Георгий мне рассказывал, что, когда он подрос, он спросил отца, не позволит ли тот ему прислуживать в алтаре. И отец покачал головой и сказал: «Нет, я тебя в алтарь пущу тогда, когда ты научишься молиться». И конечно, он говорил не о том, что маленький Георгий должен был заучить молитвы, исполнять правило. Нет, речь не об этом шла, а о том, чтобы он осуществил в меру своей детскости, в меру детской чистоты то, что молитва собой представляет в своей сущности: встречу с Богом. Ничего другого в молитве нет, все слова, которые мы употребляем, все действия, которые мы совершаем в молитвенном нашем труде — или подвиге, если речь идет о святых, — сводятся только к тому, чтобы нас научить через пример святых, как стоять перед Богом, как Его встретить. И то, что я только что вам говорил о Церкви как об эсхатологическом обществе, об алтаре как о грани, где встречаются тварное и нетварное, Божественное и созданное, это и есть встреча и это и есть молитва, и вот это нам надо понять.
И это относится не только к тем, которые вступают в алтарь, это относится ко всем нам, потому что мы не извергнуты из алтаря, когда мы стоим в самом храме, мы защищены в нашей неподготовленности от того, чтобы вступить в область, куда можно ступить только по благодати.
И в этом отношении — к этому я хочу позже вернуться, но сейчас скажу попутно — как мы должны молиться о дьяконе и о священниках, которые совершают богослужение, которые вступают в алтарь, и притом не просто боковой дверью, но через Царские Врата. Как страшно это! Дьякон, по учению Церкви, остается мирянином. Это не значит, что он не принадлежит царственному священству (1 Пет 2:9), которому принадлежит каждый член Церкви, но он мирянин в том смысле, что он представляет собой в алтаре всех мирян, которые находятся в храме и вне храма, во всем мире.
Как это страшно и дивно! Всем нам еще рано войти в область встречи лицом к лицу с Богом, и мы того или другого человека избираем и посылаем его в это страшное место встречи. И как он должен к этой встрече готовиться, чем и кем он должен стать для того, чтобы эта встреча была ему не в погибель, а в спасение ему и другим. Он будет говорить молитвы вслух: это молитвы всего Тела Христова, но он их говорит от нашего имени, выходя из алтаря, где совершается эта дивная и страшная встреча. Как ему надо готовиться именно к встрече — не к богослужению, а к встрече, которая найдет себе выражение в богослужении, но без которой он будет медь звенящая, пустой звук.
И он вступает в эти врата, царские врата, через которые только Сын Божий имеет право вступить. На этих вратах изображено всегда Благовещение, и Христос выходит из бездонных Божественных глубин через эти врата благодаря вере, чистоте, святости Матери Божией. И мы можем вступить в алтарь на рукоположении и во время службы, именно потому что Одна из нас, Дева Мария, оказалась дверью, через которую Сын Божий стал Сыном человеческим.
О значении Божией Матери я скажу другой раз, отдельно, но мы всегда должны помнить, что никто не входит в алтарь иначе, как через эти врата. И эти Врата — Божия Матерь. Священник вступает также через эти врата, Врата, через которые только Христос по праву может вступить. Но священник вступает в них для того, чтобы приобщиться тайне священства Сына Божия. А священство Сына Божия — это готовность умереть для того, чтобы другие жили. Это не богослужение в обычном смысле слова, это Бого-служение, служение Богу и людям.
Вот что представляет собою алтарь, какое он дивное и страшное место. Это место, где мы можем быть в присутствии невидимого нам и непостижимого еще Отца. Мы не бываем ослеплены, мы не умираем от этой встречи: мы как бы за завесой, и эта завеса — Христос, наша защита, Который до нас доносит то, до чего мы сами дойти не можем и не смеем.
И это сказывается порой так ясно. Есть момент в Литургии, когда епископ выходит благословлять, держа в руке крест и дикирий. Дикирий это двусвечник. Здесь епископ благословляет как бы именем — нет, больше того: присутствием, действием Самого Христа. Дикирий, двусвечник, нам говорит о том, что Он — Бог и человек и что как Бог Он нас благословляет. Крест нам говорит о том, что Он Свою жизнь отдал, что Он умер для того, чтобы мы могли жить. Это приход Спасителя Христа в нашу среду смертью и воскресением.
Но после этого епископ возвращается в алтарь, он подымается на горнее место и благословляет с горнего места весь алтарь, и всю церковь, и весь мир уже трикирием, то есть трисвечником, — силой и благодатью Триединого Бога. Здесь таинственным образом до нас доходит благословение и сияние Святой Троицы и Отца нашего Небесного, Отца Господа нашего Иисуса Христа.
В алтаре совершается одновременно извечное и как бы временно-историческое, и вот в каком смысле. Как я уже сказал, алтарь — это место встречи, это грань, куда приносится, где присутствует все тварное, даже греховное, но кающееся, к Богу устремленное, и куда снисходит нетварная благодать. Здесь встреча совершается во время Литургии в том, что вечное и временное как бы пронизывают друг друга, сливаются. Мы, верующие, приносим хлеб и вино, приносим хлеб с именами всех тех, кто нам дорог, всех даже тех, кого мы не помним больше, всех тех, которые когда-то прошли через нашу жизнь и легли в глубинах нашего сердца и кого мы даже вспомнить не умеем, кроме как вдруг, когда что-то нас побудит к этому. Этот хлеб представляет собой и нас, и всех, всех, кому нужно спасение. И вино, плод земли, приносится Богу.
В Литургии, когда священник причащается, он причащается Пречистого Тела и Пречистой Крови отдельно, и он должен помнить, что, причащаясь Пречистого Тела, он причащается Христу распятому, он причащается смерти Христовой, которую он принимает на себя для того, чтобы другие жили. Он умирает в этом причащении Тела. Он не может соединиться с распятым Христом, не согласившись на смерть ради других. И потом он причащается Святой Крови, которая есть жизнь, потому что он не мог бы продолжать свое служение во имя Христа, если в нем качествовала бы только мертвость, смерть, распятие. Причащением Святой Кровью он приобщается к Воскресению Христову, к победе жизни над смертью.
Здесь совершается что-то, что принадлежит и вечности, и истории, и нашему времени. Вечности: я вам уже много раз цитировал рассказ о Предвечном Совете Трех Лиц Божества, когда Отец говорит: Сын Мой, сотворим человека и мир! И Сын отвечает: да будет так, Отче! И Отец продолжает: да, но человек отпадет от нас, потеряет свое призвание, и тогда Тебе придется стать человеком для того, чтобы его спасти, а для этого — умереть его смертью. И Сын отвечает: да будет так, Отче!.. И совершается творение мира и творение человека
[39].
Это — Предвечный Совет, и на столике приготовления, на проскомидийном столике, совершается именно это, но на этот раз образно: приносятся хлеб и вино, которые представляют собою всю тварь. И изготовляется частица, которая представляет собою Христа: Жрется Агнец Божий вземляй грех мира — вот что говорится, когда надрезается эта частица в подобие распятия и смерти воплощенного Сына Божия. И благословляется вино… Это — грань. То, что было в Предвечном Совете, и то, что совершилось в истории, здесь совершается образно, но не только как воспоминание, оно совершается та{'}инственно. В свое время, во время Божественной литургии благодать Всесвятого Духа сделает из этого хлеба и из этого вина поистине Тело и Кровь Христовы, которые нам будут даны для того, чтобы через смерть Христову мы тоже приобщились к жизни Христовой, к жизни вечной.
Это — тайна алтаря. И когда мы приносим хлеб и вино, мы о всех можем молиться. Я знаю, что об этом бывают разные мироощущения, но я вспоминаю владыку Елевферия, который в свое время был единственным епископом, оставшимся верным Русской Церкви в момент внутреннего раскола. На вопрос, о ком можно и о ком нельзя молиться на проскомидии, он ответил в письме, которое я читал, которое достоверно знаю: на проскомидии молиться можно о всех, о праведных и о грешниках, о верующих и неверующих, о всех можно молиться, потому что это Голгофа, и в тот момент на Голгофе Христос распятый умирал за всех без исключения.
И это такое дивное чувство, такое чудо о том, что есть место и мгновение на этой земле, где ни один человек не остается вне милости и сострадания Божия. Вот то, что происходит на проскомидии, когда мы приготавливаем частицу, которая потом будет освящена как Тело Христово, и чашу, которая будет Кровью Христовой. И вместе с этой частицей на дискос, на тарелку, кладется частица, изображающая Матерь Божию, Которая открыла нам дверь, Которая открыла дверь воплощению Сына Божия. И частицы святых, и затем — частицы всех нами поминаемых, добрых, злых, верующих, неверующих, грешников, праведников. Здесь нет нашего суда, здесь — чудо воплощения и распятия, смерти Христа по любви.
Я хочу коротко вернуться к одному моменту. Вы можете поставить вопрос — как же так: Сын Божий может умирать? как же так: смерть может как бы ворваться в тайну Святой Троицы? Вспомните то, что я вам процитировал о сотворении мира и о готовности Христа стать человеком, которым Он еще не был, для того, чтобы спасти нас, каждого из нас и каждого человека, знаемого нами и незнаемого. И тут, мне кажется, надо задуматься над таким вопросом. Смерть представляется нам концом жизни, разрушением временного нашего бытия, убийством. Такова ли она по-настоящему? Мог ли Сын Божий приобщиться к такой смерти? Нет! Но в начале всенощной есть возглас, который мне всегда что-то говорит об этом: Слава Святей Единосущней Животворящей Нераздельней Троице… И в этот момент священник кадилом совершает крестное знамение, вписывая крест в исповедание Святой Троицы.
Как же может крест вписаться в тайну неумирающего Бога, Бога, Который есть Жизнь? И тут надо понять умирание в другом измерении: не как потерю жизни, а как вырастание в новую жизнь, новую меру жизни. Не знаю, сумею ли я это сказать, передать. Любовь, в конечном итоге, есть предельное умирание. Если человек любит другого, он не только готов жизнь свою положить за него, но он должен быть готовым как бы не стать, чтобы тот человек достиг полноты. И вот когда мы думаем о Святой Троице (я это скажу сейчас резко, скажу коротко, когда-нибудь попробую объяснить, когда сумею): Три Лица Святой Троицы любят Друг Друга. И святой Григорий Богослов говорит о том, что Бог — Троица, потому что единица не может быть знаком любви, двоица, то есть пара, не может быть знаком любви: двое, которые друг друга любят, исключают в нашем земном бытии всякого третьего. Когда двое хотят быть едиными, то они исключают третьего, третий только врывается в эту непостижимую любовь.
В Троице совершается что-то иное. В каждое мгновение каждое Лицо Святой Троицы отдает Свою жизнь, как бы соглашается не быть для того, чтобы Двое Других были едины вместе, чтобы ничто не нарушало Их абсолютного, таи{'}нственного единства. И воскрешает Его любовь Тех Двух, Которые, любя Друг Друга совершенной любовью, не могут оставить и Третьего без любви, вне тайны любви. Есть древнее греческое слово — перихорезис, которое говорит о постоянном движении (русское слово «хоровод» потеряло свою тонкость). Можно описать эту модель так: каждый участник движения перемещается, занимает место другого, и таким образом каждый является любимым и каждый жертвует собой, чтобы двое других были едины и третий не врывался в эту тайну их любви. Но те двое его принимают в себя, и один из них тоже принимает на себя готовность быть забытым, чтобы другие два до конца, до глубин, могли созерцать друг друга.
Вот то, что я хотел вам сказать об алтаре. В нашем временном бывании алтарь представляет собой грань между вечностью и временем, грань между Богом и всем Им сотворенным, грань, которая не является разделением, а местом встречи, местом соединения, местом слияния, местом неразделенности во веки веков.
Дальше я буду говорить с вами о приходе Христа, о том, что значит не алтарь, а храм, но сейчас я хочу остановиться и на другом. То, о чем я говорю, нам постижимо только потому, что некоторые люди, святые, это пережили, это поняли, пережили так, что это стало их внутренней жизнью, их внутренним опытом, который они сумели выразить в молитвах и в богослужебном строе. И потому так важно, значительно для нас богослужение, что в нем разверзается перед нами все то, что я так несовершенно выразил и указал на опыте святых, которые все это пережили так, как я не умею ни пережить, ни пересказать, ни выразить. Они это пережили и смогли в короткие молитвы и в песнопения церковные вложить таким образом, чтобы это дошло до нас, чтобы мы, которые понимаем человека, даже если не умеем еще понять Бога, мы, которые понимаем слова человеческие, но понимаем тоже и пение человеческой души, выражаемое в церковных песнопениях, мы, которые можем воспринять то, что вокруг нас на земле происходит, пережив это, поняли то, что совершается в этой встрече между Богом и Человеком. Вот о чем речь идет.
В Ветхом Завете есть целый ряд образов, которые нас подготавливают к пониманию того, что совершается Богом в деле нашего спасения, каково наше положение, чего нам ожидать, что может случиться. Вы наверно все помните рассказ о жертве, которую Авраам принес в лице своего сына Исаака (Быт 22). Бог велел Аврааму принести своего сына в жертву, чтобы этот сын был заклан как жертва, на алтаре. И потому что Авраам безусловно и безгранично доверял Богу, верил в Него и верил Ему, он взял своего мальчика, повел на вершину, построил алтарь, связал собственного ребенка, положил его на этот алтарь и уже занес нож для того, чтобы принести его в кровавую жертву, и ангел Божий остановил его руку. Богу не нужна была смерть ребенка, Ему нужна была безусловность, неограниченность веры отца и бесконечное доверие и отдача себя сына. Это — икона того, что совершилось в истории, это икона того, как Отец наш Небесный Своего Сына отдал для того, чтобы мы могли ожить, с разницей только в одном: то, что совершилось тогда, было иконой, и мальчик не умер, потому что надо было ждать момента, когда совершится то, о чем речь идет в этом иносказании, — каком страшном! Мы не можем понять до конца ужас отца, страх и детское доверие сына, веру как неколеблющееся доверие, но что-то нам открыто. И если мы этого не сумеем пережить, мы не можем ни понять, ни пережить того, что случилось на Голгофе.
Вот вам образ: образ человеческий, образ в истории, через который мы можем по-человечески понять и приобщиться к этой тайне.
Есть другие моменты, которые нам говорят образно: рассказ о том, как Адам и Ева были едины, она была женским началом, а он мужеским началом, он и она, по-еврейски иш и иша
[40]. Когда они друг на друга смотрели, они видели как бы самих себя — перед собой, потому что они были так едины, что раздвоения не было. Вот к чему призван человек, в браке, в частности. И это мы находим также в Новом Завете, когда апостол Павел нам говорит о том, что муж и жена делаются одной плотью, то есть единством, уже не двоицей, а единицей в двух лицах (Еф 5:31). Как это дивно!
Но вместе с тем является ли это уже реальностью в каждом браке? Нет, но это реальность, которая нам предложена как образ, как возможность, как призвание. И образом этого образа, если так можно выразиться, является соотношение Христа и Церкви, Церкви как общества верующих, тех, которые приняли Христа как своего Господа и Спасителя, Церкви как единства верующего человека и верующего народа со своим Спасителем. Через это все человечество становится сыном Божиим, через это становится возможным для нас говорить «Отче наш» не потому только, что Он — Отец нас всех, а потому что таинственным образом мы — братья и сестры Сына Божия, Христа.
Но опять-таки мы знаем, что Церковь, то есть мы все, верующие, в совокупности и по отдельности, не так едины со Христом, как должны бы быть, и это нам говорит о том, какой подвиг перед нами лежит, как мы должны вырваться из плена своего греховного одиночества, своей греховной обособленности для того, чтобы соединиться со Христом. То, что было при сотворении мира между Адамом и Евой, должно совершиться через первый подвиг Сына Божия, Который стал Сыном человеческим, подвиг Его воплощения. Неужели мы можем это пережить и не воспринять, не принять Бога нашего с изумлением, с готовностью себя забыть?
Человек, который себя забывает для того, чтобы вспомнить только любимого, научился тому, что такое любовь и как она раскрывается во Святой Троице, потому что любовь, и смерть, иА воскресение неразлучны друг от друга. Всенощная начинается словами: Слава Святей Единосущной Животворящей Нераздельней Троице… и в это время священник кадилом совершает крест, как бы вписывая крест в тайну Святой Троицы. Крест распятия Сына Божия, крест ужаса Отца, отдающего Своего Сына на смерть. Вспомните Авраама и Исаака: разве не ужас охватил Авраама, когда он своего сына собирался заклать? Неужели Отец наш Небесный спокойно и безучастно отдает Своего Сына на смерть ради нас? И не потому, что мы такие верные, потому что мы такие святые, потому что мы такие достойные Его любви, а потому что мы оказались изменниками, предателями, отвергли Его и отвергли друг друга. С каким ужасом, если об этом можно говорить так, мы должны это воспринимать.
И когда мы думаем о браке, где должно быть осуществлено единство Адама и Евы до того, как они распались из единства в две особи, когда мы думаем о единстве Церкви со Христом, о единстве всех верующих, по вере, друг со другом, со Спасителем нашим и с нашим общим Отцом, вот каким образом через простой человеческий опыт мы можем понимать то, что совершается в недрах Божиих.
Но этот опыт не всегда бывает красотой. Я вам только что говорил о браке первых людей, брак разбился грехом, единая двоица стала двумя лицами. И нам надо осуществлять это единство, и потому что мы видим, чем были Адам и Ева, мы можем стремиться к этому. Но мы видим тоже, что совершилось грехом. Это тоже образ, напоминание нам, из которого мы можем вычитывать нечто. Человек согрешил, и Адам посмотрел на Еву, которую сначала видел как образ себя самого, в совершенстве, в красоте неописуемой, и вдруг увидел в ней иного, другого, «не я». Это сказывается в Священном Писании, как объясняют некоторые отцы, тем, что они друг друга увидели нагими. Пока они были едины, не было наготы, было единство. Когда они стали двумя, они увидели себя нагими, чуждыми друг другу. Как один древний писатель говорил, в начале они смотрели друг на друга и знали, что он и она — это alter ego, «другой я сам»; а когда совершился грех, alter и ego разделились, и каждый из них воспринимал себя как ego, я, а другого как иного, alter. И тогда началась трагедия человеческих отношений, которая описана в начале книги Бытия, когда устремление одного стало к другому, когда один стал властвовать над другим, когда вожделение родилось, вместо того чтобы была ликующая радость единства встречи (Быт 3:16). Из этого мы можем понять, что такое грех, из этого мы можем понять, почему оказалась нужной эта страшная тайна Воплощения, и Креста, и смерти.
Но мы видим тоже и другое: мы видим в рассказах Ветхого Завета, как человечество ищет Бога, но не всегда умеет Его узнать. Сколько миллионов людей ищут, ищут Того, Кто на самом деле есть Бог, но Кого они даже назвать не могут и не могут найти. Вспомните рассказ о Иакове, его борьбу с ангелом Божиим. В темную ночь пред ним стал ангел в виде человеческом и заградил ему дорогу. Иаков стал требовать возможности пройти, Ангел ему заграждал дорогу. Иаков стал бороться с ним, и Ангел его ранил. И в этот момент Иаков увидел, что это не просто человек, который стал на его пути, что его остановил Ангел Божий. И он пал к его ногам и попросил благословения (Быт 32:24—32). Сколько миллионов людей так борются, как будто с кем-то, кто преграждает им путь, а на самом деле стараются пробиться к Богу и не могут Его узнать.
И есть другие образы в Ветхом Завете, открывающие нам нечто о Боге как о Троице. Бога как Троицу выдумать невозможно. Можно выдумать Бога как единство, можно выдумать Бога как многобожие, но тайну Святой Троицы, как она раскрывается в Ветхом и Новом Завете, может раскрыть только Сам Бог для нас. Мы видим рассказ о том, как Авраама посетили три ангела и с ним беседовали (Быт 18). И потрясающе в этом разговоре то, что эти три ангела все время говорили в первом лице: Я. Они не говорили мы. Они были единством Божиим, явившимся как бы иконно Аврааму, чтобы он знал — чутьем, еще не пониманием, что Бог Един в Трех Лицах. Вот еще образ, который нам раскрывает нечто о тайне Божией.
И это очень важно для нас, потому что только из опыта человеческого можем мы вырасти в такой опыт, который нам раскрывает область Божественную. Если мы человеческое неспособны понять, то и Божественное понять не можем. И об этом говорит так ярко, так просто притча о Страшном суде (Мф 25:31—46). Всегда ударение ставится на то, что овцы пойдут в Царство Божие, а козлища будут наказаны адом, но не об этом речь идет в этой притче. Христос не ставит вопрос: верили ли вы в Бога, познали ли вы Христа, поклонялись ли Ему? Он ставит вопрос только так: вы видели голодного — накормили? видели холодного — одели? видели бездомного — приютили? видели изгнанника — позаботились о нем? Все сводится к одному вопросу: был ли ты человеком, был ли ты человечным? Если ты был человеком, если ты был человечным, тогда — но только тогда — перед тобой открывается возможность приобщиться к Тому Человеку, Которого мы называем Иисус Христом, к Богочеловеку. Но если мы и на уровне человека не достойны своего звания, то не станем искать божественного. Об этом ярко, строго предупреждает Христос: не все, кто в течение жизни говорил Мне «Господи, Господи», войдут в Царство Божие (Мф 7:21).
И тут опять-таки прообраз, указание для нас, позволяющее нам понимать глубины Божии, до которых нам ни воображением, ни молитвой, ни устремленностью пока еще нельзя добраться, но которые к нам приходят в виде человеческих картин, событий из человеческой жизни, которые мы не можем не понять, если не отказываемся от своей человечности. И это мне кажется таким важным.
Есть другие образы, множество образов, но я хочу остановиться только на этих, чтобы вы поняли, о чем речь идет: что в истории, через события человеческие нам раскрываются глубины Божии, если мы только можем уйти в глубины человеческие и в этих глубинах встретить Бога. Так важно, так неизмеримо важно для нас уходить в человеческие глубины! И глубины человеческие нам раскрываются не только в тех образах, о которых я говорил, они раскрываются перед нами очень разнообразно: в красоте мира, которая нас пробуждает к переживанию, к пониманию того, что такое красота. Не красота эстетическая, а красота, которая нас охватывает, которая нас возвышает, которая нас просвещает, которая нас делает иными людьми. Это может быть красота природы, красота неба, это может быть красота человеческой личности, красота человеческого подвига, это может быть красота человеческой речи, какую мы встречаем в поэзии, и в прозе, и даже в простом разговоре человека, который умеет свою душу вложить в слова. Если бы только мы умели вслушиваться в человеческую речь, в которой звучит человеческое сердце, в которой раскрывается человеческая мысль, глубины человеческого опыта, мы столько могли бы понять о Боге. И то же самое можно сказать и о других проявлениях. В поэзии русской (и иной, конечно) столько есть мест. Например, эти строки Владимира Соловьева.
Милый друг, иль ты не слышишь, Что житейский шум трескучий — Только отклик искаженный Торжествующих созвучий?
[41]И этому нам надо научиться, потому что даже в самые страшные мгновения мы можем вдруг уловить, что в сердцевине ужаса бьется человеческое сердце, раскрывается человеческое благородство и сияет лик распятого Христа.
Простите меня, если то, что я говорю, — неясно, но это для меня такое глубинное, потрясающее переживание, которое я не умею передать, которое я стараюсь как-то довести хотя бы до вашего слуха. А дальше — ищите сами, ищите в своих глубинах, ищите в Божиих глубинах, и тогда не напрасна будет даже такая беседа, как моя.
В предыдущих беседах я говорил об алтаре, но не как о месте богослужения, а как о символе, как о том месте, где, можно думать, невидимо, непостижимо присутствует полнота Божия, Отец, Сын и Дух Святой. И для того чтобы это стало для нас постижимым, — это место встречи, это грань, но не разделяющая, а грань, через которую переливается вечность во время, и которая дает возможность времени, пространству, тварности каким-то непонятным для нас, непостижимым образом влиться в вечность. И это мы видим как бы символически и таинственно. Мы это видим в богослужении, как иконе воплощения и распятия, как иконе освящения будущего.
Сегодня я хочу перейти на другое: из алтаря выйти вот сюда, в храм, где мы находимся, и поставить перед собой вопрос, что он собой представляет. Я говорю о храме как о Церкви одновременно, то есть в том смысле, что Церковь — это полнота всех верующих, собравшихся вокруг своего Бога. Церковь, так же как Church, так же как немецкое Kirche, это как бы переделка древнего греческого слова Kiriakon Doma, Дом Господень.
Храм, где мы находимся, это Дом Господень. Это, с одной стороны, царская палата, потому что место, где Бог присутствует во всей полноте Своего величия, Своей святости, Своей непостижимой красоты, — это действительно царская палата. В этом смысле Церковь является местом, где пребывает во всей полноте, видимо или невидимо, ощутимо или нет, полнота Всесвятой Троицы, но не только. Мы являемся частью Церкви, мы являемся как бы окружением Святой Троицы, Которая пребывает здесь, среди нас. И мы должны себя воспитывать, чтобы отдавать себе отчет в том, что представляет собой храм, церковь, где мы находимся. Это место непостижимой встречи, но по-иному нежели в алтаре. Мы так привыкли входить в храм как к себе домой, что порой забываем, как страшно — не в смысле испуга, а в смысле трепета духовного — это место. Как редко бывает с нами то, что было с мытарем, когда он вошел в Иерусалимский храм и не смел отдалиться от двери, стоял у притолоки, бил себя в грудь, говорил Богу, что он грешник и поэтому недостоин даже вступить в это пространство, которое свято, потому что оно посвящено Богу. Место это — подарок земли Живому Богу.
И этот подарок земли, я думаю, можно уразуметь в двух как бы измерениях. С одной стороны, как я уже сказал, это царская палата, здесь живет Бог во всем Своем величии, во всей Своей непостижимости, во всей Своей святости. Для большинства из нас — почти неощутимо, для святых или для таких грешников, как мытарь, так ощутимо, что с трепетом, с молитвой вступаешь в храм, останавливаешься у двери и думаешь: куда я, грешный, недостойный, хрупкий человек, смел войти?! Это место, где только Бог имеет право пребывать, это Его дом. И я, в каком-то смысле, допущен в него, сначала как гость, когда еще не знаю ничего, когда я прихожу извне, и мне дано вступить в это святое пространство и посмотреть: что же здесь делается?
А иногда Бог дает ощутить нечто человеку, что ставит перед ним вопрос, и он ищет, потому что чует что-то — и не понимает, но знает, что ему нужно понять. Так много лет назад нашел Бога человек, который случайно, можно сказать, оказался в нашем храме. Я уже вам рассказывал о нем и не буду сейчас повторять, как за непривычной для него обстановкой православного храма неверующий англичанин уловил, как он сказал, «густоту», присутствие, которое постепенно раскрылось для него как присутствие Бога, в Которого он изначально не верил, Которого не знал. Вот какое это место: это место Боговселения, Бог здесь живет. И мы должны входить в храм с чувством, что мы вошли в область, где Живой Бог живет полнотой Своей Божественной жизни и готов с нами поделиться Божественной Своей жизнью, постольку поскольку мы способны ее принять, ей открыться.
Но это не все, есть и другая сторона. В мире, в котором мы живем, Бог — изгнанник. Столько есть стран сейчас, где безбожие победило. Столько есть человеческих душ, в которых безбожие царствует. И храм теперь, особенно в некоторых странах, стал местом убежища для гонимого Бога. Вы понимаете, что это значит? Бог изгнан из душ, Бог изгнан из домов, Бог изгнан из страны, из жизни, и есть какие-то люди, которые порой с риском для своей жизни, как это было в периоды гонений и древней Церкви, и современных десятилетий, дают Ему приют. Они говорят: «Господи! Ты наш Бог, и Ты изгнанник, Ты по миру ходишь, и негде Тебе главу преклонить. Вот Тебе место, которое будет принадлежать только Тебе. Мы будем его строить, мы будем его охранять, мы будем делать все, чтобы это место было достойно Тебя, а Ты здесь, Господи, живи». А сделать храм достойным Бога мы можем только тем, что каждый из нас всей силой души, всей силой воли, всем убеждением своим, всей тоской своей, может быть, всей любовью своей сделает все возможное, чтобы Богу с нами было хорошо, чтобы Ему наше присутствие не было страшно, не было отвратительно, чтобы мы не были ни внутренне, ни жизнью, недостойной нашей веры и Божьего к нам доверия, предателями Бога, в Которого верим.
Вот что представляет собою храм, какое это дивное, непостижимо дивное место.
Я хотел бы здесь напомнить вам о Преображении Господнем, потому что мы, как части этого храма, можем чему-то научиться из рассказа о Преображении. Вы помните: Христос поднялся на гору и взял с Собой трех учеников. Эти три ученика уже в первые столетия были определены как образы веры, надежды и любви. Они пришли на гору помолиться со Христом. И что же они увидели, что перед ними открылось? Перед ними открылось, что Христос встретил Моисея и пророка Илию, которые стали говорить с Ним о грядущем Его распятии, о том, что Ему надлежит умереть по любви к миру, умереть для того, чтобы спасти мир: и нас, и Своих современников, и всех, кто до Него жил, и всех тех, кто потом будет жить. И в этот момент, потому что Он весь горел жертвенной любовью, весь светился этой любовью, Его лик стал светел, как солнце, Его одежды стали такими белыми, какими их нельзя выбелить на земле (Мк 9:2—8; Лк 9:28—35). На одной из икон, не рублевской, а Феофана Грека, мы видим, как лучи света падают от Него на все, что Его окружает: на камни, на почву, на цветы, на траву, на все, и каждый раз, как луч Божественного света касается какого-либо предмета, в этом предмете ответно зажигается свет, он именно ответно светится. Это опять-таки показывает, что мир порабощен последствиям человеческого греха, но как таковой остался безгрешен и способен ответить божественным сиянием — сиянию Божию
[42].
И Церковь, уже не храм только, а все мы, — в положении этих апостолов и в положении всех верующих с тех пор. Мы собрались вокруг Христа, Его свет в нас живет. Все светлое, что в нас есть, — это Его свет. Это диво, и дивно то, что это возможно для нас так же, как было для апостолов, несмотря на нашу грешность. Потому что в грешности есть два аспекта. С одной стороны — слабость, бессилие, неспособность вырасти в полную меру нашего призвания, может быть, постепенное восхождение к тому, чего мы ищем, но до чего еще не доросли. Или грешность может быть отречением от Бога, отвращением от Него. Этого в Церкви нет. В Церкви мы грешны своей слабостью, своей забывчивостью, своей нерешительностью. Мы увлекаемся не тем, что в нас самое высокое и святое, но мы не отворачиваемся от Христа, Которому мы дали приют в этом храме, когда Он изгнан из стольких мест. В этом храме, где Он Господь и Хозяин, мы Его приютили, и Он этот приют превратил в Царство Божие, пришедшее в силе, в место, где Он царствует среди нас, которые Его признали, и не только приняли, а выбрали своим Царем, Господином, Господом.
В этом смысле храм является местом Преображения, где полнота Божества присутствует, где изливается на нас весь свет Божественный, где мы воспринимаем Его с трепетом, благоговением, любовью, благодарностью. И одновременно, когда мы оглядываемся на себя самих, мы видим, как мы недостойны той любви, которой нас одаряет Господь. И поэтому мы можем ликовать о том, что мы — дети Божии, и вместе с тем исповедовать свои грехи. Мы одновременно и мытарь, который у притолоки стоит, и бьет себя в грудь, и говорит: я недостоин войти в это святое пространство; и вместе с этим можем ликовать о том, что Господь нас, какие мы есть, не называет, как сказано в Евангелии, рабами, а называет друзьями (Ин 15:15) — потому что Он с нами поделился всем, что мы могли воспринять и понести и понять. Это так изумительно!
С одной стороны — наша греховность, с другой стороны — Божественная святость, а между ними, соединяя их, превосходя недостоинство наше, — покаяние, наше признание, что, да, мы грешны и недостойны Божественной любви, но что мы так за нее благодарны и готовы все, все сделать, что только можем, чтобы утешить Господа в том, что мы грешники. В каком-то смысле утешить Его в том, что из-за моей личной греховности Он стал человеком для того, чтобы умереть на кресте.
Вот что представляет собой это пространство, где полнота Божества невидимо обитает, но уже не так, как я говорил об алтаре, а обитает крестно, потому что Преображение нам говорит о том, что полнота сияющего Божества здесь ради того, чтобы умереть, вернее, о том, что Он умер для нашего спасения.
Если это воспринять, разве можно бестрепетно войти в храм, разве можно без трепета посмотреть на каждого человека, который находится здесь, с мыслью: он так Богом любим, что если бы только он на свете существовал как грешник, Господь стал бы человеком и готов был умереть, чтобы этот человек мог жить?! Строго говоря, в Церкви не может быть ненависти друг ко другу, не может быть вражды, не может даже быть безразличия. Как мы можем быть безразличны? как мы можем пройти мимо человека, за которого Бог по любви отдал Свою жизнь? Вот что мы собой представляем, мы, вот здесь, малая община, которая собралась сегодня вечером, и бо{'}льшая община, которая бывает здесь на богослужениях, и более широкая община, которая охватывает и ту, и другую.
А за пределами храма есть притвор и есть весь мир. Я хочу сказать вам нечто и об этом. В древности в притворе стояли те люди, которых называют оглашенными. О них мы молимся, но мы не знаем, в сущности, опытно, кто они. Это люди, до которых дошел какой-то оклик или человеческого голоса, как проповедь Иоанна Крестителя, как проповедь святых, которые шли, чтобы открыть Христа не ведающим Его, или отклик на прикосновение Самого Бога до глубин человеческой души. Но эти люди еще не знают, они что-то услышали и ощутили, и пришли для того, чтобы познать Бога. Эти люди раньше стояли в притворе, теперь они стоят в храме, но, в сущности, это одно и то же. Они стоят на грани двух миров, они еще не облеклись во Христа, они еще не стали храмом Святого Духа, но до них уже дошла благая весть.
А за этим, дальше — весь мир. Но мир не чужд Богу. Весь мир (не только люди, но и вещество этого мира) создан был Богом любовью для того, чтобы этот мир приобщился к той полноте жизни, которая есть Божественная жизнь. Весь мир создан для этого. Бог создал весь мир для того, чтобы отдать Себя этому миру, чтобы этот мир был пронизан Божественной жизнью, счастьем, которое мы называем блаженством. Вот мир, который вне, и как мы на него должны смотреть. С одной стороны, этот мир, может, Бога не знает и поэтому порой на Него восстает, он, может быть, научен Бога отрицать, ненавидеть или, возможно, запутан. Но этот мир дорог Богу до такой степени, что Бог его создал, стал человеком, жил как человек, умер за него и воскрес для того, чтобы все приобщить Себе. В этом мире дышит Святой Дух, в этом мире Дух Святой действует по-разному.
Святой Феофан Затворник говорит, что в Церкви Дух Святой принят каждым человеком с открытым сердцем. Он через Крещение, через Миропомазание пронизывает человека, и человек соединен и со Христом, и с Ним. А вне? Вне Дух Святой разлит по всей вселенной. Когда был сотворен мир, нам сказано, что Святой Дух дышал над миром при его создании, и этим дыханием Он вызывал из хаоса мирского все формы, всю жизнь, все становление, которое развивалось через миллионы лет. И теперь, говорит Феофан, Святой Дух во всем мире, даже там, где Бога отрицают, где о Нем не знают, находится, как море, которое бьет о скалы. Он бьет о каждую скалу в надежде, что она раскроется и станет вместилищем для Него.
Поэтому и на внешний, пусть безбожный, мир мы должны смотреть как на место, где действует Святой Дух, о Котором сказано: Дух дышит, где хочет (Ин 3:8), не по нашему велению и не по нашим соображениям, а там, где нужна вечная жизнь и спасение. Как это дивно! Как мы можем, зная это, смотреть на храм, в котором мы находимся, на эти стены, на эти врата, которые ведут нас в алтарь, и на ту дверь, через которую извне, из запутанного мира, где мы проводим наши дни, мы входим сюда, и на этот мир, запутанный — да, оскверненный, растерянный, который так дорог Богу. Это мир Преображения, потому что если вы вспомните рассказ о Преображении, он не кончается тем, что ученики увидели Христа во славе, он кончается другим. Ученики сказали: как нам здесь хорошо быть! Останемся здесь, построим три палатки, Тебе, Моисею и Илии, и пребудем здесь… Христа они видели во славе, Его слава, свет Его как бы переливался к ним, они были охвачены вечностью — куда же уходить? И Христос сказал: нет, Я нужен в долине, Я нужен в равнине. Я нужен там, где обо Мне и, может быть, об Отце Моем не знают, пойдем… И когда они спустились с горы, с чем они встретились? С человеческим горем, с человеческим бессилием верить (о, люди малой веры!), с человеческим несчастьем (Мф 17:14—21).
Так же и мы. Мы находимся здесь на горе Преображения, со всей слабостью нашей. И мы призваны стать такими учениками, которые могут выйти отсюда со Христом, нося в себе опыт знания, память о том, что здесь произошло с нами, и принести это внешнему миру, не проповедуя как бы «с высоты» нашего знания, а делясь нашим изумлением о том, что здесь с нами произошло.
Когда мы оглядываемся на храм, мы видим ограниченное пространство, как бы малый корабль, который несется по волнам житейского моря. И, глядя на стены, мы видим изображения святых, Божией Матери, чудес Господних, которые нам напоминают о том, что случилось. И с этим мы должны выйти из этого храма, с вестью для других.
А другие порой только потому не становятся учениками Христа, что их не учили правильно, им представляли нашу веру как альтернативу к безверию, старались убедить умственно. Но это никого никогда не убедит. Люди слушали апостолов, потому что видели в них такое сияние любви, такую мудрость, такую простоту. Это были люди, которые ожили.
Можно ли это сказать о нас? Конечно, каждый из нас кого-то любит, нескольких людей любит или коллективно любит всех. Вы наверно помните место из «Ракового корпуса» Солженицына, где описывается человек, о котором сказано, что он так любил человечество, что ненавидел всякого отдельного человека, который уродует лик человечества
[43]. Разве это с нами не бывает? Разве мы умеем так любить каждого, чтобы не видеть в нем человека, уродующего облик Божией твари? И, с другой стороны, каждый из нас является иконой, и больше, чем иконой в каком-то смысле, потому что, как отец Сергий Булгаков сказал, каждый из нас является, через Крещение и Миропомазание, присутствием Христова воплощения
[44].
Мы — тело Христово, коллективно, как говорит апостол Павел, но каждый из нас является членом, то есть частицей этого тела Христова. Когда люди встречают нас, они должны бы ощущать, что в нас есть такая жизнь, которую они нигде никогда не встречали. И речь не идет о том, чтобы с ними спорить и убедить их в том, что их взгляды неправы, а о том, чтобы с такой любовью их принять, чтобы они готовы были услышать биение нашего сердца, проникнуть в нашу мысль.
Вот что мы можем принести миру. Здесь место Преображения. И свету Божию, Который здесь сияет, тихому Свету неизреченной Славы Божественной, мы должны помочь пролиться, излиться на весь мир. И тогда мы выполним свое задание, и тогда сами постигнем то, что нам надо постичь об Отце через Сына и через Духа: Сына, Который является Словом, Который нам открывает познание, и Духа, Который есть сила жизни, она пронизывает нас и приобщает нас к Богу.
В наступающей беседе я хочу говорить на темы, которые для меня не до конца прозрачны, о вещах, которые как-то дошли до моего сердца, которые нашли какую-то форму в моем понимании, но я себе отдаю отчет в том, что многое, многое остается мною непонятым, и многое остается такого, чего я не сумею передать ясным образом. Потерпите и продумайте сами на основании своего внутреннего опыта то, что я скажу, и особенно то, что вам представится — справедливо — не до конца прочувствованным, не продуманным до конца.
Вообще-то говоря, когда речь идет о Боге, о духовной жизни, мы не можем говорить, что до конца что-то пережили или что-то поняли. Краем души или, может быть, до самых глубин нашей души и сердца мы то или другое пережили и поняли, но наше понимание ограничено и не может, так же как и наш опыт, охватить тайны, которые покоятся в глубинах Божиих.
Мне вспоминается по этому поводу рассказ о том, как была сделана куколка из соли, и ей была дана жизнь. И эта куколка пошла в паломничество, ей хотелось повидать мир, узнать все. Она шла и в какой-то момент дошла до края моря-океана. Этого она никогда не видела, и из опыта, который у нее раньше был, она не могла вывести ничего, никакого понимания, никакого разумения. Она обратилась к океану и спросила: «Кто ты?». И океан ей ответил: «Я море». — «А что же это значит?» — «Это значит, что я — море» — «Но я как могу это понять?» — «А ты прикоснись ко мне». Куколка протянула ножку, прикоснулась к океанской воде, и маленькая крупица соли растаяла. И в тот момент куколка воскликнула: «Ах, понимаю!», — и вдруг осознала, что она не понимает больше, потому что поняла только та крупица, которая растворилась в море-океане. И она второй раз, третий раз коснулась этих вод, и каждый раз у нее был проблеск понимания, который потухал в момент, когда крупица, полностью приобщившаяся к океану, совсем отделялась от нее. Но жажда познания ее была такая, что она продолжала искать ответа, пока сама вся до конца не растаяла. И в тот момент она воскликнула: «Я — море-океан!». Она приобщилась к тайне моря. Она водой не стала, но она стала вместе с водой — океаном
[45].
Так, мне кажется, в нашей духовной жизни и особенно на примере святых мы видим, как человек прикасается самому святому, Божественному, и в какой-то момент непонимание превращается в мгновенное понимание, которое нас влечет к тому, чтобы дальше и дальше приобщаться к тайне нашего Бога и вечной жизни. И когда священник, или богослов, или просто человек, святой или грешный, старается говорить о Боге, он может говорить только так, как эта соляная куколка могла об океане говорить в тот момент, когда она прикоснулась к водам и растаяла в них. Через мгновение и она, и говорящий понимают, что они могут сказать только очень немногое. Поэтому то, о чем я хочу с вами говорить, это именно какое-то мгновенное прозрение того или другого, понимание того или другого. А вы это примите, продумайте на основании своего опыта, своего знания о Боге, о себе, о духовной жизни, и пойдите, конечно, дальше, чем я могу не только вас повести, но и сам пойти.
Я хочу сегодня говорить о том, каким образом опыт человека о Боге, о молитве, о таинствах может найти себе выражение в словах. И кроме того, как слова, или образы, или звуки, или движения, через которые мы стараемся друг другу передать наши знания о Боге, могут нечто передавать. Я попробую это сделать сколько можно ясным, и, вероятно, мне не удастся это сделать в одной беседе. Но начну вот с чего.
Когда мы думаем о святых, их самый глубинный опыт заключается в том, что они стали перед Богом, и Бог как бы явился им. Может быть, образно, может быть, в виде глубокого переживания, сознания: да, я стою перед Богом, Он тут, Он меня видит. Он пронизывает меня Своим взором. Он охватывает меня Своей любовью. Он меня соединяет с Собой Своей верой в меня и моей зачаточной верой в Него.
Эта первая встреча может быть очень простая. Если мы хотим научиться молитве, мы можем вечером ли, утром ли стать молчаливо в пустой комнате, где никого нет, кроме нас и невидимого Бога, и сказать: «Господи! Я знаю, что Ты тут. Буду ли я ощущать Твое присутствие или нет — не так уж важно, для меня достаточно знать, что Ты, по Своей любви и по Своему смирению, здесь, вместе со мной». И стоять, стоять перед Ним, иногда соединяясь с Ним только через движение неколеблющейся веры: я знаю, что Ты тут, потому что Ты меня создал для того, чтобы я с Тобой встретился и соединился… А иногда находит на человека сознание глубокого покоя, тишины, внутреннего безмолвия, и в этом безмолвии мы можем предстоять Живому Богу. Это не значит, что мы Его познаем умом; это значит, что мы несомненно знаем, что Он тут и что мы в Его присутствии. Бывает, что Бог сделает Себя явным, что не только в силу моей веры, но потому что Он хочет, чтобы я познал Его, Он откроется мне так или иначе.
Есть множество примеров такого рода, когда человек стоит перед Богом и как бы поглощается Его присутствием. В житии святого Серафима Саровского есть рассказ о том, как, когда он еще был дьяконом, во время Литургии вдруг он окаменел, он не мог двинуться, не мог слова сказать. Его отвели в сторону, и он стоял, как говорится в его житии, меняясь лицом все время, но не видя ничего, не ощущая ничего вокруг себя, потому что он весь ушел в Богозрение. Он ушел в Бога и как бы отделился от земли
[46]. И потом постепенно он начал приходить в себя и стал обычным, тем Серафимом Саровским, которого мы знаем и любим, в котором нас поражает его простота, непосредственность, неусложненность. Но эта простота и неусложненность происходит не от того, что он простак, а от того, что он приобщился к Тому, о Котором святой Иоанн Кронштадтский говорит: Бог — препростое Существо. В Нем нет сложности, в Нем есть абсолютная, прозрачная цельность. К этой цельности приобщился тогда и Серафим. Но он не был еще в состоянии приобщиться к Богу до конца, потому что это значило бы умереть.
Бывают моменты, когда мы встречаемся с Богом как бы лицом к лицу. Я помню рассказ о молодом человеке, который начал читать Евангелие и вдруг с совершенной ясностью ощутил, что по ту сторону стола, перед которым он сидит, — Христос. Он ничего не видел, он не слышал ничего, это не было видение в каком бы то ни было смысле, но была абсолютная уверенность, что Христос стоит тут. И из неверующего он смог стать верующим.
Это как бы первичный опыт: встреча с Богом, когда мы всецело или хотя бы отчасти уходим в Него, как та соляная куколка, о которой я говорил: на мгновение, может быть, частично, а в какой-то момент жизни — всецело, до конца, неразделенно. И в тех людях, которые глубоко приобщились к Богу, это связано с молчанием. Потому что есть вещи, которые словом не передашь. Бывают моменты, когда молчание охватывает человека до самых глубин, и это молчание является как бы основной встречей с Богом.
Вы наверно знаете из опыта, как встреча с человеком может быть поверхностна или глубинна. Бывает так, что два человека друг друга знают, знакомы, открыты друг другу, потом в какой-то день они оказываются вдвоем, может быть, у камина и начинают разговаривать. Постепенно разговор утихает, потому что в комнате, где они находятся, такая всеохватывающая тишина, и через некоторое время они уже не только тихо между собой разговаривают, но молчат. И в этом молчании — встреча такой глубины, такой значительности, в этом молчании — счастье встречи и откровение друг о друге. После такой встречи в молчании можно, при случае, разговаривать друг со другом, но не от разговора будет зависеть взаимная приобщенность, глубина встречи: та совершилась в молчании, и она остается в молчании. Слова, которые выражают взаимные отношения, которые говорят о общей жизни, являются только как бы скорлупой, а в глубине пребывает это дивное молчание, молчание приобщенности, молчание единства.
И когда мы читаем жития святых, когда читаем их произведения, мы часто видим, что то, что они говорят, и то, чем они были, покоилось, корнями уходило в созерцательное молчание, когда человек корнями своими ушел в Бога, если даже всецело еще не является купиной неопалимой. Такой человек не может пребывать во внешнем молчании всегда и навсегда, но он может сохранить в себе это непостижимое молчание встречи и приобщенности к Богу и проявлять эту приобщенность всей своей жизнью.
Эта приобщенность к Богу может проявиться, как я уже вам сказал, в том сиянии, которое из человека исходит и другого человека приобщает к тайне Божьего присутствия. Я когда-то вам рассказывал, как в древности три паломника пришли к пустыннику со своими вопросами. Двое из них ставили вопросы и получали на них ответы, третий сидел и молчал. И когда им пора было уходить, пустынник обратился к третьему: «Что же ты ничего не спросишь?». И тот ему ответил: «Для меня достаточно было на тебя глядеть»
[47]. Он глядел и через видимое как бы созерцал невидимое. Ему не нужны были конкретные ответы на конкретные вопросы, он приобщился всецелости того, что знал, чему был приобщен этот пустынник.
Но порой нужны слова, и эти слова доходят до нас, но доходят по-разному. Они доходят до нас в зависимости от того, как мы сами созрели. Помните, в Евангелии сколько раз говорится, что Христос Своим ученикам дает объяснения, а другим людям, которые еще не созрели к тому, чтобы понять объяснения, все говорится в притчах, картинно. Они усвоят картину, они запомнят образ, этот образ будет в них жить, и они постепенно будут глубже в него вглядываться и начнут что-то большее понимать.
Может быть, интересно то, что слово, которое на греческом языке означает притчу, — parabola; а парабола — это геометрическая фигура, в которой есть центр, окружность и два как бы рукава, которые уходят в бесконечность. И те, кому дано понимать, сразу доходят до центра, а другие должны идти дальше, дальше, дальше в глубь. Но и те, которые поняли, должны уходить в самые глубины, которые им указаны параболой. Поэтому даже притча, которая кажется такой простой, когда мы ничего еще почти не понимаем, может дойти до такой глубины, до такого всеобъемлющего величия, о котором мы понятия не можем иметь.
Но это слова, и в словах может заключаться очень многое. Не напрасно Христос назван Словом Божиим. И у одного из пророков нам сказано, что Бог говорит: слово Мое, которое исходит из уст Моих, не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно (Ис 55:11). Слово Божие воплощенное, Господь наш Иисус Христос, сказал нам истину о Боге, открыл нам путь. Но вместе с этим Слово Божие остается бездонно-таинственным, потому что Оно является выражением неизъяснимой тайны Божией.
Но не только словом мы можем передать то, что мы познали о Боге. И конечно, когда речь идет о святых, не только тем, что люди могут увидеть во святом, в том сиянии Божественном, которое им открывает тайну о Боге, но иногда звук голоса что-то доводит до человека. Вы наверно знаете, как изменчив голос человеческий, как он может быть сух и мертв, какой он может быть ласковый, какой он может быть глубокий и так далее. И вот, когда святые говорили, в их голосе люди слышали такие глубины, которые те не могли выразить только словами. И поэтому так значительно, как мы друг со другом говорим: из сердца ли, полного любви, сострадания, или из холодного сердца, безразличного. Как мы говорим? Человек слышит звук нашего голоса — что этот звук приносит ему? Не только слова: слова могут быть прекрасные, но не пережитые, слова могут прекрасные — и не донести до человека тот опыт, которого нет у говорящего.
И то же самое можно сказать о всех проявлениях человеческой деятельности, того, каков человек по отношению к другому. Человек познает Бога в конечном итоге только в самых глубинах своего молчания и Его присутствия, но выражать это может словом и действием, потому что дела милосердия, дела любви с собою приносят вопль другого человека, то познание о Боге, которое говорящий или действующий в себе носит. Как мы ответственны за слова, которые мы произносим, за взгляд, который мы кидаем, за звук нашего голоса, за прикосновение нашей руки, — все то, что нас связывает с другим человеком за пределом слов, в глубинах нашего молчания и его открытости к возможному молчанию, куда может влиться сознание Божественного присутствия!
И из этого следует, что мы можем начать понимать, каким образом складывались церковные песнопения, каким образом складывались молитвы святых. Церковные песнопения — это же песнь человеческой души, которая встретила Бога, это песнь живой души, которая поет свою радость о встрече с Богом, свое горе об одиночестве, или крик своего отчаяния о своем недостоинстве, или плач о потерянном друге. У нас есть пример тому в нашем церковном опыте. На похоронах мы читаем и поем стихиры, написанные в древности Иоанном Дамаскином. Он ушел молодым в монастырь. Он любил петь, любил стихи писать, и для того, чтобы его смирить, ему запретили и петь, и писать стихи. В какой-то момент умер его самый близкий друг. Иоанн пришел на похороны, и тогда случилось, да, чудо: он не удержался и запел, запел одну песнь после другой, провожая своего друга в вечную жизнь. И так он пел, и таковы были слова, что ему было дано разрешение и в будущем писать и петь. Песнь родилась из глубин души, и сколько других песней церковных рождались так. Подумайте о всем церковном пении, о древности и о современности — сколько живой души заложено…
Тут, может быть, следует сказать и другое: не только в церковном пении, но и во всей музыке, во всей красоте звука, который создал человек изначально, лежит это таинственное общение. Правда, многие из песнопений не рождены из глубокого духовного опыта, многие сочинения композиторов не родились из специфически религиозного опыта, но они родились из глубин души. Если думать о том, как рождается сочинение, то можно уловить, как этот человек в глубине своей души пережил нечто, что Бог ему дал пережить. Он не сумел увидеть Бога, он не сумел услышать Бога, но он услышал нечто потустороннее, нечто, что шло к нему из глубин, из недр Божественных. Он это пережил, это вошло в его душу, и он нашел пережитому посильное выражение, выразил это, как умел. А потом другие стали слушать и переживать. И постепенно, от Бога до человеческого опыта, до человеческого общения открылись глубокие музыкальные произведения, которые не все говорят о Боге, но все говорят: что-то коснулось глубин человеческой души, и человек это выразил пением, звуком, так же как мы видим, как пережитое выражается в поэзии.
Но тут есть два момента. С одной стороны, человек переживающий старается свое переживание выразить посильно, выразить пережитое, как умеет. С другой стороны, когда мы слышим то, что он написал, сочинил, пережил, мы это воспринимаем и понимаем, лишь постольку поскольку сами уже выросли в меру этого переживания. Есть вещи, которые можно понимать в сочинениях поэтов, или в музыке, или в картинах, только если сам пережил нечто приближающее тебя к этому пониманию. Если ты ничего подобного не переживал, ты пройдешь мимо. Если ты хоть краешком души это пережил, ты остановишься, прислушаешься, вглядишься, попробуешь понять глубже, глубже.
И так все на свете нам говорит о тайне Божией. Небеса поведают тайну Божию (Пс 18:2). Все вокруг нас говорит о тайне Божией и о человеческой трагедии, и нам надо научиться вслушиваться в то и в другое. Так рождались песнопения церковные, так рождались молитвы святых, об этом я уже говорил: каждая молитва выражает опыт данного святого о Боге, о себе самом, о жизни. И когда мы стараемся их читать, мы должны понимать, что полностью, всецело, так же как они это переживали, мы не можем их пережить, потому что мы не доросли, мы не открылись до конца. Но мы можем нечто уловить то тут, то там. Мы говорим «Господи!». Мы это можем понять так, что Господь — властитель, хозяин, что Он надо мной имеет все права, и трепетать перед Ним. Но мы можем сказать: «Господи, я Тебя познал из Евангелия, я Тебя познал из жизни, я Тебя выбираю Господом и Господином жизни моей, Ты мой Господь по моему выбору, а не потому что Ты сильнее, властнее меня». И тогда совершенно иначе мы произносим: Господи, и Владыко живота моего… Да, Ты — Господь, Которого я выбрал, Ты Господь, Которого я хочу иметь Хозяином, Наставником, Путем моей жизни.
И так можно читать все молитвы. Они говорят о Боге, они говорят о том, что пережил сам человек, и это мы можем понимать только в меру нашего собственного уразумения. Как это дивно, как это глубоко и богато! И когда мы доходим уже не до частной молитвы, а до самой Божественной литургии, тогда, как я уже вам говорил, случается нечто: встреча и слияние тварного и Божественного, временного и вечного видимо, ощутимо, так что мы можем слышать и видеть.
Я надеюсь, что хоть что-то было понятно в том, что я старался вам передать, что так дивно, так дивно.
Храм и богослужение
Я уже неоднократно извинялся перед вами за относительную, а, может быть, и не относительную, запутанность моих бесед, потому что то, о чем я говорил и хочу еще сказать, я не могу уложить в простые умственные категории: то, о чем речь идет, это события, состояния, явления, которые одновременно принадлежат вечности и времени, веществу тварного мира и нетварному Богу, судьбе человека и судьбе всего мира. И мне кажется порой, что то, что я хочу выразить, многие из вас, наверное, видели по телевидению: как на крепком, солидном фоне основной картины проходят одна за другой, не заменяя друг друга, не исключая друг друга, различные прозрачные картины, движимые какой-то силой.
Вот об этом мне хочется еще и еще говорить, чтобы мы попробовали вместе уловить это таинственное совпадение, взаимное проникновение тварного и нетварного, вечного и временного, вещественного и того, что нельзя даже описать.
Есть одна молитва в начале Литургии, которая это выражает очень четко, ясно, но мы к ней так привыкли, и она выражает истину такую родную, что мы не обращаем внимания на ту таинственность, которая в ней сокрыта: Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи с разбойником, и на престоле был еси со Отцем и Духом, вся исполняяй, Неописанный
[48]. Речь идет здесь о Христе, Которого мы знаем по откровению как Сына Божия, вне времени, в глубинах Божества, в тех глубинах, о которых я уже говорил, где царит то, что мы можем только назвать безмолвием, где сияет такой чистый, совершенный свет, что мы не можем глядеть на этот свет, не ослепнув.
Мне хочется поговорить об алтаре, где совмещается и вечное, и настоящее, и будущее: алтарь — грань, которая не разделяет, но соединяет то, о чем я упомянул. Когда мы смотрим на алтарь, мы видим в нем предметы и не видим ту реальность, о которой говорят эти предметы. Мы видим столик проскомидии, то есть приготовления Святых Даров, там реально, вещественно происходит действие, совершаемое священником. Но вместе с этим именно перед этим столиком, именно во время проскомидии произносятся те слова, которые я привел раньше: Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи с разбойником, и на престоле был еси со Отцем и Духом, вся исполняяй, Неописанный.
Таким образом, этот стол, обыкновенный стол, является местом, где сочетаются небо и земля. Если мы взглянем дальше в алтарь, мы увидим в глубине его место, где ничего не происходит. Перед этим местом стоит кафедра епископа, за которым — икона, и эта икона нам говорит (что бы она ни изображала: Воскресение или другой какой праздник), что за этим пределом, где стоит кафедра епископа, — вся глубина Божией тайны, ее нельзя изобразить, ее нельзя очертать. Мы должны только смотреть и знать, что там, где мы ничего не видим, находится самая глубина тайны.
Кроме этого, мы видим престол, на котором будет совершаться приношение, освящение Даров. Этот престол имеет двойное значение. С одной стороны, это алтарь, алтарь заколения, алтарь, на котором возлегает Жертва заколения; к этому я еще вернусь. Но, с другой стороны, это престол, то есть то место, где восседает Царь. Царь этот — Христос, и когда мы находимся перед этим престолом, мы поклоняемся восседающему на нем Царю Славы, ставшему Человеком, и одновременно со священным ужасом созерцаем закланного Агнца.
Но это место, алтарь, не исчерпывает всего соотношения между Богом и Его тварью. Святые Дары, которые будут освящены, — это дар земли. Мы, люди, приносим хлеб и вино из своих домов, и из той части церкви, где мы стоим, они вносятся в алтарь. Это дар земли, но вместе с тем это дар падшего человека своему Спасителю. Это дар земли в том смысле, что земля, вся тварь стонет от человеческого греха и под человеческим грехом, но тварь остается безгрешной, она — жертва. Грешит только человек, и на всю тварь он налагает страдание, смерть, страх, ужас. И человек, находящийся вне алтаря — потому что там, в этом Святое Святых, нам еще места нет, — приносит дар земли, которую он оскверняет изо дня в день, но которая остается чистой перед Богом: она — мученица, она не грешница.
Некоторые отцы Церкви говорили именно об этом: о том, что вся тварь осталась непорочна, но стала жертвой и мученицей. И если мы видим ее как бы беснующейся, то это не потому что она потеряла свою девственную чистоту. Святой Феодор Студит говорит, что когда мы видим, как беснуется тварь вокруг нас, мы должны помнить, что она безгрешна, но подобна доброму коню, на котором восседает пьяный всадник. И этот всадник своим опьянением, своим бешенством вызывает у доброго коня те движения, те действия, ту ярость, которые он проявляет.
Человек приносит Богу дар земли. Бог сотворил землю, Бог сотворил зерно, Бог дал влагу. Человек трудился, да, но все сущностное — от Бога и остается чистым перед Богом, если даже оно внешне осквернено. Оно приносится обратно в алтарь, в область Божию. И этот хлеб, это вино по молитвам Церкви и силою Святого Духа, действием единственного Священника всей твари, Господа Иисуса Христа, приготовляется к тому, чтобы стать во время Литургии Телом и Кровью Христовыми — не силой молитвы священника или епископа — силой молитвы всей Церкви и открытостью душ человеческих, которые в благоговении и ужасе предстоят перед Богом и видят, что совершается: как Сам Бог тварь неоскверненную, чистую соединяет с Собой и делает ее тем, чем должна стать вся тварь, включая и грешного человека, — местом воплощения, Телом Христовым.
Но тут есть нечто изумительное и волнующее: это не могло бы случиться без свободного соучастия человека. Бог не насилует Свою тварь, Он не насильно спасает. Он отдает Себя на смерть для того, чтобы поверили в Его любовь, Он нам дает Своего Духа для того, чтобы мы приобщились к Нему. И все таинство спасения возможно только при свободном участии человека.
Говоря о том, как Сын Божий стал Сыном человеческим, святой Григорий Палама говорит, что воплощение Сына Божия было бы так же невозможно без соизволения Матери Божией, как оно было бы невозможно без воли Отца. Ангел принес Ей весть, и Она говорит: да будет Мне по слову твоему (Лк 1:38). Она не только пассивно принимает то, что дает Бог, Она всецело соучаствует в этом. И в этом смысле Она является дверью, через которую Спаситель Христос и Дух Святой вступают в мир, в котором мы живем. Дверь Небесная, Матерь Божия… И потому так значительны Царские врата, которые открываются на алтарь.
Есть момент в Литургии, который вы все знаете, — это великий вход, когда Дары, приготовленные хлеб и вино, выносятся через боковую дверь, проносятся перед народом и вносятся в алтарь. Ангел, изображенный на боковой двери, которая по левую сторону от вас, это архангел Гавриил, архангел Благовещения. А на Царских вратах — икона Божией Матери и изображение Благовещения. Христос, готовый войти в мир, готовый отдать Себя нам, и для нас, и за нас, выносится из алтаря, который является, как я уже говорил, вечностью, глубинами Божиими, проносится перед нами и вступает через ту дверь, на которой не только изображена Божия Матерь, но которая изображает собой Божию Матерь. И хлеб и вино полагаются на престол, который одновременно есть алтарь и царственный престол, где закланный Царь восседает во славе.
Таким образом, если мы смотрим на алтарь уже не вещественно, а стараясь увидеть, как переливаются время и вечность, мы видим: в глубинах его неизобразимое присутствие Всесвятой Троицы, те глубины Божества, откуда прозвучали слова, которые я столько раз приводил: как Отец говорил с Сыном о сотворении мира и о том, что это будет значить для Него заклание, распятие. Этого мы не видим, но это отображается в тех предметах и тех действиях, которые составляют Литургию: столик проскомидии, на котором приготовлены хлеб и вино, и самые хлеб и вино, которые принесены грешным человеком, но сами безгрешны и могут стать Телом и Кровью Христовыми так, как мы не можем ими стать. Мы можем только частично, сколько-то приобщиться, но хлеб и вино всецело становятся Телом и Кровью.
И мы видим в действиях Литургии, какое она имеет неповторимое значение. Я себе много-много лет ставил вопрос о том, почему наша Литургия имеет такое абсолютное значение. В списке богослужений она не состоит, она стоит особняком, она не «одна из» служб, она единственная в своем роде. Почему она так богата словами, молитвами, действиями? В сущности, если бы речь шла только о том, чтобы силой Святого Духа хлеб и вино стали Телом и Кровью Христовыми, не достаточно ли было бы помолиться?
Есть рассказ в житиях святых, в котором повествуется о детях, нескольких мальчиках, которые видели, что совершается в храме и в чистоте сердца решили это повторить. Они поставили стол, хлеб, вино и стали молиться о том, чтобы Дух Святой сошел на этот хлеб и вино, как в церкви бывает, и они стали бы Телом и Кровью Христовыми. И вдруг свет их осиял, и огонь сошел с неба на предложенные Дары. Дети в ужасе убежали и рассказали в городе. И епископ вместе с клиром торжественно, в облачениях вышел и этот хлеб и вино, которые силой и благодатью Святого Духа стали Телом и Кровью Христовыми, принес в алтарь
[49]. Для того, чтобы совершилось это чудо, достаточно было, если можно так выразиться, совершенной чистоты сердечной этих детей, их неколеблющейся веры и ответа Божия на их веру и совершенную чистоту.
Мы этого не можем осуществить, мы недостаточно чисты для того, чтобы это было достаточно. И поэтому Божественная литургия постепенно строится. Она не «обросла» молитвами и символическими действиями, она строится так, что каждый человек может в свою меру в ней участвовать. Это сказывается в общем строе службы, которую вы так хорошо знаете.
Но есть еще другая сторона, которая вам, вероятно, в значительной мере неизвестна: это тайные молитвы, которые священник читает в то время, когда дьякон поет ту или другую ектенью. Народ их не слышит, и это жаль. Это жаль, потому что они не предназначены как «тайные» молитвы. Единственный документ, который у нас есть по этому поводу, принадлежит одному из византийских императоров, Юстиниану, который говорит, что тайные молитвы должны читаться достаточно громко и ясно, чтобы последний простолюдин мог их слышать и понимать
[50].
Они стали тайными по двум причинам, если не больше. Первая причина в том, что храмы стали все больше и больше, а эти молитвы в голос, громко выкрикивать невозможно, они слишком интимные, слишком теплые, слишком личные. И во-вторых, потому что из-за размеров церквей они все равно не были бы слышны. Я никогда эти молитвы не читал до того, как священником стал, потому что мне говорили, что эти молитвы настолько святые, освящающие того, кто их произносит, что только священник — не из своей святости, не из-за своих добродетелей, а облеченный, укутанный, защищенный святостью Божией — может их произносить. Поэтому для меня они были откровением, и мне хочется рано ли, поздно ли, на них остановиться, чтобы они вам тоже открыли новые глубины Литургии.
Я говорил уже коротко о том, что церковь, храм, в котором мы находимся, как бы представляет собой во время богослужения место Преображения. Вы наверно помните, как Христос преобразился перед Своими учениками, то есть воссиял невещественным Божественным светом в момент, когда речь шла окончательно о Его крестной смерти по любви к нам. И после этого Он вместе со Своими учениками спустился в долину, и там встретился Он с человеческим горем, и с колеблющейся верой, и со всем сумбуром мыслей, ожиданий, надежд и безнадежности людей (Мк 9:1—29).
В этом смысле храм, в котором мы находимся, очень похож и на гору Преображения, где три ученика пережили с такой силой видение Христа, воссиявшего Божественной славой в момент, когда Он жизнь Свою окончательно отдал для нас. Но также наш храм очень похож и на долину, куда Христос спустился с учениками Своими и где Он нашел всю многосложность человеческих переживаний — надежды, веры, колеблющейся надежды и колеблющейся веры, и полноты веры, и радости, и ужаса, и трепета, и недоумения, и искания.
И если посмотреть на нас самих в храме Божием, то во время богослужения хотя бы минутами мы здесь находимся именно на самой горе Преображения или в долине, где все это происходило. Это место, куда приходит Христос с проповедью, со Своим словом, и больше чем Своим словом, — Своим присутствием. Во время малого входа, когда дьякон с духовенством выносит Евангелие из алтаря и вносит его обратно и поются заповеди блаженства, — это проповедь Христа, которая проносится и доходит до слуха всех, кто присутствует. Но это также и видение Христа, конечно, не в лице священника, несмотря на то, что священник в каком-то смысле является иконой благодаря облачению, которое его личность закрывает. Но Евангелие — Слово Божие: Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят (Мф 5:8). И когда хор произносит эти слова, выносится Евангелие и мы видим. Оно для нас еще закрыто, это еще не провозглашенное благовестие, но мы видим Христа проходящего в нашей среде, и мы должны и можем задуматься над тем, что Христос представляет для меня, кто я, кто Он, какое благовестие находится в Его устах, запечатленное в этой книге Евангельской.
Таким образом храм, где мы находимся, является именно миром человеческим, но миром людей, которые уже познали Христа и Его окружают. И среди нас, кроме людей, видимых нами, родных нам, близких нам или чуждых и дальних, мы видим иконы. Эти иконы нам напоминают о том, чего мы глазами не умеем видеть, потому что в нас нет зрячести, мы не можем, не умеем видеть невидимое. В храме находятся ангелы Божии, в храме находятся святые. Мы их не видим, хотя порой ощущаем их присутствие, мы их не видим, и поэтому церковь нам их показывает на иконостасе, на стенах, напоминая нам, что они вот тут, тут.
Есть рассказ в жизни одного из основателей Валаамского монастыря, Назария, как он пошел в странствие, и пришел в деревню, и к удивлению своему заметил, что в субботу вечером священник не готовится совершать всенощную. И он его спросил: «А вы разве совершаете утреню перед Литургией?» — «Нет, — говорит священник, — знаете, раньше я служил всенощную по вечерам и Литургию по утрам. Но я заметил, что люди на всенощную не приходят, они заняты своим делом, и я перестал служить: для кого мне служить?». И Назарий ему сказал: «Как вы ошибаетесь! Вы разве не понимаете, что где бы то ни было, где произносится хвала Богу, где возносится к Нему молитва или представляется покаяние или благодарность, если людей нет, то их ангелы-хранители окружают вас, молящегося, и потом, когда служба окончена, они спешат, спешат к тем людям, к которым они приставлены, и зажигают в них новые чувства, а порой, во время службы уносятся в деревню и пробуждают в своих пасомых желание прийти в церковь. Поэтому никогда не пропускайте службы». После этого Назарий ушел дальше в свой путь. Через несколько месяцев он возвращался и остановился у этого же священника в этой же деревне и с изумлением увидел, что в субботу не только священник служит, но церковь полна. Видно, ангелы Божии, вдохновленные церковной молитвой, присутствием Самого Христа в храме, возбудили желание у пасомых прийти и молиться
[51].
Мы ангелов Божиих не видим, мы себе даже не отдаем отчета, что каждый из нас, который стоит в храме, стоит рядом со своим ангелом-хранителем, что каждый из нас через святого, имя которого носит, приводит в храм благословение, молитву, если не личное присутствие этого святого. И поэтому так важно, что в храме мы видим иконы. Они нам говорят: ты не видишь святых, но они тут, ты не ощущаешь даже их присутствия, но когда ты молишься на икону, тебя пронизывает трепет, благоговение, любовь… А иногда бывает более явственное присутствие, когда кто-либо находящийся в храме явно ощущает присутствие одного из святых. Это бывает. Это бывает не в меру святости того, кто это ощущает, а, может быть, потому что ему надо было проснуться к духовной жизни, и это его разбудило.
Я помню, когда мы создавали этот храм, мы поставили икону святителя Николая Чудотворца вот здесь на перегородку, потому что несколько человек говорили о том, что святой Николай Чудотворец присутствует лично, живой на нашем богослужении. И был еще другой случай, когда в течение долгого времени, когда было трудно, — о как трудно! — создавать новый храм, новый приход, новую жизнь, в глубине алтаря стоял святой патриарх Сергий. Он не канонизован, но в глазах многих из нас он святой. И он присутствовал и благословлял народ.
Поэтому мы должны помнить, что мы не одни в этом храме, что этот храм полон присутствием святых, ангелов Божиих, наших родных ангелов-хранителей, и что так дивно, что мы можем вместе с ними молиться. Да, мы слепы, поэтому и поставлены иконы. Но иконы — не мертвое изображение. Мы все знаем, как, когда мы станем перед иконой, начинается общение, но не между деревом и красками, а между святым, который изображен, и нами. И это настолько сильно, явственно в сознании некоторых людей, что святой Иоанн Златоуст, говоря о молитве, написал, что когда ты хочешь помолиться, стань перед иконой, взгляни на нее, осознай присутствие и затем закрой глаза, чтобы икона тебе не закрывала живое присутствие самого святого, и говори с ним, живым. Таким образом икона делается как бы окном: мы подходим к этому окну, смотрим в окно, и когда закрываем глаза, это окно раскрывается, и перед нами сам святой, и мы с ним можем говорить.
То же самое, конечно, мы можем осознать, должны осознать, когда молимся перед иконой Божией Матери или Христа Спасителя. Мы можем взглянуть, чтобы наши глаза напомнили нам о Его присутствии, о Ее присутствии, и затем закрыть глаза, потому что Он тут, Она здесь. Мы можем сказать: «Владычица! Какое это чудо! Я недостоин к Тебе подойти, а Ты мне позволяешь быть в Твоем присутствии! Ты здесь!.. Господи, Ты здесь! Я могу молчать в Твоем присутствии, потому что без слов совершается глубинное общение между нами и без слов Твоя благодать пронизывает мое сердце, проникает мой ум, преображает меня, делает меня иным». Не каждый раз человек это явственно ощущает, но порой может это ощутить. И это так дивно.
Вот что происходит в храме благодаря тому, что и ангелы Божии, и святые, и Пресвятая Богородица, и Христос Спаситель, и Дух Святой, веющий над нами, — все здесь. Если бы только мы могли это осознавать со всей глубиной, мы могли бы войти в храм, закрыть глаза и знать, что мы в присутствии Божием, мы в раю Божием и что вокруг Бога собраны все те, которые Ему оказались верными в течение всей жизни, порой — жизнью и смертью.
В этом смысле храм — уже встреча с вечностью. И если бы мы это себе повторяли, если бы мы напоминали себе это! А что Христос тут есть и действует, мы это знаем из самого хода богослужения. К этому я вернусь в свое время. Так бы хотелось, чтобы мы научились это переживать, хотя бы помнить, хотя бы знать и минутами, да, переживать, когда вдруг нас коснется живое чувство, рожденное действием Святого Духа или воспоминанием, сознанием того, где мы, с Кем мы, Кто тут. И поэтому так важно, что мы можем взглянуть на иконы и знать, что они для нас — знак присутствия этих святых. Это не просто изображения, это нам напоминания, это знак того, что святые тут, хотя мы не видим. Как это дивно!
Но церковь не кончается храмом, в котором мы молимся. Открывается дверь в притвор, и из притвора — на улицу, в широкий, далекий мир. В древности в притворе стояли оглашенные, после того как прошла часть Литургии, которая была им открыта, после того как были сказаны слова: «Оглашенные, изыдите», чтобы никто от оглашенных здесь не оставался, чтобы только верные, то есть уже крещеные, были в храме для продолжения службы. Мы теперь эти слова повторяем, потому что они напоминают еще не крещеным о том, что они вступают в область, которая превосходит достигнутый или, вернее, дарованный им уже опыт, а перед нами, крещеными ставят вопрос: а ты на самом деле можешь стоять здесь, когда кто-то другой не имеет права стоять? Действительно ли в тебе произошло нечто такое, что не произошло в других? Действительно ли Крещение и Помазание миром тебя так соединило со Христом и с Духом Святым, как другие еще не соединены?.. Мы должны себе ставить этот вопрос каждый раз, каждый раз, потому что, только ставя вопрос, мы можем обратиться к себе самим вновь и вновь и переоценивать свою греховность и свой опыт о Боге. Ведь то и другое присутствует в нас одновременно: мы грешники, да, но мы познали Бога.
Притвор теперь пустой, притвор теперь просто место, через которое проходят люди, чтобы прийти в храм. Но он не потерял своего значения, потому что, проходя через этот притвор, мы должны помнить: когда-то я был чужд Церкви. Устав церковный говорит, что, исходя из дома и идя в храм, человек должен всю дорогу молиться: молиться или установленными молитвами, или своими словами, помня о том, что он сейчас идет в место, которое всецело, неограниченно принадлежит Богу, которое всецело переполнено Божественной благодатью, если мы ее не чувствуем, то по нашей греховности, и что надо готовиться в течение всего пути к тому, чтобы переступить порог. Вы наверно помните рассказ о мытаре и фарисее. Мытарь именно так вошел в храм, он пошел, зная, что по его недостоинству ему там места нет, что он не имеет права там быть, что он может вступить только по милости Божией, по жалости Божией, по снисхождению Божиему. И он себя бил в грудь, и каялся, и не смел дальше войти: Боже, милостив буди мне грешному! Фарисей вошел: у него были добрые дела, он исполнял все правила и поэтому чувствовал, что имеет право вступить в этот храм. И Христос нам говорит, кто ушел домой более оправданный (Лк 18:9—14).
И каждый из нас, входя в храм, должен перед собой ставить этот вопрос: кто я? Когда я переступаю эту грань, чувствую ли я, что вступаю в место такое святое, куда не имею права вступить, в которое я могу вступить только по милости и по любви Божией и потому что я любим другими людьми, которые меня перед Богом держат своей молитвой: Прими, Господи, его, прими, Господи, ее, благослови!.. И тогда мы можем вступить, отчасти с молитвой мытаря, отчасти с другой молитвой: «Господи, по молитвам тех, кто любит меня, позволь мне войти в храм, спаси меня!». И взглянуть вокруг себя, и увидеть, что мы можем вступить в это святое место, потому что нас принимает, охватывает, поглощает любовь других людей, которые тоже грешные, тоже несовершенные, но именно поэтому могут нам сострадать, могут нас принимать в сердце, могут молиться о нас: «Господи, Ты меня пустил, неужели Ты не пустишь его, неужели Ты не допустишь ее в Твое присутствие?».
Но дальше, за пределом храма, разверзается весь мир, и этот мир открыт храму и открыт Богу, и это мы должны помнить. Мы слишком часто приходим в храм, думая: мы сейчас вошли в область Божию, в этой области Бог да мы, потому что мы верующие, потому что мы крещены, потому что нам дан Дух Святой в Миропомазании, потому что мы причащаемся, и мы у себя, дома, на родине. И мы забываем, что Христос пришел на землю для того, чтобы спасти весь мир, всех, за всех Он отдал Свою жизнь. Все ли умеют принять этот дар — об этом мы судить не можем, но мы можем знать одно: что Бог Свою жизнь отдал для тех, которые за пределами этого храма, которые никогда сюда не придут, но кого Бог так возлюбил, что Он Сына Своего Единородного за них дал.
И поэтому мы должны помнить, что в конце Литургии, когда мы насыщены Божественной благодатью и милостью, когда нам была дана молитва, когда мы находились в присутствии Самого Христа, когда веял над нами Дух Святой, когда невидимо, в глубинах, находился Отец, когда мы слышали в Евангелии проповедь Самого Христа, Его слова, обращенные через тысячелетия к нам, к каждому из нас лично, мы должны помнить, что нам сейчас велено выйти в мир с благовестием, вернуться не в мир чуждый, не в серый, скучный, оскверненный мир, а вернуться в мир, куда нас посылает Господь с благовестием. И это благовестие, конечно, не заключается в одних словах. Да, мы можем делиться с теми, кто захочет нас слышать, нашей верой, но есть нечто большее, что мы можем принести в мир, — это преображенное наше присутствие.
Каждый из нас призван быть живым человеком, входящим в область, где есть полуживые люди, оживающие люди или еще окаменевшие люди. И в эту область мы должны войти без слов иногда, нет, большей частью без слов, но войти, сияя благодатью Святого Духа, чтобы люди, глядя на нас, могли сказать: что случилось с этим человеком? он не как все, он не как мы, в нем есть что-то, о чем мы и понятия не имеем! Он живой такой полнотой жизни, которой я не знаю!.. А глядя на нас как на общину, как на людей собранных, люди должны бы повторять слова, которые цитирует Тертуллиан в своем послании римскому императору в защиту христиан, где он говорит: Люди, глядя на нас (то есть на христиан), недоумевают и говорят: как они друг друга любят
[52]! Не простой любовью отца, матери по отношению к ребенку, дитяти по отношению к родителям, друга по отношению к другу, невесты по отношению к жениху и так далее; нет, иной любовью, любовью, которая дает каждому человеку прозреть в каждом другом образ Божий: в верующем — воссиявший, оживший хотя бы отчасти образ Божий, а в неверующем — зачаточно находящийся в нем, как бы видеть Христа, лежащего во гробе, еще не воскресшего. И в каждом человеке это видеть, потому что каждый человек создан по образу и подобию Божию.
И тогда алтарь, храм, его преддверие и мир сливаются в одну неописуемую тайну Божественной любви, Божиего дара Себя Самого, Божиего призыва: Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я упокою вас (Мф 11:28). Если бы только мы могли это сознавать! Если бы мы, священники, которые служим, могли это сознавать глубоко, и входили бы в храм, и выходили из него в притвор, и из притвора — в широкий обезбоженный мир, но голодный мир, ищущий мир, истосковавшийся мир, как Церковь была бы действенна!
И тут нам надо вернуться к мысли о первохристианской общине. Христиан было мало, они были гонимы, быть христианином значило, что ты, может быть, умрешь на костре, под мечом или еще каким-то образом погибнешь. И эти люди входили в мир с благовестием, порой без слов, но явлением своей личности, вернее — становясь прозрачными к присутствию Христа в них самих. Не я живу, во мне живет Христос, говорит апостол Павел в одном из своих посланий (Гал 2:2). Если бы люди, которые нас встречают, ставили перед собой вопрос: что это за человек? сколько в нем никогда не испытанной мною любви, и света, и человечности, и благоговения по отношению ко мне! — как бы мир менялся вокруг нас.
Вот то, что я хотел вам сказать о храме и о том, как храм должен быть ключом, бьющим в мире, как мы, приходящие во храм, потускневшие от обычной жизни, должны были бы делаться светлыми, прозрачными, новыми, и выходили бы не для того, чтобы замкнуться в малую христианскую или семейную общину, а для того, чтобы принести всем, кто встретится нам, любовь Божию. И люди этого не всегда ожидают. Я вспоминаю, как раз в Москве я в лавке что-то покупал. Я поблагодарил продавщицу и улыбнулся, и она на меня посмотрела суровыми глазами и сказала: «Чего вы улыбаетесь? Мы с вами даже не знакомы». Я ей тогда объяснил: «Я улыбнулся, потому что вы так внимательно и дружелюбно мне послужили, я вам благодарен». И если все люди, кого мы встречаем, могли бы так отозваться — не как продавщица, а понять то, что я ей сказал, то многое переменилось бы вокруг нас.
На этом я кончу свою беседу о храме. Вероятно, я кое к чему еще вернусь. Как вы знаете, я своих бесед не готовлю досконально, и поэтому, наверное, что-нибудь еще надо было бы сказать. Но примите это, подумайте над этим, и когда будете приходить в храм, посмотрите: вы в доме Божием, вокруг вас святые, тут невидимо предстоят ангелы, веет Духом Святым. Мы все — Божии дети любимые, как же мы можем друг друга обойти? Как мы можем не научиться любить друг друга? не потому что тот или другой человек нам нравится, а потому что он — живая икона.
Думаю, пора нам говорить о Божественной литургии, продумать ее вместе. Мы все ее переживаем каждый раз, когда бываем в церкви, но не всегда достаточно продумываем то, что она нам приносит. Отчасти потому что нас молитва церковная уносит, как на крыльях, как маленькую ладью на волнах, и пока идет молитва, задумываться над самой молитвой и над тем, что происходит, конечно, мы не можем и не должны, потому что должны уходить в молитву так глубоко, чтобы она нас пронизывала и чтобы собственных мыслей в тот момент не было и мы не могли бы оглядываться на себя самих.
Но приходят моменты, когда хочется подумать о том, что пережито в Литургии, в молитве. За последнее время Божественная литургия начала осмысливаться для меня как-то по-новому, и мне хочется с вами поделиться этим, не потому что мои мысли глубоки или значительны, а потому что мне хочется с вами делиться самым драгоценным, что у меня есть. Это драгоценное, конечно, далеко не совершенно, полноты, которую отцы Церкви переживали, я пережить не могу. Я вспоминаю, например, рассказ из жизни святого Пафнутия Боровского, который жил в монастыре и был затворником. В какой-то момент там не оказалось священника, который мог бы послужить Литургию, и его вызвали, и он пришел, и он служил, а в конце Литургии обратился к монахам и сказал: «Если даже когда-нибудь у вас не будет священника, не просите меня совершать Литургию, потому что совершить ее еще раз я не мог бы, оставшись живым». Как это далеко от того, как мы легко Литургию воспринимаем! Мы ценим пение, мы ценим слова молитвенные, но остаемся в сознании самих себя и того, что происходит вокруг.
И вот мне хочется поделиться с вами тем, что собралось за многие годы из чтения, из размышления или из того, что приходит каждому священнику, когда он совершает Литургию. О месте, где она совершается, то есть о храме, я уже кое-что сказал, а теперь мне хочется сказать нечто и о нас самих в этом храме. И первый вопрос, который мне хочется поставить пред вами, следующий: кто участник и кто совершитель в богослужениях и в частной молитве?
Если говорить о частной молитве, вопрос кажется очень простым: по моей вере, пусть она слаба, несовершенна, я становлюсь перед Богом, стою перед Ним безмолвно, стою перед Ним с какой-то внутренней пустотой, открытый, с такой пустотой, которую может заполнить только Божие присутствие. И когда я стал перед Богом, и открылся Ему, и замолк, когда утихли во мне обыкновенные мои мысли и чувства, я могу к Нему обратиться со словами. Эти слова могут быть мои собственные, эти слова могут быть слова святых, эти слова могут быть очень богаты содержанием без того, чтобы мы сознавали это с ясностью.
Вот мы встали перед Богом, мы замолкли. И первое, что мы можем Ему сказать: «Господи, спасибо Тебе, что Ты мне, мне, при моем недостоинстве, при моей слабости, позволяешь стать перед Тобой. С одной стороны, я переживаю Твое бесконечное величество. Я сознаю, что я так мал, так недостоин, что не имею права становиться перед Тобой, даже поклониться земно; а с другой стороны, я Тебя знаю как Господа моего, как моего Спасителя, да, я скажу — как моего Друга». И это не кощунственное слово, потому что именно это слово употребил Христос, когда Он сказал: Я больше вас не называю слугами, рабами, а друзьями, потому что слуга не знает воли господина своего, а Я все вам сказал (Ин 15:15). Он все нам сказал, Он открыл нам Свое сердце, Он открыл нам основные истины об Отце, о Себе Самом, о Святом Духе, о нас, о каждом из нас. И потому что Он такой, я могу к Нему обратиться и сказать: «Господи, спасибо, что Ты позволяешь мне стать перед Тобой не с чувством ужаса, страха, а с чувством трепета, благоговейного трепета и благодарности за то, что Ты позволяешь мне так перед Тобою стать!».
А затем мы можем молчать. Мы можем молчать в дивном сознании Его присутствия и того, что мне позволено стоять перед Ним, быть с Ним, что мне не надо выполнять каких бы то ни было обрядов: достаточно того, чтобы моя душа жаждала встречи с Ним, чтобы сердце было открыто и чтобы была во мне решимость или хотя бы глубокое желание быть Его учеником или, как Он сказал, Его другом. О том, как мы можем молиться словами, я уже говорил, и не раз. Повторю только одно: мы должны говорить с Богом нашими словами. Даже если эти слова мы берем из псалмов, из молитв святых, чтобы я мог их произнести как свою молитву, они должны стать моими словами, не просто повторением того, что я вычитал в книге, или того, что я сейчас могу прочесть Ему вслух. Слова, которые тот или другой святой произносил, и то, что он говорил, запало мне в сердце, стало моим собственным чувством, моей собственной молитвой, моим устремлением к Богу, моим отношением к Нему, и я могу эти слова употребить, потому что они так совершенны, настолько совершеннее того, что я мог бы сам сказать, однако они стали моими. Как это дивно! Если так относиться к молитвам святых, тогда мы можем постепенно углубляться в их смысл не путем какого-то умственного размышления, а путем приобщенности: приобщенности к этим святым, к их опыту, к их словам.
И тогда случается еще другое: эти святые, которые в момент крайнего восторга и радости или глубочайшего покаяния говорили те или другие слова, нам делаются своими, родными. Вы, может, помните, как в одном из псалмов царь Давид прерывает свою речь и восклицает: Радость Ты моя
[53]!. А потом продолжает свою речь. Как это дивно! Он говорил Богу то, что надо было сказать, то, что он чувствовал, что думал, чем жил. Но сознание, что он перед Богом, так преисполнило его душу, что он не мог продолжать своей речи и только мог воскликнуть: «Радость Ты моя!». В других молитвах мы встречаем покаяние, но покаяние это должно стать нашим. Конечно, не в той мере, в которой оно было опытом того или другого святого, нет, в меру моей малости, но все равно. Мы не можем, например, 50-й псалом, который постоянно читается в церкви: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое… Богу читать вслух, как бы зная, что это — самое лучшее, что я могу сказать в виде покаяния. Если эти слова не вырываются из моего сердца или, во всяком случае, не выражают моего сознания, то они еще до меня не дошли. Конечно, они дойдут до Бога, но не в том виде, в котором я их произношу. Бог послушает меня и скажет: «Бедненький, бедненький, он что-то учуял в этих словах, но он их еще не умеет пережить». Из этой жалости Он нас помилует, да, и Он поможет нам на Его жалость отозваться.
И вот когда мы так молимся, кто участвует в этой молитве? Участвую я сам, конечно, участвует победоносным образом Сам Господь, к Которому я обращаюсь, участвуют те святые, наставники, которые меня научили так молиться, но они не издали соучаствуют в моей молитве. Когда мы начинаем молиться их словами, они сами участвуют в этой молитве. Мне кажется, что когда мы произносим слова, которые выражали до самых глубин опыт покаяния, благодарность, любовь к Богу, любовь к людям того или другого святого, несмотря на то, что я Богу могу принести эти слова только из собственной бедноты сердечной и умственной, святой эти слова берет и возносит к Богу. И это дивно. Я повторю сейчас нечто, что я уже говорил, и не раз, но что для меня такое большое значение имеет. Как-то мне нужно было помолиться Богу о нужде, а веры у меня не было в то, что та молитва, которую я буду употреблять, написанная одним из святых, может дойти до Бога, в том смысле, что я не верил, что она может быть исполнена. А вместе с этим нужда была настоящая и большая. Я обратился к святому, который написал эту молитву, и сказал: «Ты эту молитву составил с полной верой. Я не верю в то, что получится что-нибудь, но ты в это верил и сейчас веришь. Я буду произносить твои слова, а ты эту мою молитву вознеси к Богу». И так оно и случилось. Я прочел эту молитву, предоставив тому святому, который верил в свою собственную молитву, вознести ее до Бога, и Бог ответил на эту молитву, исполнил прошение, которое мною было Ему поднесено без моей веры, но с надеждой. Я не верил, что случится нечто, но сверх надежды надеялся, и святой мне в этом помог.
Таким образом, когда мы молимся даже частным образом дома, участвует вся полнота Всесвятой Троицы, участвует, Каждый по-своему: Спаситель, Дух Святой, Отец, участвую я, участвуют те святые, слова которых я употребляю и которые их оживляют как бы, дают им жизнь, чтобы они вознеслись к Богу. Это значит, что каждый раз, когда кто-либо из нас молится даже самыми простыми словами, вся полнота Церкви участвует: и ангел мой хранитель, и Божия Матерь, и Всесвятая Троица в каждом Ее Лице, и святые, чьи слова я приношу. Молитва в этом смысле никогда не бывает одинокой, она охватывает всю тайну Церкви. Это молитвы утренние, это молитвы вечерние, это молитвы, которые мы можем произносить в любую часть дня и ночи.
Но есть другие молитвы, молитвы, где совершается нечто Самим Богом, молитвы, которые не только — обращение к Богу о том, чтобы то или другое исполнилось, а молитвы тайносовершительные. Последний предел в этом отношении, конечно, — Божественная литургия, когда мы молимся о том, чтобы этот хлеб, это вино сошествием Святого Духа стали Телом и Кровью Христовыми. Мы этого совершить не можем, мы только можем сказать: Твоя от Твоих, как мы и говорим на Литургии. Хлеб, вино — Твои, и мы их возносим Тебе, Ты их приобщи Себе Самому, чтобы они к нам вернулись, совершая чудо нашего приобщения к Тебе. К этому я еще вернусь.
Но не только в Божественной литургии совершается такая тайна. Есть другие действия, которые мы легко называем обрядами. Обряд для нас на обычном языке больше говорит о форме, чем о содержании. Есть действия церковные, которые охватывают все то, о чем я говорил, но с особенной силой — тварное вещество нашего мира. О том, как хлеб и вино приобщаются тайне Божества, я скажу позже, а сейчас хочу сказать о другом. Мы все можем освятить, то есть принести Богу и сказать Ему: «Господи, благослови это!». Но «благослови» не значит: оставь это вне Себя, сказав доброе слово об этом, это значит: прими это как Свое, и пусть оно к нам вернется от Тебя, как сейчас оно к Тебе подымается от нас. Есть целый ряд таких действий церковных. Мы освящаем священнические одежды, чтобы они не были просто одеждой, которую носит священник ради того чтобы не быть похожим на других, или чтобы эти священнические одежды, то есть облачения, нам напоминали о чем-то. Нет, мы их освящаем для того, чтобы они были собственные Богу и чтобы, когда мы их надеваем, мы как бы облекались в вещественную благодать. С каким трепетом дьякон, священник, епископ должны на себя надевать каждую из этих одежд, которые были принесены Богу с молитвой: освяти их, пусть они будут благодатны, пусть они покроют слабость и недостоинство мои, но пусть люди видят в них и через них — Тебя действующего.
Мы освящаем иконы. Это гораздо проще, легче понять, но мы не всегда задумываемся над тем, что случается с иконой, которую мы освящаем. Икона — это дерево, это краски, это линии, изображающие Троицу, Спасителя, Божию Матерь, святых, события Ветхого или Нового Завета, но это не только картинки. Когда мы молимся о том, чтобы Бог их освятил, мы молимся о том, чтобы они каким-то для нас непостижимым образом были приобщены тайне Божественной благодати. И мы так благоговейно, трепетно относимся к иконе, не только потому что почитаем то лицо, которое на ней изображено, а потому что самая икона от дерева до краски каким-то образом принадлежит преображенному миру, миру, в котором действует, живет Сам Бог.
И еще один пример хочу вам дать, который меня всегда глубоко волнует, — это освящение колокола. В молитве освящения мы молимся о том, чтобы Бог этот колокол благословил так, чтобы когда он будет звучать, его звук пробуждал спящие души. Здесь мы говорим не о том, чтобы человек услышал звук и как-то на звук отозвался, мы молимся о том, чтобы этот звук донес до души человека что-то (и мы не знаем, что), что его пробудит, что его откроет к вечной жизни, к Божиему присутствию.
И таким образом, если поставить вопрос о том, что включает собой даже частная молитва, даже меньшие чины благословения предметов, мы видим, что охватывается молитвой весь мир. Как я сказал уже, в любой молитве присутствует и Святая Троица, и Пречистая Дева, и ангелы Божии, и наш ангел-хранитель, и святые, и весь вещественный мир, потому что весь вещественный мир способен принять благодать Божию. Человек согрешил, но мир не согрешил, мир в плену у человеческого греха, но сам по себе он безгрешен. И как дивно, что можно в церковную молитву, которая глубже, шире всякой нашей частной молитвы, этот мир включить, чтобы этот мир стал вместе с нами участником жизни Божией, изливающейся в нас через благодать. Все это относится к частной молитве или к обычной молитве, которую мы произносим вместе.
Есть разница между частной молитвой и соборной молитвой, общей молитвой малого или большого числа людей. Кто-то из отцов Церкви сказал: «Кто видел брата своего, тот видел Бога своего»
[54]. Каждый человек — живая икона. Каждый человек, который был крещен, которому был дан дар Святого Духа в Миропомазании, усыновлен через Сына Божия Богу и Отцу. И это мы должны помнить, это потрясающая мысль. Когда Христос на вопрос Своих учеников о том, как молиться, им говорит: Молитесь так: Отче наш иже еси на небесех… (Лк 11:2), Он не говорил только о том, чтобы они сознавали друг друга братьями и сестрами. Когда Он говорит: Отче наш, Он подразумевает: «Мой Отец и ваш Отец». И когда мы произносим эти слова молитвенные, мы должны сознавать, что это создает между нами и всеми людьми братство, но вместе с тем это братство является братством и со Христом. И только вместе со Христом, только во Христе можем мы назвать Небесного Отца нашего Отцом не в переносном смысле слова: мы — братья Христа, сестры Христовы, и потому Отец Его является и нашим Отцом. Может быть, то, что я сегодня говорил, вы и от меня, и от других слышали, и не раз, но есть вещи, которые надо слышать вновь и вновь, над ними надо задуматься, и так, как я сегодня их вам представлял, то есть все вместе, я не делал раньше.
Но есть еще одно измерение: это Божественная литургия. В ней участвуют все и участвует все. Участвуем мы все — верой, надеждой, голодом, покаянием, благодарностью, криком души, мольбой, но в Литургии участвует вся полнота церковная. Церковь — это богочеловеческое общество, где Бог и люди составляют одно таинственное общество, таинственное потому, что этого объяснить нельзя, этого доказать в каком-то смысле нельзя, но это можно знать внутренним опытом. Это можно передавать через внутренний опыт тем, кто еще этого не познал, не пережил.
Кто участник в Литургии, кто ее совершитель? О Совершителе я уже упомянул в начале беседы: освятить хлеб, чтобы этот хлеб стал Телом Христовым, и вино, чтобы оно стало Кровью Христовой, никакой человек не может. Никакая человеческая сила, даже богоданная благодать, не может дать человеку власть превратить хлеб в Христово Тело, вино — в Кровь Христову, никто этого не может совершить и никто бы не дерзнул. И еще: Бог приобщает Свою тварь Себе и Своей жизни, но Он не требует от нее, чтобы она перестала быть собой, Он не заставляет хлеб перестать быть хлебом, вино — перестать быть вином. Он таинственно пронизывает этот хлеб и это вино Своим собственным присутствием силою Святого Духа. Совершитель Литургии, в конечном итоге, Сам Господь Иисус Христос. И в молитве перед освящением Даров священник говорит: Ты — Приносящий и Приносимый, Ты — Приемляй (то есть Принимающий) и
Раздаваемый[55]. Мы верим, что когда мы молимся Святому Духу, то Дух Святой сходит на Дары, которые мы принесли, и совершается чудо не нами, а Единственным Первосвященником всей твари, Господом Иисусом Христом. И тогда ставится вопрос: каково же наше место, место мирян, место священнослужителей, где мы?
И тут, мне кажется, надо помнить очень важную вещь. На русском языке «миряне» и «духовенство» по смыслу слов кажутся такими разными: миряне — это те, которые миру принадлежат, священнослужители — это те, которые принадлежат храму, но это очень бедный перевод древнего слова. На греческом языке те, кого мы называем мирянами, называются laos, лаос, это народ, это Божий народ, и в этом смысле все мы принадлежим к этому народу. У нас есть различные должности, различные задания в Церкви, но мы все в этом смысле народ Божий, царственное священство, народ свят, о котором говорит апостол (1 Пет 2:9). Народ свят — это значит народ, который Бог взял в удел, освятил, чтобы этот народ совершил дело спасения всей твари. Это не значит, что мы теперь уже святы в обычном смысле этого слова, это значит, что мы посвящены и освящены для совершения дела Господня. А царственное священство — очень великое и страшное выражение. Есть у Василия Великого место, которое я уже вам упоминал, о том, что править может любой человек, умереть за свой народ может только царь, потому что он как бы воплощение всего того, что значит этот народ перед Богом.
Каждый из нас в таком смысле является частью этого царственного священства, потому что каждый из тех, кого мы называем мирянами или священниками, призван свою жизнь посвятить на спасение других людей, всех людей, с которыми соприкоснется: Я вас посылаю, как овец среди волков (Мф 10:16), жизнь свою отдавать для того, чтобы другие могли поверить.
И вот, когда мы совершаем Литургию, вся Церковь участвует в ней на равных началах: в разных должностях, но в той же полной мере, потому что если мирянин готов свою жизнь отдать во свидетельство своей веры во Христа, чтобы другой человек дрогнул, задумался и, может быть, стал искать Бога, он участвует в жертвоприношении на Святом престоле. Помню, был случай, когда меня пригласили докладчиком на съезд, где участвовали только миряне, и председатель съезда представлял меня народу так: «Владыка Антоний — мирянин в священном сане». И это правда, потому что, становясь священником или епископом, мы не перестаем быть членом Божьего народа, того греческого laos, о котором писали апостолы. Это так дивно: мы все участвуем, но на разных положениях, в разных должностях, совершая дело каждый на своем месте, но одно и то же самое дело.
Сейчас нет времени говорить о том, что совершается в этом отношении в Божественной литургии. Я этой теме хочу посвятить следующую нашу беседу, потому что эта тема охватывает каким-то непостижимым образом все — и нетварное, и тварное, говорит о том, как вечность вливается во время и время начинает пылать вечностью, как Бог становится Человеком, как хлеб становится Телом Христовым, как мы приобщаемся, при нашем недостоинстве, в меру нашей возможности, Телу и Крови. Об этом я хочу говорить в следующий раз, а теперь я вам предлагаю: помолчим немножко и подумаем об этом чуде, о том, как дивно, что мы все — Тело Христово, порознь и вместе.
Чем дальше идут наши беседы, тем мне делается страшней их проводить. Когда мы говорили о вещах как бы общеизвестных: о молитве как учат о ней отцы Церкви, я мог опираться на их учение, цитировать их слова, а теперь я хочу перейти к теме, которая меня пугает: это вопрос о том, что совершается в Божественной литургии, и может быть, даже шире, в таинствах, но я буду говорить особенно о Божественной литургии. Кто совершитель этого таинства? Каково наше участие в нем?
И тут я, конечно, могу повторять то, чему меня когда-то учили, но кроме этого, мне хочется сказать несколько вещей, которые мне не пришлось вычитывать и которые меня как верующего и как священника глубоко волнуют. Я буду говорить о том, о чем у меня есть какие-то проблески понимания, проблески, которые мне были подарены моими наставниками, чтением, но я хочу дерзнуть, я хочу осмелиться говорить с точки зрения того, что я сам как бы переживаю. Я прошу вас, помолитесь, чтобы то, что я говорю и буду говорить, не было Богу оскорблением. Я буду говорить за пределом своего знания, потому что то, о чем речь идет, непостижимо. Это можно пережить минутами глубоко-глубоко, и это западает в душу. Но цельной картины никто, кроме святых, не мог видеть, да и те видели каждый с какой-то точки зрения, изнутри какого-то личного опыта, своей личной зрелости и того, что Бог хотел им открыть, чтобы они открыли другим людям. Я буду говорить не о том, что знаю цельно, буду говорить о том, что мне удалось уловить благодаря наставникам моим, почуять при совершении Божественной литургии и таинств и благодаря общению — общению с вами, общению с другими людьми. Это не потемки, это такая глубина тайны, в которую я проникнуть не могу, но минутами бывают блестки понимания, которым я хочу с вами поделиться. Еще раз скажу: помолитесь Господу, чтобы то, что я скажу, не было ложью — ложью о Нем, ложью о том, что совершается в таинствах Церкви.
Когда мы ставим перед собой вопрос о том, кто совершители этого таинства, мы должны помнить, как я уже сказал, что Церковь — это Богочеловеческое общество, это общество, где полнота Святой Троицы присутствует, является сердцевиной всего: и человечества, которое различным образом связано и приобщено ко Святой Троице (к этому я еще вернусь), но еще за пределом этого, всей твари, всего вещественного мира, потому что в лице хлеба и вина весь мир себя узнает пророчески, каким он призван быть в конце времен. Когда мы совершаем Литургию, все сосредоточено в одной как бы точке, потому что тут нет ни пространств, ни времени, но есть встреча и приобщенность.
Если поставить вопрос самым резким образом: кто совершитель Божественной литургии (и любого, в сущности, таинства, но Божественной литургии особенно), можно ответить только одно — Христос и Дух Святой — Бог, не мы. Никакая священническая благодать, даже никакая человеческая святость не может дать человеку ни права, ни власти принудить Бога воплотиться в хлеб и вино, и никакая человеческая власть не может этот хлеб и это вино соединить с Божеством Христа силой Духа Святого. Поэтому если мы говорим о том, Кто Совершитель Божественной литургии, то это Христос: Ты Приносящий и Приносимый, и Приемлющий и Раздаваемый, и Дух Святой. А какое же наше участие? Оно очень, очень ответственное и различное.
В первую очередь мы должны помнить и помнить остро, помнить всем существом, что вся Церковь участвует в совершении этого таинства, потому что, как я сказал раньше, Церковь — это Богочеловеческое общество. О том, что оно Божественное, я только что сказал, но оно человеческое, и все мы участники, без нашего участия не может совершиться никакое таинство. И так же — несмотря на нашу греховность, на наше недостоинство, несмотря ни на что! — без нас не может совершиться таинство даже Божественной литургии. Мы должны сказать решающее слово веры, мы должны сказать слово нашего посвящения Богу. И поэтому так важно помнить, что каждый из нас — мирянин, священник, епископ — каждый из нас в равной мере, хотя по-разному — совершитель этой тайны. Если бы мы это немножко больше понимали, то мы понимали бы, почему не положено священнику совершать Божественную литургию в отсутствие всякого народа, в одиночку: потому что ему не дана власть над хлебом и вином, ему не дана власть над Телом и Кровью. Только полнота Церкви, в центре которой, в сердцевине которой находится Триединый Бог, может это совершить. И это так важно нам помнить, потому что если мы это помнили бы, мы не присутствовали бы на Литургии будто извне: вот они, духовенство, нечто совершают, а мы нечто переживаем. Нет! Мы переживаем и должны бы переживать больше, чем переживаем, но мы и участвуем в этом. Не положено священнику в одиночку совершать Литургию, потому что он не благодатью, ему данной, а в единстве Церкви, народа Божия и Бога, ее совершает.
Правда, мы знаем, что некоторые подвижники совершали Божественную литургию, но они были так едины с Церковью невидимой, со святыми, с ангелами Божиими, что они не в одиночку ее совершали, а совершали ее в полноте торжествующей Церкви. Пример тому — святитель Феофан Затворник и другие святые, пустынники. Но они совершали Литургию не властью им данной, а в соединении, невидимом соединении всей Церкви: ангелов Божиих, святых, ангелов-хранителей тех, кого они поминают, как бы в непостижимом присутствии всех тех, кого они любовью в сердце своем носят, кого они приняли до самых глубин и молитву которых, жизнь которых, вечную судьбу которых они приносят Богу в дар: Твоя от Твоих, все, что Твое, мы Тебе отдаем.
И вот мы все собираемся на Литургию, и так грустно думать, что столько, столько православных людей приходят в церковь не только с опозданием, как будто хватит времени, служба длинная, и не только так, но первым делом закупают свечки, подают записки, занимаются своим делом и часто, даже ставя свечи, даже проходя через храм, не замечают того, что происходит. Как мне бывает больно за них, когда священник выходит благословлять народ, а кто-либо стоит спиной и ставит свечу, или подходит к панихидному столу в тот момент, когда произносятся слова освящения Святых Даров. Мы должны об этом подумать все, все. Это не значит, что мы не можем по нужде опоздать, потому что не в пространстве, не во времени дело. Но в момент, когда мы вступаем в храм, мы уже должны быть погружены в страшное чудо нашей встречи и нашего соединения с Богом. Будем об этом думать.
Но каждый из нас по-иному участвует, в зависимости от своего места в Церкви. Один человек приходит с покаянием, с разбитым от боли и стыда сердцем и стоит, как мытарь, не смея подойти к Богу, только стоя у притолоки церковной и говоря: Боже, милостив буди мне, грешному… Он участвует полностью в Божественной литургии, если даже он и причащаться не будет, потому что через это свое покаяние он приобщился к тайне Христова распятия, Христова Воскресения, к тому, что Бог стал Человеком, чтобы он спасся. Другие приходят в храм с радостью, благодарностью встретить своего Бога, встретить Христа, милость Которого излилась на них. Некоторые приходят в разобщенности со Христом, и тогда должно совершиться нечто, что зависит от человека, от случая, который нельзя распределить по категориям.
Бывало со мной так, что человек приходил исповедоваться, он не мог каяться, он не понимал своей греховности, ему не с чем было сравнить свою греховность. И после беседы я говорил: «Я не могу тебе дать разрешительную молитву, когда ты ни в чем не каешься, но приди сегодня и причастись Святых Тайн. Я ничего не могу, Бог может все». И несколько раз — я достоверно знаю — человек причащался и был исцелен, не телесно, а духовно. А бывает так, что человек не должен причаститься, потому что он не верит в то, что он согрешил, не верит, что Бог вообще что-нибудь сделает. И тогда ему надо созреть, так болеть душой, так встретить жизнь трагично, чтобы что-то случилось.
Вот разные подходы, при которых люди участвуют в Божественной литургии не святостью своей, но даже греховностью, и не только покаянной греховностью, но недоумением, криком о помощи, отчаянием. И Христос, Который умер за каждого и за всех, каждого принимает с состраданием. Но это значит, что вся Церковь, то есть все люди, которые в храме находятся в этот момент, — совершители Божественной литургии, потому что они все рвутся ко Христу и готовы Его встретить, и Христос самым разным образом их встречает.
Мне вспомнилось сейчас, как однажды спросили святителя Николая Велимировича, сколько народа у него в епархии, и он ответил странным образом: «Не знаю. Я не знаю, сколько людей сегодня покаянием, голодом пришли ко Христу. Они составляют епархию, другие на краю ее еще не составляют ее. Сегодня, через час, завтра, через год, позже они будут ее частью, но сегодня — нет». Подумайте над этим, подумаем все, я тоже должен думать.
Хочу еще сказать о месте дьякона в совершении Литургии. Начнем как бы с конца: дьякона хоронят как мирянина, не как члена духовенства. Почему так? Потому что дьякон — человек, которого народ Божий, еще не созревший на то, чтобы влиться в алтарь, выбирает и посылает туда вместо себя. Никто не может по праву войти в алтарь, но этот человек, дьякон, служитель избирается с тем, чтобы в алтаре, у престола Божия, у проскомидийного стола, где совершается распятие Христово, у престола, где совершается освящение Святых Даров и Воскресение, представлять собой весь народ, каждого из нас. И когда он молится: Миром Господу помолимся, — он молится не как человек, который вне собравшегося народа, он — один из народа и он говорит: «Давайте, братья мои, сестры, молиться, вы меня поставили, послали в это страшное, трепетное место алтаря, чтобы вас представлять. Я вам сейчас буду предлагать молитву, которую я возношу от вашего, от нашего имени, от имени всей Церкви, включая Спасителя Христа». Какое страшное и дивное служение! Он уже там, куда мы все стремимся, в области встречи и единства с Богом. Мы еще не все созрели и одного человека посылаем к престолу Божию. С одной стороны, он предстоит за всех нас, молится за всех нас, а с другой стороны, мы молимся как бы в нем и через него.
И это не всегда легко для дьякона или для священника, когда он без дьякона совершает, поет в Литургии молитвенные прошения, потому что он должен открыться всем тем, которые находятся в храме, он должен так открыться, чтобы молитва каждого могла как бы по желобу течь через его сердце, через его ум, через все его существо возноситься к Богу. Вы себе представляете, что это значит? Он должен каждого из нас принять и сказать: «Господи, я его молитву, его самого включаю в себя. Я дам не только его молитвенным прошениям, но, может быть, всему ужасу его личности течь, как по руслу, через мое сердце, через мой ум, через все мое существо к Твоему Престолу, к Твоим ногам».
Я знаю молодого священника, который не мог в течение первых лет своего служения выносить одного своего прихожанина, но он знал, что не может совершить Литургию, не приняв его в глубины своего существа, сердца, ума. И он приходил за два часа до службы, стоял перед царскими вратами и говорил: «Господи, не могу, не могу!». И потом: «Я должен, я должен, иначе я не могу совершать службу, не могу совершать Литургию, если я этого человека исключаю». И после двух часов порой этот молодой священник вдруг мог сказать с помощью Христа силой Святого Духа: «Да, Господи, пусть этот человек прорвется в мое сердце, прорвется через все мое существо, как бы мне ни было страшно, как бы ни было это отвратительно, но я его вознесу к Тебе, Господи». И только тогда он дерзал начать совершать Литургию.
Вот на что мы посылаем дьякона. Часто мы думаем: ну да, это человек, который способен участвовать в богослужении, как бы руководить нами и службой. Но отдаем ли мы себе отчет в том, что каждый из нас через него прорывается к Богу, что наша греховность, наша отчужденность от Бога как бы врывается в его жизнь, и он их возносит с криком страха порой, боли, сострадания? А если он не в состоянии таким быть, он должен отказаться служить в этот день: я не могу служить сегодня, представляя собой, вернее, вознося из своих недр молитву всех людей, кроме этого. Этот пусть останется вне Царства Божия… Я знаю случай, когда человек пошел на это: отказался от совершения службы из-за этого.
Теперь хочу сказать несколько слов и о священнике. Священник избирается для того, чтобы совершать Литургию, будучи как бы иконой Христа, совершающего таинства: видимый образ Невидимого. Христос на самом деле совершает ее, но священник будет произносить слова и совершать действия, которые на самом деле не он совершает, а совершает Спаситель Христос. Я уже рассказывал вам, кажется, о молодом священнике, который готовился к совершению Литургии и вдруг почувствовал, что не может дерзнуть совершить ее. Он не может, не имеет право это сделать, он грешник, он недостоин, он стоит на месте святе, где только Христос имеет право стоять. И он уже собирался снять с себя облачение и уйти, оставив приход без службы, объяснив людям, в чем дело, когда вдруг он почувствовал, что между престолом и им Кто-то встал. И он знал, что стоит Господь Иисус Христос, что он, священник, будет говорить слова, будет совершать действия, но чудо освящения Святых Даров будет совершать Христос, Который уже во время жизни Своей на земле в Себе Самом его совершил закланием Своим, смертью на кресте, погребением, и воскресением, и даром Святого Духа Своим ученикам.
Вот все, кто участник и совершитель Божественной литургии: Бог во Святой Троице, ангелы Божии, святые, весь народ в совокупности своей, каждый из нас лично, приносящий Богу свою ответственность и свою готовность, и свою открытость, и свой крик души, и свое покаяние, и свою благодарность, все мы, и отдельные люди, которые избираются на это служение и которым так страшно стоять там, где только Христос имеет право служить, стоять в алтаре, о котором я подробно говорил как о месте святом, о месте, где Бог и вся святость как бы вливается в тварь.
Хочу прибавить еще нечто. Божественная литургия, как и любое таинство, совершается только при наличии вещества: хлеба, вина, воды, масла и т. д. И в этом смысле, хотя мы этого не замечаем, в Литургии нам указывается на ценность вещества, конкретно — в лице, так сказать, хлеба, приготовленного, испеченного с верой человеком, который хочет от своего труда сделать Богу посильный подарок, как Авель приносил плод от своих трудов Богу и был принят Богом. Но хлеб — это же плод земли, которую Бог создал плодотворной, зерна, которое Бог создал способным принести плод. Орошается земля, оживает зерно от росы, от дождя, от работы человеческой. И вся земля, все тварное участвует таким образом в совершении Божественной литургии с той, может быть, разницей (это, возможно, вам покажется странным, страшным), что мы, грешники, участвуем в Литургии недостойно. А хлеб, вино, вода, все вещество, что входит в область таинств, безгрешно. Как сказал один из отцов Церкви, только человек грешен, вся тварь осталась безгрешной, но стала мученицей, потому что на ней лежит человеческий грех. Хлеб не грешит, вино не грешит, дерево не грешит, земля не грешит. Они порабощены человеком, греховностью его. То, что мы приносим Богу, чисто, свято по себе. Если оно и осквернено, то только нашими руками, нашими мыслями, нашей собственной сердечной нечистотой, но когда вносится в алтарь, тогда волна Божественной благодати охватывает все вносимое в алтарь и оно делается способным стать естественной, простой опорой таинства. Хлеб и вино в алтаре силой Святого Духа приобщаются Христу Богу и Человеку в Его воплощении и делаются способными стать Телом и Кровью Христовыми.
Я на этом кончу свою беседу. Я надеюсь, надеюсь, что она вам не показалась совершенно безумной, совершенной фантазией. Это не мечта, это мною пережитое, но — Боже мой! — как поверхностно в сравнении с тем, о чем я говорю и что вы, может быть, знаете много-много раз лучше меня. Простите меня, простите!.. Я только потому дерзаю так говорить, что есть слово у святого Иоанна Лествичника, где он говорит о Страшном суде и о том, как Бог одному человеку говорит: «Ты согрешил, тебе нет места в Царстве Божием». И человек опускает голову с готовностью уйти. И вдруг восстает множество народа и говорит: «Господи, прости ему. Он оказался недостойным всего того, что он знал, но если бы он не говорил, то мы бы не знали и не последовали бы за Тобой. Ради того, что он нам дал, помилуй его!»
[56]. Вот единственная моя надежда.
Продолжая ряд наших бесед, я хочу сегодня несколько расширить наше видение о Литургии в немного непривычном направлении. Я уже говорил несколько раз о том, что в алтаре происходит нечто неописуемое: это встреча и слияние вечного и временного, Божественного и тварного, и то, что происходит там, потом как бы переливается через край и доходит до нас. Но вместе с этим то, что представляется земным нашим бытием, вливается в алтарь и делается священным. Я хочу это немножко разъяснить.
Во время Божественной литургии мы всегда думаем о том, что Бог творит над Святыми Дарами неописуемое чудо, что хлеб и вино делаются Телом и Кровью Христовыми, и что мы, подходя к Чаше, приобщаемся тому, что нам в таинстве дано. Но мы мало задумываемся над тем, что это представляет для тварного мира, какое участие тварного мира в этих событиях и какое участие тварного мира в нашем спасении. И вот на этом я хочу остановить ваше внимание, может быть, неуклюжим образом, потому что это непривычное нечто.
Мы знаем о том, что в алтаре совершается чудо освящения Святых Даров, и мы знаем, что эти Святые Дары приносятся народом в храм, из храма достигают алтаря, и там совершается над ними богослужение, тайносовершение. Но мы не всегда задумываемся над тем, что это представляет собой. Это представляет собой особое сотрудничество, соучастие Бога и тварного мира. Ведь подумайте: мы приносим в алтарь хлеб и вино, просфоры, вино, воду. Что они представляют собой? Хлеб — плод земли, которую Бог сотворил плодотворной, которую Бог сотворил такой, чтобы она под дыханием Святого Духа, как сказано в начале книги Бытия, могла постепенно из себя приносить все более богатые дары и Богу, и человечеству. Это земля Богом сотворенная, Духом Святым освященная, человеческим грехом порой изуродована и введена в заблуждение, но остается чистой, непорочной. Она — жертва, она не греховное явление. И в эту землю человек бросает семя. Это семя не он сам творит, а Бог творит, и земля это семя принимает в себя, принимает также и влагу, которую Бог дает, и дождь, и теплоту солнца, и все условия, которые нужны для того, чтобы это зерно принесло плод. Этот плод рано или поздно трудами человека, верой человека в то, что милостью Божией эта земля нам принесет богатую жатву, станет хлебом. Таким образом, как бы в основе всего находится Богом сотворенная земля, Богом сотворенное зерно, Богом данная влага, и солнце, и тепло, и свет, и вместе с этим человеческий труд. И все это сливается в одно, что позволяет человеку принести Богу в дар то, что он сумел создать, то есть собрать эти зерна, собрать этот хлеб и принести этот хлеб в алтарь.
Таким образом, даже в материальном смысле есть таинственное сотрудничество, содружество, взаимная любовь между Богом и тварью и между Богом, тварью и человеком. Мне кажется, что нам очень важно помнить роль сотворенного мира во всем таинстве нашего возрождения силой Божией. То, что я сказал сейчас о Литургии, можно было бы сказать также о водах Крещения, можно было бы сказать также и о других таинствах, но сейчас я хочу остановиться специально на Литургии.
Хлеб и вино, плод лозы, которую создал и взрастил Бог, но собрал человек, приносится в алтарь: Твоя от Твоих, как говорится позже в Литургии. То, что Ему собственно принадлежит, то, что Он создал, возвращается Ему нашей верой, нашей любовью: прими от нас, Господи, наши дары! Это то, что мы видим в начале книги Бытия в лице Авеля, сына Адама и Евы. И мы повторяем то же самое: Бог принимает наш дар, который является Его даром нам первоначально, и этот дар приносится в алтарь. Дар кладется на жертвенник, который представляет собой Голгофу, и изготовляется хлеб, который нам будет дан в причащении, но до того представляет собой образ, живой, трепетный образ распятия Христова. Священник вырезает из большего куска хлеба кубический кусочек. Он его надрезает: Жрется (приносится в жертву) Агнец Божий, вземляй грех мира, за мирскую жизнь и спасение
[57].
И это не только физическое действие, это изумительное действие, при котором непорочная тварь Божия, хлеб и вино, делается образом распятия Христова, Жертвы Сына Божия за спасение мира и, как я уже вначале говорил, изумительной жертвы Отца, Который Своего Единородного Сына посылает на смерть для того, чтобы человечество, изменившее своему призванию, могло найти спасение. Это не только образ, это больше образа, это реальность, потому что этот хлеб непорочен, чист. Он — дар Божий нам и ответный дар человечества, человека Ему. Это чистая, непорочная тварь, которая приносится Богу и которую Он приобщает тайне Самого Христа. Здесь совершается то, о чем я говорил не раз, совершается как бы слияние вечного и временного, Божественного и тварного.
И как должны мы благоговейно относиться к тому хлебу, к тому вину, которые мы принесем в алтарь в дар Богу. Как благоговейно должны мы посылать в алтарь просфоры, не просто потому что мы их купили или потому что они были кем-то заготовлены, а потому что в тот момент, когда мы их приносим, мы возносим к Престолу Божию целый ряд событий, о которых я упомянул вначале. И вместе с ними, помимо основной частицы, которая будет освящена и станет телом Христовым, мы приносим имена тех людей, о которых мы хотим молиться, о спасении которых мы хотим молиться.
Я знаю, что в нашем православном мире идет спор о том, за кого можно молиться на Литургии, за кого можно молиться на проскомидии, то есть на той части Литургии, где приготавливается и совершается образно и вместе с этим реально распятие Христово на Голгофе. Некоторые говорят, что можно молиться на Литургии только за православных, только за крещеных. Мне запало в душу слово одного из самых строгих, я чуть не сказал «узких», епископов нашей Церкви, Владыки Елевферия, который до войны был главой Литовской епархии, после того как он был много лет протоиереем в царской России. Ему были поручены те немногие приходы в Европе, которые после разделения эмиграции остались верными Московской Патриархии
[58]. Ему был поставлен вопрос о том, за кого можно молиться на проскомидии, на Литургии, и его ответ меня глубоко поразил и обрадовал. Он ответил в письме, которое я читал, что Христос умер на Голгофе за всех. Когда Он умирал на Голгофе, не было верующих и неверующих, православных и неправославных, было потерянное и растерянное человечество. И он говорит: «Так и теперь. Когда мы приносим имена людей к Голгофе, которая изображена проскомидийным столом, то мы должны приносить всех: и своих, и чужих, и верующих, и неверующих, потому что за них умер Христос. И в этот момент Он умирает — для всех».
Я вам передаю свое чувство, свою веру, свое убеждение. Я знаю, что оно будет встречено некоторыми, может быть, не вами, а вне нашего круга, с неодобрением, но меня так радует мысль о том, что есть место и момент, когда всех без исключения можно принести Христу и сказать: «Господи, Ты за них жил, Ты за них проповедовал, Ты за них умирал, Ты за них воскрес, мы Тебе их приносим: спаси, спаси их, Господи!». Это момент, когда сливается участие земли и неба, когда, с одной стороны, земля приносит дары, и Бог их принимает и делает больше, чем принимает: усвояет Себе, делает Своими, частью Своей жизни, частью жизни и смерти Единородного Сына Своего.
Дальше эти Дары будут вынесены во время службы. Сначала, во время пения заповедей блаженства, будет вынесено Евангелие. Здесь мы видим, как из глубин алтаря, больше того, из глубин Божиих, из глубин тайны Церкви выступает невидимо Христос в образе Своего Слова. Сын Божий, Которого мы называем Словом Божиим, выходит, и мы видим Евангелие. И это Евангелие, которое собой представляет Христа, кладется на престол, но этот престол является одновременно царским престолом, на котором восседает Сын Божий победивший, и местом заклания, куда ложится Он на смерть. В Своем рождестве Он уже приносится в Жертву. И так Евангелие нам представляет Христа, Который победоносным Своим Словом нам провозгласил правду, и жизнь, и радость, и надежду и Который одновременно на этом престоле является Жертвой. Он восседает, и Он принимает смерть.
А дальше, немного позже, тем же путем будут вынесены Святые Дары: хлеб и вино. Они будут вынесены с Голгофы и принесены на этот же престол — на престол, где как бы сливается смерть, жизнь и воскресение. Они ставятся на престол и будет возноситься молитва о том, чтобы этот хлеб, который является даром земли и человечества, был освящен Богом новым образом. Каким же образом, что это значит?
Священник призывает Святого Духа: Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящихтися… Сердце чисто созижди в нас, Боже… Дух прав обнови во утробах наших…
[59] — вот о чем он молится. И совершить таинство, то есть преобразить этот хлеб, который является даром земли и даром человечества, в Тело и Кровь Христовы может Своей жизнью, и смертью, и Воскресением, и вечной победой, восседанием Своим на небесах силой Святого Духа, Которого Он посылает нам, только Сам Христос. И мы стоим и молимся, и священник знает, что не он совершает это чудо. Он стоит в трепете, в священном ужасе.
Но еще иногда бывает, что человеку дано видеть больше, чем он разумевал, чем он ожидал или понимал. Мне вспоминается один священник. Уже на старости лет он совершал Литургию вместе с сослужащими ему братиями. После освящения Святых Даров, во время продолжения Литургии, от старости он сел в сторону и слушал, и смотрел на Святые Дары, на ту частицу, которую мы называем Агнцем Божиим, то есть Ягненком, то есть Сыном Божиим, распятым нашего ради спасения, а теперь силой Духа Святого ставшей Телом и Кровью. И глядя на то, что перед ним было, он вдруг увидел — не в каком-то видении, а в каком-то понимании, не чудесным образом, а в том чуде, которым Божия истина открывается человеку в недрах его, —то, чего он в течение долгой жизни не видел: он увидел, что этот хлеб и это вино, уже освященные, которые стояли на престоле, на месте заклания и воцарения Христа Спасителя, являются как бы началом преображения всего мира. Он вдруг уловил нечто, чего раньше никогда и не подозревал, о чем он никогда не думал: этот хлеб и вино, да, стали Телом и Кровью Христовыми, но при этом непостижимым образом оставались собой, освященными, преображенными, ставшими уже теперь тайной будущего века. Не только эта частица стала Телом Христовым, не только эта чаша стала Кровью Христовой. В их лице весь тварный мир, который безгрешен по себе, но порабощен злу человеческим грехом, себя может видеть таким, каким он будет после окончательной, всеконечной победой Божией. Это было видение преображенной твари. Вся тварь, весь мир, все мироздание могли смотреть на этот хлеб и вино, ставшие Телом и Кровью Христовыми, и видеть, какой тварь будет, когда будет одержана последняя победа Бога над злом и вся тварь будет преображена, будет ликовать в единстве своем и с Богом, и с человеком через Богочеловека Иисуса Христа.
Это было нечто очень для него и страшное, и от чего ликовали его сердце и душа. Он увидел, что не только человек, причастившийся Святых Тайн, приобщится тайне жертвенной любви Христовой и Его Воскресения, — что вся тварь в этот момент таинственно, необъяснимо может почувствовать, что она приобщена Богу во Христе и в Духе Святом. И таким образом эта тварь, которая участвовала в принесении Святых Даров, теперь приобщена хотя бы в виде небольшой частицы хлеба и небольшого количества вина окончательной, всеконечной победе Божией и соединению Бога со всем тем, что Он сотворил. Тварь это может пережить, мы, человеки, пережить это по-настоящему до конца не умеем и не можем из-за нашей греховности. Как изумительно: этот Хлеб и это Вино — одновременно преображенная тварь и путь к преображению человека!
Но кто может причаститься Святых Тайн? И тут опять-таки встает перед нами вопрос: какие условия нам поставлены для того, чтобы приобщиться через эту преображенную тварь к Телу и Крови Христовым? Есть место у апостола Павла, который говорит: кто причастится недостойно, причащается себе в осуждение (1 Кор 11:29). Но что значит «недостойно»? Слишком часто нам говорят о том, что недостойно причащается грешный человек. Если так, то никто не смеет причаститься, потому что никто, никто не может о себе сказать, что он достаточно чист, чтобы соединиться со Христом, соединиться со Христом так, чтобы стать тем, чем является Христос. Думать о том, что можно приобщиться, только если мы безгрешные, безумно, потому что в таком случае мы никогда не сможем приобщиться, только через приобщенность к Богу можем мы освятиться и преодолеть нашу греховность. Надо думать о греховности по-иному, надо ставить перед собой вопрос: отрекся ли я внутренне от Христа, отверг ли я Христа? стал ли я для Него чуждым, и Он чуждым для меня? Выбрал ли я путь жизни вне Христа или даже против Него, только бы исполнилась моя воля и моя жажда жизни? Если так, то действительно приобщаться нельзя. Кто-то из древних писателей определяет греховность так: течет река. На одной стороне этой реки — Божия область, на другой стороне реки — безбожная область, область, преданная сатане. И грех, в конечном итоге, заключается в том, чтобы перейти через эту реку из Божией области в темную область греха. Но это может с нами случиться либо нечаянно, по неведению, по безумию, по соблазненности, но не по выбору. Либо может случиться по сознательному выбору: я от Христа отрекаюсь, я больше не Его ученик, я больше в Него не верю, я уйду!
И еще есть момент, который сейчас не существует, но существовал в христианском обществе в первые века, когда оно было маленькое. Когда причащали людей, иногда приходили язычники и принимали таинство, но они принимали таинство для того, чтобы над ним колдовать или его осквернить. Они уносили его во рту и выплевывали потом для того, чтобы над ним совершить кощунственные действия. И от этого пошло начало того, что мы сейчас видим: после причащения мы подходим и получаем кусочек просфоры, который мы едим, выпиваем немножко вина для того, чтобы Церковь могла удостовериться в том, что мы действительно приобщились Телу Христову, а не несем Его во рту для осквернения. Конечно, это больше не имеет того значения, но отсюда пошел этот обычай. Если такой человек подойдет к причащению, да, он приходит себе в суд или во осуждение. Но мы все приходим как грешники для того, чтобы быть спасенными.
Что же тогда случается? Если мы приходим с открытым сердцем и говорим: «Господи, я грешник, я даже каяться не умею, но я хочу каяться! Я не умею верить по-настоящему, но, Господи, помоги моему неверию! Я грешу, несмотря на то что ненавижу грех, который совершаю, но у меня не хватает сил, решимости, мужества, дерзновения для того, чтобы воздержаться. Можно мне причаститься? Можешь ли Ты, Господи, войти в мою жизнь и начать ее преображать?». Если человек будет соответственно жить, то таинство постепенно будет приносить плод, эта искра света и тепла начнет развиваться в пожар, в огонь. Все мы можем прийти причащаться, зная, что сразу мы преображены не будем, но что постепенно то, что мы приняли с благоговением, с трепетом, с надеждой, с верой, сколько у нас ее есть, будет в нас возрастать, и нас менять, и преображать.
У святого Симеона Нового Богослова есть место, где он человека, который пришел причащаться недостойно, не кощунственно, а настолько неподготовлено, как бы утешает в том, что он не может встретить Христа. Симеон говорит, что если такой человек подойдет к Святым Дарам, Христос ему даст причаститься хлебу и вину как образу Его присутствия, но не сожжет человека внутренне Своим реальным присутствием. Есть много подходов и оттенков в этом мировоззрении, но мы можем приходить к причащению Святых Тайн с верой, что Господь нас не отвергает, если мы только приходим к Нему, как нищие, с открытостью, с надеждой на Него, с посильной верой и очистивши себя от того, что может нас от Него отделить. И когда я говорю «очистившись», я не говорю — до конца, потому что вся жизнь является восхождением к святости, если мы только к ней стремимся, вся жизнь заключается в том, чтобы постепенно сбрасывать с плеч то, что нас приземляет, давит, очищать свое сердце и ум от чувств, от мыслей, от поступков, которые недостойны нашей принадлежности ко Христу. Но Христос видит нашу немощь, и постольку поскольку мы отрекаемся от зла искренне и правдиво, Он нас принимает и начинает действовать Сам там и так, как мы сами по себе действовать не можем.
Мы приходим на исповедь, и перед тем как исповедоваться, должны ставить себе вопрос не о том, сделал ли я что-нибудь такое, от чего мне не по себе, а вопрос: то, что я сделал, мои мысли, мои чувства меня отделили от Христа или нет? Если я солгал, и мне стало стыдно, и я обратился ко Христу, и сказал: «Господи, прости!», — и пошел исправить свою ложь, то я могу подойти к Нему. И так же со всеми другими грехами. Поэтому на исповедь надо приходить с вопросом о том, что меня отделяет от Христа, чем я отделился от Него волей или неволей, случайностью или намерением. И все то, что я совершил сознательно, намеренно, зло, по неверности, я должен принести на исповедь, но не приносить на исповедь пыль, которую можно сдунуть со своей совести, как можно сдунуть пыль с лица зеркала. Подумайте! Приходите на исповедь, испытавши себя: что в моей жизни меня отделяет от Христа, что меня делает чужим по отношению к Нему? Он чужим не делается, Он-то остается верным. Но вот наше соотношение со Христом и наше соотношение также — и на этом я хочу настоять — хоть на одно мгновение со всей тварью. Вся тварь в этом хлебе и в этом вине, которые стали Телом Христовым, себя видит уже соединенной с Богом. Это соединение должно вырасти в полную меру, и мешает этому воссоединению человеческий грех, который порабощает тварь греховностью. Подумаем об этом.
О Божией Матери
К сегодняшней беседе я приступаю особенно трепетно, потому что мне кажется, что есть вещи настолько святые, что мне, может быть, о них и упоминать не следует. Я хочу с вами говорить о Божией Матери.
Я говорил уже, что храм — это таинственное место, где живет полностью Своей жизнью и присутствием Сам Триединый Бог: Отец непостижимый, Который, однако, через нашу приобщенность ко Христу делается и нашим Отцом; и Сын, Который стал человеком, одним из нас, оставаясь Богом в полноте этого слова, Который нам, по Его собственному слову, Брат, Друг (Мф 28:10; Ин 15:15); и Дух Святой, Который ниспосылается и пронизывает нас, и преображает нас постепенно, отчасти в меру нашей веры, отчасти — чистоты нашей жизни, но еще больше — в меру Божественной любви и снисхождения к нам.
Я говорил о том, что полнота Божественного Присутствия здесь обитает с нами, в глубинах алтаря, и переливается через край в храм, где мы все находимся, и дальше течет волной в весь мир, который Бог создал по неизреченной, непостижимой для нас любви и который Он спас от погибели ценой смерти собственного Сына.
Я говорил вам, что, находясь здесь, мы не постигаем, что храм преисполнен святыми ангелами, нашими хранителями, но также ангелами Божиими, которые присутствуют везде, где поется слава Божия, где поклоняются Ему, Живому Богу. Мы этого не видим, так же как мы не видим присутствия среди нас святых, которые нас окружают, которые находятся здесь, молясь о каждом из тех, кто носит их имя, молясь о нашем храме, о народе русском, о Церкви Православной, о мире, которому нужно спасение. Их тоже мы не видим, хотя иногда ощущаем присутствие святых, равно как и ангельское присутствие, так явно, так ярко.
Но кроме того, есть дивное слово одного из пустынников древности, который сказал: кто видел брата своего, тот видел Бога своего
[60]: икону, живую икону не Самого Бога, но человека, пронизанного Божественным присутствием через Крещение, через дар Святого Духа и через приобщение Пречистому Телу и Крови Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Иконы нам даны, чтобы мы могли смотреть и видеть невидимое, но, как я уже сказал, за видимым мы должны научиться переживать присутствие невидимого. Иоанн Дамаскин в одном из своих писаний говорит нам, что если мы хотим научить своей вере человека чуждого еще ей, мы можем поставить его перед иконостасом, и пусть он смотрит на иконы. Он увидит там присутствие Христа, Божией Матери, он уловит видение святых архангелов Михаила и Гавриила — Гавриила, который есть ангел Благовещения, и Михаила, который нас предупреждает о том, чтобы мы не легко вступали в алтарь, так же как он был поставлен у дверей рая, чтобы никто не смел в этот рай вступить неочищенным, неосвященным жизнью, смертью, кровью, благодатью Самого Христа.
И вот сегодня мне хочется с вами говорить не об иконе как таковой, но о Божией Матери. Я говорил уже несколько раз о том, что мы вступаем в алтарь через царские врата, те врата, через которые никто по праву не может войти, кроме Самого Христа. Когда священник или дьякон приходит к рукоположению, я его всегда останавливаю на этом рубеже и предупреждаю: смотри, ты в первый раз переступаешь эту грань. Эту грань может преступить только Сам Христос, Бог, ставший человеком, и теперь ты можешь ее переступить, только если так отдашься Богу, так с Ним соединишься, что станешь как бы иконой, и больше того — носителем в себе самом Его присутствия. Это очень страшно. Это страшно, потому что ты вступаешь в область, куда только Христос имеет право вступить, и вступаешь именно как икона, чтобы быть Его видимым действием и гласом Его, совершающим таинственно службу. Потому что самую службу никакой человек совершить не может, освятить хлеб, освятить вино, чтобы они стали Телом и Кровью Христа, никто не может. И в самой молитве перед освящением Даров нам говорится: Ты, Господи, и приносящий и приносимый, и приемлющий и раздаваемый
[61]. А до этого мы молимся о том, чтобы Дух Святой сошел на этот хлеб, на это вино и силой Святого Духа они приобщились тайне Воплощения Христова.
К этому мы вернемся. Но сейчас я хочу сказать о том, что эти двери, царские врата всегда или как правило носят икону Божией Матери. В каком-то смысле можно сказать, что Божия Матерь — это Врата Небесные, Врата, через которые Живой Бог вступает в мир, Врата, через которые Он этот мир Своим Воплощением вносит в глубины Божественного присутствия.
Я хочу сейчас начать говорить с вами о Матери Божией. Я, может быть, не успею все сказать сегодня, потому что я не хочу спешить, я хочу вам сказать то, что мне кажется существенным, хотя, конечно, мое понимание очень ограничено. Но то, что я скажу, может отозваться у вас в душе, в вашем собственном опыте, и он обогатит, даст жизнь тем словам, которые я буду произносить.
Я хочу говорить с вами по очереди о праздниках Божией Матери, не литургической их форме, но об их существе и значении на пути нашего спасения, и, конечно, раньше всего о Рождестве Пресвятой Богородицы.
Божия Матерь родилась у пожилых родителей, когда уже вымерло в них всякое плотское вожделение, всякая страстность, и когда между ними осталась только — если можно это слово употребить в таком контексте — святая, чистая любовь, способность друг во друге видеть образ Божий, способность отдаться друг другу, а не обладать друг другом. Дева Богородица родилась вне страсти человеческой, родилась из человеческой очищенной и освященной любви.
Я уже говорил вам о том, что родословная Христова имеет очень большое значение. Это не только воспоминание о том, кто были предки Его, это воспоминание о том, как с момента сотворения мира и несмотря на падение один род после другого оставался верным Богу, и одно поколение после другого, несмотря на греховность, посвящало себя вновь и вновь Богу. И в этом процессе каждое поколение в себе очищало нечто из той греховности, которая легла на все человечество в момент, когда наши прародители отвернулись от полноты богообщения и погрузились отчасти в тварность, оставаясь однако почитающими, поклоняющимися Богу. И каждое поколение очищало в себе нечто, что было передано другими поколениями, но еще не было до конца очищено. Каждое поколение обновляло душевность и плоть следующего поколения. И когда это постепенное очищение через веру, через преданность, несмотря на человеческую слабость, Живому Богу дошло до предела такой чистоты, которые мы видим в Иоакиме и Анне, в родителях Божией Матери, могла родиться Мать воплощенного Сына Божия. Все поколения в Ней могут себя видеть, какими Бог их хотел, могут видеть свою незыблемую красоту, освобожденную от греховности, которая лежала на их плечах.
И родилась Дева Богородица без пятна, без порока, не потому что Бог чудом, односторонне как бы действуя, Ее очистил от всякой греховности, а потому что все человечество тысячелетиями очищалось из поколения в поколение, готовя Богу сосуд Воплощения. Как это дивно и как это значительно! Потому что в лице Божией Матери весь мир участвует своей тоской по Богу, своей устремленностью к Нему, своим подвигом очищения, своим покаянием там, где очищение не удается, участвует в рождестве Пресвятой Богородицы и через Нее — в воплощении Сына Божия. Это так дивно: весь мир участвует в этом чуде. Это не нечто, что произошло где-то, в закоулке истории и географии, это труд, это подвиг всего человечества.
И Божия Матерь является плодом этого подвига, всей этой борьбы за чистоту и правду, борьбы всего мира за очищение себя. Мы не напрасно Ее называем Пречистой Девой Богородицей. Она не была очищена односторонним решением Бога, Она — дар земли, дар человечества Богу, чтобы Он мог стать человеком. Здесь встречаются две дивные вещи. С одной стороны, то, что я сейчас вам сказал о роли человечества в Воплощении, а с другой стороны, то, о чем я уже говорил подробно: что Бог и Отец Своего собственного родного Сына отдал на смерть для того, чтобы спасти это человечество, но и человечество было криком земли, оно даже в греховности своей было устремлено к Богу. Здесь в лице Божией Матери начинается наше спасение. Оно не начинается с ничего, с нуля, оно — завершение целого пути человечества. И Пречистая Дева Богородица в Своей чистоте пребывает пред лицом Божиим, воплощая всю богоустремленность и всю чистоту всего человечества.
Мы не знаем ничего о первых годах жизни Богоматери, хотя в апокрифических Евангелиях есть трогательные, милые рассказы о том, что могло собой представлять Ее детство. Но в своей мудрости Евангелие и Церковь ничего об этом не говорят, потому что то, что совершалось, настолько глубоко и настолько свято и таинственно, что об этом сказать нельзя. И выразить этого нельзя, и понять этого нельзя. Приобщиться к этому святостью отчасти сколько-то можно, но не умом, не словом.
Далее мы празднуем праздник Введения Божией Матери во Храм. Опять-таки тут все — символ. Рассказ идет о том, что родители привели Ее в Иерусалимский Храм, что Она была там принята первосвященником и введена во Святая Святых, куда только первосвященник имел право вступать один лишь раз в год и не иначе как освятивши себя. Но речь не идет о том, что Божия Матерь физически была взята, введена в это таинственное место, речь здесь о том, что когда Она достигла детской зрелости, но такой зрелости, которой мы не знаем, Она вошла во Святая Святых, то есть в область такой глубины Богообщения, в которую не мог погрузиться даже первосвященник, даже освященный. Она вошла в эти глубины и пребывала в них — чистотой, молитвой, приобщенностью к Богу, неразлучным единством с Ним. И тут Она дошла до полноты той зрелости, которая сделала возможным для Нее стать не только сосудом Боговоплощения, нет, но сделать возможным Боговоплощение, подарив Богу человеческую плоть, человеческую душу, человечество очищенное и освященное так, что Бог мог соединиться с этим человечеством, и это человечество не сгорело от этой встречи, и Бог не был умален этой встречей. Это был период в жизни Божией Матери, когда Она жила простой человеческой жизнью, внешне поступая, как все, но живя такой полнотой приобщенности к Богу, о которой никто не имел понятия, потому что для того, чтобы это уловить, надо быть на уровне Ее святости. Ее простое человечество закрывало как бы пеленой перед глазами всех ту глубину единства с Богом, которая Ей принадлежала.
И пришло время Ее обручения. Она была обручена праведному Иосифу. Он был уже старый человек. Он до этого уже был в браке, у него были дети, так же как в родителях Божией Матери, все земное, плотское, душевное в малом смысле этого слова сгорело, оставался только человек, который всецело принадлежал Богу. И они были обручены. Не напрасно Иосиф называется Обручником, он не называется мужем, потому что они никогда не вступили в телесный, вещественный брак. Он был Ее обручником и хранителем Ее девства и святости.
И через некоторое время ангел явился Божией Матери и Ей сказал о том, что воплотится в Ней Сам Бог — Бог, Которого Она вещественно не знала, конечно, но Которого Она так глубоко познала с самого Своего рождества, до глубин познания Которого Она дошла в то время, которое, согласно преданию, Она провела во Святая Святых, где, как говорится в одном Ее житии, ангелы Божии кормили Ее небесным хлебом… Ангел явился и Ей возвестил, что от Нее родится Сын Божий и станет через Нее Сыном Человеческим. «Как это возможно, Я мужа не знаю!» — «Да, — говорит ангел — Дух Святой найдет на Тебя, сила Вышнего осенит Тебя, и рожденное от Тебя Свято наречется, наречется Святыней, Самой Святостью, ставшей телесностью…» Божия Матерь не стала ничего говорить вопреки этому, не стала ставить вопросов о том, как это может быть. Она узнала ангела как духа чистоты, Она узнала эту весть как весть от Бога и ответила: Да будет Мне по слову Твоему (Лк 1:37).
И тут совершилось то, о чем святой Григорий Палама говорит, что воплощение Сына Божия было так же невозможно без согласия Божией Матери, без воли Божией Матери, как оно было невозможно без воли Отца. Здесь и Отец, и Пречистая Дева в равной мере сделали возможным Воплощение Сына Божия. Как нам не преклоняться перед совершенной чистотой Божией Матери, Которая сделала это возможным. И от Нее, силой Святого Духа, родился Спаситель мира, Христос.
Мы все знаем икону Рождества Христова, но подумайте о том, что тогда происходило. Надлежало Божией Матери и Иосифу, для того чтобы прописаться по закону для ценза римского, идти из Назарета в Вифлеем. Они были люди бедные, они искали себе пристанища, но никто им двери свои не открывал, никто. Люди видели молодую беременную женщину, старого человека, и каждая семья при виде их говорила: «Нет, нам в нашем доме хорошо без вас, нам тепло, здесь все свои. У нас есть пища, у нас есть очаг, идите дальше, уходите от нас». И в этом большом, бесконечно большом мире, в котором все это происходило, Божия Матерь, сопровождаемая лишь Иосифом Обручником, искала Себе пристанища. Но одиночество было только видимое. В Ней, как говорится в одной из церковных молитв, как в царской палате находился Творец мира, Сын Божий, Христос. Вокруг них невидимо были ангелы Божии, хотя никто этого не видел.
И наконец они дошли до пещеры, где можно было укрыться от ночного холода. Там были животные. Животные их приняли, они дали Божией Матери положить Своего новорожденного Ребенка на ту солому, которой они иначе бы питались. Животные узнали Матерь Божию и Сына Божия. Но есть икона, которая нам говорит о том, что тогда случилось, уже прозревшими будущее глазами. Это икона, которую я вам уже описывал, древняя греческая икона. Вместо яслей стоит алтарь, сложенный из розовых камней, алтарь, на котором должна быть принесена жертва, на котором должен умереть кто-то. И на этом алтаре лежит Сын Божий. Это уже прозрение. Это прозрение позднее, когда люди уже знали, что родившийся от Божией Матери ребенок — Сын Божий, пришедший в мир на смерть. Мы это можем видеть, тогда никто этого видеть не мог. И эти ясли невидимо были именно этим алтарем. Христос был положен в ясли в окружении этих животных, которые видели в Нем бессильного, незащищенного ребенка и своим дыханием Его согревали. Рядом были Божия Матерь и Иосиф, и конечно, на иконах мы видим то, чего не видел тогда никто: ангелов Божиих, поклоняющихся новорожденному Сыну Божию.
Затем Божия Матерь и Иосиф вернулись к себе. Пришло время принести ребенка в храм, это Сретение, встреча. Встреча с кем? С Симеоном Богоприимцем, со стариком, который праведно прожил свою жизнь и кому было обещано, что он не умрет раньше, чем увидит Спасение Божие. И когда Божия Матерь принесла Младенца Христа, чтобы поставить Его перед Богом, Симеон взял Его на руки и сказал: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси приготовил пред лицем всех людей, Свет, во откровение языков и славу людей Твоих Израиля (Лк 2:29—32)
[62]. Но он сказал и другие слова, он сказал Божией Матери, что меч пройдет через Ее сердце (Лк 2:35), как бы предупреждая Ее о том, что будет с Ее Младенцем, когда Он вырастет в полную меру Своего призвания и Своего возраста.
Это принесение младенцев в Храм началось после ухода еврейского народа из Египта. Для того, чтобы этот народ, который несколько столетий был рабом во Египте, был отпущен, силой молитвы и действий Моисея совершился ряд страшных чудес. Но самое страшное чудо, которое решающим образом определило дальнейшие действия фараона, это то, что все перворожденные младенцы египетские умерли, были убиты ангелами Божиими (Исх 12:29). Но когда евреи ушли свободными из земли египетской, им было сказано, что в откуп за тех младенцев, которые погибли их ради, они должны перворожденного сына каждой семьи принести в дар Богу и что Бог имеет право жизни и смерти над каждым из этих младенцев.
Столетиями ничего не происходило с этими младенцами, они принадлежали Богу, они Ему служили, но смерть не настигала этих первенцев до мгновения, когда был принесен один Младенец — Сын Божий, Сын Девы, Христос. В этот момент Он был отдан Богу на смерть, и эта смерть Его постигла тридцать три года спустя на Голгофе. Единственный от перворожденных младенцев израильских, над Ним исполнилось это страшное пророчество, и Он умер, отдавая Свою жизнь, отдавая всю Свою жизнь ради спасения мира.
Я на этом кончу сегодняшнюю беседу. Сейчас помолчим немного, а потом помолимся с такой благодарностью к Божией Матери, Которая Своего Сына принесла на смерть, потому что Она знала, что Бог имеет право жизни и смерти над Ним, принесла на смерть так же, как Отец Небесный отдал на смерть Единородного Своего Сына. Подумайте: Божия Матерь как икона Бога и Отца, Оба отдающие Своего возлюбленного, единородного Сына на смерть, чтобы другие могли жить.
Ко второй беседе о Божией Матери я приступаю не только с трепетом, но со страхом. Как страшно приблизиться к такой святыне с чувством, что даже думать о Божией Матери, говорить о Ней — дерзновенно… Я собой не могу как бы осквернить Ее, но могу показать глубокое мое непонимание Ее чистоты, Ее святости. И однако я считаю, что надо сказать о Ней, чтобы глубже, ясней всем нам понять все, что мы способны понять о Божией Матери. Я с вами стараюсь поделиться тем, что за многие-многие годы сложилось у меня в сердце, в уме — в надежде, что то, что я скажу, разбудит в вас собственный ваш опыт, который, может быть, бесконечно превосходит мой опыт и чистотой, и святостью, и глубиной понимания. Поэтому помолитесь о том, чтобы не осудил меня Господь за то, что я смею говорить о Пречистой Его Матери.
Прошлый раз мы остановились на евангельском рассказе о том, как Пречистая Дева Богородица принесла в Храм Младенца Господа Нашего Иисуса Христа, как Она была принята там Симеоном Богоприимцем и Анной Пророчицей, и как Ей было сказано о том, что через Ее сердце пройдет меч, что ради Младенца, Которого Она приносит, Она перенесет такое страдание, о котором и говорящие не понимали, которое и мы измерить не можем. Симеон и Анна, не зная точно, что будет, знали, что этот Младенец должен пройти через самое страшное, что можно себе представить, ради спасения других.
И теперь мы приступили к другому моменту. Пречистая Дева, принесши Своего Сына в дар Божий, ушла с Ним на руках домой. И протянулись годы детства Христова, юношества Его, Его встречи со всеми теми, кто окружал их дом. Они ведь жили в малом городке. У Спасителя нашего были сверстники. Есть рассказы, скажем, надуманные, но выражающие какой-то внутренний опыт о том, чем являлся юноша Иисус для Его окружения
[63]. Окружающие не знали, что Он — Сын Божий, пришедший плотью, что Он — Тот, Который должен спасти мир Своей смертью и Своим Воскресением. Они только знали и видели, что, хотя Он во всем подобен им, каким-то образом, в каком-то отношении Он совершенно иной. В Нем была чистота, была тишина, была неизмеримая глубина, была любовь. И те, которые Его окружали, что-нибудь из этого воспринимали.
Позже они встретились уже не детьми, а взрослыми людьми, и некоторые из них стали Его учениками: Нафанаил, Петр, Андрей, другие. Он рос под покровом Пречистой Девы Богородицы, но также и под покровом Иосифа Обручника. В лице Иосифа рядом с Иисусом стоял человек совершенной чистоты, которому было поручено Богом быть хранителем Пречистой Девы Богородицы. И в течение этих лет Христова возрастания есть один только рассказ о Нем и о Божией Матери. (Я сейчас говорю не о Спасителе Христе, а о Божией Матери, поэтому останавливаюсь только на том, что относится к Ней.)
Есть рассказ (Лк 2:42—52) о том, как, совершив годовое паломничество в Иерусалим, Пречистая Дева Богородица вместе с Иосифом Обручником возвращались домой. Они возвращались целой деревней, дети всех семей перемешались, и только на второй день Иосиф и Пречистая Дева обнаружили, что Христос не находится в среде Своих сверстников, и они испугались: как Он мог пропасть? Они вернулись в Иерусалим и пошли туда, откуда вышли, — в Храм. И там они обнаружили двенадцатилетнего Сына Божией Матери, окруженного учителями, раввинами, наставниками еврейскими, которым Он ставил вопросы, как бы вызывая в них новую мысль, новое понимание, и Сам отвечал на их вопросы так, что все дивились мудрости этого двенадцатилетнего мальчика. И когда Пречистая Дева к Нему обратилась с тихим упреком: как Ты мог нас оставить в таком недоумении о том, где Ты, что с Тобой случилось? — Христос дал ответ, который только Божия Матерь, вероятно, могла до глубин души воспринять: «Мне надо быть там, где Мой Отец. Мое место здесь, в Храме, Мое место там, где речь идет о Боге». Мы большего не знаем ничего, но нам сказано, что Божия Матерь эти слова и многие другие складывала в Своем сердце. Она единственная могла уразуметь глубину этих слов. Только Она одна знала, что это не просто детские слова, а что это слово истины, слово Самого Бога. Впервые здесь Христос с такой ясностью говорит о том, Кто Он, и говорит Он это единственному человеку, который во всей глубине, хотя еще не полностью, может понять Его слова.
После этого Богородица, Иосиф и Спаситель Христос вернулись к себе. Продолжались годы. Евангелие нам больше ничего не говорит об этих годах, мы только знаем, что Христос возрастал телом и умом, всем содержанием человеческой души, но измерить это возрастание не мог никто, потому что в Нем было измерение Божественное, а не только человеческое.
А затем есть другой рассказ, уже позже, когда Христос вышел на проповедь, когда Его стали знать, к Нему стали прибегать: это рассказ о том, как Христос был приглашен на брачный пир (Ин 2:1—11). Невеста и жених, родители, самые близкие им люди, и Пречистая Дева Богородица была приглашена, и Христос был приглашен. И в какой-то момент этот брачный пир начал темнеть: семья была бедная, угощение было посильное. Божия Матерь заметила, что так хочется еще гостям вместе побыть, вместе хлеб преломить, вместе чару выпить, а вина больше не было. И тогда Она обратилась к Своему Сыну с такой неожиданной верой и сказала: «У них не хватает вина», этим как бы Ему говоря: «Я знаю, что Ты можешь совершить чудо, чтобы радость их была преисполнена, чтобы их взаимная любовь, которая является в браке как образ вечной любви и вечного Царства Божия, была до конца преисполнена». И Христос поставил Своей Матери вопрос. На славянском языке он звучит резко, грубо: «Что Тебе и Мне?», — но надо его видеть по-иному. Это не значит: «Какое Тебе дело до этого?», это не значит: «Почему Ты Меня тревожишь?». Это значит: «Что Нам сделать, чтобы их пир был брачным пиром в полном смысле слова?». Божия Матерь не дала Ему никакого совета, но в ответ на Ее веру Христос совершил чудо — освятил воду, которая стала вином.
Это чудо очень многогранно. И минутами мне кажется, что это брачная вечеря, этот брачный пир — как бы прообраз Тайной вечери, которую Христос совершил со Своими учениками перед Своей смертью. Брачный пир — это пир взаимной любви и чистоты, это пир, когда двое уже перестают быть двумя отдельными особями, а делаются как бы двоицей, единой личностью в двух лицах, как говорит один из древних писателей. В меру земли это тогда совершалось, но не в той мере, в какой оно должно совершиться в Царстве Божием, потому что к тому времени Христос еще не умер и не воскрес. И здесь мы видим какой-то прообраз освящения взаимной любви Божественной благодатью, которая восполняет своей силой все недостающее и доводит до предела восприимчивости, до того предела, дальше которого в данный момент эта брачная пара еще не могла пойти: Христос еще не был распят и не воскрес. На Тайной вечере Христос освящает чашу и раздает Своим ученикам, и она тоже — чаша будущего века, эта чаша — прообраз Его жизни и смерти. Но и Тайная вечеря, которую совершал Христос, была прообразом той Тайной вечери, которая будет торжеством будущего века. И вот Божия Матерь в этот день нам приоткрывает тайну Тайной вечери. Я не умею лучше это сказать, вы должны сами это прочувствовать, продумать, пережить, может быть, годами переживать осколки понимания, которое у вас есть. Но вы увидите, что этот брачный пир является как бы иконой, изображающей будущую Тайную вечерю, которую Христос будет совершать, а эта Тайная вечеря является как бы иконой и предначинанием, реальным предначинанием таинства единства Бога и человека, людей между собой, которое совершится в конце времен. Здесь Божия Матерь сыграла решающую роль, потому что Она — Та, Чья вера сделала возможным чудо. Христос отозвался на Ее веру. Она знала, Кто Он: Сын Божий, пришедший плотью, — Ее плотью, Ее верой, Ее самоотдачей.
И дальше мы видим предпоследнее как бы явление в Евангелии Божией Матери: распятие, Голгофа, небольшой холм недалеко от Иерусалима. Три креста, на среднем — распятый Христос, Сын Божий, распинаемый как Сын человеческий. По правую, по левую руку — разбойники. Один каким-то чутьем уловил, что рядом с ним распят Некто, Который не подобен ему, Который чист, Который свят и к Кому он обратился с мольбой о том, чтобы Он его спас. И другой разбойник, который еще был слеп, страдания которого, ужас перед смертью не дали ему — как это страшно сказать — заметить, Кто с ним распят. А вокруг какая толпа? Подумайте об этом. Мы сейчас идем к Страстной седмице, поэтому можно и на этом остановиться ненадолго. Какая толпа?
У самого Креста — Пречистая Дева Богородица, отдающая Своего Сына, единственная из Матерей израильских, Которая, как я вам говорил, Своего Сына отдает в откуп ради смерти и страдания многих. И молодой ученик Христов Иоанн, который был способен просто любить, понимать, но понимать сердцем, понимать всей жизнью своей. А вокруг, у подножия, — воины, которые распинали преступников, и толпа, страшная толпа, которая пришла посмотреть, как умирают люди. Мы этого не знаем, но я помню, как во Франции, когда я еще был юношей, когда совершалась смертная казнь, двери тюрьмы открывались и народ имел право присутствовать при том, как под гильотиной умирал преступник. И люди приходили посмотреть, пережить то, чего они себе и представить не могли. Так и в этой толпе были люди, которые пришли посмотреть, как умирает человек, что значит собой умирание, каково ему будет умирать в какой-то день. Были другие люди, которые радовались о том, что сейчас Христос погибнет, умрет, — не потому что они Его лично ненавидели, а потому что Его проповедь для них была слишком страшна. Да, проповедь о той любви, о которой говорил Христос, о любви, которая себя отдает, всю жизнь и всю смерть свою отдает за любого ближнего, которая является абсолютным требованием Евангелия, — как она страшна! И нам страшна, а людям, которые еще не познали Христа как своего Учителя, Наставника, Спасителя, Бога — как это было страшно! Сколько приходило людей, думая: Его распяли. Если Он умрет, то, значит, Он был не прав, и эта Его проповедь о беспощадной любви, о любви, которая пощады не знает по отношению к тому, кто любит, эта проповедь сгинет, мы ее можем забыть, мы можем вернуться к обычной жизни. А еще другие радовались, что умирает преступник.
Божия Матерь стоит в этой страшной толпе, шумной, взволнованной толпе. У самого подножия Креста — совершенная тишина безмолвного внутреннего молчания Божией Матери и ученика, ученика, который по любви соумирает со своим Спасителем и Учителем, и Матери, Которая в единстве воли, исполняя то, для чего Она Его родила благодатью Святого Духа, Своего Сына отдает на смерть. Она не борется, Она не кричит о помощи, Она безмолвствует в единой воле с Ним. Он Себя отдает по воле Отчей, Она Его отдает как Мать, в единстве воли с Ним и с Небесным Отцом.
И Христос умирает, и Его снимают со креста. И Божия Матерь теперь снова Его берет в объятия, Он снова лежит у Нее на коленях, как Он лежал Младенцем, предназначенным к смерти. И Христа хоронят. И Божия Матерь по слову Христа идет вместе с учеником Иоанном в его дом и там будет ему Матерью, а он будет Ей сыном. Сколько непостижимой любви и непостижимой веры во Христа нужно для того, чтобы Божия Матерь кого-то иного приняла как сына на земле, потому что Ее Сын, Сын Божий теперь за пределом земной жизни и за пределом смерти.
И дальше одно, последнее. После Своего Воскресения Христос явился Своим ученикам и Богородице. Их страх, их ужас: что же случилось? Неужели все, о чем им говорил Христос, разбито, Он побежден, Он жил как бы иллюзией о Себе и о будущем? — все это снято: Он жив, Он жив! Все теперь истинно. Но до конца они все это могли воспринять, понять только после того, как сойдет на них Святой Дух. Христос — Слово Божие. Он учил, Он учил словом, Он учил примером, Он учил как бы обликом Своим, и образом Своим, и словами Своими, но понимание, приобщенность до конца не только к Его мысли, но к тому, что Он хотел им передать, они могли воспринять только благодатью Святого Духа. И через короткое время, пятьдесят дней спустя, Дух Святой сошел на апостолов.
Есть иконы, где сошествие Святого Духа изображено как сошествие огненных языков на каждого ученика и на Божию Матерь. Но эта икона в каком-то смысле неверная, потому что по учению Церкви Божия Матерь не была там в тот момент, и не случайно. И вот что мне кажется таким важным, почему я упоминаю об этом: Она не нуждалась в сошествии Святого Духа для того, чтобы все понять, все воспринять. Дух Святой сошел на Нее, Деву непоколебимой веры, неколеблющейся верности, когда архангел Гавриил Ей возвестил рождение Христово и когда Она, по слову святого Григория Паламы, сделала это рождение возможным, сказав: «Да будет Мне по воле Божией». Она уже была преисполнена Святого Духа, ученики нуждались в этом даре.
И затем — последнее, относящееся к Божией Матери: это Ее успение, то есть то, что когда пришло Ей время отойти от всего земного, Она умерла. Умерла, как всякий человек, умерла, как Христос умер, но Она умерла не так, как мы умираем, в том смысле, что Она уже была преисполнена вечности, Она была едина с Богом, преисполнена Духа Святого. Смерть Она была должна пережить, пройти через нее, потому что Она — человек. Как всякий человек, Она должна была пройти через опыт окончания земной жизни. Но Она уже принадлежала и раньше не только к земной жизни, но и к вечности, в Ней жил Святой Дух, жила сила Божия. И на третий день после Ее похорон, когда открыли снова Ее гроб для того, чтобы один запоздалый ученик мог проститься с Ней, оказалось, что гроб Ее пуст. И было открыто им, что Она не только духом Своим, но и телом была вознесена в вечность, в Царство Божие. Так же как и Христос не только духом Своим, но и плотью Своею вернулся в недра Отца Своего Небесного.
Вот мысли, которыми я хотел с вами поделиться о Божией Матери. Почитайте Евангелие, подумайте, а главное — молитесь Ей, молитесь Ей, потому что такой любви, какую Она проявила, вы не встретите нигде. На этом я закончу сегодняшнюю беседу. Помолчим немножко, и унесите с собой хоть что-нибудь, и простите меня, что я не могу передать вам большее.
Хочу еще раз остановиться хоть коротко на Божией Матери, на этих царских вратах, через которые Христос, вступивший в мир через врата Благовещения, возвращается в алтарь и как бы в символическом, иконном виде Хлеба и Вина кладется на престол, который является тоже местом заколения. Я вам уже сказал, что без соизволения Божией Матери не было бы возможно воплощение, как оно было невозможно без воли Отца. Она — Дверь небесная. Но как страшно думать, что Она — та дверь, благодаря которой, через которую Сын Божий стал Сыном Человеческим, Бог, Слово вошел в мир, и одновременно Она является теми вратами, через которые Христос идет на заколение.
Хочу упомянуть и нечто другое. Когда мы читаем в начале Евангелия от Матфея и от Луки родословные Христовы (Мф 1:1—16; Лк 3:23—38), мы видим ряды и ряды имен людей, которые все были предками Матери Божией. Они святыми в полном смысле не были так, как Матерь Божия была действительно свята, но каждый из них отдавал всю свою жизнь, всю свою веру, все свои силы, сколько их было, Богу. Они оставались грешными, из Ветхого Завета мы это видим явственно, но каждый из них побеждал в себе нечто от греха и передавал следующему поколению человеческую природу, очищенную хотя бы от одного какого-то греха, или поползновения, или вожделения. И все эти поколения, очищая человеческую природу, родили Матерь Божию, в Которой не оставалось больше той греховности, которая помешала бы воплощению. Она — наследница всей веры, всего подвига, чистоты всех предыдущих поколений. В Ней все поколения нашли свое завершение.
Это должно нас заставить подумать о том, какое значение имеет в нашей жизни наследственность. Мы всегда думаем о наследственности в каком-то отрицательном смысле: мы унаследовали от прародителей и от предков греховность, слабость и все то, что связано с этим. Часто мы видим, что от предыдущих поколений мы унаследовали те или другие дурные навыки или поползновения, но также и добрые, светлые начала. Каждый из нас является наследником всех предыдущих поколений, каждый из нас несет в себе и светлое, и темное прошлое этих поколений и каждому из нас доверено будущее, потому что в зависимости от того, очистим ли мы наше наследие, или усугубим его греховность, или оставим его нетронутым, мы оправдаем или не оправдаем то или другое лицо в нашем прошлом.
Мне вспоминается встреча с одним человеком, который мне сказал: «Я не могу понять, что со мной делается: во мне поднимаются такие-то и такие-то искушения. Они мне совершенно жизненно чужды, я не понимаю, откуда мне приходят эти мысли, эти чувства. Что мне с ними делать?». Я тогда этому человеку посоветовал: «Сядьте и попробуйте вспомнить одного за другим своих близких и дальних предков, и поставьте перед собой вопрос: нет ли среди них такого, в котором качествовало то, что вас сейчас мучает, или озадачивает, или старается осквернить?». Этот человек через некоторое время пришел ко мне и сказал: «Знаете, я задумывался, и вдруг вспомнил одного из своих близких предков, в котором жили все искушения, которые сейчас меня разрывают и которые мне лично чужды. Я уверен, что я их унаследовал. Что мне делать?» — «Победить! Если вы победите их в себе, то вы освободите своего предка от его греховности». Прошло время, и этот человек ко мне пришел и сказал: «Я боролся молитвой, подвигом, верой, криком к Богу, любовью к этому человеку, и вдруг все это прошло. И мне стало ясно, что я победил — не для себя, потому что это были не мои искушения, но для этого человека».
Так может задуматься любой человек, если, посмотрев на себя, увидит, что есть в нем греховные поползновения, которые явно принадлежат ему, а есть такие, которые его делают как бы наследником других людей. И надо тогда бороться изо всех сил, для того чтобы победить не только собственную греховность, но унаследованную. Но надо помнить тоже, что мы являемся наследниками не только греховности, что мы можем с благодарностью, с благоговением, с любовью, с нежностью думать о тех предках наших, которые передали нам такое богатство! Это может быть ум, это может быть чуткость, это может быть любовь, это может быть мужество, все добродетели, вся красота человеческая, которая в нас может быть хотя бы зачаточно, — и их благодарить за это.
Так же и Божия Матерь явилась наследницей всего подвига человеческого рода для очищения себя и для того, чтобы принадлежать только и всецело Богу — и оказалась именно такой, Той, Которая настолько была освящена, очищена, что Она смогла открыться Богу до самых глубин и стать Местом Боговоплощения.
Литургия после Литургии
Я хочу сегодня с вами поговорить снова о Церкви и о взаимных отношениях, о взаимном положении разных ее членов. О Церкви я говорил, и не раз, но эта тема такая всеобъемлющая, такой широты и глубины, что иногда хочется еще что-то сказать о ней — так она дорога, так драгоценна. И вместе с этим она вызывает такой трепет, когда задумаешься о ней не так, как мы обыкновенно ее переживаем: как о месте, куда мы приходим молиться за богослужением, а по ее глубинному существу.
Церковь — Богочеловеческое общество. Этим сказано так много трепетного, страшного. Что она человеческое общество — нам известно, нам просто понять, но думать, что она Богочеловеческое общество, что вся полнота Божественного присутствия в ней находит свое место действия и что мы, мы являемся этим местом действия Божественного, как-то страшно. Да, Церковь — это мы: грешные, слабые, слепые, колеблющиеся твари, которые услышали зов Христов и вострепетали душой, всеми глубинами, способными отозваться на Божий зов, на Божию любовь, на Божие присутствие. И это не обязательно требует какой-то особенной возвышенности духа, это требует восприимчивости. Любимым может быть человек, не заслуживающий любовь, но способный отозваться на любовь, которую ему дают как подарок, незаслуженно, с трепетной благодарностью, со слезами, с изумлением. И вот таково наше положение в Церкви: мы любимы Богом.
И даже если мы знаем, что недостойны этой любви, что мы ничем не можем ее заслужить, мы можем ей открываться все больше и больше, слезно, любовно, чтобы она была нами воспринята и нас преображала, потому что ничто так не может кого-то преобразить, как любовь, будь то Божественная или даже человеческая. В нашем лице Церковь является обществом людей, из которых никто не совершенен. Доходят до какой-то грани совершенства святые, но и они в свое время должны войти в такую полноту богообщения, которая на земле непостижима даже святому. Но Церковь может быть Богочеловеческим обществом, конечно, не потому что мы богоизбранные, или открылись Богу, или подвигом всего существа делаемся близкими, сколько-то достойными Божией любви. Церковь — Богочеловеческое общество, потому что первый Член Церкви — Богочеловек, Господь наш Иисус Христос. Это Бог, Сын Божий, Который стал поистине Человеком, оставаясь полностью Богом. И вместе с Ним к нам приобщается, пронизывая нас благодатью и новой жизнью, вся тайна Святой Троицы. Вся тварь, все Богом созданное во Христе себя узнает: это — я, каким я призван стать, каким я призван быть в вечности. Это — я, который передо мной раскрывается во всей полноте и дивности святости. И вся тварь, которая не согрешила, но порабощена греху через человеческую греховность, может так смотреть на воплощенного Христа и ликующе, трепетно себя зачаточно узнавать.
Но кроме того, и человек приобщается ко Христу, потому что Христос воплощением Своим стал Человеком. И в этом отношении всякий человек Ему родной и для каждого человека Христос свой, родной. Мы не можем судить о том, в какой мере тот или другой человек далек или близок к этому Христоподобию, к этой похожести или близости ко Христу. И благодаря воплощению, благодаря подвигу Сына Божия, Которого Отец послал на смерть, потому что такова Его любовь к Его твари, что Он Своего Единородного Сына послал на смерть, благодаря воплощению Христа, Его жизни, Его смерти, Его Воскресению открылся путь Святому Духу излиться на всю тварь, в первую очередь на тех, которые делаются сознательно, свободным выбором — Христовыми, но и на всю тварь, побеждая во всех отчуждение от Христа и Бога, раскрывая в каждом человеке те глубины, которые Бог создал и которые только Он может раскрыть. И во Христе и Духе Святом мы приобщаемся непостижимым образом к Отцу, и только через это, потому что мы, как Христос Сам выразился, братья и сестры Христовы, можем в молитве Господней назвать Его Отца — Отцом нашим: Отче наш. Наш, не только нас всех, людей, но нас и Единородного Сына Божия. Мы потому можем Его называть Отцом, что Христос по Своему собственному выбору стал нашим Братом.
И таким образом, Церковь является тем Богочеловеческим обществом, в котором живет полнота Божества, живет и человечество и в святости своей, и в подвиге своем, и в греховности своей. Кто-то из писателей говорил о Церкви, что она подобна купине неопалимой, которую Моисей видел в пустыне, то есть тому кусту, который горел и не сгорал (Исх 3:2). Этот куст горел, но не вещественным, снедающим огнем. Он горел Божественным огнем, который превращает в Божественное все то, к чему прикасается. Этот куст горел, и к нему приблизиться Моисей не имел право, не сняв обувь свою, потому что даже земля, где рос этот куст, была святая, освященная Божественным огнем, которого носителем являлся куст.
В этом смысле Церковь является купиной неопалимой. Она в целости своей пронизана Божественным огнем, горит, и светит миру, и согревает мир, и не только то небольшое расстояние, которое отделяет человека или другую тварь от Божественного огня, охватившего этот куст. Тепло, жар, свет идет дальше, дальше, нет такого места во вселенной, которое не пронизано в той или другой мере этим светом и этим огнем. Такова Церковь, и мы — члены этой Церкви, и мы призваны, каждый из нас, быть как бы веточкой этого неопалимого куста. Как Христос говорит: Я — Лоза, а вы — ветви (Ин 15:5). Он является этой неопалимой купиной, хотя мы не видим этого сияния, мы не ощущаем этого огня, пока не вырастаем до такой меры приобщенности Богу, что этот огонь нас пронизывает, и свет делается нашим светом, светом в нас. Вот что Церковь представляет собой.
И каждый из нас в этой Церкви имеет свое место, но место, которое не определяется высотой или низким уровнем нашего положения, потому что, святы мы или грешны, как бы низко мы ни пали или как бы высоко нас ни подняла благодать, мы также полностью любимы Богом, любимы всей жизнью и всей смертью Христа Спасителя, любимы всей любовью Отца, Который не поколебался собственного Своего Единородного Божественного Сына послать на смерть через воплощение. И эта Церковь очень своеобразная, потому что все мы являемся членами, удами Тела Христова (1 Кор 12:27), каждый из нас через веру, через Крещение, через Миропомазание, через Приобщение Святых Тайн является физическим присутствием в мире воплощенного Христа. И как мы должны относиться к себе, к своему телу, которое является телом воплощения, к своей душе, которая должна воспринять Христа до самых глубин своих, ко всей своей жизни, в которой мы призваны быть присутствием воплощенного Христа в мире. Мир нуждается в спасении, и в мир мы приносим нашу готовность умереть за него, умереть за ближнего, умереть за грешника, не только наподобие Христа, но через воплощенность Христа в нас самих. Это — Церковь. Вы народ святой, взятый в удел, — говорит Послание (1 Пет 2:9). «Святой» это не значит, что каждый из нас уже свят, но — Богу посвященный, подаренный Богу верой родителей или отдавший себя Богу своей верой. Язык свят, народ Божий, царское священие… Что же это значит? Это значит, что мы призваны быть в этом мире как священники, все без исключения, которые освящают все, чего касаются, освящают все, что составляет их жизнь, и через свою жизнь освящают, делают святой жизнь других людей. Подумайте о Серафиме Саровском, о Сергии Радонежском, об апостолах Христовых: как они приобщали к святости всех тех, кто их окружал.
Но царское священие имеет еще одно значение, трагическое. Василий Великий сказал (и это уже я вам повторял не раз, но не устану повторять, потому что это так важно), что всякий может управлять, но только царь может свою жизнь отдать за своих людей. И мы в целом, в совокупности нашей со Христом, Который является Одним из нас, являемся этим царским священством, являемся тем телом, и той душой, и тем человечеством, которое свою жизнь, всю свою жизнь готово отдать для спасения мира. В этом смысле у нас царственное достоинство, которое определяется не властью, а жертвенностью.
И в этой Церкви мы все равны, хотя у всех есть различное дело к исполнению, но в основе то, что каждому из нас положено выполнить, сотворить, — это выражение одного и того же: освящение себя и всего мира. Как это страшно, как это дивно, как это вдохновляет! Разве с таким призванием можно оставаться безразличным к тому, для чего нас Бог послал в мир? Как это дивно! И с какой благодарностью мученики умирали, святые брали на себя непостижимый для нас подвиг, и люди, порой незаметные, жили жизнью, в которой безгранично царствовала любовь жертвенная, ликующая в своей отдаче себя другим и для других.
Есть место в Евангелии, где Христос говорит: Если кто из вас хочет быть большим, пусть будет всем слуга (Мк 10:43). И я помню, как отец Софроний мне как-то говорил, что Церковь — ни на что не похожее общество. Она стоит, как пирамида, но острым концом вниз. Острый конец, на котором покоится вся пирамида, — это распятый Христос, затем идут апостолы, идут святые, идут подвижники, и все дальше, дальше, дальше ширится эта пирамида, содержа и охватывая нас всех. И как дивно думать, что именно на самом низу, в самых ее глубинах — Божественная любовь, которая все несет как бы на плечах. Древнее изображение Христа было в образе пастуха, который несет на плечах свою овцу: вот так Бог несет нас всех, весь мир, и так каждый из нас призван на своем месте, в свою меру, на своих плечах любовно, жертвенно нести каждого, всех, все.
И это не роль священника как такового, потому что мы все в этом смысле — царственное священство. Я говорил уже о таинствах, что не священник творит таинство, потому что таинство, внедрение Божественного в тварное, превращение хлеба в Тело Христово, вина — в Кровь Христову, освящение елея, чтобы он стал носителем благодати Святого Духа, никакой человек ни святостью своей, ни верой своей не может совершить. Но он может своей верой, своей отдачей Богу, как бы становясь прозрачным для Божественного действия, сделать видимым для всех то невидимое, что совершает Господь. Как это дивно! Но вместе с этим как священник должен ощущать свою всеконечную немощь, то, что он ничего не только не может совершить, но не совершает, что полнота Церкви в нем и через него призывает Духа Святого, обращается к Богу и Отцу, молит Сына Божия, чтобы совершилось невозможное, чтобы уже теперь тварь достигла того, к чему она призвана в вечности, — приобщенности к Богу!
И тут я хочу сказать нечто, может, немногое, но что мне кажется важным, о должности, о роли священника. Я вам только что сказал, что священник в совершении таинств делает видным, делает слышным то, что совершается в глубинах Божественного безмолвия. Когда освящаются Святые Дары, священник молит о том, чтобы Дух Святой сошел на хлеб и на вино. Он молит Христа о том, чтобы Он совершил это таинство. Тем самым священник дает возможность и себе, и другим слышать и видеть.
Но я хочу сказать нечто об исповеди, потому что это тоже таинство, к которому мы все прибегаем в надежде на обновление жизни, на преображение жизни нашей. Нередко люди приходят к священнику на исповедь с мыслью, что страшно к нему прийти, что он может осудить, что он может отвергнуть, что он может не понять, что он может отказать в прощении. Нам надо помнить, что в исповеди мы не приходим к священнику, а приходим к Спасителю, ко Христу. Се чадо, Христос предстоит перед тобой, слушая исповедь твою, я же только свидетель. Что это значит? Это значит, что исповедь нашу мы приносим Христу лично, и только Ему, и что священник присутствует как свидетель.
Что такое свидетель? Есть разные свидетели. Когда бывает несчастный случай на улице и бывает опрос, свидетель говорит то, что он видел, он и не за, и не против того или другого лица, который связан со случившимся. Ему все равно, кто прав, кто виноват, он только говорит, что сам видел. Есть другой род свидетеля: свидетель на суде, который говорит за виновного или против виновного. И есть третий род свидетеля — это тот, кто призван соучаствовать как самый близкий, дорогой, доверенный друг в событии, которое совершается над другими людьми. В браке быть свидетелем — значит быть самым близким человеком жениху и невесте, которые хотят, чтобы он с ними участвовал в этом чуде, в этой радости, которая ни с чем не может быть сравнима. Друг жениха — в древности это был человек, который был самым близким человеком жениху и невесте и который приводил их к брачной комнате, в брачные покои. Он их вводил в эти покои, закрывал за ними дверь и ложился через порог, чтобы никто не мог нарушить тайну этой встречи жениха и невесты. Это друг, который умел всецело отдать себя жениху и невесте, оставаясь вне их встречи и вместе с этим оберегая ее, как святыню.
Такова роль и священника. Он стоит и слушает, да, он слушает, он слушает то, что человек в своей исповеди говорит Христу, Ему одному, только Ему. И мне кажется — и это меня поражало несколько раз, — что правило, которое Церковь установила, что ни священник, ни исповедующийся не должен после исповеди говорить другим людям о том, что было сказано или слышано, имеет глубинное значение. Исповедь — это таинство встречи человека на самых глубинах его жизни и души со Христом, на той глубине, в которую сила дьявольская, зло не имеет доступа. Силы зла, силы ада не могут услышать этой исповеди. Она происходит между Богом и человеком на глубинах, куда никакая тварь не может проникнуть. И священник стоит трепетно, благоговейно, слыша слова, видя слезы или соучаствуя с ужасом в непокаянности человека, и молится, молится о том, чтобы этот человек нашел себе путь к Богу, потому что Христос стоит тут, открытый ему, как рана открыта.
Есть место у апостола Павла, где он нам говорит, что мы соединены со Христом, как веточка соединена с деревом (Рим 11:17—24). Подумайте, что это значит. Это значит, что садовник обходит свой сад и видит умирающую веточку, которая больше не способна свою жизнь получать даже от плодородной земли, в которой она растет. Садовник хочет дать ей жизнь, которую никто у нее уже отнять не сможет. И он делает нечто очень страшное: он ее отрезает от корней, жизнь течет как бы из нее, веточка с ужасом чувствует, что уже настала окончательная смерть. Но садовник подходит к животворному дереву и тем же ножом, которым отрезал веточку, врезается в плоть этого дерева, и веточку погружает в эту рану. Он соединяет умирающую веточку с живоносным телом живого дерева, и эта веточка начинает оживать не своей жизнью, не жизнью земли, которая ее временно питала, а жизнью этого дерева, Древа жизни.
Именно это совершается на исповеди: человек приходит и как бы отрубает себя от всего того, что его питало даже такой жизнью, после которой только умереть можно. И священник помогает своей молитвой, и своим состраданием, посильной любовью — потому что кто из нас умеет любить по-настоящему праведного или грешника? — погружает грешника в любовь Христову. Вот что совершается между священником и исповедующимся. А затем совершается еще и другое. Часто бывает, что кроме этого чуда встречи, которую исповедующийся не всегда способен пережить до глубин, ему нужно наставление, нужна помощь, нужно слово, братское слово, слово на его (ее) уровне. И тогда священник должен нечто сказать. И бывает разно: иногда, когда он слушал, он пережил не только то, что говорил исповедующийся, он пережил также нечто исходящее от сострадания Христова, от любви Христовой, и он может обратиться к исповедующемуся и ему порой сказать об этой любви, которую он пережил. А порой он может сказать и другое: Бог мог ему открыть через это приобщение к Своей любви какую-то долю понимания, и он может дать совет, который от Бога исходит, а не его собственная выдумка или собственный опыт.
Но не всегда так бывает. Священник не всегда на этом уровне приобщенности к Богу, углубленности в молитву, сострадания, любви, и порой бывает, что он может только сказать: «Непосредственно, чудодейственно я от Бога тебе сказать не могу ничего, но могу тебе сказать, что я узнал из чтения Евангелия, из долголетней молитвы, из приобщенности к таинствам, из совершения богослужений, из общения с людьми большими, чем я. Я тебе скажу». И это он может сказать. Это уже не откровение от Бога, но это может быть откровением, которое Бог дает через человеческий опыт.
А иногда бывает, что священник ничего сказать не может. И тогда он должен быть правдив до конца и сказать: «Я всей душой тебя слушал, у меня душа разрывалась, а сказать тебе во спасение я не умею ничего. Я буду о тебе молиться. Я тебе дам от имени Христа прощение, которое ты получишь в меру твоего раскаяния, твоей готовности стать Христовым, а ты вырастай в новую меру».
И это бывает между священником и исповедующимся, но бывает еще шире, потому что народ, который присутствует на исповеди, не смеет просто стоять и ждать с нетерпением, когда же кончится исповедь этого человека для того, чтобы я мог свою исповедь сказать. Другие люди, которые пришли на исповедь, должны молиться всей душой о том, чтобы исповедь того человека, который сейчас исповедуется, была истинной, подлинной исповедью, и всей душой сострадать, соучаствовать в этой его исповеди, не ожидая ее конца, а ожидая ее завершения в новой жизни для исповедующегося. Тогда исповедь делается подлинно исповедью. Это встреча со Христом, которую ничто не может заменить, но это одновременно встреча с Телом Христовым, со всеми, которые стали Христовы и в которых живет Христос, в которых живет сострадание, в которых живет любовь. И так надо учиться стоять и ожидать свою очередь в исповеди, участвуя молитвенно, сокрушенно, с надеждой, с любовью в исповеди того, кто исповедуется и чьих слов мы не слышим, но видим тайну встречи.
Исповедь должна завершаться решимостью переменить жизнь, но не всю. Никто не смеет сказать: «С этого дня я буду жить совершенной жизнью». И священник разумно может сказать: «Вот теперь ты мне сказал о своих грехах. Ты подумай, что из этих грехов тебе доступно победить. Все сразу ты победить не можешь. Есть греховность в тебе, которая превышает твои силы, но есть грехи, которые ты можешь победить вот сейчас, теперь». Я вам дам пример. Ко мне много лет тому назад пришел человек, и вся его исповедь заключалась в том, что он в долг берет деньги у своих друзей и не отдает. А потом он стал на колени с готовностью получить разрешительную молитву, и я отказался ему давать. Я сказал: «Ты вернись домой, собери деньги, которые ты взял у других людей, и отдай, а потом приди получить разрешительную молитву». Это такой грубый пример, но часто бывает, что, придя исповедовать свои грехи, мы можем сказать: вот это и это я могу исправить уже теперь, — и исправить. А есть другие вещи, которые должны стать как бы программой нашей жизни до следующий исповеди, на которые мы не получаем прощение как бы потому только, что мы исповедовались, потому что оплакивали свою греховность, потому что мы сознаем свою греховность. Что-то должно измениться в нас, чтобы эта греховность стала для нас уже невозможной: после того, что я пережил, никогда больше этого я сказать или совершить не могу… Вот подумайте, когда вы приходите на исповедь, с чем вы приходите, с какой готовностью, и начинайте новую жизнь, унося с собой новую задачу.
К исповеди многие готовятся по списку грехов. Это никакого смысла не имеет, потому что списки без конца. Понимание наше этих грехов очень ограничено. Ко мне приходили люди с такими списками. Я их спрашивал: «А вы знаете смысл этого слова?» — «Нет, не знаю» — «Почему же ты исповедуешь?» — «Потому что, раз это грех, я наверно его совершил». Это насмешка над добром и злом, это оскорбление Богу: не все ли мне равно, чем я грешу перед Тобой, достаточно Тебе, чтобы я вычитал этот список… Нет, надо исповедовать свою жизнь, свою греховность. А для этого самый простой способ — это читать Евангелие и отмечать — на этом я настаиваю — те места, от которых свет пронизывает твой ум, сердце горит, воля твоя делается прямой, доброй, Божьей, этот свет все твое существо, даже тело твое пронизывает. Это значит, что в этом слове, в этой заповеди, в этом образе, который ты прочел, ты и Христос оказались заодно, ты и Он заодно, и что если ты будешь нарушать то, что сейчас пережил, это значит, что ты будешь нарушать то, что уже есть между тобой и Христом общего, отрекаться от того, в чем ты уже — образ и подобие Христа. Вот это надо отмечать. Если против этого согрешишь, надо каяться, каяться как в глубинной, основной измене и себе и Богу. И тогда эти грехи надо приносить на исповедь, потому что они серьезные, они говорят об измене, о нарушении единства со Христом.
Есть другие вещи, как бы меньшие, в которых мы сознаем себя греховными и в которых мы можем каяться, но это — основное. В остальных вещах, да, мы должны каяться. И священник — не судья, а сострадатель. Он свидетель не безразличный, он человек, который в свою душу, как раны, принимает каждое слово твоей исповеди, он будет этим жить, каяться за тебя. Я помню, как я раз пошел на исповедь к священнику, которого даже не очень уважал, — у него была трагичная жизнь в молодости, и он в результате этого пил. Я у него был на исповеди, потому что нашего приходского священника посадили в тюрьму немцы во время оккупации. Я ему открыл всю свою душу, и он стоял и плакал — не пьяными слезами, а слезами сострадания. И когда он кончил, он мне сказал: «Ты знаешь, что я собой представляю, знаешь, что я не достоин тебе дать совет, но ты взгляни на меня. Ты еще молод, у тебя жизнь впереди. Ты теперь каялся, сделай все возможное, чтобы не стать таким, каким я стал». И это самая потрясающая исповедь, которую я в жизни приносил и заключение которой я слышал. Поэтому, когда будете приходить на исповедь, приносите то, о чем я сначала сказал, то, в чем ваше единство со Христом было вами нарушено, то, что запачкало ваше единство. И затем есть и другие грехи, о которых вы знаете, но о которых вы не переживаете: покайтесь в том, что вы их знаете, но пережить не можете. И тогда ваша исповедь будет глубинная, раздирающая душу и плодотворная. И это вам позволит стать все глубже и глубже Телом Христовым, потому что Тело Христово не из святых состоит, а, как говорит, кажется, Ефрем Сирин, общество грешников, кающихся перед Богом. Будем таким обществом, и Христос нас спасет.
Простите за длину этой беседы, но я хотел закончить ее и не возвращаться к этому. А теперь помолчим немножко, помолимся и разойдемся по домам — как Церковь.
До сих пор мы говорили все время о том, что представляет собою Церковь и что в ней происходит, Церковь в самом глубоком и истинном смысле как сообщество Бога — Отца, Сына и Святого Духа со всей Его тварью, с ангелами небесными, со святыми, с грешниками, с теми, которые так или иначе неисповедимыми путями Божиими Его встретили. И, с другой стороны, я вам говорил о том, что храм (уже не Церковь, а храм) является таинственным местом встречи между нами, которые, как мытарь, приходим к Богу, говоря Ему, что мы недостойны переступить этот порог, потому что это место святое, место Ему посвященное, место, которым Он обладает до конца. И кроме того, о Церкви, может быть, дерзновенно, но с глубоким чувством убеждения я говорил как о месте прибежища, как убежища Божьего на этой земле, в этом мире, где многие Его сознательно отвергают и где нет Ему места. Церковь — место, где мы, слабые, хрупкие, нуждающиеся в Божественной помощи, Ему предоставляем дом, где Он может жить свободно на земле, которая отчасти у Него отобрана.
Но сегодня я хочу говорить о другом. Вы знаете, что слово «Литургия» обозначает «дело народа Божьего». И это дело народа Божьего глубинно, спасительно совершается в храме, когда силой Духа Святого, силой Христа Спасителя совершается таинство, которое меняет и преображает нас, грешных, недостойных Божественной любви, но кому Божественная любовь подарена. И меру этой любви мы видим в том, что Сын Божий стал Человеком, жил как Человек и умер за нас. И меру любви Божией мы постигаем, как я уже говорил, в том, что Отец Своего Единородного Сына послал на смерть для того, чтобы спасти человечество, которое изменило Ему и своему собственному призванию и этим завлекло весь тварный мир в то трагическое, порой очень страшное состояние, в котором он находится.
Но Литургия есть, как я только что сказал, дело народа Божьего. И это дело народа Божьего не заключается только в том, чтобы прийти в храм с сокрушенным сердцем, как мытарь, как блудница, как Мария Египетская, прося исцеления, просвещения, спасения, милости Божией, приобщенности к Нему. Дело народа Божия должно простираться и вне храма. Есть выражение, которое сейчас вошло в обиход западных Церквей и отчасти и Русской Церкви: «Литургия после Литургии». Литургия как дело народа Божия, после того как совершилось таинственное делание, где народ Божий и Господь преображают нечто в храме. И в чем же заключается эта «Литургия после Литургии»? Вы наверно помните слова Христа о том, что Он Своих учеников послал в мир для того, чтобы всему миру принести Благую Весть, чтобы весь мир узнал, что он так любим Богом, что Бог стал частью этого мира ценой собственной смерти, и ценой Своего Воскресения нам открыл путь вечности. Христос нас послал в мир, чтобы всем, всем рассказать о том, как мы любимы Богом, — не мы, малое стадо, а весь народ Божий, весь мир, вся тварь. И это — наша задача.
Но как я уже говорил не раз, эту задачу мы можем выполнить, лишь постольку поскольку, глядя на нас, видя, как мы живем, и познавая нас по-новому, с новой глубиной, люди могут сказать: «Да, Бог совершил чудо над этими людьми. Эти люди во всем подобны нам, и однако похожи на Бога, Которого они исповедуют. Это люди живые». Люди, которые нас встречают повсеместно, должны были бы, глядя на нас, видеть что-то, чего они никогда не видели: мир небесный, собранность духовную, такую, которая позволяет человеку своими глубинами уходить в Божии глубины. Когда они слышат наши слова, это должны быть слова жизни, обыкновенные, простые слова, но звучащие, как песнь небесная.
Апостолы пошли на проповедь, они обращались ко всем. Одни люди их принимали, другие отвергали, но апостолы не останавливались на этом, они продолжали говорить о том, что Бог совершил над ними, чем они стали. Вы наверно помните рассказ о том, как Павел шел из Иерусалима для того, чтобы начать гонение на христиан, и встретил на пути в Дамаск Самого Христа (Деян 9). И после этого вся его жизнь заключалась в том, чтобы со всеми делиться тем, что он тогда пережил, всем сказать, что он познал о Христе и через Христа о Святом Духе и об Отце, и о человеке, и о мире, об ужасе падения и о чуде искупления. Так и другие апостолы ходили по миру, и после них тысячи, тысячи верующих делились со всеми, кто их окружал, этой верой, этим опытом, этой встречей со Христом, делались подобными хоть малой двери, через которую люди могли вступить в новый мир, не какой-то внешний мир, а в мир собственной души, в собственные глубины.
Поэтому тот мир, который вне пределов храма, нам не может быть чужд. Это мир, куда пришел Христос, это мир, который Христос так возлюбил, что стал Человеком, Всечеловеком, это мир, куда Он нас посылает вестниками. Как часто христиане отрицательно относятся к миру, который их окружает, как часто мы боимся этого мира, или чуждаемся его, или видим в нем как бы заразу, которая может нас осквернить, внести смерть туда, куда Сам Господь внес жизнь. Это не так. Мир, который лежит за пределом храма или за пределом невидимой Церкви, того Богочеловеческого общества, которым Церковь является по существу, — этот мир Богу дорог. И мы посланы в этот мир. Это страшно важно, это — наша задача. Проще всего было бы идти в этот мир, ожидая, что мы будем встречены восторженной радостью людей, для которых новая весть о Христе открыла ум, и глаза, и сердце, и новую жизнь, но это не так просто. И не напрасно Христос сказал своим ученикам: Я вас посылаю, как овец среди волков (Мф 10:16), — как овец, беззащитными. Приносите людям все самое светлое, самое чистое, самое святое, что только вы знаете, и помните, что они могут это не воспринять, они могут это отвергнуть, они могут и вас вместе с этим отвергнуть и возненавидеть за то, что вы приносите им весть, от которой колеблется вся их жизнь.
На Голгофе были первосвященники, были фарисеи, которые ликовали о том, что Христос, который вносил такое смущение в их среду, теперь умирает, что эта страница кончается, что Христа больше не будет, что можно спокойно вернуться к старому, к обычному «благочестию». Но был народ, и в этом народе некоторые надеялись, что хоть в последнюю минуту Христос сойдет со креста и тогда можно будет быть Его учениками без страха и без опасности. Были такие, которые мечтали о том, чтобы Христос не сошел со креста, чтобы можно было забыть об этом страшном Евангелии, страшном благовестии о любви, такой любви, которая требует, чтобы ты всю свою жизнь, всего себя до конца забыл и отдал для других и для Бога. Вот какая толпа была вокруг. И эта толпа продолжает существовать во всем мире. Одни ищут ответа, другие не хотят ответа, и мы посланы к ним, ко всем, ко всем, чтобы принести благую весть. Но благую весть сейчас словами принести нельзя: люди читают, люди слышат, они наслышались, они начитались. Они только тогда смогут поверить, если увидят, что ученики Христовы подобны Ему, что в нас, Его учениках, такая же любовь, такая готовность отдать себя другим — лишь бы они могли ожить.
Мне вспоминается молодой человек, который думал о том, становиться ему священником или нет, и который открыл Ветхий Завет, как он открылся, на 58-й главе Исайи, и прочел слова, которых там не было: «Отдай свою душу на растерзание голодному». Этого там нет. Три раза он читал это место, которое гласит: напитай душу голодного, но его глаза были закрыты к тому, что написано, и прочли три раза те слова, которые я вам упомянул. Вот к чему мы призваны: отдать свою душу голодному, не ставя перед собой вопрос, останется ли что-нибудь, уцелеет ли что-нибудь от моей души, от меня. Это не моя проблема, это Бог должен решать, что уцелеет или нет, а мое дело — отдать на растерзание, если нужно, или на ликующую радость, если человек отзовется и осчастливлен будет благовестием, которое мы приносим.
Но вне нашего храма есть еще другие проблемы. Во-первых, христианский мир разделился. Он с раннего времени начал разделяться. Но каким-то образом мы забыли нечто, что апостол Павел уже тогда говорил, что неминуемо будут разделения, но они будут для того, чтобы наиболее мудрые явились миру (1 Кор 11:19). Он не призывал изгонять одних и принимать других, он призывал всех искать истину. И если кто-то ее видит по-иному, вслушиваться в то, что он говорит, и поделиться с ним, делиться с ним тем, что сам знаешь. Это каким-то образом в течение столетий мы забыли. Вначале, когда проповедь была проста: о воплощении Сына Божия, о любви неиссякаемой, непобедимой, когда ответом мира был не спор, а мученичество, распятие, сожжение, обезглавливание верующих, тогда в каком-то смысле было просто. Но потом начались попытки нашу веру сделать понятной людям других воззрений, как бы облечь ее в философские, богословские формы, и тут начали углубляться разделения между христианами, до момента, когда настали подлинные разрывы. Некоторые исповедовали нечто о Христе, о Боге, что было неприемлемо для Евангелия, еще другие стали объяснять то или другое место евангельское по-своему, и случились расколы.
Я не буду вдаваться в историю этих расколов, у меня образования на это не хватит. Но я хочу только сказать о том, что писал об этом замечательный русский богослов Лев Александрович Зандер
[64], который жил в Париже и был одним из самых верных учеников отца Сергия Булгакова. Он написал, как он видит постепенное разделение христианского мира и как он видит будущее. Он говорит, что бывает так: два человека живут душа в душу, их не разделяет ни сердце, ни ум, все у них общее, и они ликуют в этом единстве. А потом у одного из них появляются мысли, которые он выражает не так, как другой их может понять или как другой бы их выразил. И это может дойти до момента, когда они чувствуют, что они стали чуждыми, чужими друг другу. И тогда, вместо того чтобы друг другу глядеть в глаза, вслушиваться в речь другого (а слово «другой» того же корня, как «друг»), они отворачиваются и в какой-то момент уже стоят спиной один к другому. И Зандер говорит: они еще как бы чувствуют бывшего друга спиной, но смотрят в противоположную бесконечность. И постепенно они уходят друг от друга, идут дальше, дальше и по дороге каждый из них строит более полно свои взгляды и свои возражения тому, что тот, кто был его самым близким другом, говорил и чего он не мог принять.
А потом проходит время, десятилетия, может быть, а, может быть, больше, и, разошедшись достаточно далеко, они задумываются: что стало с моим другом? Когда-то мы были так близки, жили душа в душу, нас разделили мозговые наши процессы, наши взгляды, наши формулировки. Что с ним сталось? Неужели он погиб? И тогда оба поворачиваются и смотрят вдаль. И вдали они человека еще не видят, они видят как бы статую, тень, и знают, что это он. Давай-ка я попробую подойти и посмотреть, что с ним сталось. И чем ближе они подходят, тем больше они друг друга узнают, потому что они не подходят с тем уже, чтобы спорить друг со другом, а чтобы узнать бывшего друга. Друг постарел, друг изменился, но они узнают друг друга, потому что их связывает неумершая любовь. И затем они доходят так близко, что могут начать разговаривать. И тут могут случиться две вещи. Они могут сказать друг другу: скажи, чему ты научился за годы, а то, может, столетия нашей разлуки. Или могут сказать: расскажи мне свои взгляды, и если они остались такими же неверными, как были изначально, я тебе доводы приведу против них.
Это то, что случилось с нашим христианским миром. Порой мы встречаем друг друга и дивимся, как за столетия разлуки мы все-таки познавали Бога все глубже и глубже, и можем поделиться драгоценным опытом, который приобрели в разлуке. Даже если во многом или в малом мы остаемся различными, разговор возможен. Мне вспоминается как Русская Церковь вступила во Всемирный Совет Церквей
[65] и за нас выступал тогда владыка Иоанн (Вендланд). Он обратился к инославным с короткой речью. Он поблагодарил за то, что они нас приняли, как братьев, несмотря на то что видели в нас людей таких чуждых, и прибавил: «Мы не приносим вам новую веру, мы приносим вам исконную христианскую веру, которую мы сохранили, но мы не сумели по ней жить. Примите от нас эту исконную веру евангельскую и принесите те плоды, которые мы не сумели принести». Это был дивный момент, потому что это были не нападки, это не было попыткой убедить в чем бы то ни было, это была речь о том, что мы сохранили нечто драгоценное, что мы приносим нашим братьям и сестрам во Христе.
Есть другой образ нашей разделенности и надежды на соединение — это образ леса. И я не могу вспомнить, вычитал ли я это или выдумал, но думаю, что так или сяк этот образ говорит о чем-то правдивом. Все деревья леса своими корнями уходят в одну и ту же живоносную почву, потом поднимается ствол, и он идет или параллельно другим стволам, или по каким-нибудь обстоятельствам клонится, но лес растет как бы параллельными стволами. Если бы деревья могли думать, они бы сказали: «Да, корни наши переплетены друг со другом, питаются той же живоносной жизнью, которую земля нам дает, а теперь мы растем врозь. Какой же выход?». И выход в том, чтобы вырасти так, чтобы ветви начали встречаться с ветвями, чтобы вершины слились в одно, как в лесу бывает: корни глубоки и едины, стволы поднимаются врозь, а если пойти дальше, выше, выше, то они соединяются в один лес. Вот к чему мы призваны в нашем христианском мире. Но для этого нам надо друг на друга смотреть и ставить вопрос: да, мы разделены столетиями или больше, скажи, чему ты научился за эти столетия? А я тебе скажу, чему я научился. Вступим в разговор, где мы поделимся не нашими взглядами, а тем, чему нас научил Дух Святой, Дух истины, Дух жизни… Вот тот путь, по которому за последние десятилетия шли различные вероисповедания. Мы не сумели еще слиться, мы все еще растем, как разрозненные стволы, но мы можем знать, что по мере того как мы рвемся к небу, мы одновременно возрастаем в единство сливающихся ветвей и листьев.
Но кроме этого есть еще целый другой мир, мир неверия, вернее, нехристианский мир. Как нам к нему относиться? Я сделал попытку за последние несколько лет почитать и подумать о том, во что верили древние религии. И одна вещь меня поразила: то, что в каждой из них есть доля истины, но не полной. Как будто изначальное знание о Боге, о человеке, о творении, о судьбах мира, после того как было падение, уже начало затмеваться. И тогда, вспоминая это, но не полностью, люди стали пробелы заполнять воображением, фантазиями, неправдой. А вместе с этим во всех этих верах есть что-то, что принадлежит истине и жизни, потому что Бог ни от кого никогда не отворачивался. Если человек оказался неспособным продолжать жить полнотой Откровения, потому что он отпал, тем не менее осколки остались, и эти осколки нам надо искать, когда мы встречаемся с вероисповеданиями, которые нам чужды. И это относится не только к древним религиям, которые вымерли, это относится даже к таким, которые еще живут, но которые для нас, да, порой непонятны, порой чужды.
Ведь есть миллионы людей, которые никогда действительно не подумали о том или о другом, но у которых есть что-то общее с Богом. Я вспоминаю войну, вспоминаю людей, не только христиан, но и безбожников, которые свою жизнь отдавали для того, чтобы защитить или спасти другого солдата. Можно ли сказать, что человек, который по порыву сердца свою жизнь отдает, чтобы другой не погиб, не знает любви, той любви, о которой Христос сказал: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин 15:13)?
И еще одно я хочу сказать и на этом кончу свою беседу: мы друг другу в спасение и в погибель. В малой мере это относится ко всем, мы друг со другом ссоримся, расходимся, делаемся чужими друг другу, тогда как мы призваны так любить друг друга, чтобы быть едиными, как едины Лица Святой Троицы. Конечно, этого мы достичь не можем, но мы можем стремиться к этому и соответственно себя вести. Но что хуже — это то, что мы друг друга отвергаем, не только отворачиваемся, но выкидываем из своей жизни. Мы друг друга раним, мы друг друга душу убиваем порой. И что же будет на Суде, когда мы станем перед Богом? Каждый из нас будет каяться в том, что он совершил, в тот момент каждый из нас поймет, сколько неправды и зла он совершил, и каждый из нас скажет: «Господи, прости!». А может ли Господь просто сказать: «Прощаю»?
Есть замечательное место в книге католического кардинала Жана Даниелу, где он говорит о том, что даже Бог не может простить человека, которого отказывается простить им обиженный. Можно простить то, что сделано над тобой, против тебя, но нельзя простить того, что сделано против другого. И единственная надежда, пишет Жан Даниелу, единственная надежда обидчика это то, что обидимый, став перед лицом Божиим, поняв, что вошел в Царство любви, которому еще не принадлежит, но куда рвется, захочет простить. Подумайте, как дивно будет, если кто-нибудь из нас, целую жизнь проведя в отчуждении от другого человека по пустякам — потому что так часто мы расходимся по пустякам, — вдруг поймет, что не может войти в Царство Божие, если не откроет дверь в Царство Божие тому человеку, который его оскорбил, унизил или, наоборот, которого он сам оскорбил и унизил.
Мне сейчас вспоминается один отрывок из книги русско-грузинского писателя, который теперь скончался, но который принадлежал нашему времени, Чавчавадзе. Он написал книгу, название ее я сейчас не могу вспомнить, где рассказывает, как один эмигрант-священник, который всю жизнь боролся с коммунизмом, всем своим существом отрицал и отрекался от Сталина, вдруг узнал о его смерти. И первую минуту он подумал: «Наконец!». А потом подумал: «Боже! Он сейчас стоит со всем грузом своих грехов перед Судом Божиим. Какой ужас!». И он бросился в церковь, преклонился перед алтарем и начал кричать перед Богом: «Помилуй его, помилуй его, дай мужество его жертвам простить, чтобы Ты мог его помиловать!»
[66].
И только тогда Царство Божие открывается. Но это чудо взаимного примирения, которое Бог не может насильственно нам навязать. Он только может нам сказать: «Взгляни на Мои руки, взгляни на Мои ноги, взгляни на рану от копья в Моем боку, взгляни на раны, которые терновый венец наложил на Мой лоб. Я тебя возлюбил до такой степени и таким образом тогда, когда ты был Мне чужд. Посмотри на своего брата, на свою сестру, на свое чадо, на людей, которые вокруг, которых ты ранил или которые тебя ранили. Вы можете или оба войти в Царство Божие, или оба останетесь вне». И это так дивно! Так дивно, что мы войдем в Царство Божие не по праву или несмотря на то что мы были чужды друг другу, а потому что у врат в Царство Божие мы друг друга примем, обымем и вместе вступим.
Часть I. У порога
О встрече и о вере [67]
Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим ниспославый, Того, Благий, не отними от нас, но обнови нас, молящихся.
Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня. Воздаждъ ми радость спасения Твоего и Духом владычным утверди меня. Научу беззаконныя путем Твоим и нечестивии Тебе обратятся…
Хочется поблагодарить Бога за то, что мне дано снова с вами быть сегодня. Каждая встреча — чудо; и, может быть, одно из самых больших чудес — то, что это чудо повторяется, и растет, и ширится, и все больше и больше людей приобщается к этому чуду встречи.
Мне хочется сказать сейчас несколько слов о самой встрече, а затем о вере, потому что они связаны друг со другом так неразлучно.
Когда читаешь Ветхий или Новый Завет, когда читаешь историю Церкви, жизнь святых, жизнь грешных людей — все зависит от встречи, все — сплошная встреча. Один из отцов пустыни говорил: «От ближнего нашего нам и жизнь, и смерть»
[68]. ближний наш может нам открыть тайну любви, и ближний наш может убить в нас последнюю надежду, убить любовь, смысл. И ближний — это каждый из нас по отношению к каждому другому. И не только те из нас, которые друг друга знают, которые, как теперь, связаны встречей, но и те, которые просто случайно проходят мимо, не заметив друг друга. Если живешь внимательно и смотришь на людей на улице, в метро, в автобусе, везде — сколько настоящих встреч бывает через лицо человека. Человек иногда тебя впускает мгновенно в самую глубину своей души через открывшиеся глаза, приобщает тебя к своей жизни через голос, через то, как он говорит с тобой даже о самом обыкновенном, незначительном.
И вот так все в жизни — встреча. Бывают встречи как бы вне Бога, очень страшные встречи, когда люди не только мимо проходят, но будто сталкиваются — и расходятся, оттолкнувшись друг от друга, встретившись только на самой поверхности, ударившись, иногда больно, друг о друга.
А бывают встречи, где Бог присутствует; и бывают встречи с Самим Богом. Когда читаешь Ветхий Завет, первые его строки, и себе представляешь, что случилось, когда вдруг прозвучало творческое слово Божие, которое вызывало одну тварь после другой к бытию — какое чудо встречи это было! Когда из совершенного отсутствия, из небытия, вдруг вырастала какая-нибудь тварь, и первое, что она встречала — Живого Бога, Который ее восхотел, Который ее вызвал к бытию, Который ее настолько полюбил еще до того, как она стала, что Он ее позвал по имени.
Я не знаю, замечали ли вы в Евангелии от Иоанна, в конце девятой главы, в рассказе об исцелении слепорожденного (Ин 9:36—38): слепорожденный, который теперь стал зрячим, встречает Христа и спрашивает, кто же этот Сын Человеческий, о Котором его допрашивают. И Христос ему отвечает словами, которые нам кажутся почти незначительными, потому что они такие привычные: Ты Его видел — Он перед тобой. Слова «Ты Его видел» для нас совершенно нормальные, мы зрячие, мы видим друг друга все время, мы видим вокруг себя предметы. Но это мы. Тот человек был слепорожденный, он никогда ничего не видел, никого не видел до мгновения, когда Христос ему дал зрение. И первое, что он увидел, — лик воплотившегося Бога, очи Божии, взирающие на него очами Христа. Первое, что он увидел в жизни, — это своего Бога, по любви, по милосердию ставшего человеком.
Один румынский писатель нашего времени, Виргил Георгиу (он стал священником, оставаясь писателем), рассказывает о впечатлении, которое оставило в его душе лицо его отца. Первое воспоминание его жизни — лицо отца, склоненное над его колыбелью. И он говорит, что это первая икона, которую он видел. Не потому, что это лицо было
красиво, а потому, что оно было
прекрасно. Это лицо было выражением любви, ничего другого в этом лице не было: любовь, вдумчивость, забота, надежда, вера в будущее этого мальчика. Это — встреча
[69].
Каждый из нас мог бы для другого быть такой встречей. И как грустно думать, что так редко мы бываем такой встречей; что человек может нас встретить, посмотреть нам в лицо, заглянуть в глаза — и не увидеть ничего: не увидеть икону, не увидеть сияющий через лицо Свет невечерний, Божию любовь, Божию заботу, Божию надежду, веру в нас.
Когда думаешь о начале книги Бытия, о том, как каждая тварь возникала, и первое, что ей представлялось, — это встреча с Богом, какое-то лицезрение Бога: не очами, не нутром, а какой-то встречей между Живым Богом и вызванным из небытия творением, когда думаешь о том, что мгновенно, возникая из небытия, каждая тварь открывала и Бога, и все другие твари, которые возникали в радости, в ликовании, — какая это красота!
И вот к этой встрече мы все призваны, и эта встреча никогда не является только встречей с Богом или только встречей с человеком, потому что встреча очень редко бывает с Богом только, она всегда в каком-то контексте. Где-то — или до этого, или одновременно с этой встречей — стоит человек, человек в самом большом смысле слова. Как святой Ириней Лионский говорит где-то: слава Божия, сияние Божией славы — это полностью осуществившийся человек
[70].
Почему же бывает, что мы не можем встретиться? Отчасти потому, что мы не ищем встречи, отчасти, потому что мы домогаемся встречи. Мы ее часто не ищем и потому не умеем смотреть, не умеем слушать. Мы выбираем: на кого мы смотрим, а по кому, кто нам неинтересен, лишь скользнет наш взор; мы выбираем: что, кого мы будем слушать, а кого не станем слушать. Или наоборот: мы хотим встречи, но вместо того чтобы открыться и ждать этой встречи, мы стараемся вторгаться в человека, и человек закрывается, потому что встреча всегда страшная. Встретиться — это значит встретиться навсегда, встреча — значит встретиться на такой глубине, где два бытия уже переплетутся в общую ответственность, этого не забыть, от этого не уйти. Встретиться страшно — и мы закрываемся, потому что так часто бывает больно от встречи и больно, когда встреча кончается крушением человеческих отношений.
И вот нам надо учиться смотреть с тем, чтобы видеть, — просто видеть человека, какой он есть, предполагая, что такой, какой он есть, он гораздо более значительный, чем тот человек, какого мы хотели бы в нем видеть. Не стараться видеть только то, что нам хочется видеть: перед нами Бог ставит человека как откровение — откровение красоты, откровение изуродованности и, соединяющее красоту и изуродованность, откровение человеческого страдания. Страшно заглянуть в красоту, в изуродованность, в страдание. Это требует готовности заглянуть в человека и поплатиться за то, что встреча совершилась.
И слушать мы не умеем, потому что за словами — целая жизнь, целая душа. Слова так часто служат ширмой и только приоткрывают нам смысл того, что человек хотел бы сказать, того крика души, который он не умеет выразить и который до нас не доходит. За словами мысль стоит, за мыслью — чувство, а за всем этим — просто весь человек. Есть стихотворение немецкой писательницы Марии Эшенбах, она спрашивает: что есть такое в малой песенке, что ее можно так любить? что же в ней, скажи! И ответ: в ней заложено немного гармонии, немного звучности и целая душа… И вот во всем, что говорит человек, даже в самом обыкновенном, может открыться душа, если мы только сумеем пройти через слова насквозь, если научимся тому, что слова бывают или могут стать прозрачными и что за этими словами мы можем видеть, как через окно, одну даль за другой, одну глубину за другой. И тогда бывает встреча. Но опять-таки, как я уже сказал, мы этого боимся, и для того, чтобы встретиться, надо быть готовым к тому, что всякая встреча может обойтись нам болью или такой раздирающей душу радостью, которую трудно пережить.
Вы, может быть, себе задаете вопрос: почему я все это говорю как вступление к тому, что я о вере хочу сказать? Я сейчас попробую связать это с тем, что еще хотелось бы вам сказать.
Есть подвижническое слово святого Макария Великого, в котором он себе задает вопрос: где начинается вера? каким образом человеческий опыт делается верой? что такое вера, какова ее природа? И вот приблизительно что он отвечает (к тому, что он говорит, я прибавлю кое-что для пояснения, моя цель не в том, чтобы изложить точно слова Макария, а довести нечто до вашего сознания). Он говорит: бывает, что чувство близости Божией делается таким сильным, охватывает нас так глубоко, держит нас с такой силой, что кроме этого чувства Бога, мы ничего больше чувствовать не можем. Мы не можем больше мыслить, наши мысли остановлены созерцанием, мы только можем чистым умом глядеть в эту тайну приблизившегося к нам Бога. Наше сердце заполнено этим опытом, даже наше тело уже над собой не имеет власти. Мы и этот опыт — одно и то же, мы не можем одновременно его переживать до конца и следить за тем, что с нами происходит, мы охвачены этим опытом без остатка. Это состояние, говорит Макарий, состояние блаженства, когда мы так чуем Бога, что нам не только ничего другого не нужно, — мы ничего другого не знаем и ни о чем другом не знаем.
И этого, говорит Макарий, было бы достаточно для того человека, кому это дано, но у Бога есть забота не только о том, кто оказался способным на это переживание, у Него забота тоже и о тех, которые еще не дошли до этого, которым нужны свидетели, вестники. И Бог отходит от человека. И в какой-то момент, в какое-то мгновение человек вдруг сознает самого себя, опыт этой бесконечной, все пронизывающей близости Божией уже не актуален. Это не опыт данного мгновения, но сомнения в нем никакого не может быть, уверенность в том, что этот опыт только что был, — такая же яркая, как сознание окружающего мира, которое только-только начинает всплывать в чувствах, в мыслях, в восприятии. И это мгновение, когда вдруг то, что было опытом, становится уверенностью, безусловной уверенностью, но не опытом данной минуты, и есть мгновение, когда опыт стал верой. Если мы перенесемся к Посланию к евреям, к первой строке одиннадцатой главы, то мы читаем определение веры: вера это твердое основание надежды, это очевидность или уверенность в вещах невидимых (Евр 11:1). Вот об этом и говорит Макарий.
Но этот опыт веры мы всегда применяем к религиозной вере, и в этом мы делаем ошибку, потому что в вере есть элемент универсальный, вера — это опыт всечеловеческий. Правда, ее предмет — не всегда Бог, но этот опыт вещей невидимых, в которых мы уверены так же, как в видимом, относится и к другим областям. И мне кажется, что это важно помнить. В области вещества, в области науки всякое научное изыскание основано именно на вере, на уверенности в том, что за всем видимым нами есть невидимое, которое может еще быть открыто, непостигнутое — которое может быть постигнуто. Тот предметный мир, в котором мы живем, вызывает нас на веру, он ставит нам вопрос: мы видим вещество, мы видим предметы, мы видим их динамику, их соотношение, мы начинаем их изучать как таковые. И вдруг начинаем открывать, что за видимым есть целый мир, целая тайна бытия, которая может быть нами открыта, но которая нам еще неизвестна. И исследователь пускается в эти поиски неизвестного именно потому, что верит в его существование.
В человеческих отношениях то же: люди встречаются, может быть, даже постоянно, в каком-то кругу, и кто-то один остается другими совершенно незамеченным. И в какой-то день почему-то завязывается разговор, или человек вдруг видит по-новому лицо другого человека, и этот человек для него открывается как глубина, как тайна, как откровение. Он уже не пустое место, он уже не просто кличка, он — тайна. Его можно обозначить тем или другим именем, но мы знаем, что за этим именем должно быть другое имя, которое только Бог знает.
Но бывает большей частью, что после такой встречи, на следующий день, или через час, или через некоторое время, более или менее продолжительное, мы встречаем того же человека и с изумлением видим, что он — такой, каким мы его всегда знали, он уже не сияет этим нетварным, невещественным светом, он уже не откровение, светлячок стал снова просто червячком. И тут встает вопрос веры: во что я буду верить? в то ли, что откровение, которое мне было дано, оказалось иллюзией, фантазией, или в то, что я был прав и что видимость только заслоняет настоящее, тайну? Когда между людьми родилась любовь, то мы продолжаем верить, что видимость заслонила тайну, но на самом деле тайна жива. Когда мы разлюбим человека, мы забываем, что он светился, он снова стал червячком, ничтожеством.
И это тоже момент веры. Веры как уверенности, что то, что когда-то нам открылось, — более реально, более истинно, чем то, что мы видим изо дня в день, веры, что кажущееся или даже очевидное не всегда соответствует правде о человеке. И это мы видим все время в Евангелии, мы это видим во Христе, Который все время, на протяжении евангельского рассказа, отстраняет все кажущееся, прозревает даже через очевидное, доказуемое, и видит ту глубину, которая за этим. Возьмите два примера.
Встреча Христа Спасителя с апостолом Петром после Воскресения Христова. Петр трижды от Него отрекся; при первой встрече можно было бы ожидать — говоря по-человечески, — что Христос его спросит: не стыдно ли тебе? каешься ли ты? просишь ли ты прощения? хочешь ли ты снова стать Моим учеником?.. Христос этого не говорит, Он спрашивает: Любишь ли ты Меня больше остальных, больше, чем остальные Меня любят? (Ин 21:15—17) Если мы вспоминаем другое место Евангелия, где Христос говорит: кому больше прощается, тот больше любит(Лк 7:40—43), то этот вопрос очень сильный: сознаешь ли ты, Петр, что тебе должно проститься больше, чем кому-либо из других учеников? Способен ли ты ответить большей любовью на большую любовь, на большее прощение, на большее сострадательное милосердие Божие? И Петр говорит: да! Люблю Тебя! — потому что в это мгновение встречи он не может вспомнить то, что было еще так недавно, в ночь, когда взяли Христа. Все, что он переживает сейчас, — это встречу со Христом, живую встречу — о чем же говорить?! Все остальное, словно кошмар, сон, марево, прошло. И Христос снова его спрашивает о том же, в этот раз Он его спрашивает другим греческим словом: любишь ли ты Меня, как друг любит своего друга — а не вообще, общей, универсальной любовью? Петр отвечает: да! Люблю! И в третий раз его спрашивает Христос. И тогда ясно делается Петру, что вся очевидность против него, что можно просто из фактов доказать, что он — предатель, изменник: как же он может говорить о любви? И тут Петр гениально, с гениальностью духа, с гениальностью сердца отвечает: Господи — Ты все знаешь; Ты знаешь, что я Тебя люблю! Здесь мы видим, как Христос отказывается принять доказательство, а смотрит в глубину человеческого сердца и говорит: да! Он поступил не так, он был слаб — но он Меня любит.
Ту же самую мысль выражает по-своему Достоевский в той части «Братьев Карамазовых», когда, кажется, брат старца Зосимы, Маркелл, или сам старец говорит: не говори о людях, что они были плохи; люди они были хорошие — но поступали плохо
[71]. У писателя это кажется просто парадоксом; если принять на веру гениальность писателя, этот парадокс объясним. Во Христе это больше, чем парадокс, это совершенно ясное зрение в глубину сердца.
Второй рассказ в этом же роде, в 8-й главе Евангелия от Иоанна, — рассказ о женщине, взятой в прелюбодеянии (Ин 8:1—11). Все против нее: она взята в деле, она приведена ко Христу, против нее — закон Ветхого Завета. Христа хотят уловить на том, что Он скажет: пренебрегите законом, пожалейте ее… И Христос этого не делает, Он не говорит о том, что прелюбодеяние можно отпустить с миром, Он не говорит, что можно обойти Закон, Он ставит вопрос перед людьми так: вы хотите применить Закон — применяйте его, но будьте сами достойны Закона. Кто из вас без греха, тот пусть накажет эту грешницу побиением камнями… И один после другого обвинители уходят, потому что ни один из них не может сказать про себя, что он не подпадает под подобное законное осуждение. И Христос обращается к этой женщине, и ясно, что Он ей не говорит: «Бог есть любовь, Он все простит». Христос ей говорит: «Где же те, которые тебя осуждали?». — «Они все ушли». — «И Я тебя не осуждаю, иди и больше не греши».
Христос обращается не к прелюбодеице, взятой во грехе, а к той женщине, которая, потому что была взята, потому что она встала перед осуждением смерти через Закон, обнаружила, что грех и смерть совпадают, что грех — это смерть, к женщине, которая стояла перед Ним в ужасе неминуемой грядущей смерти и которая, верно, подумала: если бы мне была дарована жизнь — это была бы новая жизнь… И Он обращается к этой женщине, в сердце, в глубоком сердце которой или всегда была, несмотря на греховность, или родилась возможность новой жизни, и говорит: иди, но впредь не греши.
Тут тоже Христос мимо всего кажущегося, всего очевидного и доказуемого обращается к тайному человеку, которого видит Бог, но которого не видели люди, потому что мы судим по поступкам, по словам, но не по глубинам сердца. И это тоже область веры: уверенность, что то, что невидимо, более реально, чем то, что видимо.
Теперь если это перенести к теме о Боге, то основные положения остаются те же, и однако есть одно затруднение, которое ставят нам в виде вопроса неверующие. Когда мы говорим, что научный исследователь верит в реальность окружающего его мира, верит в то, что за видимым есть невидимое, за очевидностью есть тайна, за поверхностью есть глубина, вопрос ему поставлен, однако, видимым, поверхностным: перед его взором, перед его чувствами стоит мир, который ему ставит вопрос. Когда перед нами человек и мы знаем, что за его обликом — вся глубина человеческая, человек нас вызывает к такому мышлению, к такому чувству. Но Бог нам, перед нами не является вещественно, Он нам не ставит вопрос так: вот Я перед тобой — неужели ты не поверишь в глубины Мои?
В открытии веры есть разные входы. Есть люди, которым Бог открылся непосредственно, — мы видим это в Ветхом Завете, мы видим это в какой-то мере в жизни апостола Павла, мы видим это в житиях святых. Человек, который не имел представления о Боге, вдруг оказывается внутри какого-то опыта Бога. Бог стал таким близким, и Его приближение такое разительное, что нельзя от Него отвернуться, это факт, который не допускает сомнения у человека, его пережившего.
Но более часто опыт веры дается нам через человека или через человеческую общину, то есть через отдельного человека или через жизнь, облик человеческой группы. Я вам дам один или два примера. Когда Моисей сошел с Синайской горы после встречи лицом к лицу со славой Божией, его лицо так сияло, что люди не могли вынести и ему пришлось закрыть свое лицо полотном (Исх 34:33—35). Подобные рассказы мы встречаем и в других местах.
Мы иногда видим в жизни человека, в облике человека, в его речи, в его очах, во всем, что составляет этого человека, нечто, что больше человека, не только больше этого человека, но вообще непостижимо больше человеческих возможностей. Этот вопрос передо мной встал впервые, когда я встретил человека, который был способен любить всех и каждого без разбора, и не в ответ на их нужду или на их любовь, а потому что в нем жила и переливалась через край любовь. Только эта любовь порой была радостью, а порой — распятием для него, но она никогда не умалялась, никогда не уменьшалась, никогда не умирала. Это передо мной поставило вопрос: как же это возможно, что это за человек, что это за любовь? Прежде я такого не встречал, я не знал, что это такое, я не знал тоже, что такое Бог. Только несколько лет спустя, когда я впервые встретился с Евангелием, вдруг я понял, какова эта любовь и что это за человек: просто христианин, а любовь — Божественная любовь. И это сочетание слов «просто христианин» и «Божественная любовь» именно и составляет тот вызов, которым верующий без слов является по отношению к каждому и ко всем своим бытием, своим существом. Так же ясно, в тех же самых категориях можно было бы говорить об общинах.
Есть присловье монашеское на Афоне: никто не может отказаться от мира и от себя, если он не увидит на лице хоть одного человека сияние вечной жизни… Это опять-таки того же рода вызов вечности по отношению к нам. Но вызов вечности — это вызов веры, это призыв к вере в то, что невидимое, непостигнутое существует, что за этим витражом, который сияет всеми разнообразными цветами, подобранными цветами стекла, за этим сиянием — просто свет. Эта красота, которая нам открывается в витраже, сама по себе — ничто, она существует только потому, что по ту сторону есть свет, и как бы эта красота ни была прекрасна, ее смысл в том, чтобы она стала совершенно прозрачна и чтобы ничто не осталось, кроме самого света. В этой форме можно было бы выразить все православное учение о чистой молитве, но в это я сейчас входить не буду.
И вот чтобы вернуться к примеру, который я вам раньше дал: к светлячку, который стал снова червячком, или к витражу, который потух, потому что день склоняется к ночи и свет уже не бьет через него и уже нет красок, нет линий, а есть только серое пятно в стене, — если вернуться к этим образам, встает перед нами вопрос о сомнении: то, что я видел, — реально? Или это был сон, мечта, мое желание, проектированное на реальность? Это есть — или этого никогда не было? Когда такой вопрос встает перед верующим, очень часто он пугается сомнения, ему кажется, что губительно поставить такой вопрос по отношению и к человеку, а по отношению к Богу это уже отречение, это уже отпадение от Бога и от веры.
Подойдем к этому с другой стороны. То, что пугает верующего, является самой сильной опорой научного исследования. Когда ученый после многих лет собрал все факты, которые доступны ему, он старается их соединить, связать между собой или в теорию, или в гипотезу, или в модель, потому что ему нужен какой-то образ, который держал бы все факты и показывал их взаимное соотношение. Но если он действительно ученый, если он ищет истину, если он хочет познать вещи, как они есть, то первое, что он сделает, после того как он окончательно оформит свое представление о мире и о какой-то частице этого мира, — он начнет искать, в чем его конструкция ошибочна. Если он сам не найдет ошибки, он обратится к другим и может их спросить: посмотрите все это, обнаружьте мою ошибку. Потому что, если моя система не даст трещины, если она будет закончена и несокрушима, дальнейшее исследование невозможно. Если не окажется ошибки в его конструкции, он начнет искать фактор, который чем-то не совпадает с остальным, для того чтобы эта его конструкция была как бы разорвана, разбита и надо было по необходимости строить новую конструкцию, более соответствующую реальности.
Сомнение ученого относится к его собственному представлению о предмете, и оно его не пугает, потому что он уверен в объективном существовании, в несокрушимости той реальности, которую он исследует и которую старается как можно лучше, но всегда недостаточно выразить словом, образом, картиной и т. д. Его сомнение систематично, оно радостно, оно смело, в каком-то смысле оно героично, по слову Декарта, потому что это значит, что он сам уничтожит детище многолетних, может быть, своих трудов. Но ему дорога реальность больше, чем собственное представление о реальности.
То же самое мог бы сделать верующий, если бы он не пугался. Можно ставить под вопрос то, что мы говорим, то, что выразимо о Боге, потому что, как кто-то из Отцов говорит, все, что мы о Боге и о духовном опыте можем сказать в соответствии с Откровением и в соответствии с опытом Церкви, может быть предельной истиной для земли, но оно не охватывает непостижимого Бога.
Выход из этой темы сомнения в религиозном опыте не диалектический, сколько мы ни представляли бы доводов, доказательств, обоснований нашей веры, наша вера опирается на что-то другое, на живой опыт. Один французский писатель, Андре Фроссар, недавно выпустил книгу «Бог существует — я Его встретил»
[72]. Основание его веры в том, что он встретил Бога, он знает нутром, что Бог существует. Он может не быть в состоянии доказать, или объяснить, или, наоборот, опровергнуть данные, которые можно было бы представить против его утверждения. Но он знает нутром, что это так.
Так же как человек, который опытно знает, что такое музыкальная красота, или красота природы, или красота живописи, или реальность любви, может сказать: я знаю, что это есть. Ты это, может, не испытал, но я тебе могу засвидетельствовать собой, ничем другим… В каком-то отношении это недоказательно, в каком-то отношении это совершенно доказательно. Это недоказательно, потому что это не доказательство на том же уровне, на той же плоскости, но это вполне доказательство, потому что свидетельство человека нельзя отмести, не сказав предварительно, что он просто ненормальный или что он врет — одно из двух. Но если он не ненормальный и не лжет, то никуда не уйти от свидетельства даже одного-единственного человека, пусть это будет ребенок, который скажет: я знаю, что это так, я это знаю нутром, я знаю это опытом.
И одно последнее, что в нас укоренилось отчасти после, или в результате, или в связи со «Столпом и утверждением истины» отца Павла Флоренского: мысль о том, что истина и реальность совпадают, или, употребляя его выражение, «истина есть естина», истина — это то, что на самом деле
есть[73]. И это неправда! Истина — это выражение того, что есть, но не самая реальность. Реальность и непостижима до конца, и невыразима до конца. Она могла бы быть выражена адекватно чистым символом. В XII веке еврейский писатель в Испании, Маймонид, говорил, что если мы хотим найти способ выражать Бога непосредственно, не вызывая никаких умственных представлений и поэтому никаких предрассудков или отрицательных реакций, мы должны выделить одну музыкальную ноту, которую мы не имели бы права употреблять ни для чего другого. И эта нота должна бы звучать каждый раз, когда мы хотим сказать слово «Бог» или выразить понятие о Боге, потому что это был бы чистый символ, который в себе не несет ничего, кроме того, что он обозначает
[74].
И здесь в нашем мышлении очень важно, мне кажется, помнить, что как бы мы ни выражали наше знание, опытное знание о Боге, о человеке, о мироздании, о духовном мире, оно только выражение и что даже когда мы берем Священное Писание как откровение — оно откровение в меру человека, а не в меру Бога: оно откровение в том смысле, что в нем сказано все то, что человек мог постичь о Боге, но не все то, что Бог есть. И также оно является выражением того, что можно было передать человеческим словом о Боге — и только.
И поэтому, как бы ни была священна, как бы ни была нам дорога та или другая истина, мы должны помнить, что это — обозначение, а не самая вещь. Один раз только Истина и реальность сочетались совершенно: во Христе, Который говорит: Я есмь истина (Ин 14:6). Он есть Бог, и Он есть откровение о Боге.
Но тут мы встречаем другую проблему, вернее, не проблему, а факт: Христос как истина не является понятием, а живым существом, истина во Христе — не нечто, а Некто. И истина «Христос» может совпадать с реальностью «Бог», потому что это — личное явление. Но если мы пробуем Христа выразить словесно, мы снова опускаемся на уровень обозначений.
И вот тут область веры, которая оправдывается в науке, оправдывается в человеческом опыте, оправдывается тоже и в религиозном опыте. Мы имеем право на веру, как ученый имеет право на веру и им пользуется, так же как все мы имеем право на веру друг во друга и этим живем. Только при одном условии: что эта область веры не будет сводиться к уровню формулировок, которые будто бы содержат предмет веры. Нет «предмета веры», есть Живой Бог, Который не есть предмет, Который может быть постижим через приобщенность, через дарование Им нам Своей животворной благодати, которая есть божественная жизнь.
Вот что я хотел вам сказать о вере и о сомнении, об истине и о реальности. И все это возвращается к тому, с чего я начал: к встрече, которая нам дается непосредственно, бьет в ум и сердце, или встрече, которая нам дается в пределах человеческого общества.
Например, год-другой тому назад я принял в православие неверующего прежде англичанина. Он пришел к нам в храм послушать церковное пение, задержался годика на три, стоял, и слушал, и смотрел, а потом пришел просить, чтобы его крестили. Я ему поставил вопрос: почему? что вас побудило? И он мне рассказал, что пришел в этот храм без веры и, простояв в нем, в среде самых обыкновенных людей, вдруг почувствовал, что в пределах этого храма есть некое, до тех пор неведомое ему, Присутствие. Кто-то живет в этом храме, и люди, которые тут молятся, — в общении с этим Присутствием. Но этого с него не хватило, он подумал, что недостаточно, что Бог Сам по Себе существует: какое ему до этого дело, если просто Бог есть и он есть? И он стал присматриваться к относительно неприглядной толпе, которую представляет собой наш лондонский приход. И он обнаружил, что это Бог не покоящийся, не бездействующий, а Бог, Который является, как он сказал, «сплошной динамикой», это Бог, Который меняет людей. И он ко мне пришел и сказал: я хочу быть измененным, я хочу, чтобы ваш Бог за меня взялся.
Он этот опыт получил — почему? Потому что какая-то община людей была Церковью, эта община создала храм. В пределах этого храма было постигнуто присутствие, и в пределах этой общины было постигнуто чудо действующего, Живого Бога. Вот почему и каждое лицо в отдельности, и община вместе являются не только предметами веры, но и содержанием этой веры, вот почему Церковь является богочеловеческим обществом, где Бог и люди составляют одно: встретившиеся Бог с человеком. Церковь — тайна этой встречи, тайна этого общения, тайна этой приобщенности друг ко другу.
Ответы на вопросы
Зная себя, невозможно представить, что человек встретит меня и получит откровение о Боге. Наоборот: он в меня заглянет и увидит, что нет Бога!
Думать о том, что я откроюсь человеку и он от этого получит какое-то откровение, потому что встретил меня, действительно трудно. Но и то, что вы говорите: человек увидит, что Бога нет, — я в этом не уверен. Думаю, не все так просто. Скажем, опыт отсутствия такой же разительный, как опыт присутствия. Когда человек вдруг обнаружит, что в его душе такая пустота, что жить нельзя, что в нем раскрылась бездна — здесь указание на что-то такое же значительное, как если вдруг он обнаружил бы реальное, густое присутствие чего-то. Поэтому, если он заглянул и вдруг ужаснулся о бездне, он открыл бы что-то очень значительное. Потому что та же самая бездна называется зияющая бездна небытия на одном языке или глубины Божии на другом языке, это зависит от того, как ты говоришь.
Но если поднять вопрос о том, как раскрываться, я думаю, можно это определить двумя словами: целомудренно и жертвенно. Целомудренно в том смысле, что надо раскрываться с сознанием благоговения к тому, что в тебе живет, нельзя заниматься духовной проституцией — говоря очень грубо, но очень реально.
С другой стороны, раскрываться иногда надо жертвенно в том смысле, что это может быть самое мучительное, что ты можешь сделать, и тебя может исполнить ужаса сознание, что ты откроешься, и нечто, что ты держал в себе, как святыню, берег, как девство, любил, как Бога, вдруг ты можешь разом потерять и остаться опустошенным.
И тут приходится решать, и это не противоречит одно другому, но проблема вот в чем. Человек мне ставит вопрос, на который я могу ответить, только если я как-то ему откроюсь. Так вот: его вопрос — нужда или любопытство? Это игра или нечто такое значительное, на чем человек будет строить жизнь?
Я сейчас не говорю о возможных ошибках, разумеется. Но мне кажется, что принцип в этом: целомудрие и жертвенность, готовность все потерять для того, чтобы этот человек получил и жил, но ничего не отдать как игрушку.
Так, чтобы «не метать бисера перед свиньями»?[75] Но это значит, что о ком-то ты решаешь: вот, он свинья, — а ведь судить нельзя.
Знаете, я подумал об этой фразе, но мне всегда немножко за свиней больно. Мне кажется, есть разница между судом и суждением: судишь человека по его сущности, суждение произносишь о том, каким он в данную минуту является. Скажем, я говорю с вами очень искренно и правдиво, за тем, что я говорю, стоит то, чем я живу и что для меня дорого. Но мне не страшно это делать, и у меня нет чувства нецеломудрия, потому что вы это принимаете как нечто, в чем есть смысл и что вам, может быть, нужно. Но я половины этого не скажу просто на публичной лекции о вере. И я скажу гораздо больше, чем сказал теперь, какому-нибудь отдельному человеку в момент, когда мне кажется, что ему нужно все, что я могу дать, вплоть до моей крови. И тут приходится иметь суждение о человеке: о его зрелости, о его мотивах, о его качестве, и в этом смысле он «феноменологическая свинья», но он не «сущностная свинья». Можно человеку сказать: нет, я тебе не скажу, ты несерьезный. Это — определенное суждение о том, что он несерьезный. Но это одновременно утверждение, что он может быть и стать серьезным. А мы очень часто перечеркиваем человека, определив его как сущностную свинью, с которой ни теперь, ни впредь говорить не стоит. Вот тут мы ошибаемся большей частью. Я помню, один из наших архиереев говорил проповедь на экуменическом собрании и выбрал своей темой «Не мечите бисер перед свиньями», а чтобы не было никакого сомнения, он разъяснил, что православное учение — бисер, а инославные — свиньи и что поэтому он им метать его не станет. Тут, мне кажется, было скользко.
Я думаю, что очень важно это различение между судом и суждением. Иногда практическое суждение является единственным способом спасти человека. Закрывать глаза на человеческие недостатки или на те или другие свойства — это его наверняка погубить. Так же как вечная путаница между «простить» и «забыть». Если забыть, то можно человека через полчаса поставить в то же самое положение, на котором он сорвался. Простить — совсем другое дело, простить — значит принять человека, какой он есть, ответственно, со всеми последствиями такого ответственного поступка, и помнить все его слабости, чтобы его защитить и ему помочь из них вырасти.
Вот тут суждение и суд противоречат друг другу. Когда Христос говорит, что если мы про человека скажем «безумный», мы заслуживаем геенну (Мф 5:22), Он говорит о суде над человеком: этого человека можно запереть, он безумный. Так же как мы порой говорим о человеке «он лжец», «он вор», он то, он другое, и мы его иногда постепенно к этому ведем. Я работаю уже лет двадцать тюремным священником и знаю просто на опыте тех людей, которых посещаю, разницу между человеком и поступком человека. Где-то оно перемежается, есть какая-то чересполосица, когда не знаешь, где человек и где его поступок. Но где-то на полюсах есть человек и есть то, чем он стал. А если на него накладывать какой-то предвзятый образ, можно его таким сделать.
Есть очень интересный рассказ немецкого писателя Макса Фриша, который называется «Андорра», там он старается показать, как представление, которое люди себе составляют о человеке, может его самого изменить и привести к погибели. Это рассказ о том, как в Андорре, то есть на малюсенькой территории в Пиренеях (это, конечно, фантастический рассказ), родился ребенок, который ничем не был похож на других жителей, и, посмотрев на него, жители решили, что это маленький еврей. И решив, что он маленький еврей, они стали интерпретировать то, что он делал, и все, чем он был, по трафарету собственных представлений о евреях. И постепенно они в него так втерли мысль, будто его слова, его манеры, его поступки, его характер доказывают, что он еврей, что он стал таким, каким они представляли себе типичного еврея. В результате случился погром, и этого единственного еврея уничтожили. И когда уничтожили, обнаружилось, что он просто был андоррец, который на других андоррцев не похож… Это, мне кажется, очень значительный рассказ, потому что если в таком масштабе мы так не поступаем, то часто бывает, что мы составляем себе мнение, представление (тем более коллективное) о человеке, и ему от этого больше никуда уйти нельзя, некуда деться.
Я помню одного вора, он меня ошарашил при первом посещении. Я пришел к нему и заговорил с ним, и он сказал: «Знаете, я так счастлив, что попал в тюрьму (очень редкое, в общем, выражение удовлетворения). Я годами был профессиональным вором; потом во мне заговорила совесть, и я решил меняться. Каждый раз, когда я делал попытку перемениться, люди вокруг меня говорили: в чем дело? Раз он меняется, значит, что-то с ним неладно! И мне приходилось вернуться к лицемерию, к обману, к тому, чтобы иметь свою какую-то жизнь и представлять людям какую-то личину. А теперь все знают, что я вор, когда я выйду, я могу сказать, что тюрьма меня переменила».
Таинство Крещения [76]
Вы, может быть, удивитесь, что в этом году я хочу продумать с вами вопрос о том, как человек становится верующим и как он входит в Церковь. Многим из нас, наверное, кажется это излишним, потому что мы уже в Церкви, но я из года в год задумываюсь над этим вопросом почти за каждой Литургией, почти за каждой службой: где я стою по отношению к Богу, где я стою по отношению ко Христу Спасителю? кто я такой? я в Церкви — или на краю Церкви? я уже погрузился в ее глубины или еще даже близко не подошел?
И это не только слова, это очень серьезный вопрос для меня. Думаю, и для вас он может быть серьезным. Каждый из нас должен периодически задумываться, где он находится: на поверхности или на глубинах? Боится ли он уйти в глубины или дерзает? Это вопросы, к которым мы должны периодически возвращаться в течение всей нашей жизни. Кроме того, среди вас, возможно, есть и такие люди, которые еще не крещены и приближаются к крещению. Если мы не крещены, такое размышление должно нас постепенно привести к осознанию Бога и Спасителя Христа, и Евангелия, и евангельской жизни и довести до крещения. Если мы уже крещены, то должны поставить себе вопрос: был ли я когда-нибудь обращен? Крещен-то я был, но был ли
обращен? Лесков пишет, что Русь была крещена, но не просвещена
[77]. Мы должны перед собой эти вопросы ставить и держать, и за каждой службой эти вопросы встают в той или другой форме, с той или другой резкостью.
И вот мне хочется с вами продумать некоторые основные вещи. Я постепенно подойду к этой теме, и дальше мы пойдем к вопросу о том, что случилось с нами, когда мы были крещены, когда мы были миропомазаны, что случилось, когда мы в первый раз причастились Святых Тайн, и к чему это нас обязывает, к какой нравственно-духовной жизни это нас обязывает.
Если говорить о вере, раньше всего я хочу поставить вопрос о том, что такое вера. Апостол Павел говорит, что вера — это уверенность в вещах невидимых (Евр 11:1). И это сразу раскрывает горизонт очень широко, потому что такая вера относится не только к Богу, не только к духовной и вечной жизни, такое понимание веры относится ко всему, что вокруг нас есть. Это вера ученого, это вера человека по отношению к человеку.
Что я этим хочу сказать? Хочу сказать то, что ни один ученый не пытался бы делать какие-нибудь исследования, находить что бы то ни было новое, если бы у него не было уверенности, что то, что уже известно, ему говорит о бесконечно широком поле еще неизвестного. То же самое можно сказать и по отношению к человеку. Мы в человека в конечном итоге должны верить: верить, что за пределом всего того, что мы о нем знаем — его внешности, его ума, его слова и т. д., — есть какая-то глубинная тайна, которую знает только Бог и к которой мы можем приблизиться благоговением, молитвой и созерцанием. Вы, может быть, помните, что в книге Откровения сказано, что у каждого человека есть имя, которое знает только Бог и которое будет человеку открыто в свое время (Откр 2:17). В этом смысле имя, о котором говорит Священное Писание, — это предельное, всеконечное познание данного человека, но как мы далеки от такого познания, как мы мало друг друга знаем! Мы знаем друг друга очень мало и внешне, мы прикасаемся друг к другу, мы проходим мимо, мы иногда общаемся в одной области или другой, бывает, мы знаем что-нибудь о человеке в одной области и ничего не знаем в другой. Я уж не говорю о том, как мы мало знаем людей, которые нам не знакомы непосредственно, но которых мы могли бы знать, если бы только мы присмотрелись не к внешней деятельности, а к тому, о чем их деятельность, их слова, их творчество говорит. Поэтому мы должны запомнить, что в порядке веры это определение охватывает не только наше познание Бога, но познание самого себя, познание нашего ближнего, познание всей твари, которая для нас таинственна, непроницаема порой бывает и которую мы можем узнать в порядке науки или в порядке созерцания, общения, скажем, через красоту, которую можем познать на другом уровне и с другой глубиной.
О вере писал святой Макарий Великий замечательные слова. Он старался уловить момент, когда вера как живой опыт превращается в познание, и он берет такой пример. Представьте себе, что я лежу ночью под открытым небом в маленькой лодочке, ее качает море, я смотрю в глубины неба, вижу разверзающиеся глубины и одновременно чувствую движение воды под собой. А потом время проходит, отходит вода, и я оказываюсь вместе с лодкой на песке. В этот момент я уже не чувствую колебание ладьи. Я могу все еще видеть небо, но не ощущаю всеми силами своего тела и души моря, и однако я не могу усомниться в том, что я пережил этот опыт, что это было и что, раз это было, это во мне остается как уверенность и знание. И вот в этот момент знание, опытно переживаемое, превращается в уверенность о том, чего сейчас нет, но что было так познано, так пережито, что никакого сомнения не может быть.
Бывает это, конечно, и в нашем общении с Богом, и в нашем общении с человеком. Иногда человек нам откроется, и вдруг мы приобщаемся к таким глубинам, к такой широте, о каких мы не имели никакого понятия. А потом проходит несколько дней или часов, и этот человек больше не хочет нам открыться. В тот момент он все нам открыл, что хотел нам передать, а теперь он уходит в молчание, но мы знаем, что за этим молчанием, вернее, в глубине этого молчания есть то общение, та тайна, которая нам была открыта.
По отношению к Богу, так же как по отношению к человеку, вера имеет еще другое значение: уверенность, о которой я сейчас говорил. Это не только самый опыт, но и уверенность, которая за ним остается. Но если этот опыт для нас остается реальным, если мы остаемся уверенными в том, что это произошло, что это было и поэтому есть раз и навсегда, то мы должны веру понимать как верность — верность по отношению к пережитому нами опыту или к познанному. Это относится, может быть, особенно — и к этому я хочу вернуться через несколько минут — к нашему отношению со Христом. Бывают моменты, когда вдруг открывается Христос в области веры, бывает, что это мгновенное или длительное откровение делается уверенностью, но это должно превратиться в верность тому, что мы пережили. Мы не можем прочесть Евангелие, глубоко быть им задетыми, тронутыми и потом успокоиться на том, что пережито, а теперь можно вернуться к совершено иному, сохранить это в памяти, радоваться на это, любоваться, но не жить этим, не жить творчески, не жить деятельно. И вот эти три момента, мне кажется, очень важно себе представить, когда мы ставим вопрос: где я лично стою по отношению к моей вере? Является ли моя вера воспоминанием о том, что когда-то было, уверенностью в том, что это было? Или моя вера выражается в том, что такая уверенность влечет за собой творческую деятельность: я должен жить согласно с тем, что мне открылось?
Теперь я хочу отойти немного в сторону. Как человек приходит к вере? Мы всегда думаем о том, как это случается в какой-то момент, когда встреча с Богом является событием, драматическим событием. Но до этого очень-очень многое происходит. Вы наверно знаете, как живут многие люди, ослепленные окружающим миром, в круговороте жизни, некогда им задуматься над тем, что что-то есть за пределом того, что они сейчас видят, переживают. К этому можно было бы применить притчу о званых на пир (Лк 14:16—24), как царь пригласил на брачный пир своего сына друзей своих, и как все отказались. Один сказал: я купил клочок земли, мне надо его исследовать и обрабатывать, мне некогда разделить твою радость. Другой говорит: я купил пять пар волов, то есть у меня в жизни есть задача, дело, до вечности так далеко. А один говорит: я оженился, меня до края заполняет собственная радость, я не могу найти места для того, чтобы разделить твою радость и твое счастье.
Это состояние, в котором находятся миллионы людей, одурманенных жизнью, причем, как вы видите из этих примеров, не в каком-то скверном, плохом смысле, а в том смысле, что можно и защитить их положение: разве плохо иметь задание в жизни, разве плохо отдать свои силы земле, разве плохо так полюбить человека, что больше не остается места для другой любви? Нет, но это состояние человека, который остается в плену событий или земных положений. Бывает, что человеку никогда из этого не вырваться, что он навсегда будет переходить от одного предмета переживания к другому, от клочка земли к обработке его волами, к заботе о жене, ради которой он возвращается на поле, ради которой он занимается своими волами. Так бывает, но бывает и то, что человек в какой-то момент чувствует какую-то неудовлетворенность, какую-то неполноту своей жизни.
Вот тут оказывается очень кстати слово Священного Писания о том, что сердце человека глубоко (Пс 63:7). Сердце человека имеет глубину, оно не живет, не действует в трех измерениях, оно имеет глубину, уходящую в такие бездны, на дне которых только Бог. И бывает, что человек, который всем обладает, у которого есть все, остается неудовлетворен и ищет чего-то. И вот это «что-то» может выразиться по-разному. Человек может сообразить, что пока вся жизнь, какая бы она ни была творческая, интересная, сосредоточена на нем и на том, что он сам творит или собой представляет, слишком узка, что мироздание бесконечно шире, что люди, с которыми он находится, имеют глубину, которой он таким образом сам не достигает. И тогда может родиться в человеке голод, или тоска, или порой отчаяние.
Можно обратить это состояние опять-таки на земное: вместо того чтобы быть сосредоточенным на себе и своем, можно раскрыться и стать творческим деятелем, порой значительным в человеческом обществе, но от количества не меняется положение дела. Не меняется оно тем, что скольким бы людям мы ни помогали, мы только заняты этим. Все сводится к тому, что я занят. Помню, я разговаривал раз с одним советским представителем в России, который на мой вызов мне ответил: «Без веры человек жить не может, я верю в человечество, я верю в государство». А вместе с тем его вера в человечество, в государство заключалась только в том, чтобы строить государство так, как он его задумал, и человечество втиснуть в рамки своих представлений. Веры тут настоящей не было, потому что не было места вопрошанию, не было места тому, чтобы поставить перед собой вопрос: то, что я думаю, что переживаю, тот опыт, который у меня есть, — что он собой представляет? Реальный он или нет? Охватывает ли он все мироздание или только немногое в этом мироздании?
Если верно представление Священного Писания о том, что сердце человека глубоко, то ясно делается, что есть глубины не только вне, не только вокруг, но что есть глубина во мне, и мне надо погрузиться в эту глубину. И это порой бывает очень страшно, потому что моя глубина для меня более опасна и больше меня пугает, чем даже исследование чужой глубины. Потому что когда мы исследуем другого человека, общаясь с ним, как бы ни было глубоко или поверхностно, мы знаем, что в любую минуту можем отчалить, уйти, оставить этого человека и остаться не только с самим собой, но остаться самим собой. Если рискнуть уйти в свои глубины, то оттуда вернуться нельзя, нет пути обратно, можно идти только дальше и дальше, глубже и глубже, и на этом пути мы не можем не встретить Бога. Мы не обязательно Его Богом назовем, мы Его можем назвать иными именами, то есть наше переживание этих глубин можно назвать так или иначе, но это уже будет область совершенной — как бы сказать? — совершенной тьмы. Мы уходим в глубины, где ничего не видно, пока не погрузишься в них.
Вы наверно помните рассказ Ветхого Завета о том, как Моисей поднимался на Синайскую гору. Она вся была покрыта темной тучей, раздавался гром, сияли молнии, и еврейский народ, находившийся у подножия Синая, стоял в ужасе. Моисей по приказанию Божию, по призыву Божию поднялся на гору и вошел в эту устрашающую всех и его в том числе тьму, и в тот момент, когда он в эту тьму вошел, она стала сиянием Божией славы (Исх 20:21, 34:29). Это мы можем применить по отношению к нашему постепенному познанию другого человека, но больше всего, в высшей степени мы должны это применить к познанию себя самого. Когда мы видим перед собой только тьму, только потемки, когда мы знаем, что никакого пути нет дальше, мы должны идти дальше.
В начале Второй мировой войны король Георг VI обратился к английскому народу со словом и в этом слове процитировал одну американскую писательницу, которая пишет приблизительно так: я спросил у стража, который стоял у двери будущего: что я могу сделать для того, чтобы с уверенностью войти в неизвестность? И тот ответил: вложи руку твою в руку Божию и вступай во тьму, и это будет для тебя уверенностью большей, чем любой свет и любая гарантия… И вот мы так должны уходить в себя, при всем страхе, который это может вызывать, потому что, когда мы погружаемся в себя, мы видим очень многое, чего обычно не хотим видеть. Мы видим, во-первых, свой страх, мы видим свои недостатки или грехи, то, что стоит между мной и глубиной и говорит мне: туда ты не пройдешь, я — тебе преграда. Это может относиться к любому греху, который нам так дорог, что мы от него отказаться не можем.
Есть рассказ в житии святого Макария Великого о том, как его ученик видел после его смерти, как душа Макария возносилась на небо и бесы по дороге к небу расставили как бы таможенные столы, и у каждого стола его испытывали о каком-нибудь его грехе, и каждый раз он был оправдан и проходил мимо. И когда он прошел последний искус и стоял уже в дверях рая, бесы решили его уловить на последнем, на чем можно уловить человека. Они захлопали в ладоши и закричали: «Макарий, ты нас победил!». И Макарий повернулся к ним и сказал: «Еще нет». Они его и на тщеславии или гордыне не словили, и он вошел в рай
[78].
Я думаю, что это происходит с нами постоянно. Когда мы стараемся войти в себя, мы видим постоянно, что есть такая преграда, которая не позволяет войти в рай: если это во мне есть, если я таков, как я смею идти в сторону света, я принадлежу тьме, мне дороги туда нет. И нам надо тогда сказать: пойду, потому что только когда я войду в свет, тьма может стать сиянием славы Божией, как случилось с Моисеем на горе Синайской. Это нелегкий путь, и человек может на это не пойти, он может не быть в состоянии пробиться в дальние глубины. Но если он идет этим путем, он уже принадлежит области веры — веры как уверенности в невидимом, веры как верности тому, что он однажды уловил, и верности такой: если я хочу пройти через эти преграды, я должен жить так, чтобы эти преграды пали, потому что я их разорвать, расторгнуть не могу, но они могут передо мной рассыпаться, если только я приобрету то, что их уничтожает.
Мне вспоминается сейчас рассказ из сочинений Лескова. Рассказ длинный, я передам только его последнее действие. Праведник, который прожил подвижнической жизнью в течение десятилетий в пустыне, видит во сне, что он умер и душа его возносится на небо. И возносится свободно, потому что он все победил, что могло его остановить. И вдруг через его путь — частокол, который состоит из бревен, он смотрит и читает слово:
тщеславие. И как он ни старается пройти сбоку или между бревнами, никакого пути нет. А скоморох Памфалон, которого он презирал за то, что тот был клоуном и человеком недостойным с его возвышенной точки зрения, возносится туда же, смотрит и спрашивает: «Ермий, что ты остановился?» — «Прохода нет, частокол!». И этот скоморох, который никогда о себе ничего хорошего не думал, который делал добрые дела, потому что иначе и не мог поступить, говорит: «А в чем дело?» — снял свой скомороший плащ, махнул через небо — и нет частокола
[79].
Я думаю, что нам надо это помнить: что мы можем пройти через все эти преграды, если не воображаем о себе, что мы идем в глубины и дойдем до цели. Мы можем уходить в глубины трепетно, с ужасом и в ожидании: что я там найду, и найду ли я что-нибудь, если не поможет мне Господь?
Если человек идет или случайно доходит до каких-то глубин, то бывают очень разные ситуации. Я вам кое-что уже об этом говорил и прошу прощения у тех, кто это слышал, но думаю, что второй раз услышать иногда небесполезно. Мне вспоминается человек, убежденный безбожник, который пришел сюда, в церковь, чтобы принести какую-то посылку одной прихожанке. Он норовил прийти так, чтобы служба отошла, чтобы эту посылку ей вручить и уйти. Но ему, если можно так выразиться, не повезло, он пришел, когда служба еще шла, и ему пришлось сесть на лавочку и ждать. И пока он ждал, с ним случилось что-то, чего он не ожидал. Он ожидал, что придет, будет какое-то богослужение, будет шум, пение, какое-то движение, которое к нему никак не относится. Но он уловил не пение и не присутствие или движение людей, а какую-то совершенно никогда им не испытанную тишину и глубину. И он не мог понять, что это может быть. Я его потом встретил, он говорит: «Я не могу понять, в чем дело. Я пришел сюда, сидел, и вдруг у меня чувство, что весь храм наполнен каким-то присутствием. Что это может быть?». Я ответил: «Я бы это назвал Богом, но вы, конечно, лучше знаете». Он говорит: «Нет, конечно, это не может быть Бог, потому что Его нет. Возможно, это мерцание свечей, дурман от ладана, заунывное пение хора, коллективная истерика ваших прихожан. Что создает такое состояние?». Я говорю: «Не знаю, я это называю Богом, вы должны сами разобраться». — «Хорошо, — говорит, — я буду приходить сюда, но только позвольте прийти, когда никого здесь нет, чтобы на меня ничто не влияло и чтобы вас не было». Я его пустил, он снова сел, а я ушел к себе в комнату. Он приходил несколько раз и потом мне сказал: «Я не знаю, есть ли Бог, но знаю, что здесь есть какое-то присутствие, которое не зависит ни от чего. Если это то, что вы называете Богом, то вы мне должны объяснить, в чем дело, потому что для чего мне нужен Бог, Который здесь живет и ничего не делает?». Я сказал: «Приходите, посмотрите, может быть, Он делает что-нибудь». Через некоторое время он говорит: «Меня одно поражает — Бог что-то такое делает над вашими прихожанами, потому что у них другие лица, когда они уходят из церкви, чем когда они пришли, и совершенно другие лица, когда они причащаются. Значит, Бог у вас не пассивный, а активный, деятельный». Я говорю: «Да, я Его знаю, Он очень даже деятельный». — «Мне нужна перемена, что я могу для этого сделать?» — «Приходите, будем беседовать, готовиться». И постепенно из этого опыта, что здесь не только пустая тишина, а тишина, которая имеет густоту, интенсивность, не зависящую ни от кого и ни от чего, он начал открывать, что эту тишину можно назвать Божиим присутствием. Потом он начал искать и добиваться, что Он за Бог, и это пошло дальше.
Бывает, что мы постепенно можем прийти в состояние полного дурмана творческой и полезной деятельности, которая нам все закрывает. Погружению в себя самого помогает хотя бы отчасти погружение в другого человека, когда мы узнаем: ах, в нем что-то есть, чего я не знаю, есть какая-то глубина, которая мне недоступна, — не умственная, не эмоциональная. И дальше — находка, что существует эта глубина и во мне и что если в нее углубиться, то приходишь к такому месту, где встречаешь невыразимую тишину созерцательного молчания, такого молчания, которое стоит перед тайной, причем не обязательно Божией, — моей, человеческой, собственной тайной. И в тот момент, когда ты можешь сказать: я стою перед тайной моего человеческого бытия, ты уже вырвался из круговорота видимого и чувственного, и тогда можно идти дальше.
Бывает, конечно, что дальше человек делает открытия другого рода. Человек может встретить Бога, как апостол Павел встретил Христа; человек может причаститься Святых Тайн без особенных чувств и без особенного понимания, и вдруг это причащение Святых Тайн ему что-то откроет. Я помню одну молодую женщину, которая мне говорила, что она ни во что не верит, и которой я после долгого периода предложил прийти причаститься в Великую субботу. Я ей предложил в Великую субботу стать перед причастием и сказать: «Господи, Твоя церковь ничего мне не сумела дать, Твои священники оказались бесполезны (я тоже оказался бесплодным), теперь я прихожу к Тебе с вопросом: Ты существуешь или нет? — потому что, если Тебя нет, нет смысла в жизни, а если Ты есть, Ты должен мне открыться. Если Ты не откроешься, я уйду раз и навсегда, и это будет на Тебе». Она возразила: «Этого я сказать не могу». Я настоял: «Ты это скажешь, а отвечать за это буду я». И она так сделала и после того написала мне записку: «Я еще не знаю, существует ли Бог, но я достоверно знаю, что я причастилась не хлебу и вину, а чему-то иному». И тут начался целый процесс откровения, потому что, раз это испытав, она никуда не могла от этого уйти.
Большей частью мы живем в круговороте жизни, иначе сказать, со всех сторон на нас нападают впечатления, со всех сторон мысли нам преподаются, которые не рождаются в нас самих, но навеяны. Мы находимся в том, что многие писатели называли «житейской бурей». И если подумать об этой буре, то ясно: когда человек находится в маленьком челне, который бьют волны со всех сторон, ему некогда думать ни о чем другом, кроме как о том, как сохранить жизнь. Есть рассказ из Евангелия, который может нам нечто прояснить. Это рассказ о том, как ученики Христовы плыли через Тивериадское море и их застигла буря, буря такая, что они думали, что живыми не останутся, утонут непременно. И вдруг посреди этой бури они увидели, как по водам идет Христос. Апостол Петр, увидев Христа, к Нему воззвал: прикажи мне к Тебе идти! Христос его призвал к Себе, и Петр пошел к Нему, но вдруг вспомнил о себе самом, о буре, о смертной опасности, в которой находится, и начал тонуть (Мф 14:22—34).
И вот хочется сказать, что в жизни очень часто бывает так, что мы окружены бурей, мы носимы волнами, которые нас бьют со всех сторон. Но если подумать о том, есть ли какое-нибудь безопасное место, то оно не в той ладье, в которой мы находимся, оно даже не в нашей способности переплыть это море. Наша надежда и наше спасение находится в том месте, где Христос, то есть в том центре, где все силы бури встречаются и где волнение прекращается, потому что там Бог, Который несокрушим. Так что когда нас бьет со всех сторон, когда мы чувствуем и думаем, что надежды на спасение никакой нет, мы должны вспомнить этот рассказ. Он говорит о том, что если мы будем о себе вспоминать и пугаться того, что нас окружает, мы непременно потонем, и тогда некогда будет думать ни о Боге, ни о спасении, ни о чем..
Но не всегда нас буря бьет. Чаще нас не буря бьет, а раздирают разные мысли, или поверхностные, или более глубокие, но относящиеся только к нам самим. И часто для того, чтобы вырваться из этого омута (потому что это уже не море и не буря, а просто омут), мы ищем какого-то развлечения: только бы забыться, забыть. Французский писатель Паскаль написал короткую фразу, что единственное наше спасение от горестного состояния — это развлечение, но развлечение является самым горестным нашим состоянием
[80]. Все это я говорю, потому что мы можем найти покой только через осознание того, что ни в развлечении, ни в собственных силах, ни в забвении того, что жизнь представляет собой, покоя не будет, — покой можно найти, только если, забыв про себя, уйти внутрь себя и там оказаться на том месте, где встречаются все борющиеся силы, как Христос стоял на том месте, где все силы зла, все силы бури сосредоточились — и не могли Его поколебать.
Но когда мы стараемся войти в себя или когда нас жизнь заставляет глубоко задуматься над собой и над окружающим, когда мы оказываемся перед лицом смерти своей или любимого человека, в нас разверзаются глубины, которые нас большей частью пугают, потому что мы там не бывали. Мы знаем поверхностность нашей души, глубин же ее мы не исследуем. И тогда надо иметь мужество, храбрость, дерзновение сказать себе: передо мной лежит тьма беспросветная, неисследованная, я в эту тьму войду и буду искать своего пути в ней.
Все это меня приводит к тому, что если мы находимся совершенно вне этой области опыта Бога, сознания о Боге, то мы должны иметь мужество остановиться, сказать: я не дам себя развлечь, не дам себя растерзать на разные стороны, я хочу войти внутрь и исследовать эти глубины. И в этих глубинах мы найдем то, чего не искали, потому что Бог, даже когда мы Его знаем понаслышке, открывается нам совершенно не так и не таким, как мы ожидаем.
Дальше я хотел сказать о следующем шаге — как человек встречается со Христом. Встречается он, в сущности, двояко. С одной стороны, в этом процессе ухода вглубь самого себя человек может встретиться с Богом Живым, но я не об этом сейчас хочу сказать. Со Христом в древности ученики Спасителя и с тех пор тысячи и тысячи святых, вообще людей встречались как бы лицом к лицу. Апостолы Его встретили и постепенно познали в Нем своего Бога. И потом они говорили устами апостола Иоанна Богослова: мы говорим с вами о том, что мы видели, что мы слышали, что осязали собственными руками (1 Ин 1:1). Они не передают нам нечто, что познали понаслышке, нет, это их прямой, непосредственный опыт. Но это опыт не такой простой, как нам порой кажется, потому что мы с апостолами встречаемся тогда, когда они уже познали Христа как своего Бога, не только Учителя. Но до этого был целый процесс, когда Он им раскрывался. И вот тут я хочу немножко остановиться, потому что на нашем пути это бывает чаще, чем внезапное откровение Христа, как это случилось, например, с апостолом Павлом, когда он, гонитель, шел из Иерусалима в Дамаск для того чтобы там начать гонение Христа, и когда Христос встал посреди дороги перед ним и ему поставил вопрос: зачем ты Меня гонишь? (Деян 9:4).
Ученики Спасителя не сразу узрели в Нем Того, Кем Он был с самого начала. Если вы посмотрите на карту тогдашней Палестины, то вы увидите, что Назарет, и Кана Галилейская, и Капернаум — все эти города находятся очень близко один от другого. И вы наверно помните, как в начале Евангелия от Иоанна апостол Филипп зовет Нафанаила и говорит: Приди! Мы нашли Мессию, это Иисус из Назарета. И Нафанаил ему отвечает: Что хорошее может прийти из Назарета? (Ин 1:43 и след.) Для нас это таинственная фраза, но представьте себе картинно, что было. Назарет и место, где жил Нафанаил, — на расстоянии нескольких километров. Представьте себе, что кто-нибудь к вам подойдет и скажет: «Радуйся! В соседней деревне, в нескольких верстах от нас находится Спаситель мира, Сын Божий, ставший человеком». Разве мы не ответили бы так же, с тем же чувством сомнения: «Как же это может быть? В соседней-то деревне? Было бы еще в главном городе, мы, может, и поверили бы, но в соседней деревне, где мы бываем, с кем мы постоянно общаемся, с кем мы вступаем в битвы и в игры, — не может быть!».
Это было первое, с чем встретились ученики Христа. Они Его встретили в такой простой обстановке, которая им ничего не говорила заранее, и им надо было постепенно самим открыться и открыть, кто же этот Спаситель Христос. Они с детства были знакомы, они наверно видели в Нем юношу, который их превосходит во всех отношениях какой-то качественностью своей; постепенно Он стал для них центром, постепенно Он делался для них наставником, примером, учителем, и только когда они в Нем обнаружили до конца Учителя и Наставника, Он им раскрылся в другой мере. Вы помните, как на пути в Иерусалим Спаситель спросил Своих учеников: за кого люди Меня почитают? И апостолы ответили: одни за Илью, другие за одного из пророков. — А вы за кого Меня считаете? И Петр Ему ответил: Ты — Христос, Сын Божий (Мк 8:27 и след.). Это момент, когда Петр увидел то, чего ни сам, ни кто другой не видел до того. И больше того, Христос ему говорит: не плоть и не кровь тебе это подсказали, то есть это не естественное твое познание, это Бог тебе открыл, Бог тебе дал увидеть, Кто Я на самом деле..
И когда мы ставим перед собой вопрос о Христе, мы должны помнить, что мы не сразу — или во всяком случае не обязательно сразу — окажемся на той ступени, в том положении, в котором с уверенностью сможем сказать: да, это так, это Сын Божий, это наш Господь! Мы можем постепенно встречать Христа в Евангелии, мы можем поразиться Его личности. Но Его личность может нас и не поразить, потому что она не описана красочно. Евангелие не является попыткой красочно, с силой нам описать героя повести. Мы можем остановиться на мысли: да, этот Человек особенный. Мы пока Его больше, чем особенным Человеком, назвать не можем, но Он действительно настолько особенный, Он из ряда вон выдается. Но если так, то стоит прислушаться к тому, что Он говорит, к Его наставлениям, к Его учению. И Его учение очень своеобразно, потому что Он учит и примером, и словом. В одном месте Евангелия Он говорит: Я вам дал пример, чтобы вы ему следовали (Ин 13:15).
С другой стороны, Он постоянно учит, как жить, что делать. И если мы читаем Евангелие с желанием понять: кто Он? стоит ли мне стать Его учеником? — то мы должны ставить пред собой прямой вопрос: как я отзываюсь, с одной стороны, на Его личность, и, с другой, — на Его учение? Вы помните, может быть, в Евангелии от Иоанна опять-таки есть место, где Христос говорил о Себе, и многих Его речь смутила, и люди стали уходить от Него, остались вокруг Него только двенадцать учеников. И Христос, озираясь на них, сказал: не хотите ли и вы уйти от Меня? И Петр Ему ответил: куда нам от Тебя идти? У Тебя глаголы вечной жизни (Ин 6:66—68).
Это очень важное место, потому что Христос ни в одном месте Евангелия не описывает вечную жизнь. Ни рая, ни ада Он не описывает, Он не говорит, в чем заключается вечная жизнь. Что же апостол Петр имел в виду, когда сказал: «У Тебя глаголы вечной жизни»? Мне кажется (и это догадка, я ее представляю вам именно как таковую, но у меня другого подхода нет), дело в том, что каждый раз, когда Христос говорил, притчами ли, заповедями или просто в беседе, Его слова ударяли в самую глубь души каждого слушателя и рождали, вернее, воскрешали в душе каждого человека то, что там есть вечного, незыблемого, непреходящего. Его слова не то что описывают что-то, что мы можем принять или не принять, потому что всякая картина относительна и зависит от того, как она убеждает нас. Каждое Его слово рождает жизнь в нас, а жизнь — это тот ключ, источник Вечной Жизни, которая в нас есть. Вы, верно, помните из Евангелия от Иоанна рассказ о встрече Христа с самарянкой, где Он говорит, что из сердцевины каждого верующего потоком, ключом будет бить вода вечной жизни (Ин 4:14). Это и совершается, когда Он говорит. И поэтому когда мы читаем Евангелие, мы должны не просто умом его читать (хотя, конечно, надо применить свое понимание, ум, зрелость и вместе с тем учитывать какую-то долю нашей незрелости), но надо его читать, ставя перед собой вопрос так: Христос сейчас говорит. Он говорит это не вообще, а мне лично. Как я на это отзываюсь? Что эти Его слова надо мной совершают, со мной делают? Вы можете ответить: ничего. И, будучи правдивым и честным человеком, вы сделаете очень полезную вещь, признав, что Христос сейчас сказал то или другое, но до вас это не доходит. Именно это происходило постоянно, когда Христос говорил со Своими учениками или с народом, который Его окружал в разных местах Палестины.
Расскажу вам нечто к своему стыду. В какое-то воскресенье я читал Евангелие вслух на службе в храме. Я всегда воспринимаю Евангелие так: Христос говорит каждому человеку, который находится в храме, но и мне в частности. И проповеди я не готовлю, когда время проповеди приходит, я говорю о том, как сам отозвался на слова Христа, сказанные сегодня, как я их услышал, что со мной случилось. И вот я прочел Евангелие вслух, и мне было совершенно ясно, что ничто до меня не дошло, мне никакого дела нет до того, что было сказано, я — словно камень и никак не могу отозваться. Головой я этот отрывок, конечно, понимал, «не понимать» нечего было, но было бы нечестно, просто потому что я головой что-то воспринял, представить это народу. И я тогда вышел на проповедь и сказал: подумайте, какой ужас. Христос говорил со мной лично словами Евангелия, и я только мог Ему ответить: то, что Ты говоришь, меня не касается, меня не интересует, мне все равно. И прибавил: подумайте о себе самих, не случалось ли это с каждым из вас. И на этом кончилась проповедь.
Люди, наверное, были рады, что проповедь была короткая, действия от нее было мало, но я думаю, что был прав, сказав честно, что со мной случилось. В другой раз, может быть, этот же отрывок взорвал бы мою душу, но в данном случае ничего не случилось, я был, как кремень. И я думаю, что каждый из нас, читая Евангелие, должен обратить все возможное внимание именно на это: отзываюсь я или не отзываюсь? Головой я многое могу понять, но отозвался ли я душой? Вы наверно знаете, как бывает с людьми: вы разговариваете с человеком, иногда то, что он говорит, вас трогает, а иногда — ничуть. Когда речь идет о человеке, никого из нас это особенно не волнует, но когда говорит Христос, мы всегда стараемся как-нибудь себя утешить. И вот, если мы хотим найти Христа, стать Его учениками, то мы должны научиться читать Евангелие с совершенной честностью, совершенной открытостью. Находимся ли мы перед лицом того или другого действия Христова, Его слов, обращенных к кому-нибудь из окружения Его, перед заповедью, перед притчей, мы должны совершено честно на нее посмотреть и сказать: на это я отзываюсь, на это — никак. Значит, в этом отношении в данную минуту Христос и я — на бесконечном расстоянии. А в другой момент вдруг какая-нибудь фраза так ударит в душу, что остановишься и будешь читать и перечитывать, будешь молчать над ней, даже не думать, а как бы впитывать то, что сказано.
Каждый раз когда мы набредем на такой отрывок Евангелия, который ударяет нас в душу, мы можем сказать: в этом отношении Христос и я уже сроднились, я стал Ему подобен хотя бы в этом малом. Хотя бы на непродолжительное мгновение, но мы встретились и мы сродни, и если это так, то я должен продумать отрывок, который я прочел, так, чтобы всю свою жизнь строить на этом отрывке. Разумеется, каждый отрывок не относится к каждой ситуации нашей жизни, но каждый отрывок от нас требует, чтобы мы были верными ему. Если мы будем так поступать, то неминуемо этот отрывок будет словно — и это образ, данный Христом, — зерно, брошенное в землю. Оно, может быть, долго будет лежать в этой земле, потому что этой земле нужна влага, нужно удобрение, нужно, чтобы кто-нибудь ее вспахал; но рано или поздно это зерно, если мы будем его оберегать как святыню, начнет давать плод. И по мере того как мы в этом отношении созреваем, и другие отрывки Евангелия начнут нам делаться если не вполне понятными, то доступными. И постепенно, если мы будем верны в малом, то нам дастся многое, — это опять-таки евангельские слова Христовы (Лк 16:10).
Я это все говорю, потому что когда мы хотим стать христианами, православными, мы очень часто не задумываемся над этой стороной вопроса. Мы принимаем учение Церкви, мы принимаем богослужение, принимаем молитву и т. д., но вопрос состоит только в одном: Христос и я — в каком мы взаимном соотношении? Являюсь ли я Его учеником или только наблюдателем Его жизни? Или человеком, изучающим Его учение? Если мы сознаем, что являемся Его учениками, то мы можем быть верными в малом и будем верными Его учениками. Не обязательно надо воплотить все Евангелие, но важно быть верными в немногом, что уже нам дано, с тем чтобы постепенно это немногое нас преобразило изнутри, сделало нас иными людьми, которые опять-таки постепенно смогут воспринять еще многое другое. Но это значит, что для того, чтобы стать учеником Христа, надо хоть один раз услышать Его голос, и чтобы Его голос дошел до глубин нашей души, и чтобы мы знали, что у Него глаголы вечной жизни, что Он нам дает вечную жизнь.
И второе: постольку поскольку я услышал это слово, оно должно стать законом моей жизни, правилом жизни. Мы все наверно слышали молитву об оглашенных в Литургии. Оглашенные — это те люди, которые услышали зов. Они еще не стали христианами, они только услышали оклик. Это может быть зов, который идет из самого Евангелия, и значит, это слова Самого Христа; или этот зов дошел до них через учеников Христовых, апостолов, или святых, или грешников, в конечном итоге, но таких, которые являются не только грешниками, но и учениками, которые борются с собой ради того, чтобы стать подлинно Христовыми учениками. У святого Ефрема Сирина есть место, где он говорит, что Церковь — не общество праведников, Церковь — это общество кающихся грешников. Ударение, конечно, на «кающихся», потому что грешники мы все. Но «каяться» не значит сидеть и плакать над собой, это значит обернуться лицом к Богу, и к Нему кричать о помощи, и одновременно делать все, что только возможно, чтобы вырваться из плена греха. Поэтому когда мы готовимся к Крещению, когда мы ищем свое место в Церкви, нам необходимо не только познавать постепенно глубже и глубже Евангельское учение, учение Церкви, богослужение, духовную молитвенную жизнь и т. д., нам надо начать сразу жить по Евангелию, жить, стараясь быть учениками Христа не на словах, а на деле.
Ученик Христов, то есть христианин, — это человек, которому полюбился Христос и который решил стать Его другом. А что такое дружба? Друг — человек, который солидарен со своим другом, который верен ему, который все делает, чтобы принести ему радость, чтобы стать на него похожим во всем, что в этом друге его привлекает и поражает положительно. Вот наш путь: не только знать, а сродниться со Христом, как друг. Дальше это может нас привести и к соединению со Христом через Крещение.
Я говорил уже о том, как в зависимости от разных обстоятельств человек может из состояния внутренней пустоты, или растерянности, или преисполненности суетой вдруг прийти в себя. Это может быть внутренний кризис, это может быть горе, это может быть несказанная радость, это может быть встреча — всякое бывает. Человек, который жил как бы вне себя, вдруг входит в себя и находит в себе такие глубины, такое содержание, о котором он не имел никакого понятия. И если у него хватит мужества и изумления перед тем, что он нашел, он идет дальше, вглубь, все дальше и дальше, и пред ним разверзаются и глубины, и широта, о которых он никакого понятия не имел раньше, он начинает находить в себе свою глубину, то «глубокое сердце», о котором говорит апостол Павел. Это его рано или поздно приведет, во-первых, к тому, чтобы стать человеком в полном смысле слова, а во-вторых, к тому, чтобы встретить своего Бога, потому что разверзающиеся глубины нас ставят перед лицом такой глубины, такой неописуемой красоты и определенно ставят перед нами вопрос о том, что не может быть, чтобы все сводилось к тому, что во мнее есть, — за этим пределом есть беспредельное.
С другой стороны, человек может подойти к откровению о Христе разным образом. Бывает, что он, подобно апостолу Павлу, встретит Христа. Вы наверно помните рассказ о том, как Павел, который шел из Иерусалима в Дамаск для того, чтобы там учредить гонение на христиан, вдруг оказался перед лицом Самого Христа, и это был переворот всей его жизни (Деян 9). Иногда это случается драматическим образом, иногда происходит гораздо менее драматическим образом, как я вам рассказывал о человеке, который сюда пришел и вдруг почуял, что в этом храме есть такая тишина, которая не зависит от того, что нет шума вокруг или внутри, что в глубине, в сердцевине этой тишины Кто-то присутствует, и он начал искать Этого Присутствующего. Бывает, что человек встретит Христа через Евангелие: или через чтение самого Евангелия, или через проповедь, пусть бедную, которую он услышит, но через Евангельское слово, которое ему откроет или личность Самого Христа в той мере, в какой он способен ее принять, познать, или учение Христа, которое может его пленить. И вот все это постепенно может привести человека к тому, чтобы он захотел стать членом того общества, в сердце которого находится Сам Христос, то есть Церкви, не как организованного общества, а как таинственного общества, в котором открывается перед человеком вся глубина того, что человек собой представляет, а дальше начинает открываться Сам Бог.
В Церкви человек нам открывается двояко. Мы, каждый из нас, знаем себя самих, а также знаем других людей, знаем их красоту, их глубину, их величие, но мы знаем тоже их хрупкость, их греховность, их несостоятельность, и мы можем научиться обращать внимание и на то, и на другое, но не так, как мы это делаем, когда подходим к человеку без веры в него. Мы можем научиться в человеке видеть его слабость, его недостоинство и вместе с этим отзываться на то, что видим, состраданием, жалостью и готовностью человека оградить и всячески ему помочь. С другой стороны, мы можем, если только мы так подходим к человеку, обнаружить в нем красоту, глубину, благородство: все это может сверкнуть на одно мгновение, но уже нам говорит о том, что это в нем есть. И тогда человек нам раскрывается именно двояким: хрупким и вместе с этим великим — великим по призванию, великим уже по тому, что в нем есть.
Но в Церкви человек нам открывается еще иным образом. Он нам открывается в Лице Господа Иисуса Христа, Который является в полном, в совершенном смысле Человеком, то есть человеком, каким Бог его задумал, человеком, который един с Самим Богом. Во Христе мы знаем, что Бог стал человеком. Наше призвание — открыться так, чтобы быть пронизанным Божественным присутствием и Его действием. И это происходит. Это раскрывает перед нами, что может представлять человек в полном смысле слова. Раскрывается это нам действием Святого Духа, и в этом отношении Церковь — место, где человек и греховный, и совершенный вместе живут, составляют одно, и даром Святого Духа человек грешный начинает делаться человеком в полном смысле слова, подобным Христу. И мы знаем, что во Святом Духе и во Христе мы делаемся родными Богу и Отцу. Поэтому, по мере того как мы познаем Христа, приближаемся к Нему, приобщаемся, может быть, Ему действием и даром Святого Духа, мы постепенно делаемся тем человеком, которым призваны быть.
Но бывает, что нам открывается Христос либо через встречу, непосредственную, драматическую, либо — гораздо чаще — через евангельскую повесть. В евангельской повести мы видим Его образ. Он может нас пленить, Он может нас озадачить, мы можем остановиться вниманием, ставя перед собой вопрос: Кто же этот Человек? — это вопрос, который ставили в Евангелии Его ученики. И, с другой стороны, мы можем плениться Его учением, тем, что Его слова действительно являются силой, которая в нас рождает вечную жизнь.
И вот человек так или иначе почувствовал притяжение ко Христу и двинулся в Его сторону. Это то, что в древности называли оглашением. Оглашение — состояние человека, услышавшего голос, который его зовет, или просто голос, на который он отзывается. И эти оглашенные — каждый из нас — двинулись, может быть, к Церкви. Но недостаточно быть призванным. Вы наверно помните очень страшные слова евангельские, что многие призваны, но не все избранны (Мф 20:16), потому что недостаточно услышать зов, надо на него отозваться не только рукоплесканием, изумлением: «О Боже! Как это прекрасно!» — но внутренней переменой. Поэтому в древности оглашенные, те, которые так или иначе услышали зов Христов, или в Евангелии, или через человека, или в глубинах своего сердца, останавливались в притворе.
Теперь притвор является просто местом, через которое мы проходим в храм, но в древности было не так. Притвор был обширный, это было место, где стояли оглашенные, те, которые уже двинулись ко Христу, но не приняли еще Крещение, не были к этому готовы. Стояли там также и те, которые, уверовав, приняв Крещение, оказались недостойны своего звания через нарушение тех или других основных заповедей и не имели права участвовать в центральной части Божественной литургии, то есть в совершении таинства и в принятии Святых Тайн. В притворе обыкновенно писались изображения Страшного суда, которые ставили человека перед лицом вопроса: да, ты услышал, значит, ты не можешь отговориться незнанием. Ты услышал и теперь стоишь перед судом. Что ты сейчас сделаешь?
Этот момент встает перед лицом каждого, кто стоит в притворе. Он судим своей совестью первым делом, не Божественным законом, не человеческим судом, а собственной совестью. И вы помните отрывок Евангелия, где говорится: сговаривайся со своим соперником, пока ты еще на пути, как бы он не предал тебя судье, и судья — мучителю (Мф 5:25—26). Отцы Церкви, объясняя это место, писали, что соперник, о котором говорится, — это совесть, то во мне, что все обо мне знает и что меня обличает каждый раз, когда я оказываюсь недостойным самого себя, не только Бога, не только Евангелия, но просто своего человеческого достоинства.
И вот человек стоит перед судом. Но есть надежда или нет надежды? Опять-таки в древности на дверях, которые открывались в храм, вели из притвора в самый храм, изображался образ Христа Спасителя. Человек стоял, с одной стороны, перед судом своей совести, перед предупреждением церковным о том, что суд есть, суд будет, что, раз ты услышал что-то, нельзя больше отговориться незнанием, а с другой стороны, что надежда есть несомненно, потому что Спаситель — Сам Бог, ставший человеком. Мы сейчас в притворе не стоим, но каждый из нас может ставить себе вопросы, которые в древности ставил бы, если бы стоял в этом притворе. Каждый из нас может перед собой поставить вопрос: что меня делает недостойным меня самого, что нарушает мое человеческое достоинство, живу ли я в уровень того, что я собой уже теперь представляю? Не когда-нибудь, когда я стану святым, а вот теперь: грешник, а вместе с тем знающий какие-то глубины, какие-то истины. Это первый вопрос.
И тут каждый из нас должен перед собой ставить личные вопросы, потому что человек грешит очень разно. Причем нельзя ставить вопрос так, что «крупных грехов у меня нет, только мелкие». Мы должны помнить, что когда мы грешим, нашу судьбу, объективно говоря, решает не тот грех, который мы совершаем, а то, как мы к нему относимся. Относимся ли мы к нему с ужасом, ненавистью? Являемся ли мы жертвами нашего бессилия? Или мы услаждаемся злом, которое совершаем? Малое зло, которым мы наслаждаемся, может быть более губительно и убийственно, чем крупное. Это очень важно себе представить, потому что часто думается: ну, я не особенно грешен… А какое мое отношение к греху? Если мое отношение лакомое, если я люблю свой грех, к нему привязан, то я раб и пленник, мне нет пути на свободу. Если же я совершил крупный грех, но он меня всего перевернул и так на меня подействовал, что никогда в жизни больше ничего подобного быть не может, то я уже готов начать новую жизнь.
Это очень важно, потому что оглашенный, то есть всякий человек, который хочет стать христианином и креститься, должен перед собой ставить вопрос именно так: что меня отделяет от Христа? Крупные ли, мелкие ли грехи, я должен их продумать. И недостаточно просто прийти раз на исповедь и сказать: «Батюшка, во всем виноват!». Это неправда, ты не во всем виноват. У меня была раз встреча очень неприятная и для меня, и для другого человека. Очень достойная русская дама пришла на исповедь. Встала, я ее спросил: «Ну, в чем же вы согрешили?». Она подумала, отвечает: «Во всем виновата, батюшка». Я говорю: «Нет, так вы не можете отделаться. Вы должны мне сказать, в чем вы виноваты». — «Да нет, ни в чем особенно». Я тогда на нее посмотрел, говорю: «Знаете, так исповедоваться вы не имеете права. Вы знаете десять заповедей Моисеевых?» — «Знаю». — «И вы, приличная женщина, так спокойно мне говорите, что вы прелюбодеица?». Она мне: «Как вы смеете меня оскорблять!» — «Простите, одна из заповедей: не соверши прелюбодеяния. Раз вы говорите, что во всем виноваты, значит, вы и в этом виноваты. И вы, которую все уважают, воровка?» — «Воровка? Как вы можете это сказать!» — «А есть заповедь: не укради». — «Слушайте, батюшка, мне никто так не говорил!» — «Вот теперь идите домой и поставьте перед собой вопрос: в чем вы на самом деле виноваты перед собой, перед другими и перед Богом».
И я думаю, что каждый из нас должен так перед собой поставить вопрос перед крещением и приходить на исповедь раз за разом, потому что в один раз всю душу не вылить. Одной исповедью, одним пересмотром своей жизни нельзя удовольствоваться. Нельзя просто сказать: «Ну, Господи, я услышал Твой зов, я пришел, теперь Твое дело меня менять». Нет, человек не может быть изменен, как предмет, он — живой человек, который в сотрудничестве с Богом может стать иным..
Но вы скажете: если сосредоточиться только на том, что плохо, то постепенно кроме уныния и отчаяния ничего не будет! Это на самом деле так, и потому не надо сосредоточиться только на дурном, хотя и нельзя избежать истины о себе. На чем же сосредоточиться? Трудно сказать про себя: то-то или то-то во мне прекрасно и хорошо. Но мы можем взять Евангелие и начать читать, и постепенно раскроется перед нами образ Христа Таким, Каким мы Его до сих пор не знали. Каждый раз, когда на евангельское слово наша душа отзовется радостью, когда свет вольется в нашу душу, ум просветится, воля дрогнет, мы сможем сказать: да, это правда, это истина, это жизнь! Это значит, что я и Христос в этом — малом, может быть, — точно совпадаем, я на Него уже похож. А если я на Него уже похож в этом, то я не имею никакого права нарушать то малое, в чем я уже подобен Христу. Если найти одно место, второе, третье, которые меня связывают со Христом, сродняют с Ним, делают меня подобным Ему, то это уже такая громадная надежда, когда можно сказать: Христос и я разделяем те же мысли, те же чувства вот в этом; пусть в немногом, но в этом мы вместе. И если поставить себе за правило никогда не нарушать то малое, что меня сейчас тронуло, ударило в сердце, что меня делает подобным Христу, то постепенно начнут раскрываться новые и новые истины, и тогда мы можем начать бороться со злом, которое в нас, не просто потому что это зло или потому что нам кто-то сказал, что это зло, а потому что мы хотим уберечь, защитить ту искру добра, красоты, вечности, божественности, которая в нас уже есть.
И это целый процесс, который должен проходить в тот период, который в древности назывался оглашением — тем состоянием, когда человек еще не крещен, но постепенно готовит себя к Крещению. Причем не формально, изучая богослужение, заучивая молитвы, изучая учение Церкви, а ставя перед собой вопрос: Христос и я — в каком мы соотношении? я Ему друг или враг? я Ему изменник или верен? Вот как ставится вопрос подготовки человека к Крещению.
И это очень важно, потому что слишком часто бывает, что человек подходит к священнику и говорит: «Я хочу креститься». — «А почему?» — «Я уверовал в Бога». А если начать ему ставить вопросы, то оказывается, что его жизнь от этого «уверования» в Бога не изменилась ни в чем. Такой человек не имеет права просить Крещения. Если вы думаете о Крещении, то представьте себе, что будет: вас приведут ко Христу и вам будет поставлен вопрос: «Отрекаешься ли ты сатаны и всех дел его, и всех служителей его, и всей гордыни его?». Можем ли мы на это ответить: «Да, отрекаюсь!», если мы только удовлетворены тем, что услышали о Христе, и хотим с Ним быть: пусть-де Он нас защищает?
Дальше ставится вопрос: «Хочешь ли соединиться со Христом?». И мы отвечаем: «Да!». А что это значит? Неужели это значит, что я хочу влить в мои отношения со Христом всю мою греховность, всю грязь, все безобразие моей жизни просто принести Ему и сказать: «Давай будем друзьями! Я остаюсь тем, чем я был, а Ты меня спасай, как умеешь». Конечно, нет! Я говорю очень грубо, говорю не богословски, но на самом деле так постоянно бывает. Мы приходим ко Христу в надежде, что Он для нас сделает то, что мы должны сделать и для себя, и для Него.
В Крещении есть момент, когда мы погружаемся в освященные воды. Между прочим, вы наверно знаете (а, может быть, и нет), что слово «крещение» не происходит от слова «крест», а от славянского слова, которое значит «погружение». Говорилось: «крестися корабль», то есть ушел на дно, погиб. И вот мы приходим креститься и погружаемся с головой в эти воды. Это очень яркий, и простой, и за себя говорящий образ. Если ты только погрузился в эти воды с головой и не выйдешь из них, это смерть. И действительно, мы призваны к тому, чтобы уйти в смерть Христову или, вернее, умереть по отношению ко всему тому, что составляет основной грех человечества и было причиной Его воплощения, причиной Его распятия, причиной Его смерти, причиной Его сошествия во ад. Если я не отрекаюсь от этого хотя бы волей (конечно, не мгновенно делаются святыми), если решимостью не ухожу от этого, если не отрекаюсь со всей силой души, со всей пламенностью своей души от того, что убило Христа, то я не имею права погружаться в эти воды. И я выйду из этих вод очищенным, постольку поскольку я искренне захотел и решился — я говорю о решимости — умереть по отношению к тому, что было причиной распятия и смерти Христа, гонения на Него, ненависти к Нему. И мы выходим в новую жизнь из этой стихии смерти, мы снова дышим воздухом, мы снова живы, но мы уже не те, мы умерли со Христом греху, мы живы со Христом святостью.
Опять-таки перед тем как мы решаем креститься, мы можем перед собой поставить вопрос: хочу ли я этого, не сентиментально, а серьезно? Готов ли я на это пойти, готов ли я сказать Христу: я отныне Тебя выбираю не только своим Учителем, но и своим Другом? А вы знаете, что такое дружба. Дружба заключается в том, чтобы быть верным, дружба заключается в том, чтобы быть готовым, если твоего друга порочат, гонят или преследуют, встать и сказать: «Я с ним!». Готовы ли мы на это? В хорошие минуты жизни мы говорим: да, готовы, но можем ли мы сказать без серьезного размышления, что это наш выбор? И поэтому, перед тем как креститься, надо пройти через весь этот процесс, о котором я говорил, и только тогда Христос делается для нас, по Его словам, дверью:: Я — дверь овцам, кто Мной войдет, тот и выйдет, и пажить обрящет (Ин 10:9). Тот, кто через Меня, Дверь, пройдет, тот из области смерти выйдет, в область жизни войдет, и перед ним раскроется пастбище, то есть все богатство вечной Божественной жизни.
Мне кажется, что очень важно нам это продумывать не только перед тем как креститься (большинство из нас были крещены в младенчестве, кто-то и позже), но периодически перед собой ставить вопрос: я пошел на это, имел ли я такое право? В каком я состоянии теперь? Могу ли я как бы обновить в себе обеты Крещения переворотом души, новым подходом положить новое начало? А если нет, то надо серьезно задуматься над тем, имею ли я право называть себя христианином, имею ли я право называть Христа своим Спасителем, имею ли я право подходить ко Святым Тайнам. Потому что механического спасения не бывает, спасение рождается от живого сотрудничества между Богом и человеком, но человек может и должен внести в это сотрудничество столько же, сколько и Бог. Бог вносит Свою Божественную благодать и силу, а мы должны внести полную отдачу себя, раскрытость и верность Ему, потому что вера заключается не только в уверенности, она заключается также и в верности.
Предварить вопрос о нашем личном Крещении я хочу, обратив ваше внимание на то, что в Священном Писании, в Евангелии речь идет о трех крещениях. Говорится о крещении Иоанновом, говорится о крещении Самого Спасителя Христа и затем, позже говорится о крещении верующих. И вот мне хочется остановить ваше внимание на каждом из этих трех крещений, потому что они имеют непосредственное отношение к тому, что происходит с нами, когда мы готовимся к Крещению и когда мы его принимаем.
Вы наверно помните из Евангелия, что крещение Иоанново было крещение в покаяние (Мк 1:4). Иоанн Креститель вышел на проповедь. О нем говорится, что он был голосом Божиим в пустыне (Мк 1:3). Он настолько отождествился со своим призванием, с тем, кто он был и чем он был, что речь уже не шла о том, что человек говорит слова, относящиеся к Богу, — это был голос Божий звучащий. И поэтому люди, которые приходили, были глубоко поражены и потрясены тем, что слышали. А проповедь Иоанна Крестителя была о том, что все изменили Богу, все отошли от того, что должно быть правдой жизни: покайтесь, потому что иначе придет на вас суд. Проповедь Иоанна Крестителя была в том, чтобы разбудить в людях совесть, поставить их перед лицом собственного суда, может быть, тоже — суда человеческого вокруг, и также суда Божия.
И люди приходили и каялись, причем замечательно то, что они каялись вслух, не обращая внимания на присутствие других людей. Эта проповедь настолько глубоко их задевала, настолько потрясала их душу, что им было все равно, услышит ли другой человек или нет об их греховности. Самое важное для них было — вырваться из этой греховности, признать ее перед Богом, отречься от нее и стать свободными людьми, освобожденными покаянием и милостью Божией. Это вещь, которая у нас в практике исповеди, конечно, исчезла, но бывают случаи, когда такой подход может играть решающую роль в жизни человека. Человек вдруг станет перед лицом своей совести и не может оторваться от своего прошлого, но, заявив об этом прошлом перед другими людьми, он вдруг оказывается освобожден. И тут я должен сказать, что вопрос не в том, что человек в ужасе обличает себя, не в том, что он со стыдом предстоит перед другими людьми, о которых он ничего, в общем, особенного не знает, но в которых предполагает судей, вопрос в том, как его исповедь будет принята..
Я вам хочу дать один пример, чтобы это пояснить. Некоторые из вас, может быть, многие, уже его слышали от меня, но это настолько разительный пример, что он у меня остался в душе. Много лет тому назад, в 1920-х годах, был съезд РСХД
[81] во Франции. Один бывший офицер пришел на исповедь к отцу Александру Ельчанинову, «Записки» которого вы можете еще и теперь читать, они были изданы. Он был один из самых светлых духовников эмиграции в ранние годы. Офицер исповедовался, но предварил свою исповедь тем, что сказал: «Я сознаю свою греховность умом, но ничего до моего сердца не доходит, я знаю, в чем я не прав, знаю, в чем я согрешил, знаю, что я недостоин ни себя, ни Бога, ни тех людей, которые меня любят и уважают, и не могу этого почувствовать». И отец Александр сделал нечто очень смелое. Он сказал: «Знаешь, не исповедуйся мне. Когда завтра утром мы соберемся на Литургию, ты выйдешь вперед и открыто всему съезду молодежи скажешь о том, что ты совершил в течение своей жизни». И этот человек настолько чувствовал, что ему нужна свобода, нужно вырваться из плена греха, что на следующее утро, когда все собрались, и молодежь, и люди менее молодые, составлявшие этот съезд, он вышел и объяснил, для чего он вышел вперед, и начал говорить. И его тогда поразило: он ожидал, что люди, слыша его исповедь, будут как-то сторониться его, отреагируют отрицательно, закроются, отвергнут его: «Как ты можешь быть таким, как ты смеешь быть в храме, как ты можешь быть в нашей среде, когда ты исповедуешься в таких страшных вещах!». И вместо этого он почувствовал такое сострадание, такую жалость, такую любовь, такую открытость, он почувствовал, что весь съезд, вместо того чтобы шарахнуться от его исповеди, открылся и открыл ему объятия своего сердца. И этот опыт на него так подействовал, что он разрыдался, и его покаяние исходило уже не из его ума, а из глубин сердца. Он стал новым человеком, потому что был принят состраданием и любовью других людей.
Это мне немножко открыло глаза на то, что когда люди приходили на Иордан к Иоанну Крестителю, когда они слушали его огненную проповедь, когда они слушали не Иоанна, а Бога, говорящего через него, они забывали о том, что может быть стыд перед людьми, страх перед людьми и их судом, единственно, что важно, — вырваться из этого плена. И поскольку они слышали взаимную исповедь, они, наверное, находили друг во друге взаимный крик души, находили сострадание, потому что каждый каялся в своих грехах и не было места тому, чтобы судить другого человека.
И вот почему я говорю об этом. Мы говорили об оглашении, о том периоде, когда люди услышали зов Божий, услышали слова Христа через Евангелие, через проповедника и еще не были допущены в самый храм, потому что в него можно было войти только путем Крещения. Эти люди стояли в притворе, где было изображение суда, и они стояли перед судом Божиим, судом собственной совести и судом других людей. Этот процесс их готовил к тому, чтобы растворилась дверь и они смогли войти в храм. Вы наверно помните, как Спаситель говорил о Себе: Я — дверь овцам, кто Мной войдет, тот и выйдет, и пажить обрящет (Ин 10:9). И вот исповедь, которую мы внутренне произносим в притворе, когда мы еще оглашенные, исповедь, которую мы принесем — и, вероятно, не раз, — пока нас допустят к Крещению, является именно этим периодом, который соответствует крещению Иоаннову. Люди исповедовали свои грехи, мы, перед тем как будем крещены, должны исповедовать всю свою жизнь, всю свою душу открыть, не оставить ни одного тайника, во всяком случае, намеренно. Конечно, до самых глубин человек не может дойти, раньше чем в эти глубины войдет свет Самого Бога и Духа Святого, но все, что доступно нашему сознанию, мы должны принести на исповедь. Это может случиться враз, это может случиться целым рядом исповедей, но без этого к Крещению приступить нельзя.
А что дальше происходило? Люди погружались в воды Иорданские. Что значило для них это погружение? Мне кажется, что это просто и ясно. Вода омывает грязь, омывает скверну, и поэтому когда люди погружались в Иорданские воды, они, с одной стороны, чувствовали, что омывают свое тело от всего того, что это тело осквернило: прелюбодейство, любодеяние, обжорство, все грехи, которые совершаются плотью нашей или, вернее, через плоть. Потому что кто-то из отцов Церкви ясно говорил о том, что грехи плоти — это не грехи, которые плоть совершает, это грехи, которые душа человеческая совершает над плотью. Ведь перед тем как совершить любой плотской грех, будь то обжорство или любодеяние, надо, чтобы человек душевно на него согласился. Плоть является как бы жертвой этого позорного или оскверняющего порыва. Так, люди погружались в воды Иорданские с сознанием, что они омывают себя и теперь будут чисты.
Но вместе с тем они понимали, что кроме этих грехов, в которых участвует тело, плоть, есть у них грехи, которые никаким образом к телу не относятся: гордыня, например, зависть и т. д. И как бы по аналогии они понимали, что, погружаясь в эти воды и омывая свое тело от скверны, они символически омывают и душу от осквернения, которое они ей нанесли. Этот процесс соответствует тому, о чем я только что говорил, он относится к предварительным исповедям перед нашим Крещением. Крещение невозможно без того, чтобы не пройти через этот процесс глубокого духовного потрясения, отречения от всего того, что недостойно самого человека, недостойно уважения, которое люди имеют к нам, недостойно любви, которую они нам дарят, недостойно нашего даже существования, недостойно того, что Бог нас сотворил, нам доверив жизнь и поверив, что мы будем верны своему призванию. Все это должно быть очищено, и только потом раскрывается дверь, и мы входим в храм путем Крещения.
Хочу еще сказать тут о крещении Господнем, потому что перед нами естественно встает тот же вопрос, который встал перед Иоанном Крестителем:
Ты ли ко мне идешь креститься? Как это возможно?! Иоанн узнал во Христе Сына Божия, ставшего человеком. Как же он может Его крестить? У Него нет греха, Он — Сам Бог, присутствующий плотью в нашей среде (Мф 3:14). Есть место в 7-й главе пророчества Исаии, которое читается в канун Рождества Христова, где говорится, что раньше чем Младенец сумеет отличить добро от зла, Он выберет добро
[82]. Сын Божий, ставший Сыном человеческим, никогда не пал грехом. Что же значило это Его крещение? Крещение Иоанново было
в покаяние,, а Сын Человеческий идет без греха принять это крещение. Это можно объяснить так (объяснение это я получил от протестантского пастора, и нашел подобное объяснение и у святых отцов).
Христос пришел для того, чтобы взять на Себя все последствия человеческого греха, не греховность как таковую. Грешником Он не стал, но все последствия греха, то есть, во-первых, смертность, а во-вторых, все страдания, которые связаны душевно и телесно с наследием греха, Христос принял. Он это принял, погрузившись в Иорданские воды. Вы наверно читали в русских сказках, как бывают воды живительные и воды мертвые, мертвящие. Воды, в которые люди погружались, омывая собственную греховность, как бы отяжелевали греховностью и, следственно, и смертоносной силой греха, которая в этих водах оставалась. Христос погрузился в эту стихию смертоносной воды, и Он вышел из этой воды, нося на Себе все последствия человеческой греховности. Все грехи как бы на Него легли. Помню, как этот пастор мне говорил: случилось то же самое, что бывает, когда белый лен мы погружаем в красильню, — лен погружается белым, а вынимается весь пронизанный краской. И то же самое случилось со Христом. Он вошел совершенно свободным от всякой греховности и от последствий этой греховности, потому что, как говорит святой Максим Исповедник, в момент воплощения Его плоть стала бессмертной: невозможно человеку умереть, когда он неразрывно и полностью соединен с Богом. А в момент крещения Он соединился с падшим человечеством в готовности умереть смертью этого человечества.
Еще в Ветхом Завете мы видим образы того, как приносилась жертва. Пастухи выбирали для жертвы самых лучших, беспорочных ягнят. Этим напоминалось людям: из-за твоего греха должен пострадать и умереть невинный. И в крещении Христа случилось именно это. Невинный принял на Себя смерть человечества, потому что человечество оторвалось и отреклось от Бога. И когда Христос вышел из вод Иордана, Он оставался тем же безгрешным Спасителем Христом, каким Он был, когда в них погрузился, но Он нес на Себе всю тяжесть тысячелетней истории человеческого греха. Вот второе крещение, о котором речь идет. Погружение Христа в Иордан очистило его воды, и, как в церковных молитвах и песнопениях говорится, эти воды стали живоносными, потому что вся мертвость, вся мертвящая сила их осталась на Христе Спасителе. Они были очищены, они стали святыми водами, священными водами, которые теперь могут приобщить нас к тому, что представляет собой чистота и святость человеческой плоти воплощенного Бога.
Дальше пойдет речь о нашем крещении. Сейчас скажу только, что когда мы приходим к крещению, мы погружаемся в воды, которые литургически освящаются благодатью Святого Духа и делаются водами Иорданскими, то есть водами, в которые Христос погрузился, очистив их от всякого зла, от всякой нечистоты, и эти воды могут нас приобщить к той чистоте, которая превышает нашу чистоту и превышает чистоту обычных вод.
О самом чине крещения я буду говорить не в деталях, а такими основными бросками. Первое, что надлежит человеку, желающему креститься, — это отречься окончательно, всецело, всей душой, всей волей, всем умом, всем своим существом от зла, от греха и от начальника зла, то есть сатаны. Но пока человек не находится под кровом Христовым, под Его защитой, он не может это сделать без страха. Он не может отречься от того, кто был его хозяином и господином, без того чтобы быть взятым под защиту кем-то другим, кто сильнее, чем тот, который над ним властвовал. И начинается чин Крещения молитвой, которую священник произносит над крещаемым, где как бы заявляется, что этот человек отныне берется под защиту Самого Христа и Церкви, и что теперь он может свободно и бесстрашно отречься от бесовской силы, которая им владела, потому что он под защитой силы беспримерно большей. Этот момент очень важный.
Я хочу это пояснить как бы образно. Представьте себе, что в тюрьму, где находятся преступники, приходит комиссия и спрашивает заключенных: «Скажите, к вам хорошо относятся? Кормят хорошо? Не истязают, не мучают, не терзают?». Кто посмеет сказать: «Да, нас мучают, нас терзают, мы здесь находимся в аду», когда заключенные знают, что комиссия уйдет через четверть часа, а они останутся во власти тех людей, которые их терзали и мучили и будут продолжать терзать и мучить. Так и человек, если бы он пришел и, еще не находясь под защитой ни Бога, ни Христа, ни Церкви, сказал: «Отрекаюсь от всего зла!» — что бы это зло ему причинило!!
Это первое. После того как Церковь, вернее, Христос взял этого человека под Свою защиту, ему ставятся вопросы. Первый вопрос: «Отрекаешься ли ты от сатаны, от всех дел его, от всех поспешников его, от всей гордыни его?». И человек может тогда ответить: «Да, отрекаюсь». Этот вопрос ставится ему трижды, потому что ему надо дать время подумать: всерьез ли это? готов ли я на это? Я исповедался, я готовился, у меня был внутренний перелом, но могу ли я действительно сказать, что отрекаюсь от всего зла, которое мне было так дорого, которым я наслаждался? Первый раз ставится вопрос, второй, третий, и каждый раз человек отвечает: «Отрекаюсь!», если только он находит в себе решимость и мужество это сделать. Если он по пути вдруг почувствует, что ему страшно, у него не хватит духа, он может в этот момент сказать: «Вы меня готовы принять, а я не готов. Простите меня!».
Крещение как в древности, так и сейчас, сколько мы можем это осуществить, происходило в среде общины, которая принимала человека. И человек мог сказать: «Нет! Простите меня! Вы пришли с открытыми объятиями, с открытым сердцем, вы готовы со мной все нести, весь ужас моей борьбы и жизни, а я — не могу отречься». И люди тогда не отвернулись бы от него, они, вероятно, заплакали бы над ним, и окружили его, и постарались в течение какого-то времени ему помочь вырасти, окрепнуть с тем, чтобы он мог снова прийти и снова быть поставленным перед этими страшными вопросами: «Отрекаешься ли ты от сатаны, и всех дел его, и всей гордыни его, и всех ангелов (то есть служителей, посланников) его?». Эти посланники его — не обязательно темные силы, это могут быть люди, которые являются соблазнителями..
Если человек трижды отрекся, тогда ему ставится вопрос (потому что одно не просто проистекает из другого): «Соединяешься ли ты со Христом?». И это очень ответственный момент, потому что соединиться со Христом не значит просто прийти и сказать: «Я отрекся от зла, мне уйти некуда теперь, я пришел к Тебе, теперь Твоя очередь меня защищать. Ты должен быть моим Господином, но Ты должен также быть моим Защитником». Нет, речь идет о том, что ты выбираешь Христа не только как своего Бога, как Хозяина своей жизни, как Учителя, но ты Его выбираешь как Друга, как Того, с Которым ты будешь связан дружбой. А что значит дружба? Дружба — это взаимная верность, готовность за своего друга и жизнь отдать, если нужно. Дружить — значит искать того, чтобы быть похожим на друга, быть с ним в гармонии во всем и все время. Готов ли я на это? Готов ли я соединиться с Ним, как друг соединяется с другом, как муж соединяется с женой, жена — с мужем, как человек дает клятву в том или другом? Тут тоже человек имел право и возможность испытать свою совесть последний раз, отвечая: «Соединяюсь». Второй раз ставится вопрос, третий раз ставится вопрос, и каждый раз ты свободен, никто тебя не засудит, никто не отречется от тебя за неготовность, потому что ты должен соизмерять свои силы и знать, что желание в тебе есть, ты, может быть, горишь им, а страх в тебе все еще действует.
И когда ты отрекся от сатаны и соединился со Христом, тогда ты произносишь Символ веры
[83]: вот во что я верю отныне всем умом, всем сердцем, всей волей, всей плотью, всей жизнью своей. Я верю, то есть я уверен, что это так, я доверяю Богу, Которого исповедую, и я буду верен Ему и той клятве, которую сейчас дал. Это моменты очень, я бы сказал, трагические.
А до того происходит еще одно действие церковное: освобождение Церковью или, вернее, Христом и Духом Святым в Церкви этого человека от сил зла. Это запрещение, которое произносится над тем, кто сейчас будет отрекаться от сатаны и принимать Христа, запрещение сатане и его силам подходить близко к нему. Этим заканчивается первая часть, завершается оглашение. Человек еще не крещен, но он делает последние шаги, чтобы принять крещение.
Я все время говорю о Церкви и должен немножко разъяснить, что я под этим словом подразумеваю. Мы часто думаем о Церкви как о месте, где мы собираемся, или как о человеческой общине, которая во имя Христа собрана в данном месте. Но Церковь — нечто гораздо большее, и обэтой Церкви идет речь, когда мы говорим, что священник от имени Церкви обращается к Богу или что человеку дается церковная защита. Церковь — это богочеловеческое общество. Это общество, о котором Христос сказал: Где двое или трое собраны во имя Мое, Я посреди них (Мф 18:20). Так что это общество, в сердцевине которого находится Сам Христос, живой, победивший смерть после распятия и Воскресения. Но в сердцевине Церкви, как мы знаем из Священного Писания, не только Христос. Потому что Христос послал Церкви Духа Своего, Духа Святого, Который обитает в ней, является как бы ее дыханием, жизнью, силой, и Дух Святой дается каждому человеку на помощь. Вы увидите из дальнейшего, что после Крещения помазуется человек святым миром и делается храмом Святого Духа, став перед этим членом, живой частью Тела Христова. И во Христа и Духе Святом мы соединены с Богом Отцом.
Но Церковь является человеческим обществом не только в нас, грешных, но и во Христе. Христос, истинный Бог, стал тоже истинным человеком, реальным человеком, и в Нем мы видим первого человека, единственного Человека, Который в Себе осуществляет полноту того, что человек собой представляет, полноту человеческой святости и единства с Богом. Поэтому когда мы говорим о том, что Церковь берет под свою защиту того или другого человека, мы говорим не о какой-то общине, которая верит, или верит наполовину, или верит и отпадает от своей веры, а об этом таинственном обществе, в котором человек и Бог слиты воедино, члены которого, с одной стороны, уже дети Божии, и, с другой стороны, — в процессе становления; члены Церкви — мы — уже как бы в Царстве Божием, пришедшем в силе, но вместе с тем каждый из нас прогрессирует или отпадает и в процессе становления.
И вот священник произносит:
О имени Твоем, Господи Боже истины, и единородного Твоего Сына, и Святого Твоего Духа, возлагаю руку мою на раба Твоего (тут называется оглашенный)
, сподобившегося прибегнути ко святому имени Твоему, и под кровом крыл Твоих сохраниться. Отстави от него ветхую прелесть (то есть прельщенность),
исполни его веры в Тебя, надежды и любви, чтобы он уразумел, что Ты единый истинный Бог, и Единородный Твой Сын, Господь наш Иисус Христос, и Святой Твой Дух. И дай ему во всех заповедях Твоих ходить и угодное Тебе сохранить, ибо если сотворит это человек, он будет жив в них. Напиши его в книге жизни Твоей, соедини его стаду наследия Твоего, да прославится имя Твое святое в нем, и возлюбленного Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, и Животворящего Твоего Духа. Пусть будут очи Твои взирающие на него милостию всегда, уши Твои готовы услышать глас моления его. Возвесели его в делах его рук, во всяком роде его, да исповесться Тебе и поклоняется, и славит имя Твое великое и вышнее, и восхвалит Тебя всегда, во все дни жизни своей[84].
Это молитва, которая произносится при оглашении. Церковь просит Бога взять этого человека под Свою защиту, потому что сейчас будет происходить нечто очень страшное. Во-первых, священник от имени Спасителя Христа обратится ко всем темным силам зла, сатане и всем силам его, и прикажет силой Христа, благодатью Святого Духа, единством Божьего народа со своим Богом всем силам зла отойти от этого человека и дать ему возможность исповедовать Христа бесстрашно и безопасно. Тут следуют четыре молитвы, довольно продолжительные, которые я не все вам прочту, но сущность которых в том, что силой и именем Христовым приказывается всем злым силам отойти от данного человека..
Господи Саваоф, Боже Израилев, исцеляяй всякий недуг и всякую язву, призри на раба Твоего, взыщи, испытуй, и отгони от него все действа дьявола, запрети нечистым духам, отгони их и очисти дело рук Твоих, и острое Твое употребив действо, сокруши сатану под ноги его вскоре и дай ему победу на него и на нечистые его духи, яко да от Тебя милость получив, сподобится бессмертных Твоих таин, и славу Тебе возслет, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
До этого читались два заклинания, где отгонялся и прогонялся бес и силы его темные. И затем священник дует в уста, на чело и на грудь этого человека и просит Бога: Изгони из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его, духа прелести, духа лукавства, духа идолослужения и всякого лихоимства, духа лжи и всякой нечистоты, действуемой по наущению диаволю, и сотвори его овцой словесной святого стада твоего, честным членом Церкви Твоей, сыном и наследником Царствия Твоего, да по заповедям Твоим жительствовав, и сохранив печать нерушимую, и соблюд ризу нескверну, получит блажества святых во Царствии Твоем.
Вы, может быть, обратили внимание на то, что все эти молитвы обращены к Богу и Отцу, и мы молимся не как отдельные грешники, а молимся вместе со Христом, движимые Духом Святым, в силе и благодати Святого Духа и в силе и благодати Христа, победившего зло на земле. И только после того как было сказано это страшное, грозное заклинание, человек, который приходит ко Христу, может ответить на следующие вопросы.
Первый вопрос: Отрицаешься ли сатаны, и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всей гордыни его? И ответ:Отрицаюсь! Сказать это, не будучи под защитой Бога, не окруженным благодатью церковной, человек не может безопасно, потому что если он был бы один в единоборстве с сатаной, он был бы побежден, но тут он может дать этот ответ из недр Церкви, какой я вам ее представил, и под защитой Христа и вдохновением Святого Духа. И второй, и третий раз ставится этот вопрос. Потому что человек может в какой-то момент, вдохновленный каким-нибудь переживанием, сказать: Да, отрекаюсь! — а потом испугаться и пожалеть. Три раза ему ставится этот вопрос; и в древности он ставился не подряд, как мы сейчас делаем, а в три последующие дня, чтобы дать человеку время глубоко задуматься и вдуматься в то, что он совершает. И напоследок ставится ему еще вопрос: Отрекся ли сатаны? — Отрекся. Три раза ему ставится этот же вопрос.
А дальше ставится другой вопрос: соединяешься ли со Христом? Потому что отречься от зла — это одно, соединиться с добром — это другое; отойти от темных сил — это одно, соединиться со Христом при всем том, что это значит, при всех требованиях, всей ответственности, которая возлагается этим на человека, — дело другое. И ставится трижды этот вопрос: Сочетаваешься ли со Христом? То есть соединяешься ли ты с Ним, делаешься ли как бы четой с Ним? И ответ: Сочетаваюсь! Три раза ставится этот вопрос; и наконец: И веруешь ли Ему? — Верую как Царю и Богу!
Веру тут надо понимать в полном объеме этого слова. С одной стороны, как уверенность в невидимом, с другой стороны, как верность Тому, Кому ты даешь свое слово и с Кем соединяешься. И тут человек произносит Символ веры. Я не буду с вами разбирать Символ веры, это надо было бы сделать отдельно
[85], но сущность его в том, что мы исповедуем Бога — Творца, Спасителя и Преобразующего Духа — и что мы верим в Церковь в том масштабе, в котором я вам ее попробовал описать, исповедуем Крещение во оставление грехов, чаем, то есть надеемся на воскресение мертвых и на будущую жизнь. В древности это опять-таки повторялось три раза. Мы это делаем один раз, потому что подготовка у нас сейчас другого рода.
После того как человек последний раз произнес: Сочетаюсь Христу, ему говорят: И поклонись Ему. И человек кладет земной поклон со словами: Поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной. И как бы отвечая на это действие, которое ставит человека на порог новой жизни, которое является радостью для Самого Бога и радостью для всей Церкви, священник восклицает: Благословен Бог, всем человекам хотящий спастись и в познание истины прийти, ныне и присно и во веки веков. Аминь! И затем священник произносит молитву о том, чтобы этого человека, который отрекся от зла, который заявил не только желание, но готовность любой ценой соединиться с Богом и быть Ему верным, Господь сподобил благодати Крещения. И тут мы приходим к самому Крещению.
Крещаемый облачается в белую одежду, означающую его новообретенную чистоту. Затем все присутствующие зажигают свечи в знак радости, и священник кадит всех и потом произносит: Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь!! Это возглас необычный в том смысле, что не этот возглас произносится в начале любой службы. В начале большинства служб говорится: Благословен Бог наш… Но тут: Благословенно Царство… — потому что этот человек, который принадлежат царству мира сего, теперь делается членом Божьего Царства, Царства, где Бог является Господом, Царем, Вседержителем, и вместе с этим смиренным Спасителем всего мира и каждого человека, и, в частности, того человека, который приходит.
И первое действие, которое за этим совершается, — освящение крещальных вод. Вы, может, помните сказанное раньше о том, что представляют собой эти воды. Я говорил, что есть как бы три крещения. Первое — крещение Иоанново, Иоанна Крестителя, крещающего народ, который исповедал свои грехи и погружался в воды Иордана, как бы символически обмывая свою нечистоту. Во-вторых, крещение Самого Спасителя Христа, Который пришел к Иоанну, и Иоанн, видя Его безгрешным, совершенным человеком, возражал: не Тебе креститься от меня, а мне от Тебя (Мф 3:14). И Христос все-таки от него крестился. Что это значило? Это значило две вещи. Момент, когда Христос приходит на Иордан, это момент, когда Он не как Бог, а в Своем человечестве созрел в полную меру для того, чтобы все, что Его Божественная природа, любовь в Нем желали, исполнить телесно. И Он погружается в эти воды, и Его погружением, погружением Его святости человеческой и Его Божественной природы, эти воды очищаются от всей нечистоты, которая была смыта с грешников. Но эта нечистота как бы прилипает к Нему, и отныне Он будет на Себе носить в Своем человечестве смертность человеческую, и умрет Он на кресте нашей смертью. Хотя Он не приобщен нашей греховности, но Он приобщен нашей смертности, и по любви Он Себя отдал на смерть, чтобы спасти людей.
И вот эти воды Иорданские очищенные как бы образно будут теперь водами крещения каждого человека, потому что благодатью Святого Духа, которая сойдет на эти воды, эта обыкновенная вода, которой мы из крана наполняем купель, освятится и сделается тем, чем стали воды Иорданской реки, когда Христос в них погрузился, и очистил их от всякой нечистоты, и дал им силу сообщать чистоту и святость.
И мы молимся: О еже освятиться воде сей силой и действием и наитием Святого Духа… О еже ниспослати ей благодати избавления, благословению Иорданову… О еже снизойти на воду сию чистительному действу Святой Троицы… О том, чтобы освятиться нам светом разума и благочестия наитием Святого Духа… О том, чтобы эта вода оказалась отгнанием всякого навета видимых и невидимых врагов… О том, чтобы достойным оказался нетленного царства в ней крещаемый, — то есть тот, кто будет креститься, оказался достоин того, что Бог ему сейчас предлагает и дает… О приходящем ко святому просвещению, о его спасении… О том, чтобы он оказался сыном света, наследником вечных благ… О том, чтобы он был сраслен и причастен смерти и воскресению Христа Бога нашего…
Это очень важные слова: о том, чтобы ему соединиться, срастись и сделаться причастником не только жизни, но и смерти и воскресения Христа, то есть чтобы он умер всему тому, что привело Христа к смерти, к распятию, чтобы он отрекся этого и чтобы все, что составляло причину распятия Христова, для него стало ужасом и предметом отвращения, чтобы он причастился смерти Христа и воскресения. И о том, чтобы в будущем ему сохранить одежду Крещения, то есть плоть очищенную и душу очищенную, и чтобы его обручение с Духом Святым не было осквернено или опорочено до страшного дня Суда Божия, чтобы эта вода была для него баней вечной жизни, оставлением грехов, одеждой нетления. И затем мы просим Бога о том, чтобы Он услышал голос нашего моления и чтобы и крещаемому, и нам избавиться от скорби, гнева, ну{'}жды (то есть не нужды{'} в современном смысле слова, а в славянском смысле насилия). И затем священник произносит замечательную молитву, где он просит о том, чтобы Господь его самого очистил, его самого сохранил, с тем чтобы когда он будет выпускать крещаемого на свободу от зла, он сам не оказался рабом зла и неправды (я сейчас не буду вычитывать вам эти молитвы).
Затем совершается освящение вод:
Ты, человеколюбный Царь, прииди и ныне (теперь)
наитием Святаго Твоего Духа, и освяти воду сию.И священник благословляет воду и три раза повторяет эту молитву.
И даждь ей благодать избавления, благословение иорданово (о чем я говорил)
, сотвори ее источником нетления, даром освящения, разрешением грехов, исцелением недугов, всегубительной для демонов, неприступной для сопротивных (то есть вражиим силам)
, исполненной крепости (то есть силы)
ангельской, чтобы бежали от нее все наветующие созданию твоему, ибо имя Твое, Господи, я призвал, дивное и славное, и страшное сопротивным[86]. И священник погружает руку в эти воды, совершает в них крест и говорит
: да сокрушатся под знаменем образа креста Твоего вся сопротивныя силы. Он три раза это говорит и потом обращается снова к Богу с молитвой о том, чтобы отступили и от этих вод, и от крещаемого все силы, которые могут погубить его для вечной жизни. И затем он помазует эти воды святым елеем, так же как помазуется человек во исцеление, как бы окончательно освящая эти воды и очищая их от всякой возможной нечистоты. И опять-таки, совершив это и пропев
Аллилуия, то есть пропев славу Богу, священник повторяет:
Благословен Бог, просвещаяй и освящаяй всякаго человека, грядущего в мир, ныне и присно и во веки веков. Аминь.А затем будет совершен еще один чин: помазание того, кто должен креститься, святым елеем. Так же как воды были освящены, так же как они были помазаны святым, освященным елеем, как бы в очищение и в броню против всякого зла, помазуется и человек: Помазуется раб Божий(такой-то) елеем радования во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во исцеление души и тела. В слышание веры. Руце Твои сотвористе мя и создасте мя. Во еже ходити ему (имя) по стопам заповедей Твоих. То есть это совершается во исцеление души и тела: помазуется чело и плечи, спина, затем грудь, затем уши, руки и ноги.
И затем совершается самое Крещение: Крещается раб Божий (имя) во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. И три погружения. После этого крещаемый облачается в белую одежду, которая означает, как ясно из ее цвета, чистоту, очищенность.
А следующее действие — крестный ход. Крестный ход совершается в церкви в разных обстоятельствах, но в пределах самого храма три раза мы его видим очень значительным: после Крещения, во время венчания и во время рукоположения в дьякона или в священника. В данном случае человек как бы погрузился во Христа, приобщился Его чистоте, вернее, Христос Его очистил, и теперь человек призывается Христом быть Его последователем, то есть не только учеником, который будет сидеть у Его ног, слушать Его мудрые и спасительные слова и наслаждаться ими, но таким учеником, который услышит слово и мгновенно начнет его исполнять, который будет идти за Христом, куда бы Христос ни шел, куда бы Он ни повел..
И это очень важный момент. Мы берем на себя не то что обязательство (обязательство — вещь формальная), мы берем на себя реальность нашего соотношения со Христом. Он пришел на землю по неистощимой, неописуемой любви к людям, Он пришел Свою жизнь отдать для того, чтобы другие могли жить, Он пришел нам путь указать. Но, с другой стороны, когда Он нас зовет строгим словом, устрашающим порой словом, когда Он говорит Своим ученикам: Я вас посылаю, как овец среди волков (Мф 10:16), Он одновременно напоминает нам о том, что Он —Пастырь Добрыйй (Ин 10:11). А пастырь — это тот человек, который имеет заботу о своем стаде и который идет впереди овец, раньше чем они пойдут по пути, обеспечивая их безопасность. И вот три раза мы обходим купель, и это хождение вокруг купели обозначает наше хождение изо дня в день и вплоть до самой вечности за Христом Спасителем. Он никуда нас не зовет, куда Сам не сошел, Он ни к чему нас не призывает, чего Сам не был готов исполнить, вернее, уже не исполнил нашего ради спасения. И это очень важно, потому что если мы крестились всерьез, то есть не для того только, чтобы Христовы дары нам были даны, но для того, чтобы стать учениками и последователями Христа, то мы должны понять, что теперь пришло время нам самим идти, куда бы Он нас ни повел. Это не всегда значит трагедию, но значит готовность просто следовать за Ним.
И после этого совершается Миропомазание. Миро — это не просто елей, не просто благословенное, очищенное масло. Это сложный масляный состав, который приготавливается один раз в год Патриархом каждой Церкви в сослужении епископата (конечно, не обязательно всеми епископами, но группой епископов). Это миро освящается соборно всей Церковью и как бы представляет собой благодать всецерковную. И когда человек помазуется этим миром один только раз в жизни, при Крещении, то тем самым он делается причастником благодати, почивающей на всей Церкви, которая его приняла, которая его освятила, которая его отдала под начало Христа и которая его будет окружать в течение всей его жизни и в час его смерти любовью, заботой.
Вы можете поставить перед собой вопрос: в чем смысл этого Миропомазания? Миропомазание совершается со словами: Печать дара Духа Святого. Когда мы крестились, мы погрузились во Христа, мы как бы надели на себя броню, которая будет нашей защитой, и теперь запечатлевается наша новая жизнь этой печатью Святого Духа.
Если поставить вопрос о Том, Кто Этот Святой Дух (я скажу, конечно, очень коротко
[87]), то мы находим в Евангелии слова, что Святой Дух —
Утешитель (Ин 14:16). Слово «Утешитель» на славянском языке гораздо более «просторно», содержит гораздо больше понятий, чем русское слово «утешение». Дух Святой —
Утешитель тем, что Он действительно, в русском смысле слова, утешает нас в том, что в течение всей нашей земной жизни мы хотя бы отчасти отделены от Христа. Апостол Павел говорит:
пока я в теле, я отделен от Христа (2 Кор 5:6), и поэтому он так мечтает о том, чтобы наконец настала для него смерть, которая разорвет плени{'}цы, разорвет плен тела и ему даст возможность встретиться со Христом вновь, лицом к лицу. И если мы были бы действительно христианами, то есть не только формальными учениками Христа, но если бы мы любили Его такой любовью, какой возлюбил Его апостол Павел, какой возлюбили Его другие апостолы и святые в течение всей жизни, то мы бы тосковали от Его по крайней мере частичного отсутствия в нашей жизни. Мы встречаем Христа в молитве, мы встречаем Христа в таинствах, мы встречаем Христа, когда живем достойно нашего христианского звания, но полного, постоянного единства и общения мы не можем достичь, пока мы в плену нашего тела и в плену окружающего нас мира.
С другой стороны, слово «утешение», старое русское слово «утеха», которое значит «радость», — тоже одно из названий Святого Духа. Он — Утешитель: Тот, Который нас радует, потому что Его силой, Его вдохновением мы познаем Христа все глубже и глубже. Спаситель нам сказалл
: Я пошлю вам Духа Святого, Который вас научит всему (Ин 16:13). Он раскрывает перед нами все тайны духовной и Божественной жизни, по мере того как мы очищаемся, освящаемся и делаемся способными их воспринять. И в этом смысле Он —
Радостотворец[88], Он Тот, Который вносит в нашу жизнь, в наше одиночество ликующую радость о том, что мы Христовы, что мы — как посланники, находящиеся в этом мире для того, чтобы совершить дело Христово, что наше отсутствие из глубин вечности является тоже для нас радостью, потому что, находясь на земле посланниками Христа, мы совершаем Его дело, если только остаемся Ему верными.
И наконец слово Утешитель значит тоже: Тот, Который нам дает крепость, Который дает нам мужество, вдохновение, радость для совершения того дела, к которому мы призваны. И поэтому дар Святого Духа нам в момент Крещения чрезвычайно важен. Важен он тем, что, будучи крещены, мы однако еще не стали полностью тем, чем призваны быть, мы не стали святыми, мы только вступили в начало этого пути, и нам нужна крепость Святого Духа, нам нужно Его вдохновение, нам нужно Его утешение, нам нужна радость, которую Он дает, для того чтобы мы могли идти дальше по этому пути и наконец дойти до того внутреннего состояния, которое составляет святость и общение с Богом. Вот почему это дарование Святого Духа для нас очень значительно. И этот дар нас делает едиными со всеми теми, кто в пределах Церкви приобщился этому дару, кто стал Христовым и на кого излилась благодать Святого Духа.
То, что я говорил, может перед нами поставить вопрос: является ли на самом деле Крещение человека его спасением? И да, и нет. Да — в том смысле, что Христос нам все дает, что нам нужно, для спасения. Нет — в том смысле, что все, что нам дано, должно быть нами усвоено. Это дар. Как Христос говорит, Дух дается не мерой (Ин 3:34). Он все дает, но мы не всегда все можем воспринять. И тут есть целый путь нашего возрастания, постепенного шествия вперед и в глубины Божии.
Когда мы говорим о тех таинствах, которые делают нас членами Церкви, приобщают Христу и в этом приобщении нас делают сынами и дочерьми Бога и Отца, мы говорим тоже и о третьем таинстве, не только о Крещении и о даре Святого Духа в Миропомазании, но и о Приобщении Святых Тайн. Эти три таинства нас полностью делают членами Церкви. И к этому, раз мы крещены, мы должны быть устремлены.
Но тут я хочу сделать как бы остановку и обратить ваше внимание вот на что. Путь в глубины Божии — это путь, который не может быть совершен иначе как силой благодати Святого Духа. Но, с другой стороны, это путь, в котором мы играем решающую роль. Как я сказал раньше, Бог дает все, но мы не все умеем сразу принять. И вот если мы подумаем, как идти к Богу, то я вам напомню то, что уже говорил в какой-то момент в начале этих бесед об оглашенных, стоящих еще в притворе, еще не вошедших в Церковь, еще не готовых к Крещению. Они стояли там так же, как мы мысленно можем стоять, перед судом собственной совести. Они еще не были приобщены к учению Христа, они еще не были освящены Даром Святого Духа, они только осознали свое сиротство, свою пустоту, свою оскверненность и стояли перед этим судом. И конечно, в этот период они узнавали об учении Христовом, о евангельской проповеди, потому что их готовили к тому, чтобы они могли войти в Церковь и стать Христовыми и во Христе и в Духе Святом — детьми Божиими.
Но в этот момент они еще не были приобщены тайне Христа, и они произносили суд на основании того, в чем их упрекала, обличала их совесть и в чем их обличали другие люди. Потому что часто наша совесть подслеповата, часто мы, отяжелевшие духовно, не умеем уловить то, что в нас есть светлое, и отличить это от того, что есть темное. Но люди, которые вокруг нас, часто могут нам об этом напомнить и нас научить этому. Бывает часто, что нас упрекают в том или другом, критикуют, и наша естественная (в плохом смысле слова) реакция — защититься от критики, отбросить упрек, вместо того чтобы поступить мудро и себе сказать: вот каким меня видят другие люди. Если даже они не во всем правы, то в какой-то мере они увидели во мне, учуяли что-то неладное. Они, возможно, не могут разобраться полностью в том, что я собой представляю, но каким-то образом они увидели во мне изъян или уродство. И когда я говорю об уродстве, я думаю о том, что каждый из нас является образом Божиим, иконой, и, глядя на нас, люди нам говорят: ты — изуродованная икона. Смотри, что в тебе осталось от той красоты, которую вложил в тебя Господь изначально, что в тебе есть такого, что делает тебя образом Божиим, глядя на который мы можем познавать Самого Бога..
Если каждый раз, когда нас упрекают или когда мы знаем, как к нам относятся люди, как они нас расценивают, мы останавливались бы вниманием и ставили перед собой вопрос: чем я вызвал такой суд, что во мне такое, что их заставляет говорить: ты не образ, ты уродство? — то мы могли бы начать разбираться в себе. Люди, конечно, могут ошибаться, люди могут нас видеть через призму своей собственной греховности, это правда, но не обязательно они ошибаются. Они могут увидеть некоторые свойства положительные и принимать за отрицательное свойство то, что еще не является совершенным, но что-то они в нас уловили, и нам надо обращать внимание очень серьезно на то, что о нас думают люди. Когда мы рассмотрим это, мы можем себе сказать: в этом они правы, в этом они ошибаются, потому что они не все видят, но я все-таки оставлю под вопросом их суждение. Я признаю, что то или другое, что они обо мне думают, верно, а то, что мне кажется неверным, я пока не отброшу, но оставлю под вопросом, потому что когда я духовно созрею, когда я духовно вырасту, когда во мне будет больше света, то я, может быть, увижу, что они были правы.
И третий суд, перед которым мы находимся, — это начальное знание воли Божией, то начальное знание Христова учения, какое у нас уже есть. Сколько бы мы ни знали его, как мало ни знали, раз мы стоим в притворе (я не говорю физически, а внутренне) и не готовы еще к Крещению, мы все-таки нечто о Евангелии знаем. Мы знаем, что все Евангелие содержится в слове любовь, мы знаем, что мы призваны к чистоте, что мы призваны к правде и т. д. И перед судом того, что мы уже знаем о Христе из Евангелия, мы можем произносить над собой опять-таки суд: Христов я или нет? Христов я уже или еще нет? я не Христов, потому что не созрел, или потому что не хочу быть Христовым, поскольку то или другое из Его учения я просто не принимаю?
Эти вопросы мы должны ставить очень серьезно в период, когда мы еще не дошли до Крещения. Но подумайте о том, с какой ответственностью, с какой новой углубленностью мы должны ставить эти вопросы, когда уже приняли Крещение, когда сказали, что отрекаемся от зла, от сатаны, от всех ангелов его, всех дел его, от всей гордыни его, когда сказали, что сочетаемся Христу, то есть делаемся едины с Ним. Вы знаете русское слово «чета», оно значит: муж и жена. Это двоица, которая стала единицей. И когда мы говорим: «я сочетаюсь Христу», это значит, что я с Ним соединяюсь так, что все, что Он Собой представляет, я принимаю за свое призвание, если не за данность, и все то, что я собой представляю, Он принимает на Себя как крест. Это дар взаимного доверия, где каждый из нас приносит, Один — Свою совершенную святость, другой — свою открытость, при всей греховности, которая в нас есть.
Об этом говорит очень ярко, образно момент в таинстве брака, когда жених и невеста обмениваются кольцами. В древности кольцо не было просто украшением руки, кольцо было печатью. В то время, когда люди были неграмотны, не умели писать, когда какой-нибудь документ надо было заверить, они своим кольцом клали печать. И дать человеку свое кольцо значило дать ему неограниченную власть не только над своим имуществом, но над своей честью и над своей жизнью. И вот жених и невеста обмениваются кольцами.
Но вы наверно помните, что в Священном Писании образ жениха и невесты постоянно применяется ко Христу и Церкви, ко Христу и живой человеческой душе. И в этом обмене кольцами мы можем видеть то, что совершается тут, когда человек говорит: сочетаваюсь Христу. Да, я делаюсь Твоим, потому что Ты — Ты, мой Бог, — захотел стать моим… Но когда мы уже стали Христовыми, новое измерение входит в оценку наших поступков. Не только я согрешаю — во мне, через меня Христос вовлекается во тьму, в страдание, в ужас. У апостола Павла есть очень страшный образ, когда он говорит, что мы являемся телом Христовым и удами, то есть отдельными частями тела Христова, и он говорит: неужели я возьму уды Христовы и сделаю их удами блудницы, неужели я возьму Христово тело, которым я являюсь хотя бы в зачаточном, в изначальном смысле, и отдам это тело на блуд (1 Кор 6:15)? Это же можно сказать о душе, потому что когда святые отцы говорили о блуде, они не говорили только о телесном грехе, а о том, что вместо Бога выбран другой, или другие, или другие ценности, и они сделаны богами, нашим достоянием. И это очень значительный момент.
И когда мы дальше живем уже крещеными, мы должны постоянно ставить перед собой вопрос не о том только, достоин ли я себя самого, но — достоин ли я того, что Христос мне дал стать одним из членов Его таинственного тела, Церкви, и не только в каком-то переносном смысле, но реально, физически, душевно, духовно, во всех отношениях. И поэтому когда мы думаем о том, чтобы исповедоваться перед причащением Святых Тайн или просто исповедоваться в момент, когда нам нужна исповедь и очищение, мы должны продумывать все то, что я сказал раньше о состоянии оглашенных: достоин ли я себя самого перед судом своей совести, перед судом людей, перед судом того, что я знаю из Евангелия, но кроме того, должны поставить вопрос так: достоин ли я того, что я Христов, что я стал членом Христова тела и все, что со мной совершается, каким-то образом совершается не со Христом, а над Христом? То есть Он не оскверняется, но Он ранен, Он распинается, Он отвержен, Он делается посмешищем и т. д. И только на этом пути, когда мы так идем вперед, мы можем идти по направлению к причащению Святых Тайн, потому что это будет момент, когда нечто еще большее должно совершиться, чем то, что совершилось в Крещении.
Я сейчас вам дам два образа, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Как-то я спрашивал отца Георгия Флоровского, что совершается в Крещении: все ли уже завершено или только зачаточно нам дано? И он ответил: когда мы крестимся, это словно зерно вечной жизни, нашей приобщенности ко Христу, к Богу, вкладывается в ту землю, которую мы собой представляем. Это может быть добрая почва, это может быть каменистая почва, эта почва, возможно, вся заросла тернием, и судьба зерна будет зависеть от того, какова эта почва и что мы над этой почвой будем совершать. Очистим ли мы ее от терний? решимся ли мы ее вспахать и удобрить, если она только каменистая, бедная почва? будем ли мы заботиться о том, чтобы никогда добрая почва не стала бесплодной? Этим, мне кажется, сказано нечто очень важное. Зерно вечной жизни нам дается полностью, неограниченно, но что с ним будет — зависит от нас. Это кладет на нас огромную ответственность перед Богом, перед Его любовью. Речь не идет о том, что мы будем осуждены из-за того, что чего-то не исполнили, а о том, что нам предложена беспредельная любовь, и мы пожали плечами и сказали: «Ну, с меня хватит и меньшего».
Второй образ, относящийся к крещению, можно взять у апостола Павла, когда он говорит, что мы прививаемся Христу, как веточка прививается к сильному, плодотворному, крепкому дереву (Рим 11:17—24). Представьте себе, садовник ходит по саду и вдруг видит, что какая-то веточка, которая могла бы жить полной жизнью, начинает хиреть и увядать. И он совершает над ней очень страшное для нее действие. Он ее отрубает от ее земных корней. Если веточка могла бы отозваться, она бы вскрикнула: что ты делаешь?! Ты меня оторвал от единственного источника жизни, какой у меня есть, от земли, из меня течет мой сок, я сейчас умру! Но садовник знает, что он делает, и он подносит эту веточку к стволу или ветке живоносного дерева, надрезает это дерево, ранит его, и рана к ране прилагает к живоносному дереву умирающую веточку, и связывает их так, чтобы веточка не могла отпасть. И постепенно живоносные соки живого и животворного дерева пробиваются по всем сосудам этой веточки, вытесняя ту относительную жизнь, которую она извлекала из земли, и наполняя ее такой жизнью, о которой она не могла мечтать, жизнью, которая никогда не перестанет в ней течь и которая не то что изменяет ее, превращая ее в нечто, чем она не является, но дает возможность в ней расцвести всему, что способно расцвести. Все возможности расцветают, она делается полностью собой, потому что она полностью исполнена такой жизни, которой от земли нельзя было получить.
Это совершается и над нами, когда мы бываем крещены, когда мы отрекаемся от земли в том смысле, в котором земля является отчужденностью от Бога, когда мы соединяемся со Христом сначала вольным выбором, а затем и действием Божиим и начинаем жить. Опять-таки тут образ ясен. Божественная жизнь течет по нашим сосудам, но она еще не проникла до пределов нашего существа: все дано, но мы должны раскрыться так, чтобы эта жизнь собой заполнила все. То же бывает и с нашим Крещением. И поэтому такая борьба должна идти в течение всей нашей жизни, чтобы освободиться от того, что у нас осталось мертвого, и раскрыться тому, что является вечной жизнью..
И на этом пути есть две вещи, которые мы должны делать постоянно и параллельно. С одной стороны, мы должны вглядываться во все то, что нас делает непохожими на Христа, нас делает чуждыми образа Божьего, который в нас запечатлен. Но, с другой стороны, мы должны вглядываться изо всех сил, всем вниманием, хотя бы ограниченным нашим пониманием, в то, что в нас есть уже богоподобного, что в нас есть такого, что нас уже делает похожими на Христа. Это можно легко сделать, хотя совершить полностью нелегко. Если мы читаем Евангелие с открытым сердцем, с открытым умом, то есть места, которые нас ударяют в душу, от которых сердце горит, от которых делается светло в уме, от которых воля наша стягается
[89], от которых тело наше напрягается новой силой. В эти моменты мы должны знать, что эти слова Христовы, этот образ, этот пример, это момент, вернее, черта в нас, которая уже нас делает родными Христу, в этом мы уже на Него похожи, иначе мы не могли бы с такой радостью воспринять то, что мы прочли. Мы прочли бы это с болью, что мы не похожи, с ужасом, что эти слова нас осуждают; а тут нет, тут — радость откровения. И эти места мы должны отмечать себе, записывать, если нужно, никогда не забывать, и если даже мы грешим по отношению к другим заповедям, то по отношению к тому, что в нас раскрылось, мы никогда не должны допустить греха, мы никогда не должны предать поруганию то, в чем мы уже похожи на Христа, то, в чем Христос уже похож на нас.
Вы наверно знаете, что бывают иконы, которые не только попорчены временем, но и осквернены. И когда иконописец смотрит на икону, которая пострадала от времени или от человеческого зверства, он не только вглядывается в то, что изуродовано, он ищет те места в этой иконе, которые уцелели, в которых уцелела изначальная красота. И вглядываясь в них, он начинает видеть, как эта красота может дальше разлиться по всей иконе, и, очищая оскверненную или изуродованную часть, он начинает вписывать в нее то, что он увидел еще неоскверненным. Вот это мы должны делать над самим собой: вглядываться в себя, искать то, в чем мы уже христоподобны, и, увидев это, помочь себе распространить это подобие Христу на все элементы нашей личности, на наши мысли, наше сердце, нашу волю, нашу плоть. И тогда постепенно мы будем вырастать в полную меру роста Христова, о котором говорит апостол Павел (Еф 4:13)..
В конце службы Крещения совершается еще одно: постригается человек. В древности постригали человека, когда он поступал в армию. В России говорили: «забрить новобранца». В древности совершалось то же самое. После того как мы прошли через все те стадии, о которых я говорил, полностью выбрали Христа, полностью стали Его учениками хотя бы решимостью, волей нашей, открытостью сердца, готовностью любой ценой быть Ему верными, мы делаемся членами Христова воинства, а воинство призвано к борьбе, призвано воевать. Мы теперь делаемся не только спасаемыми овцами стада Христова, мы теперь делаемся Его посланниками в мир, мы Им посылаемся через весь мир пронести весть евангельскую и, если нужно, доказать ее истинность, правду ее жизнью и смертью. И порой жизнью доказать правдивость учения Христова бывает трудней, чем мгновенной смертью.
Ответы на вопросы
Вы говорили о необходимости готовиться к крещению и об ответственности этого момента. Когда крестят младенца, это не осознанное действие…
Видите ли, ребенок лично безгрешен. На нем лежит тяжесть греховности всего человечества, той ограниченности, которая принадлежит всем нам. Но сам он лично не совершил ни одного греха, в котором ему надо было бы каяться, и Крещение ему дается, потому что это встреча между живой душой и Живым Богом, которые не отделены друг от друга средостением, выбором греховным, бывающим, к сожалению, в нашей жизни.
Да, но когда он вырастет? Человек взрослый сознает себя обязанным соблюдать обеты, а у ребенка такого сознания не остается……
Тут играют роль его родители и его крестные. И это очень важный момент. Мы сейчас крестных выбираем по большей части почти случайно. Но в более серьезные времена крестными выбирались такие люди, которые в случае смерти родителей могли взять на себя духовное воспитание ребенка и могли восполнить то, чего не хватает у родителей для воспитания этого ребенка. Крестить человека — это как бы заложить зернышко вечной жизни в его душу, но это зернышко надо оберегать, надо взращивать, и это дело родителей, крестных, церковной общины, включая и духовенство, это не автоматическое спасение. Дается нечто, что принадлежит вечной жизни, жизни Божественной, но оно может заглохнуть. Вы помните наверно притчу Христову, как сеятель бросал семена: одни упали на добрую почву, другие — на каменистую, третьи — на дорогу, еще другие — в кустарник, и судьба их была различная (Лк 8:5—15). Но семена просто кидаются, а семя крещения, которое вкладывается в душу, должно быть оберегаемо и взращено родителями, крестными и всей церковной общиной. Здесь в Лондоне, например, мы всегда стараемся, когда бывают крестины или принятие в православие, чтобы по возможности присутствовала община, потому что община на себя берет ответственность за этого человека. Не то что: ах, такой-то крестился, он стал один из нас… Нет, это человек, который теперь — наша ответственность, мы должны его защитить от зла, уберечь, ему помочь вырасти, быть для него доброй почвой.
Вы говорили: быть христианином — значит быть другом Христовым. Дружба предполагает какое-то равенство отношений, равенство положения. Как это возможно? Христос — все, а я фактически ничто. Как же я могу быть равен Христу?
Нет, неправда, что вы ничто. Вы настолько дороги Богу, что Он решился стать человеком, учить, жить и умереть, чтобы вы поверили в Его любовь и поверили, что Он вас не предаст. Равенство не заключается в том, чтобы иметь равные права. Равенство заключается в том, чтобы друг друга равно любить, равно быть преданными друг другу. И, конечно, мы можем дружить с человеком (это постоянно бывает), который выше нас, но настолько нас любит, что нас приравнивает себе без «снисхождения» к нам. Помните, например, в Евангелии после Своего Воскресения Христос говорит Марии Магдалине и другим женщинам: Пойдите к братьям Моим… то есть к апостолам (Мф 28:10)? Он их признает за Своихбратий. Если мы хотим быть равными, мы должны быть равными в верности, равными в любви и постепенно вырасти в ту меру, о которой говорит Христос: вы во Мне и Я в вас (Ин 14:20).
В России теперь часто подходят к крещению чисто формально…
Тут играет роль очень многое. Во-первых, количество людей. Я не считаю, что это настоящая причина, но фактически это играет свою роль. Скажем, когда я занимался людьми, которые хотели креститься или стать православными, я им давал тридцать часов встречи, и мы говорили о всем, о чем умели говорить. Здесь мы это можем делать, потому что нас мало. Если нахлынула бы толпа в 600 человек, которые хотят креститься, то надо было бы подходить иначе. Хотя в основе подход был бы тот же. Мы об этом недавно говорили с отцом Михаилом
[90]: устраивать коллективные беседы, где можно было бы говорить все, что надо каждому сказать, вот как я сейчас делал. И мы сговорились с отцом Михаилом, что я проведу эти беседы, а он с каждым человеком, который хочет креститься, будет говорить отдельно о том, что касается лично его самого. И это можно, это возможно всегда. Есть люди очень сложные, скажем, у кого прошлое очень сложное, ломаное, исковерканное, им надо дать много времени; а есть люди очень простые, которые могут войти почти сразу.
Я думаю, что в России еще одно несчастье, о чем писал Лесков еще в XIX веке, когда говорил, что Русь была крещена, но не была просвещена
[91]. Крестили как бы автоматически: ты родился в православной семье — как тебе не быть крещеным… Этого недостаточно. Это основание, но за этим стоит целый мир подготовки родителей, крестных, окружающей общины
ии постепенного воспитания мальчика или девочки в вере. Причем воспитание не заключается только в том, чтобы ребенка научить катехизису, чтобы он знал истины веры. Я помню, одна наша прихожанка, которая теперь уже бабушка, девочкой ходила в воскресную школу и как-то сказала на собрании родителей: «Отец Антоний нас ничему не научил, но он в нас зажег интерес, и мы сами начали учиться». Я думаю, что в этом очень важный момент.
Когда мы готовим людей к Крещению, есть вещи, которые должны быть сказаны лично, а есть момент общий: зажигания, того, что человек захочет Крещения, потому что он уловит что-то через другого человека, который, может быть, сам не очень-то хорош, и вдруг проснется. У нас был выдающийся богослов в Париже, который кончил целый ряд богословских школ и в России, и в Париже, и в Риме. Он все мог объяснить; единственный у него был недостаток: он пил отчаянно. И помню разговор между ним и смелой прихожанкой: «Слушайте, каким образом вы нам так ясно указываете путь на небо, а сами ни с места?!». Он тогда не был пьян, он на нее посмотрел и ответил: «А что бы вы сказали, если бы все придорожные столбы, вместо того чтобы указывать вам, куда идти, умчались к цели?». Я к тому говорю, что иногда человек, который вас учит, ничем не лучше вас или даже хуже. Так что вы не обязательно ищите святого, который вам все пути раскроет, а ищите человека, который сам умеет каяться и у кого каменное сердце сломилось и стало плотяным, как говорит Иезекииль в своем пророчестве (Иез 36:26).
Иоанн Креститель крестил без подготовки, просто немедленно всех желающих. И так и Христос в начале. Почему? Тут два момента. Во-первых, Иоанн Креститель крестил, как сказано в Евангелии, крещением покаяния (Мк 1:4). То есть люди приходили к нему, слушали его проповедь, были ею потрясены, в них совершался внутренний переворот, который потом сказывался более или менее совершенно в жизни, и как символ того, что они хотят смыть свое прошлое, очиститься от него, они погружались в эти воды, омывались ими и из них выходили. Эти воды сами по себе не совершали таинства, это был образ того, что я вымылся, мое прошлое смыто, оно теперь лежит грязью, смертоносной силой в этих водах.
В раннем христианстве был переворот такого рода, которого мы, в общем, не знаем (я не говорю сейчас о странах, где были гонения и т. д., но в среднем о христианском мире). В древности был выбор между идолопоклонством и поклонением Единому Богу во Христе. И если человек решался на второе, это значило, что он будет отвержен своим окружением, что он берет на себя риск мученической смерти, что порой собственные родные его предадут на эту смерть. И в то время, когда человек приходил и говорил: со мной случился такой переворот, я теперь не могу жить прошлой жизнью, теперь я готов умереть, скорее чем остаться язычником и поклоняться бесам, — его крестили с гораздо большей легкостью.
Я думаю, что в России или в других странах, где было гонение на верующих, многих можно так крестить, кто сделал абсолютно решительный выбор, который может обернуться для них трагедией. Но в нашей здешней обстановке приходится быть более осторожными, потому что это переходы теневые от серого в менее серое или в более светлое. Очень мало кто проходит через такой драматический переворот, который значит для него новую жизнь, где прошлому нет места. Я помню одного человека, который пришел на исповедь и сказал: «Батюшка, я вам могу поисповедать все свое прошлое, но я над ним больше плакать не могу, потому что оно во мне вымерло и это жизнь другого человека, которого больше на свете нет». И это была правда, это не была иллюзия, когда на одно мгновение ему показалось, будто он стал другим человеком; это был переворот такой трагический и решительный, что он не мог больше, будучи тем, кем он стал, каяться в том, что совершил тот человек, которым он больше не был.
Как помочь человеку, который в сознательном возрасте, чтобы венчаться в храме, потому что так в России делают, перешел в православие (он был католик). После этого его жизнь стала рушиться. То есть не материально, но духовно он очень страдает..
Я думаю, что вообще (но это тема большая сама по себе) к браку людей не готовят и они себя не готовят. И люди венчаются так же, как регистрируются в государственном учреждении. Я думаю, что тут нужна гораздо большая подготовка. Католик — не католик, не в этом дело, вопрос в том, как он относится. Помню случай: ко мне пришли двое, она — православная, он англичанин. Они хотели венчаться; я им поставил несколько вопросов и оказалось, что он неверующий, просто безбожник. Я сказал, что венчать их не буду. Он удивился: «А почему нет? что я могу получить от венчания или не получить, не венчавшись? Что Церковь знает о любви, чего я не знаю?». Я сказал: «Хорошо. Вот текст службы венчания, мы с вами начнем ее разбирать, и вы попробуйте понять, что Церковь знает о любви, о чистоте, о браке и т. д.». Мы с ним в тот день начали читать самое начало службы, и через час он меня остановил и сказал: «Нет, свадьбу мы должны отложить. Я вижу, что Церковь знает то, о чем я понятия не имею; я не буду венчаться, пока сам этого знать не буду». И мы в течение нескольких месяцев встречались, и, начиная с таинства брака, он постепенно пришел к пониманию того, что Церковь знает о человеке, о Боге. Через несколько месяцев он крестился, и потом я их венчал.
Князь Владимир крестил Русь насильно, без всякой проповеди, тем не менее он причислен к лику святых…
Князь Владимир не был причислен к лику святых просто за то, что крестил киевлян. Если посмотреть на жизнь князя Владимира до того, как он сам крестился, и потом, вы увидите, до чего он сам переменился и какой строй жизни он учредил в Киеве и в своем княжестве. Он просто стал другим человеком. Мы сейчас его ублажаем за то, что благодаря ему Русь была крещена, но это произошло не потому, что он призвал греческих священников крестить своих подданных, а потому что он сам так переменился. И между прочим, его святость очень долго не воспринималась на Руси. Он был признан святым много спустя после Бориса и Глеба. Их святость ярко представилась, ее поняли, а роль Владимира, которую он осуществил через внутренний переворот, была воспринята людьми гораздо позже.
Вопрос в том, что крестили на Руси не по убеждению, а насильно. Как к этому относится Церковь в наши дни? Это неправильно!
Я бы сказал, что отношусь к этому болезненно, с сожалением. Потому что человек, который крестится иначе как по собственной воле, по своему выбору, лишается чего-то. Он никогда не сможет пережить того, что он мог бы пережить перед Крещением, во время подготовки или по случаю Крещения. Разумеется, он может потом вернуться к этому, пережить, но чего-то он лишился. Я думаю, что это реально для многих, кто был крещен в детстве, забыл о Боге или был обезбожен воспитанием, кто потом нашел веру или вернулся к вере, вошел в Церковь через покаяние и через причащение Святых Тайн, но без этого чудесного погружения во Христа.
Наше приобщение к вечной жизни — это целый процесс, это не враз делается. Оно начинается в момент, когда мы от мира, то есть от всего, что вне Бога, обращаемся к Богу, то есть поворачиваемся лицом к Нему, смотрим в Его сторону и движемся в Его сторону. В тот момент, когда мы начали идти, мы уже на пути к вечной жизни. А Христос сказал: Я — путь, и истина, и жизнь (Ин 14:6). В тот момент, когда ты вступил на этот путь, ты уже на пути, который называется Христос, и вечная жизнь тебя обдает, как воздух обдает тело.
Затем это целый процесс, о котором я говорил в начале, в течение которого мы вырастаем из зла и врастаем в Бога и в Божественные категории, в добро, скажем, и в вечную жизнь. А затем очищение нас Самим Богом, поскольку сами мы очиститься не можем, так же как мы не можем сами исцелиться, не можем сами войти в вечность. И это опять-таки делается путем этих молитв, погружением в святые воды, которые нас очищают и просвещают. Это смерть и воскресение наши, но мы выходим, уже очистившись водами святой купели и вместе с этим взяв на себя как бы новое человечество, Христово человечество. Как отец Сергий Булгаков раз сказал
[92], после Крещения, Миропомазания и Причащения мы являемся как бы продолжением воплощенной жизни Христа на земле, мы являемся членами Тела Христова, частицей, живой частицей, которая находится еще на земле, раньше чем мы войдем в Царство Божие, но на земле у нас та же задача, как у Христа: принести другим людям хотя бы весть о вечной жизни. И таким образом мы постепенно приобщаемся к полноте вечной жизни не только различными действиями Божиими, церковными, но тем, как мы их воспринимаем, — ведь мы можем и не воспринять ничего.
Я помню случай человека в России, который был приглашен быть восприемником одного своего друга. Священник его спросил: «Вы в Бога веруете?» — «Нет, я безбожник». — «Вы, значит, не крещены?» — «Как нет? я крещен, я же не собака!». У него представление о Крещении было как о признаке того, что он настоящий человек, но в Бога он не верил. Такого рода Крещение нас конечно не вводит в вечную жизнь. Это целый путь постепенного восхождения с момента, когда мы оглашены, когда мы приходим к Богу, когда мы испытываем свою совесть, когда мы отрекаемся от зла, когда мы выбираем добро и Бога, к моменту, когда Бог нас принимает и преображает, дальше идет дар Святого Духа, дальше идет наше приобщение, то есть Причащение в Литургии. Это все действия, которые в нас внедряют вечную жизнь и благодаря которым мы внедряемся в вечную жизнь. Но вечная жизнь нам дается только частично. Вы, может, помните слова апостола Павла, который говорит: пока я живу в теле, я отделен от Христа и поэтому для меня смерть — приобретение, потому что, когда я умру, я буду со Христом (2 Кор 5:6; Флп 1:21). И в другом месте он говорит, что, когда мы умрем, придет время, когда мы познаем Бога так же, как мы Им познаны (1 Кор 13:12), в полном взаимном общении, и взаимном понимании, и взаимном познании. Но это не только после смерти, это будет продолжаться, как рост человеческой души и жизни через Страшный суд и во всю вечность..
Мне не совсем понятно. Вы говорили о водах живых и мертвых и привели объяснение, которое вам дал протестантский пастор. Грехи, которые Христос на Себя взял, остались в воде. В моем мышлении это было бы эффективно, если бы до Христа крестились все люди, все грешники. У Иоанна Крестителя крестилась ведь только часть еврейского народа. Так насколько это представительно? Только часть общей грязи попала туда…
Дело не в том, чтобы Христос взял на Себя каждый возможный отдельный грех. Таких грехов без конца было бы, и тогда надо было бы «купать», если можно так сказать, все поколения, которые до Христа были, и Ему погружаться в эти воды. Христос воспринял то, что грех — это убийственная сила, это наша отделенность от Бога, наше отчуждение от Него, а порой — наша вражда по отношению к Богу. Люди, которые погружались в воды, исповедали отдельные грехи, но для каждого из них грехи, которые он исповедовал, были кумирами, которым он поклонялся, отрекаясь от Живого истинного Бога. И поэтому вопрос не в том, сколько кумиров, вопрос в том, что эти люди исповедали свою отчужденность от Бога. И Христос, погружаясь в эти воды, как бы взял на Себя этот ужас отчужденности — не богооставленности, потому что богооставленность значила бы, что Бог их оставил, а их отречения от Бога, отстранения Бога. Но Он взял на Себя этот ужас смертности, и когда Он был на кресте, в какой-то момент Он должен был приобщиться до конца, до самых глубин этому ужасу. Этот момент отец Софроний мне раз назвал «метафизическим обмороком», это был момент, когда Он вдруг перестал ощущать Свое единство с Отцом и воскликнул: Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил? (Мф 27:46). Бог Его не оставил, но Христос оказался вне сознания этого Своего общения, и Он умер человеческой смертью, которая не Ему принадлежала, на Нем была наша смерть. И, как сказано, ранами Его мы исцелились (Ис 53:5), не потому что Он отдельные грехи искупил отдельным страданием, а потому что смертность всего рода человеческого легла на Него через эти отдельные грехи.
Иоанн Креститель узнал во Христе Мессию. Почему же потом он посылает своих учеников спросить Христа: Ты ли Тот, Которого мы ждали, или ждать нам другого??
Я могу вам только дать свое понимание, могу сказать, как я сам это переживаю. Когда Христос еще шел к Иоанну Крестителю, Иоанн Его увидел и, обращаясь к народу, сказал: Вот агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин 1:29), он в Нем увидел Агнца, на которого возлагается греховность человечества и который от нее должен умереть. Это еще ветхозаветный образ, который, в общем, должен был говорить каждому о том, что, потому что ты совершаешь зло, невинный будет страдать и, может, даже умрет.
А затем прошел целый период времени, в течение которого Иоанн Креститель продолжал свою проповедь, а Христос совершал Свое дело. В какой-то момент Иоанн взят в тюрьму и оказывается перед лицом смерти. И он задумывается, вероятно, над тем, чем была его жизнь. Его жизнь была отречением от всего, что составляет простую, невинную радость человека. Он юношей ушел в пустыню, жил подвижником, настолько ушел в Бога, что Евангелие от Марка говорит, что он глас Божий в пустыне (Мк 1:3), это не человек, говорящий слова Божии, а Божий голос, звучащий будто через трубу. Он находится перед лицом смерти, задумался над всей своей жизнью, и ему пришло последнее страшное искушение: испытание его верности, не веры, которая ему открыла, что Христос — Агнец Божий, а верности до конца, до смерти включительно.
И мне представляется, что вдали от всего, в одиночестве он мог себе поставить вопрос: не обманут ли я, не ошибся ли я? Я всю свою жизнь отдал на это, а вдруг я ошибся и в своей миссии, и в том, что я проповедал, и в Том, Кого я исповедал Агнцем Божиим? Вдруг все это самообман или обман злыми силами?.. И он тогда посылает ко Христу своих учеников, которые должны Ему поставить вопрос: Ты ли Тот, или нам ждать другого? И Христос не лишает его предельного и последнего подвига веры, то есть уверенности в том, что было ему открыто от Бога: скажите ему: хромые ходят, слепые прозревают, глухие слышат, и блажен тот кто не соблазнится о Мне (Мф 11:6). Христос его, последнего пророка, отсылает к древним пророчествам о Нем самом. И последнее, героическое действие Иоанна Крестителя: он отдает свою жизнь из чистой веры и верности.
Однажды при мне старушка посмотрела на ребенка, которого к ней привезли, и сказала: «Да что вы, он же не крещен». Значит, есть какая-то печать? С другой стороны, я знал человека, который не был крещен, в 1920-е годы родился, — хороший, светлый человек…
Я мог бы вам ответить, как мне раз ответил один человек: спроси Господа… Я отвечу, как умею.
Во-первых, когда говорят старушки или святые, им дано просто видеть, что человек во Христе или вне. Я этого объяснить не могу, но так же они видели, что один человек грешен, а другой чист, что один погибает, а другой на пути к спасению. Это дар Божий, прозрение.
Что касается второй половины вопроса: есть старое присловье, что не лишение таинства, а презрение таинства лишает благодати. Человек, который крещен без всякого намерения быть крещенным, как бы крещен, потому что «он не собака», от этого не меняется. В него, может быть, вкладывается зернышко вечной жизни, но так же, как в притче Христовой, это зернышко лежит или в сорной траве, или на дороге, или на камнях и плода никакого не приносит. С другой стороны, в древности было то, что называли «крещением желания». Вы себе представляете, что тогда общины были небольшие, и иногда человек жил далеко и по обстоятельствам жизни не мог добраться до общины, где мог бы креститься. Но он уверовал во Христа, всецело открылся Ему, а умирал, например, без Крещения. Его хоронили по-христиански, потому что его желание принималось Богом полностью, как будто совершено было действие.
Если человек крестился во взрослом состоянии, надо ли ему исповедоваться в грехах, которые были совершены до крещения?
Грехи, которые были совершены до Крещения, должны были быть исповеданы перед Крещением, с тем чтобы креститься, раскаявшись и примирившись с Богом, со своей совестью, с ближним. Я бы сказал даже: порой «простив Богу» то, что мы против Него имеем.
Этим я вот что хочу сказать. Я помню старушку, которая ко мне на исповедь пришла, исповедовалась в своем нетерпении, в том, другом и прибавила: «Но чего же вы, батюшка, можете от меня ожидать? Была русская революция, потом у меня артрит развился, а зять у меня невыносимый, что же мне делать?». Я ей говорю: «Знаете что, во всем этом, видно, Бог виноват. Так раньше чем Бог вас простит в ваших грехах, можете ли вы Его простить за то, что Он нарочно, чтобы вас позлить, устроил русскую революцию, наслал на вас артрит и еще вдохновил вашу дуру дочку выйти замуж за такого человека?». — «Да как же я могу Богу прощать!?» — «Очень просто: вы на Него жалуетесь. Раз жалуетесь, значит, сердитесь; а если сердитесь, значит, считаете Его виноватым. Так вот вы с Ним сначала примиритесь, а потом просите Его вас простить». Вот что я хотел этим сказать.
Поэтому очень важно перед тем, как креститься, именно примириться со всем — с жизнью, с Богом, с собой, с ближними. Полностью исповедоваться и примириться никому из нас не удается, потому что, знаете, ви{'}дение своей души немножко похоже на археологические раскопки. Сначала видишь то, что лежит прямо перед глазами, потом снимаешь этот слой, оказывается другой слой под этим, третий, десятый слой. И поэтому ожидать, что мы копнем и разом все вынем, невозможно; но каждый раз, когда мы вполне честно исповедуем тот слой нашей души, который во свете Божием, который мы осознали, в котором мы покаялись, мы имеем право получить разрешительную молитву и причаститься Святых Тайн. После этого оказывается, что, благодаря тому что мы сняли один слой, мы начинаем видеть другой. Но отчаиваться не надо. Наоборот, когда археолог находит какой-нибудь древний город, чем глубже он копает, тем больше он рад. Вот так и тут: мы должны копать и радоваться, что находим новые, и новые, и новые слои, пока не дойдем до крепкой Божией почвы.
Ожидать, что мы будем прощены за все оптом… Да, Бог прощает в том смысле, что Он нас не осуждает на смерть, не уничтожает; но Он от нас ожидает, чтобы мы стали зрячими, осознали свою греховность, и чтобы каждый раз, когда мы осознаем что-либо, мы принимали решение, и такое решение, которое будет так или иначе проводиться в жизнь, решение больше так не поступать, больше так не относиться к жизни. Поэтому если, приняв Крещение, вы обнаруживаете, что есть в вашем пред-крещенском опыте нечто неисповеданное, неочищенное, непросветленное, то несите на исповедь вновь, вернее, не вновь, а впервые. Знаете, в служебниках XV—XVI веков есть разрешительная молитва, где говорится: «И прости его, Господи, в том, в чем он искренне покаялся» — потому что это единственное, что можно простить. В том, в чем человек не каялся, а как бы замолчал, его простить нельзя, не потому что Бог не прощает, а потому что прощать нечего. Ты не приносил это на исповедь, и это вне исповеди остается.
Есть люди, у которых нет природной предрасположенности быть добрыми или делать добро. Можно ли делать добро вначале по понуждению??
Конечно, можно. Скажем, если стоит голодный человек и у тебя есть возможность его накормить, хотя нет никакого особенного чувства сейчас, ему все-таки будет лучше, если ты его накормишь. Сказать: я буду ждать, чтобы у меня душа растопилась, чтобы слезы потекли от твоего несчастья, и только тогда я тебе дам хлеба — не очень помогает человеку. Поэтому если у вас нет чувства сострадания, но есть сознание нужды перед нами, мы должны на эту нужду отозваться, и это возвратится к нам при одном условии: если мы отнесемся к этому человеку с вниманием, то есть не просто бросим ему кусок хлеба или монету, а дадим с сознанием, что я эти деньги или эту пищу ему даю в руки, хотя мое сердце каменное, даю со стыдом о себе, но с желанием, чтобы ему было хорошо. И если при этом мы обратим внимание на то, как он отзывается на радость, которая у него блеснет в глазах, на слово благодарности, которое он может сказать, на то, что вдруг окажется, что между нами установилась какая-то человеческая связь, в тот момент наше сердце непременно так или иначе дрогнет и начнет оживать. Это не значит, что оно оживет навсегда или надолго, но это значит, что в ответ на поступок, который был бес-сердечный, наше сердце проснулось хоть на мгновение.
Почему даже в причастии не утоляется тоска по Христу? Часто бывает наоборот: ничего не чувствую и не ощущаю, кроме еще более глубокой жажды, и слезы текут. Значит ли это, что я не подготовлена к причастию, как надо, слишком поверхностна, нераскаянна? Может быть, надо реже причащаться?
Я думаю, что мы не можем судить о действии Тайн Христовых, вообще таинств, по тому ощущению, которое у нас бывает. Мы часто ожидаем, что переживем то или другое — и ничего не переживаем, потому что в данный момент наша душа оказалась достаточно глубока, чтобы семя пало в такую глубь, где оно отложится, начнет приносить плод, и этот плод мы обнаружим только через некоторое время: это может быть месяц, это могут быть годы. Поэтому вряд ли можно ожидать, что от принятия того или другого таинства — будь то Крещение, будь то Миропомазание, будь то Исповедь, будь то Причащение Святых Тайн, все равно — будет какой-то немедленный результат, какой-то плод, который будет ощутим и будет соответствовать нашему ожиданию. Приняв то или другое таинство, мы всегда ожидаем, что будет новый поток, новый взрыв жизни в нас. Порой ничего такого не случается, а Царство Божие уходит в глубины наши и только постепенно будет подниматься. И душа человеческая часто бывает, как вы наверно помните в русских сказках, подобна граду Китежу, который ушел в глубины озера, и только некоторые одаренные люди могли слышать звон его колоколов или видеть верхушки потонувших церквей. Так бывает и с принятием таинств, и со всяким действием Божиим, которое нас постигает. Иногда мы ничего не видим и не слышим, но другие слышат и видят. Иногда долгое время ничего не случается, но за это время перерабатывается вся наша душа, весь наш внутренний строй перестраивается, до момента, когда вдруг оказывается возможным расцвести тому, что было заложено в нас.
Вопрос был не об этом, но я хотел это сказать предварительно. Вопрос говорит: почему бывает, что причастишься — и вместо того чтобы было чувство близости ко Христу, полноты жизни, радости, только возрастает тоска по Христу? Я думаю, что это объясняется именно тем, что причащение имеет свое действие, что в этот момент не в порядке эмоций, не в порядке умственных каких-то заключений, а в каких-то наших глубинах мы прикоснулись ко Христу, подошли так близко, что в этот момент, не ощущая, может быть, того, мы приобщились Ему и отходим от Чаши, а в нас остается новая глубина и новый голод по полной встрече.
Вы наверно помните, как апостол Павел говорит, что пока мы живем в плоти, мы удаляемся от Христа (2 Кор 5:6), — не потому что грешим и тем самым все дальше от Него отходим, а потому что наше душевно-психическое состояние таково, что мы не можем постоянно ощущать Его близость. Не плоть виновата, а то, что бывает с нами: всей душой, всем существом, и умом, и сердцем, и даже как бы физически мы рвемся к Богу, и бывает всплеск, и потом мы снова возвращаемся на старое. Но это бывает не напрасно. Это не напрасно, потому что этот всплеск нам говорит, на что мы способны, но наше тварное существо еще не созрело к тому, чтобы открыться Богу до конца и как бы погрузиться в Него. И поэтому Павел так мечтает о том, чтобы пришла смерть, чтобы узы физической жизни, земной жизни разорвались и его душа оказалась лицом к лицу с Живым Богом.
Поэтому если в нас от причащения Святых Тайн рождается еще большая жажда, еще большая тоска по тому, чтобы быть со Христом более полно, более совершенно, более нераздельно, мы можем за это благодарить Бога: тоска по Богу говорит о том, что мы Его знаем, что Он близок, но мы не можем еще вместить всей полноты. А если нам еще к тому же даны слезы, то мы особенно можем благодарить Бога, потому что слезы бывают только тогда, когда благодать действительно коснется нашей души и что-то в нас треснет, сломается, окаменелость наша сломается. Вы наверно помните рассказ об утесе в пустыне, которого коснулся Моисей жезлом в момент, когда весь народ умирал от жажды, и из этого утеса ключом забила вода (Чис 20:11). Вот это бывает, слезы происходят оттого, что окаменелость наша хоть на мгновение треснула, разбилась и живая вода потекла..
Говорить о том, надо ли причащаться часто или редко, очень трудно, потому что каждый человек не похож на другого. Есть люди, которые могут и даже, может быть, должны причащаться часто. Есть люди, которые не могут причащаться часто. Знаете, в древности говорили об Исповеди как об омовении, о Причастии — как о пище. И вот подумайте, куда нас такое сравнение ведет. Человек работал на поле, вернулся домой усталый и запачканный. Порой он не должен подойти к столу, не умывшись; а порой усталость его такова, что у него нет сил даже умыться, ему надо что-то съесть сначала. И это сравнение не случайное, я к этому пришел через многие годы. Я теперь священствую немножко больше сорока пяти лет и пришел к заключению, что иногда бывает, что только сила благодати, которая преподается в причащении Святых Тайн, человека может обновить, что он не может каяться до конца, пока не прикоснется вплотную ко Христу. И бывает, что человек приходит, исповедуется до самых глубин, исповедуется со слезами, — не обязательно, чтобы слезы из глаз лились, иногда слезы текут из сердца, человек плачет всей душой. Такой человек в определенных рамках своей исповеди может получить разрешение грехов и причаститься Святых Тайн.
Но бывает, что человек исповедуется и не то что не может все высказать, но что-то остается в нем неразрешенным. И вот тут бывают две возможности: или человек должен отойти, не получив разрешительной молитвы даже, с тем чтобы глубже вдуматься в себя, произнести над собой суд, или продумать себя, или углубиться в Бога по-иному и больше, раньше, чем он сможет идти на Причащение. Или иногда бывает явно (и священник может это ощутить, не обязательно, но может), что он ничего для этого человека сделать не может, что только непосредственная благодать Божия может растопить окаменелость этого сердца и изменить эту жизнь. И священник может сказать человеку: «Иди причащаться, потому что прощение грехов, которое я мог бы сейчас произнести, до тебя не дойдет. Стань перед Христом, попроси Его войти в твои глубины, и только тогда ты сможешь в свое время, может быть, почти сразу после этого опыта причащения, прийти на исповедь совершенно по-новому». Поэтому говорить о том, что надо причащаться часто или редко, можно только формально.
Я знаю, что, скажем, последние десятилетия растет тенденция к частому причащению. И часто бывает, что человек ожидает, что причащение над ним совершит чудо, хотя он к этому чуду не готов. Бывает наоборот, что человек причащается очень редко, но в такие моменты, которые являются поворотными моментами его внутренней жизни. Я не говорю: именины или день рождения, или большой праздник церковный, а какой-то поворот его внутренней жизни. Поэтому я думаю, что устанавливать правила в этом отношении невозможно. Если каждый из нас мог бы сказать: я покаялся в своих грехах, я изменил свою жизнь, я помирился со всеми теми людьми, которых обидел сам или которые меня обидели, я теперь могу подойти ко Христу — это одно. А часто бывает, что человек подходит в надежде, что Бог над ним совершит то, чего он сам не совершает — не по невозможности, а потому что он ожидает, что Бог должен сделать то, чего на самом деле Бог от него, человека, ожидает. Так что я не могу ответить на вопрос, надо ли причащаться часто или редко. Когда я не был священником, я причащался очень редко. Став священником, я должен причащаться за каждой Литургией, и только могу сказать: Господи, я совершаю Литургию, я должен причаститься Святых Тайн, я причащаюсь с благоговением, с верой, но не от внутреннего порыва, а по вере… Некоторые люди, наоборот, подходят еженедельно и часто именно по внутреннему порыву. В этом отношении, я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос.
Как строить отношения со священником, с духовником или с близким человеком, все равно, у которого мы попросим совета?
Большей частью мы просим совета в надежде, что человек или священник на исповеди нам скажет точно то, чего мы сами хотим, и нас порой очень огорчает, что мы получаем совершенно иной ответ. И вот тут бывают два разных положения. Или мы получаем ответ и достаточно доверяем этому человеку, чтобы наперекор своим чувствам и даже своей убежденности поступить по его совету. Или бывает, что мы не можем этого совета принять. И тут вопрос так стоит: что же тогда делать? Можно ли, если священник нам дал совет на исповеди, к нему потом подойти и сказать: «Батюшка, вы мне то-то посоветовали, но я никак не могу вашего совета внутренне принять» (я не говорю: исполнить; исполнить — дело другое, иногда бывают советы, которые просто невозможно исполнить); «я не могу его принять, что мне делать?». Я думаю, что в таких случаях надо относиться к священнику с достаточным доверием, чтобы к нему подойти и сказать: «Вы мне дали совет, я его принять не могу. Выполнить могу, но я его принять не могу. Можете ли вы мне помочь его понять, можете ли вы мне помочь его принять; и, может быть, помочь понять, как справиться мне с самим собой в моем внутреннем протесте?». Иногда бывает, что, несмотря на такой разговор, ничего не получается. В таком случае, думаю, священник (вероятно, большей частью это должна быть его инициатива) может сказать: «Вот, я из глубины моего убеждения и опыта тебе дал такой-то совет. Ты принять моих слов не можешь, и в результате этого совета между тобой и мной даже трещина вдруг прошла, доверие ко мне ушло. Пойдем к другому человеку, которому мы оба доверяем, поставим ему вопрос. Он или сможет его разрешить, или ты на время уйди от меня к этому священнику, потом вернешься ко мне, когда буря пройдет». Я это испытал на опыте с одним очень замечательным старцем, который долго вел одного своего духовного сына, и вдруг они размежевались, общего языка больше не оказалось. И он его передал мне на короткое время, с тем чтобы этот вопрос был решен, а потом он вернулся к своему духовнику. Вот что я могу ответить на это.
Мы уже говорили о формальном отношении к крещению в России сегодня. То же самое относится к исповеди: подход к исповеди в современной практике в России часто формальный…
Этот вопрос, конечно, должен преодолеваться постепенно. Сейчас у нас просто не остается уже времени, чтобы подробно говорить о связи между причащением и исповедью, о самой исповеди и самом причащении. Я как-то в Духовной академии в Троицкой лавре читал доклад, и мне был поставлен вопрос, требую ли я от прихожан, чтобы они исповедовались перед каждым причащением. Я сказал, что нет, и объяснил, почему. И помню, один студент встал в глубине и сказал: «В таком случае вы не православный!». Я обратил его внимание на то, что я лет на пятьдесят старше его и меня тоже кто-то воспитывал, причем воспитывали меня в самом классическом смысле слова: исповедь, причащение и т. д. Но я пришел к заключению из моей священнической работы, что порой лучше человеку исповедоваться очень глубоко один раз и после этого несколько раз причаститься; созреть до другой исповеди, которая была бы глубинная, а не формальная, относящаяся к тому, что в нем, в ней действительно происходит, и снова прийти на исповедь. И мой многолетний опыт показал, что это действительно дает какие-то плоды. У верующего развивается сознательность и сознание ответственности перед Богом, перед людьми, перед собой и уверенность в том, что с Богом «квитым» нельзя быть, что нельзя сказать: «Господи, я Тебе все вычитал, что полагается, теперь изволь поступить по уставу».
Помню, много лет тому назад, в первый год, когда я священником здесь был, подошла исповедоваться пожилая русская женщина. Я помолился с ней, потом замолчал. Она молчит. Я говорю: «Вы пришли исповедоваться, так, может быть, начнем?». Она отвечает: «А мне не в чем исповедоваться». — «В таком случае я не могу вам дать разрешительную молитву, раз вы ни в чем не виноваты!». Она на меня посмотрела с негодованием: «Простите, я пришла на исповедь; я имею право на разрешительную молитву, имею право на причащение!». Это такой кульминационный пункт или предел уставничества: я имею право, я ни в чем не виновата, но я перед тобой стала, а твое дело — мне разрешительную молитву прочесть. Я для этого, может быть, даже на колени стану или хоть голову наклоню… И такой подход разрушает внутреннюю жизнь того человека, который приходит на исповедь. Сказать «мне нечего исповедовать», это неправда просто. Нет ни одного человека, который мог бы сказать, что между утром и вечером у него не прошла ни одна мысль, ни одно чувство, ни одно движение души, несоответственное внутреннему величию, какого ожидает от нас наше человеческое достоинство, не говоря уж о Боге.
Я поэтому так борюсь с механическим отношением к исповеди и к причащению. Вопрос не в том, что ты имеешь право причаститься или ты имеешь долг исповедоваться, вопрос в том, с чем ты приходишь. Есть люди очень простые, которые не могут разобраться в себе, это дело другое. Есть люди, которые не могут назвать ряд грехов, но которые станут перед тобой и будут плакать над тем, что чувствуют, как далеки они от Бога. Это совсем другое дело, это можно считать за такую исповедь, которую дай мне Бог когда-нибудь принести самому. Но просто такое отношение: мол, я приду, скажу священнику несколько вещей, за которые он мне даст разрешительную молитву, и потом спокойно могу пойти причаститься, мне всегда представляется, что это ужасно похоже на то, как можно пройти мимо злой собаки, бросив ей кость: пока она будет грызть, ты прошмыгнешь мимо. Так и священнику бросить в зубы несколько грешков, а за это время ты уже прошел.
Причастие ведь таинство, и поэтому присутствует Бог Духом Святым. В каком-то смысле мы имеем право на присутствие Бога и на разговор с Ним, когда приходим к Причастию. Именно поэтому если мы не готовы, то не то что стыдно, это просто ужасно, потому что Бог-то всегда приходит и слушает, что ты говоришь…
Бог приходит и слушает, но мы не всегда способны принять то, что Он дает. Есть очень замечательное и очень страшное место у Симеона Нового Богослова, который говорит, что если человек приходит к причастию механически, без живого отношения к тому, что он делает, без покаяния, то Бог, Который не хочет, чтобы человек сгорел в причащении Святых Тайн, как бы возвращает Хлеб в состояние хлеба, и человек получает хлеб, правда, освященный, но не причащается к полной тайне. И тут нам надо задуматься. Замечательно в духовной жизни, что никогда ничего механического не бывает. Мы не можем механически каяться, механически причащаться, мы должны внутренне меняться. Если ничего глубокого у нас нет, Бог отзовется на то, что есть, но если мы приходим с таким чувством, что нам, в сущности, ничего особенного не нужно, просто приятно было бы причаститься, это недостаточное основание.
Не все так высоки душой, чтобы внутреннее себя приготовить. Я думаю, что подготовка к причастию должна быть на каком-то этапе обязательной. Для многих причастие стало каким-то воскресным ритуалом. Не попостился — «ничего, можно, Бог простит». Одна крайность — фарисейство, другая — полное упрощение…
Я не хочу оставить у вас впечатление, будто считаю, что подготовка к причащению, например, или к исповеди через употребление молитв церковных не нужна и не имеет значения. Я только хотел сказать, что вопрос в том, чтобы человек помолился, а не вычитал молитвы, это совершенно разные вещи. Во-первых, одни люди молятся медленно, другие быстро, поэтому надо принимать в учет то, как ты можешь молиться для того, чтобы до твоей души дошло. Поэтому когда меня спрашивают, я отвечаю советом, который Феофан Затворник давал: определи, сколько у тебя времени на молитву, начни молиться без спешки, стараясь умом и сердцем вникнуть в то, что читаешь. Если какое-нибудь слово или какое-нибудь предложение охватит твою душу, зажжет ее огнем, остановись на этих словах, повторяй, пока они не дойдут до самых глубин твоей души, и не переходи к следующим, пока это не будет до конца пережито. И если окажется, что у тебя было полчаса на молитву и за эти полчаса ты прочел только первые несколько строк первой молитвы или псалма, считай, что выполнил все правило, потому что цель правила — тебя поставить перед Богом в молитвенное состояние и через это молитвенное состояние приобщить тебя Богу. Есть люди, которые молятся, как арфа поет под рукой, но есть люди, которые молятся относительно быстро или относительно медленно, с этим приходится считаться. Скажем, я очень медленно читаю молитвы, и для того, чтобы прочесть правило перед причащением, мне нужно пять часов. Я не всегда могу пять часов на это отдать, я могу отдать сколько-то времени, в зависимости от того, чем я связан, в зависимости просто от того, сколько у меня в этот момент физических или душевных сил. И поэтому я себе говорю: вот, меня хватит на столько-то времени. По совету Феофана Затворника я поставлю будильник и буду молиться все это время. Если я и не выполню всего правила в пределах этого времени, я молился все время.
Еще надо считаться с тем, что иногда мы себе представляем, будто должны всей душой и всем умом молиться каждой молитвой, которая перед нами. И это невозможно — просто потому, что если вы возьмете молитвенник, вы увидите в вечерних, в утренних молитвах, в правиле к причащению, что каждая молитва составлена святым — Василием Великим, Иоанном Златоустом и т. д. Можно ли себе представить, что в течение какого-то времени, долгого или короткого, вы способны войти полностью в опыт целого ряда святых, приобщиться ему, будто вы стали каждым из них? Конечно, нет. Что можно сделать — это от убеждения читать молитвы, например, святого Василия Великого. На некоторые вещи, которые соответствуют уже приобретенному нами опыту, мы отзовемся, другие мы можем произнести по вере, а еще о других мы можем попросить Василия Великого принести их Богу от нашего имени, потому что мы не можем их произнести даже по вере.
Если бы мы так относились к молитвам, которые читаем, то вошли бы в гораздо более глубокое отношение с тем святым, который ее написал. Мы могли бы ее читать честно, не говоря Богу то, что мы словами только говорим, а нутром не чувствуем, и могли бы тогда молиться в разумных пределах времени, потому что тогда мы могли бы углубиться. Если поставить перед собой задачу вычитать все правило, когда тебя уже ноги не носят, конечно, ты будешь спешить через него. А Бог это правило столько раз слышал! Ему совершенно не интересно его от тебя слышать, если оно идет не от твоего сердца, а ты только тараторишь. А сказать две-три молитвы от сердца — да, до Него дойдет и до тебя дойдет, что очень важно. Это одно.
Другое, что касается правила перед причащением, например. Мы заранее можем знать, что через неделю будем причащаться. Так вот, раздели правило по столько-то молитв на день, с тем чтобы внимательно прочесть две молитвы из правила каждый день по очереди. Мы можем прочесть их от души, внимательно, со смыслом, и тогда постепенно эти молитвы входят в нас, делаются уже как бы нашими молитвами, содержанием нашей души, перерабатывают нас, меняют нас.
Наш путь в свои глубины должен ли быть путем, которым мы идем одни, или можем мы взять с собой опыт других людей, молитвы других людей, молитву наших предков? или это как человек идет на суд, он идет совершенно один?
Тут есть разные стороны. Когда мы хотим вступить в глубины наши, то мы можем иметь спутников. Первый наш спутник — Сам Господь, Который идет с нами, как Он шел с учениками в Эммаус (Лк 24:13—35). Мы Его, может, не узнаем, мы Его, конечно, не видим, но Он Себя назвал путем, жизнью и истиной (Ин 14:6). Кроме того, нам дан ангел-хранитель, который нас наставляет, если мы только прислушиваемся к своей совести. С еще другой стороны, мы можем учиться тому, как уходят в глубины, как прислушиваются к истине, от подвижников, от святых или просто от других людей, которые на том же пути, от спутников наших. Поэтому мы никогда одни не бываем, но мы должны иметь готовность уйти в своии глубины и найти себя самого. И тут момент такой, что нет трафаретного «я», нет такого «я», которое универсально, которому можно было бы подражать или копировать его. Каждый человек абсолютно единственный и неповторимый, и поэтому каждый из нас идет по общим путям и вместе с тем идет туда, где только он да Бог встречаются.
Я не могу это хорошо объяснить, но дам такой примитивный пример. Когда мы знаем людей поверхностно, мы можем их описывать по внешности — по росту, по расцветке, по одежде, по голосу. Если знаем немножко больше, мы можем говорить об их уме или их сердце. Но чем больше мы знаем человека, тем меньше мы можем о нем в целом сказать, потому что каждый раз, когда мы о нем что-нибудь хотим сказать, нам нужно было бы к тому поправки сделать, и все больше, больше и больше поправок. Я помню, перед своей смертью моя мать мне сказала: «Мы прожили всю жизнь вместе, я тебя так глубоко знаю, и я о тебе ничего больше сказать не могла бы, потому что надо было бы сказать все, а всего сразу не скажешь». Я думаю, тут есть нечто, что может помочь нам в этом искании себя самого. У нас есть разные слои, где мы принадлежим всечеловечеству, своей народности, своей семье, своим предкам, своей церкви и т. д., а в какой-то момент есть только Бог да душа, никуда не уйдешь, нельзя человека привести как бы к самому себе, можно только дать ему мужество и вдохновение идти вглубь. Но если дойти до этой глубины, то уже не страшно, потому что речь не идет о том, чтобы погружаться в потемки, а идти к свету.
Я не совсем понимаю о Духе Святом. Сначала Он должен прийти, чтобы нам знать, над чем работать, если мы ничего не видим. С другой стороны, Он не может прийти, потому что мы не очищены…
Я думаю, что тут вопрос не столько в очищении, сколько о голоде и желании, чтобы Он пришел. Феофан Затворник где-то говорит, что Дух Святой — как океан, который бьется о скалу. Если скала его не принимает, то он ее заставить не может и не хочет. Но, с другой стороны, если мы просто кричим от боли, от одиночества, от тоски и говорим, что нет пути, кроме Бога, чисты мы или нечисты — Бог придет, потому что Бог пришел грешников спасти, а не праведников.
Вы говорили о чтении Евангелия. Когда Христос проповедует, это вызывает у меня очень сильное чувство, когда же просто повествуется о некоторых деяниях, например Он накормил несколькими хлебами народ или шел по воде, эти моменты не вызывают у меня того чувства и переживания, как, скажем, Его словесная проповедь. Эти моменты — просто символы или действительно реальные события?
Я понимаю ваш вопрос и понимаю раздвоение. Я думаю, что есть места, которые мы должны обойти, пока, можно сказать, не созреем, чтобы в них что-то увидеть, чего мы не видели раньше. Я не сомневаюсь в том, что Христос мог по водам ходить, я не сомневаюсь, что Он мог накормить толпу двумя хлебами, но сказать, что это для меня так же убедительно, как те или другие Его наставления, — нет, потому что то, что я получаю от этих событий, это урок, больше чем исторический факт. Я не хочу сказать, что я неверующий, но хочу сказать, что, скажем, рассказ о том, как Христос призвал Своих учеников отдать все, что у них есть, чтобы накормить людей, и это оказалось возможным, может быть нам уроком о том, что если только мы отдадим свое, то сможем сделать в тысячу раз больше, чем мы воображаем, когда собираем с миру по нитке в надежде, что будет голому рубашка. До меня дошло, когда я еще был юношей, что если я на себя употребляю больше, чем необходимо, я вор, потому что все это лишнее должно бы кому-нибудь на пользу идти. Вот единственное, что я тогда уловил в этом случае. То же самое можно сказать и о хождении по водам. Существенно может быть для нас то, что до нас сейчас доходит. Из рассказа о хождении по водам я уловил, что Христос находился в той точке, где все силы бури встречались, и Он в ней стоял неподвижно, и что если бы Петр не стал смотреть на волны и думать о том, что сам может утонуть, а смотрел на Христа и шел, он бы дошел.
И в малом это бывает. Я, кажется, вам рассказывал позорный случай о себе, как во время войны я шел из одного места в другой медицинский пункт с очень тяжелой ношей лекарств и инструментов, была ужасная погода, непроходимая слякоть, дождь, холод, ночь. Я шел и шел и в какой-то момент подумал: больше не могу! Я лягу в грязь и хотя бы высплюсь. И в этот момент мне представилось — вы можете подумать, что это кощунственно, но мне представилось: а Христос лег по дороге, потому что крест был слишком тяжелый?.. Я не лег в грязь и пошел дальше, и пункт, к которому я шел, находился в ста метрах от того места, где я бы лег, не дойдя до него. Я думаю, что эти моменты мы можем уловить, то есть перевести на свой язык, на свой уровень.
Как понять, что Бог, Который ни в чем не нуждается, мог так возлюбить мир ? — и «так» это значит настолько, чтобы всего Себя этому миру отдать?
Мне кажется (хотя я, как мы все, знаю очень мало, если вообще что-нибудь знаю), самое существо любви в том, чтобы всего себя отдать другому. В трагическом мире, в котором мы живем, действуют слова Спасителя: Никто большей любви не имеет, как тот, кто свою жизнь отдаст для другого (Ин 15:13). Но в мире даже еще не падшем есть этот момент: мир создан для того чтобы вырасти в полноту счастья, блаженства, святыни, величия, и это может случиться, только если Бог всего Себя отдает этому миру. Бог создает мир для того, чтобы существовала тварь, которая может разделить с Ним то блаженство, в котором нет недостатка ни в чем, войти в эту полноту жизни, не только существования, но ликующего торжества Жизни, через заглавное «Ж».
Хотелось бы понять: при всем разнообразии религий и верований на земле неужели только нам так посчастливилось узнать истинного Бога? А как же другие? Ведь земной шар велик…
Я думаю, что можно так сказать: Бог ничего, никого не создал для погибели, Он создал весь мир и допускает к жизни, вызывает к жизни всех людей с тем, чтобы так или иначе они в свое время нашли полноту жизни в Нем Самом. Одно мы утверждаем (что различает христиан от других религий): что в какой-то исторический момент Сам Бог стал человеком, приняв плоть от Пречистой Девы Марии, что Бог соединился с человечеством реально, что через это соединение нам показана вся глубина, вся необъемлемая широта человека, который способен не только стать местом пребывания Бога, но способен так соединиться с Богом, что сам весь обожен. И в этом отношении мы различаемся от других религий: да, мы верим, что Бог стал человеком, мы верим, что человек может преобразиться в самой человеческой Своей природе, может соединиться с Богом.
Это не значит, что мы отвергаем других. Вы наверно помните место в Евангелии, где сказано, что ученики Христовы встретили человека, который творил чудеса именем Христовым, и запретили ему, потому что он с ними не ходил, он не был в той дружине, которая окружала Христа. И Спаситель им ответил: не запрещайте никому. Никто, кто сотворит чудо Моим именем, не чужд Мне (Мк 9:39).
Я думаю, что справедливо считать, что никто не может сказать, что знает Бога, кто не встретил Его, кто не прикоснулся Его ризы хотя бы, у кого это не было личным опытом жизни. И если это так, то мы не можем утверждать, что люди иной веры, иногда совершенно не понимающие нашей веры, чуждые ей или даже гонители, не знают Бога вовсе. А если они знают Бога, то им есть путь в вечную жизнь, потому что вечная жизнь заключается в том, чтобы знать Бога. Скажу даже больше, но тут я говорю, как апостол Павел пишет (1 Кор 4:10), безумно, в том смысле, что вы можете понять это превратно. Как-то мои слова пересказали в Греции кому-то, и вышла большая передовица о том, что «митрополит Сурожский Антоний — еретик: он утверждает, что Христос был безбожником». Я хочу вам это пояснить.
Одна из вещей, которая меня поражает в евангельском рассказе о распятии Христа Спасителя, это Его слова: Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил?(Мф 27:46). Это почти последние Его слова, следующее: Совершилось! (Ин 19:30), все сделано, ничего нельзя прибавить к совершившемуся… Можно задуматься, что они значат. Христос был не только по Своему Божеству, но и по Своему человечеству безгрешен. С Воплощением самая телесность, самая человечность Младенца Христа была за пределом всякого греха, потому что грех в основе своей заключается в отделении нашем от Бога, в отпадении, когда мы это делаем вольной волей, или просто в отделении, которое по безумию, по непониманию нас разлучает с Богом. И в течение всей жизни Христос был полнотой человечества, то есть совершенства человека, каким он призван быть, и полнотой Бога, Каким Он изначально и навсегда является. В день крещения, как я вам уже попробовал объяснить, Христос взял на Себя все последствия греха, не делаясь Сам грешником, Он взял на Себя все, что повлек за собой грех, именно в основе — смертность. И на кресте, когда Он был распят за человеческий род, когда Он Свою жизнь отдавал для того, чтобы спасти весь человеческий род, Он должен был приобщиться последнему ужасу. Он не мог умереть иначе как потеряв Бога, потеряв единство с Ним, не в онтологическом смысле, то есть не в объективном смысле, как бы потеряв общение с Отцом и Сам перестав быть Богом, а, по изъяснению отца Софрония, через метафизический обморок, момент, когда человечество закрыло Ему ви{'}дение того, чем Он является Сам, и того, как Он един с Отцом. И Он умер от этого, Он умер нашей смертью, смертью всего человечества, разделив с нами единственную основную трагедию бытия — без-божие, отлученность от Бога, потерю Бога. И когда я говорил об этом, о без-божии, я, конечно, не хотел сказать, что Христос перестал верить в Бога, отрекся от Него или грехом от Него отпал, а что в какой-то момент по промыслительному действию Бога и Отца Он в Своем человечестве потерял сознание, чем Он является по отношению к Богу и Отцу.
И мне кажется (это относится к вопросу), что ни один безбожник на земле, ни один человек, не познавший Бога, ни один человек, потерявший Бога, ни один человек, отрекшийся от Бога по философским или иным причинам, ни один такой безбожник не знает до такой глубины и абсолютности, что значит быть лишенным Бога, как Христос. И поэтому мне кажется, что и безбожник как бы внутри, в пределах опыта Самого Христа, что нет ни одного безбожника, которого Христос не может понять и которому Он не приобщился в этот страшный момент. Я не знаю, как это может совершиться, но глубоко убежден в том, что придет время, когда вся тварь соединится с Богом в торжествующем победоносном моменте, когда Бог пронизает все Собой, когда Бог будет все во всем (1 Кор 15:28).
Тут можно поставить вопрос о грехе: неужели грех может войти в Царство Небесное? Нет, не может, но многие, очень многие перед смертью вдруг сознают свою греховность, потому что вдруг перед ними встает вопрос о том, какими они были и какова глубина жизни.
Бывает тоже, мне кажется, что после смерти человек оказывается лицом к лицу с Богом, с совершенством, с полнотой жизни и в лице Спасителя Христа оказывается лицом к лицу с тем, чем он призван был быть. Перед ним явлена вся неописуемая красота и неописуемое величие человека, и в этот момент человек может с ужасом содрогнуться, понять, что он совершил, и каяться.
Еще один вопрос: почему так много скорбят о том, что есть различные христианские церкви, хотя все знают, как это случилось, и что каждая группа привязана к своим обрядам, и никто из них не намерен изменяться. Может быть, это и не нужно, если бы только человеческие отношения были хорошие…
Коротко говоря, можно было бы цитировать Хомякова. Он ставит вопрос о том, важна ли чистота вероучения, чистота христианской проповеди, не достаточно ли очень немногого для того, чтобы войти в Царство Божие. И его ответ такой: по тонкому льду один человек может легко и успешно пробежать, но армию по тонкому льду с края озера на другой не проведешь. И тут очень важный момент. Для спасения мира, для того чтобы всякий человек мог в Евангельском слове и проповеди найти ответ самому себе, нужна полнота этого Евангелия.
Беседы о Символе веры [93]
Мы произносим, провозглашаем на каждой большой службе Символ веры, то есть сокращенное, сжатое исповедание того, что составляет веру православную, веру евангельскую, веру неущербленную и одновременно выражаемую с такой осторожностью, с таким благоговением, чтобы человеческое в ней не превзошло Божественное.
Послание к евреям определяет веру как уверенность в вещах невидимых (Евр 11:1), и оба эти термина играют решающую роль. Богословие — это слово о Боге. Это не научная выкладка, это не попытка найти такие слова, выражения или картины, которые нам описывали бы Бога и тайны вечной жизни. Богословие — слово о Боге, которое вырастает именно из опыта, из непосредственного, прямого знания, уверенности о вещах невидимых, ставших в какой-то мере нашим умственным, душевно-духовным опытом. Есть вещи, которые выразимы, и есть вещи, которые за пределом всякого выражения. Во всяком богословском изложении, во всякой попытке выразить невыразимое есть какая-то доля ясного, четкого высказывания, и есть момент, когда любое высказывание перестает быть истиной, если мы воображаем, что это высказывание исчерпывает тайну Божию. И в этом отношении в православном богословии есть два момента. Есть богословие, выражаемое истинами, которые являются как бы доступными фактами. Мы говорим о воплощении, мы говорим о том, Кто Христос: Богочеловек, мы говорим о Его учении. Благодаря Его учению, Его личности и опыту мы говорим о том, что представляет собой человек и окружающий нас мир, и т. д. Все это правда; а в какой-то момент мы больше ничего не можем сказать без того, чтобы истину, то есть полноту, которая нам раскрывается Богом, не умалить и не изуродовать.
И есть целая область православного богословия, которая называется апофатическое богословие
[94], которое является богословием как бы отрицания, — отрицания того, будто я могу полностью адекватно сказать о Боге или даже о человеке, о мироздании, о вечных истинах. Мы говорим о Боге и о тайнах бытия: да, говорим справедливо, истинно, постольку поскольку эта истина может быть выражена человеческими словами изнутри ограниченного человеческого опыта. Но в конечном итоге, когда мы говорим об истинах Божественных, они должны нас привести шаг за шагом к моменту созерцания, к моменту, когда мы будем безмолвно стоять перед тайной Божией, перед тайной сотворенного Богом мира, перед тайной нашей собственной личности и вглядываться в эти глубины, и надеяться, что Господь нам раскроет то, чего мы сами понять не можем.
Каждый из нас имеет о Боге опыт неповторимый, но которым вместе с тем может поделиться. И это самое дивное, что есть в Церкви. С одной стороны, у нас есть общий опыт, который мы выносим из Евангелия, из личности и из учения святых, из их писаний, из того, чем из столетия в столетие верующие — грешники или святые — делились между собой. И каждый из нас имеет опыт, который неповторим, непередаваем иначе как явлением Бога в нашей личности. Потому что святые нам раскрывают Бога не только своим учением, но тем, каковыми они являются. Они являются как бы живыми образами, иконами Божиими. Глядя в них, мы видим непостижимого Бога, постольку поскольку Он может сделаться постижимым и видимым.
Да, вера есть уверенность в невидимом, а вместе с этим вера ищет себе выражение и во многом находит это выражение. Мы свою веру несем в себе, в самых глубинных тайниках нашей души. Для нас самих порой нет нужды ей находить выражение, так же как когда мы чувствуем любовь или радость, чувства эти наполняют нас, и выражение им порой не нужно, потому что они сами по себе — и существо дела, и выражение этого чуда. Но, с другой стороны, Христос нам сказал: Идите в мир весь и проповедуйте Евангелие всей твари (Мф 28:19). Он нас предупредил, что эта проповедь наша, может быть, обойдется некоторым или многим очень дорого, когда сказал: Я посылаю вас, как овец среди волков(Мф 10:16), и в последней Своей беседе с учениками им напомнил: Если Меня ненавидели, то и вас будут ненавидеть (Ин 15:18—20). И однако, ранняя Церковь была преисполнена таким изумлением о том, что Бог открылся каждому в частности, каждому лично и всем вместе, что уверовавшие не побоялись выйти на проповедь, не побоялись стать чужими среди своих, не испугались того, что им была обещана порой трагическая смерть. Они не ужаснулись перед тем, что это обещание стало исполняться и мучительная смерть настигла многих из верующих. Они воспринимали трагедию своей собственной жизни не так, как мы воспринимаем трагедии нашей жизни. Им было ясно, что если человек отдает свою жизнь за Христа для того, чтобы спаслись другие, то это торжество, это радость, это победа, это не поражение. Все апостолы, за исключением святого Иоанна Богослова, умерли мученической смертью. Тысячи христиан умирали в пытках, на кострах, распятые, умученные всякими способами человеческой злобой и ненавистью. И однако, эта ранняя христианская община оставалась верной своему призванию: быть со Христом и, как сказано в книге Откровения, идти за Ним, куда бы Он ни пошел (Откр 14:4).
И мы знаем, каков путь Христов. Бог уничиженный стал человеком. Как человек, Он несет на Себе все последствия греха человеческого, весь ужас мира, отпавшего от Бога, оставаясь Сам непорочным и непричастным ко греху. Он окружен непониманием, отверженностью, ненавистью, завистью, и в конечном итоге Он присужден к полному, предельному отвержению: Он должен умереть вне стен града Иерусалимского, то есть вне той твердыни, где исповедуется Живой Бог. В древности был обычай: раз в год грехи всего израильского народа символически возлагались на козла, и он выгонялся из стана, из города с тем, чтобы его растерзали дикие звери (Лев 16:8—10). Так умирал Христос — изверженный из храма, изверженный из святого града, отвергнутый народом, который Он пришел спасать. Он умер на кресте. Ученики Христовы знали весь этот путь, и этот путь они с благодарностью принимали как свой, и были готовы идти за Христом, куда бы Он ни пошел. Да, они знали, что за смертью будет Воскресение, будет вечная жизнь, будет торжество жизни над смертью. Но раньше чем войти в это торжество, надлежало каждому пройти через узкие врата смерти.
И такое отношение к смерти было одним из первых поражающих людей выражений веры христиан, которое было непонятно для язычников. Готовность с радостью умереть за Христа и ради мучителей была силой, убеждавшей людей в истинности этой веры. Мы знаем из житий святых, что так часто бывало: отзываясь на мученическую кончину христиан, свидетели этой кончины начинали верить во Христа, потому что их поражала мысль: если эти люди готовы так умирать, так страдать за Христа и так любить нас, мучителей, что они и голоса не поднимают против нас, то можно верить их Богу.
Это нам, в наше время непонятно. О, конечно, мы об этом говорим! Но как мало среди нас людей, которые, поставленные даже не перед предельным ужасом смерти, казни, мук, могут спокойно на это смотреть. И над этим нам надо задуматься, потому что то, как мы живем, свидетельствует перед людьми, правду ли говорил Христос о жизни. Помните, как апостол Павел писал римлянам: из-за вас имя Христово порочится (Рим 2:24)? Это относится, конечно, к нам. Каждый раз, когда мы живем не в уровень той веры, которую мы восприняли, и того учения, которое Христос нам преподал, мы доказываем своей жизнью не то что свое неверие, а доказываем неверность Тому Богу, Которого на словах исповедуем. Помню, Висер’т Хуфт говорил, что еретиком можно быть, исповедуя в чистоте всю христианскую веру, если одновременно мы живем наперекор тому, что исповедуем. Жизнью мы являемся еретиками, тогда как на словах исповедуем правду Божию.
И вот это первое свидетельство, которое доходило до людей. Это свидетельство самое разительное, потому что слово проповеди воспринималось разно. В день Пятидесятницы, когда апостолы вышли проповедовать, они говорили так, что никто не мог усомниться, что они говорят Духом Святым, что что-то с ними случилось, почему они говорят так, как они не могли естественно выражаться. Я говорю сейчас не о языке, а о красноречии, о силе слова. Так проповедовали апостолы в день Пятидесятницы, так они продолжали различно, в различной мере, в зависимости от времени и обстоятельств, говорить. Не всегда их слова воспринимались. Вы наверно помните, как апостол Павел проповедовал в Афинском ареопаге, и его слушали с вежливым интересом. Но когда он начал говорить о Воскресении, люди встали: об этом ты нам расскажешь другой раз! — и разошлись, потому что они были не готовы (Деян 17:32). И эта неготовность рождает в пределах самой Церкви необходимость искать пути, как выразить доходчиво опыт, которого у человека, у других людей нет, как можно свою веру каким-то хоть начальным образом передавать.
В разные времена это делалось различно разными людьми. Возьмите пример святого Симеона Нового Богослова. Он писал поэмы, гимны, он писал как художник — такой художник, который пользуется всем художественным даром, который у него есть, способностью писать замечательную поэзию, но в нее вливался огонь не только его веры, но Святого Духа. И когда люди слышали его поэмы, они не только воспринимали смысл, они воспринимали нечто другое: не звучность, не картинность, а огонь, который горел в сердце святого Симеона и продолжал гореть в его словах. Вот так передавалась вера.
Но этого оказалось недостаточно. Еще апостол Павел в свое время говорил, что бывают среди верующих разногласия. Это не значит, что люди не согласны с основами веры, но когда они говорят о вере, они говорят как бы разными голосами, по-иному. И когда они хотят понять, то есть уловить умом то, что они, может быть, знают сердцем, или то, что они почуяли благодаря чужой проповеди, они не находят единодушного выражения, одинаковых слов. Апостол Павел этого не боялся, и это очень важно нам помнить: он говорит, что неминуемо будут разногласия, для того чтобы явились наиболее мудрые (1 Кор 11:19).
Поэтому Церковь в течение всех столетий в лице грешников и в лице святых, в лице богословов и в лице невежд ощупью старалась уловить все более полно и совершенно истину христианства. Это бывало в отдельных общинах. Отдельные общины соединялись в более широкие группировки, которые потом стали называться епархиями, диоцезами. Эти группировки, сначала малые, стали входить в контакт друг с другом и делиться тем же самым опытом, который выражен был на фоне иной культуры. И это очень важный момент: что верующие, принадлежащие разным народностям, ту же самую веру воспринимали и выражали на разных языках, на фоне разной светской культуры и собственной истории. И когда я говорю о разных языках, я говорю о чем-то чрезвычайно важном, потому что есть языки очень богатые, есть языки бедные, есть языки, утонченные в области философского или богословского мышления, есть языки, в которых выражается все как бы образно. Каждая из этих групп выражала ту же самую веру, но порой иным образом, как бы дополняя друг друга. Есть богословие Александрийское, есть богословие Антиохийское, есть богословие Византийское. Они ничем друг другу не противоречат, но говорят о том же с несколько иной точки зрения. И пришло время, когда эти точки зрения надо было согласовать для того, чтобы люди, переходящие из одного края империи в другой, несмотря на разность выражений, несмотря на непохожесть внешнего представления о вещах, могли узнать свою веру и полностью влиться в жизнь данной общины.
И тогда начались Вселенские соборы. Они были собраны, собственно говоря, не Церковью как таковой, а Империей, которая заботилась о том, чтобы все верующие друг друга могли понимать и чтобы вера оставалась чистой, несмотря на огромное различие восприятия и понимания. И постепенно отдельными святыми, отдельными общинами, отдельными церквами, отдельными странами вырабатывались символы веры. Они, в сущности, говорили о том же самом, но были пространны или коротки, говорили более полно о том или о другом. И наконец был выработан, сначала в Никее, а затем дополнен в Константинополе, Символ веры, который мы произносим каждое воскресенье.
Я вам все это рассказываю, потому что очень важно нам понимать, что наш Символ веры не родился вдруг, внезапно. Меньше всего можно представить, что какие-то ученые богословы засели и разработали его. Нет, он постепенно вырастал из глубин человеческого опыта, он постепенно вырастал в Церкви, в недрах ее, находил частичное выражение, слишком детальное в одном, недостаточное в другом, и постепенно был выработан этот очень уравновешенный Символ веры.
Но тут встает проблема: возможно ли свести всю нашу веру к такому краткому выражению ее, как наш Символ веры или даже более пространные вероисповедания? Если вы помните то, что я говорил о двух путях в богословии, это в полной мере относится к нашему Символу веры. То, что Бог Собой представляет, Кто Он, Что Он, мы выразить человеческим языком не можем, не только лично, поодиночке, но даже все сообща. Можно сказать, что все, что мы говорим истинного, не еретического о Боге, похоже на изнанку ковра, на который мы смотрим снизу. Мы видим узор, и этот узор правдив, но полнота его красоты видна только с другой стороны, и это мы сможем увидеть только тогда, когда пройдем через двери смерти и окажемся на той стороне, где Бог лично будет стоять перед нами, где мы Его будем созерцать лицом к лицу, где, как апостол Павел говорит, мы Его познаем так, как Он нас знает (1 Кор 13:12).
Но тогда наше взаимное отношение с Богом будет иное. Будет такая приобщенность, такое взаимное проникновение, какого мы не можем испытать на земле. Но и тогда Бог останется за пределом всякого нашего познания. Отцы Церкви давали в этом отношении образы, которые порой очень ярки, очень понятны. Они говорили о том, что Бог существует в Себе Самом, но одновременно как бы через край переливается, и мы можем приобщиться тому, что Он Собой представляет, не приобщаясь к сущности, а приобщаясь к тому, что Он есть и что нам доступно — Его энергии. И образ, который часто давался, это образ солнца. Солнце для нас опытно непознаваемо, но мы познаем солнце через его свет и через его тепло. Мы приобщаемся сущности солнца, потому что свет, и тепло, и жар — это оно; но солнцем мы стать не можем.
Я вам говорил о том, что мы выражаем наш опыт церковный. Этот опыт выражается как бы на разных уровнях. С одной стороны, каждый из нас имеет какой-то опыт о Боге — пусть небольшой, пусть я коснулся только края ризы Господней, но каждый из нас о Боге что-то знает. Человек знает, что в какой-то момент вдруг нашла на него тишина, какой он никогда не знал, брызнули слезы во время молитвы, и это были слезы не горечи, не страдания, а слезы, которые текли, как чудо. Это говорит о нашем личном опыте. Этот опыт мы не можем просто так передать. Но, с другой стороны, если мы окружены верующими людьми, среди них встречаются такие, которые испытали то же самое, которые знают точь-в-точь то, что я знаю о Боге, вернее, не точь-в-точь, а знают то же, что я знаю о Боге, несколько по-иному, потому что моя душа — не его душа, не ее душа. Сущность одна и та же, а какой-то оттенок у каждого человека свой. И когда мы живем общиной и делимся друг с другом тем, что знаем о Боге, мы расширяем опыт каждого человека: и того, кто дает, и того, кто получает, потому что получивший в свое время тоже делается дателем, дающим. И так шире и шире, разделяя с другими свой опыт, свое знание, ища выражений, которые могли бы довести до сознания, до ума человека картинно или логически то или другое понятие или понимание о Боге, создается общая православная вера, которая не заключена, не замурована, не в плену у Символа веры, но которая из этого Символа расцветает, сияет, охватывает нас, углубляет каждого из нас, давая нам приобщиться тому, чего раньше мы не познавали.
Я собираюсь разбирать с вами Символ веры, но не буду его разбирать детально по членам, а как бы «собирательно», потому что хочу вам передать ту сущность, которая, как мне кажется, является основой нашего Символа веры.
Сущность Символа веры — в провозглашении того, что Бог есть любовь (1 Ин 4:16). Сейчас я объясню, что хочу сказать этими словами. Если вы прочтете Символ веры, вы увидите, что Бог, Который существует ничем не обусловленный, творит мир, и этот мир Он творит как действие любви. Потому что Бог является полнотой жизни, полнотой радости, полнотой бытия — Он хочет все это разделить с нами. И когда я говорю «с нами», я не имею в виду только людей, но всю тварь, которая рано или поздно, по слову апостола Павла, призвана уйти к Богу, углубиться в Него так, что Бог станет все во всем (1 Кор 15:28).
Бог творит мир, потому что Он есть любовь, Его акт творения является актом любви. Но Бог дает этому миру свободу, право выбора. Он Себя отдает неограниченно, совершенно, безусловно, и у нас есть право и власть этот дар Самого Бога нам — отвергнуть. Это — начало трагедии. И трагедия совершается. Человек отпадает от Бога, уходит, отрекается от Него, предательски отдает злым силам власть над тем, что принадлежит Богу. И Бог второй раз отзывается любовью. Он вступает в единоборство со злом, разделяет с нами всю нашу человеческую судьбу, кроме греха и зла, и умирает за нас.
И третье действие — это то, что несовершенному миру, верующим далеко не совершенным, которые с Богом связаны только посильной верой, тоской по Нем, голодом по Нем, Он дает Духа Своего Святого, Утешителя. «Утешитель» — слово не простое. Дух Утешитель — это Дух, Который нас утешает о том, что мы в разлуке со Христом по нашей греховности или потому, что мы еще не прошли через врата смертные и не соединились с Ним. Утешитель — Тот, Который нам дает крепость и силу. Утешитель — Тот, Который нам дает уже на земле радость вечной жизни.
Это третий шаг Божественной любви в трагическом падшем мире, в котором мы живем и который Сын Божий пришел искупить Своей жизнью и смертью.
Но что мы можем сказать о Боге, Который является живой, творческой, отдающей Себя любовью? Вернее, какие слова в Священном Писании, в молитвах, в нашем личном опыте относятся к Богу? Если поставить вопрос так, то первое, что приходит на ум, — это Моисеево откровение на горе Синайской. Моисей оказался перед Светом Божественным, перед Богом, Которого он не мог видеть лицом к лицу, потому что, как сказано в Священном Писании, человек не может видеть Лицо Божие и остаться живым (Исх 33:20). Видеть Бога, приобщиться Ему в этом таинственном видении можно только после того, как разорвутся все связи с землей и человек окажется в вечности, когда, по слову святого апостола Павла, мы Его познаем, как Он познает нас (1 Кор 13:12). До самых глубин нашей души дойдет это познание, хотя никакое познание человеческое, ни личное, ни соборное, конечно, не может исчерпать Бога.
Когда Моисей оказался в присутствии Бога, Которого он не мог видеть, но Чье сияние славы его обдавало, он спросил: как имя Тебе? И ответ был: Я — Сущий (Исх 3:14). Я — Тот, Который есть, Я — самое бытие, самая реальность… И может быть, следует тут же отметить, что Спаситель Христос на вопрос о Нем Самом сказал: от начала Сущий (Ин 8:25). Я Тот, Который есть, Который есть не сотворенное, Которыйесть безотносительно к чему бы то ни было, Который есть самое бытие, самая реальность.
И это бытие, эта реальность превосходит не только всякое умственное или сердечное познание, оно превосходит все. Бог всегда остается для нас Тем, Который открывается нам, но Кого до глубин мы познать не можем. Я упоминал о том, как один из отцов Церкви, говоря, как мы познаем Бога, сравнивал это познание с нашим опытом сияющего солнца. То, что представляет собой солнце, мы опытно познать не можем, это горение, в которое вступить невозможно. Но мы приобщаемся к тайне этого горения через свет, который оно проливает, и через тепло и жар, который льется на нас. И в той мере, в какой мы приобщены свету и теплу, мы об этом горении знаем все, что способен знать живой человек. Так и с Богом. Его тайна остается непроницаема, и вместе с этим мы приобщаемся к этой тайне через свет, который нам все открывает, и через тепло, которое нас пронизывает и преображает.
Другое слово, которое в этой связи употребляется в Священном Писании по отношению к Богу, это — Свят, Святой (Лев 19:2 и др.). Мы это слово употребляем постоянно, каждый раз, когда молимся. Мы только что молились: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Что же такое святость? Когда мы говорим о святости человеческой, людской, мы говорим о двух вещах. С одной стороны — о нравственном совершенстве, в сущности, о том, что человек, познавший Бога и через Него — себя самого, остается верным себе и верным Богу, но в такой мере, которой мы сами в себе еще не испытали и, может быть, до полной глубины не испытаем никогда.
Но святость, о которой говорится в Ветхом и в Новом Завете, если обратить внимание на значение древних слов, говорит нам о чем-то еще большем. Слово «святой», поскольку оно применяется к Богу, нам говорит о том, что Он непостижим. Святость — такое состояние, которое нами не может быть ни понято, ни усвоено иначе как при общении с Богом. Святость — это свойство Бога, Который за пределом всякого познания, всякого общения; и Который вместе с тем нам открывается.
Опять-таки, говоря о Боге, мы находим в Священном Писании, у отцов Церкви, в молитвах еще другое слово: Он истинен, Он — Истина. Можно было бы найти множество мест как в Ветхом, так и Новом Завете, где о Боге говорится как об Истине (Исх 34:6; Ин 14:6 и др.). И опять-таки, когда речь идет о Боге, это не умственное понятие, это сущностное понятие. Этим я хочу сказать, что мы не называем Его истинным, потому что то, что Он говорит, нам кажется достоверным. Да, то, что Он говорит, есть правда и истина в обычном смысле этого слова, но Он —Истина еще в большем смысле. Бог есть Истина, потому что Он есть абсолютная реальность. И все истинное, что мы можем сказать о Боге, — только отголоски того опыта, который у нас о Боге бывает.
Я останавливаюсь на значении этих слов, потому что они нам говорят что-то очень важное о Боге и о нас самих. Я уже говорил, что когда Бог говорит о Себе: Аз есмь Сущий, когда мы говорим о Нем как о Святом, говорим как об Истине, мы говорим о чем-то абсолютном. Абсолютном в том смысле, что, независимо от того, существует ли какая-нибудь тварь вокруг Него, Он есть, Он истина, Он святость.
Но не только на русском языке существует это слово. Если обратиться к греческому языку, то истина — это то, что ничем не может быть уничтожено, размыто. Греческое слово для «истины» того же корня, как название Леты, реки забвения. По вере древних греков, когда человек умирал и душа переводилась в другую область, она проходила через реку забвения и за пределом этой реки уже не могла вспомнить того, что было раньше. И вот истина, алифия на греческом языке, это то, что даже река забвения не может размыть, то, что может устоять против всего. Реальность ее такова, что ничто не может умалить эту реальность или ее уничтожить. Все эти понятия нам говорят о том, что Бог виделся в древности Священным Писанием именно как абсолютная реальность, как реальность, которая служит опорой всему, но сама не нуждается ни в какой опоре.
Интересно и то, что латинское слово veritas, которое дало соответствующее французское слово и немецкое Wahrheit, происходят от одного корня, который значит «быть защитой», — не «быть защищаемым», а именно «быть защитой». И здесь опять-таки мы видим, что Бог есть полнота, которая не нуждается ни в помощи, ни в поддержке, ни в защите, но сама может все поддержать, все защитить, оставаясь за пределом всего, и однако приобщая нас к Себе, постольку поскольку мы способны по нашей тварности и по нашей греховности приобщиться Ему.
Как видите, все эти слова говорят о Боге, Который в Себе так велик, так потрясающе велик, так непостижим, и вместе с этим, как мы знаем из Ветхого и особенно из Нового Завета, открывается нам в такой большой мере, в такой дивной глубине. И это потому, что при всей Своей непостижимости Бог является любовью.
O любви мы мало знаем опытно. Мы знаем чувство любви, но той абсолютной любви, которую мы видим во Святой Троице и в отношениях Бога к сотворенному и сотворяемому Им миру, мы познать не можем. Вспомните, что говорит Спаситель Христос о любви: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин 15:13). Этим сказано что-то такое потрясающее! Ведь Сын Божий Свою жизнь отдает до смерти включительно для нас, Отец Своего Сына отдает на смерть для нас.
Есть еще в этих словах нечто глубоко волнующее. Если применять слова Евангелия не к нашей обычной жизни, не к тому, как мы должны относиться друг ко другу, а к тому, как Бог относится к сотворенному Им миру и, в частности, к отпадшему от Него человеку, мы видим, что Он нас называет друзьями. А нам трудно даже дорогого человека познать как друга в полном смысле этого слова. «Друг» ведь значит «другой я», это «я» в другом лице.
Вы наверно помните рассказ в начале книги Бытия о том, как сотворена была Ева (Быт 2:21—23). Когда Адам вышел из таинственного сна, в который его погрузил Бог, и оказался лицом к лицу с Евой, он на нее посмотрел и произнес слова, которые трудно перевести, но они говорят нам о том, что Адам увидел в Еве себя самого как бы в женском роде. На еврейском языке употреблены слова иш и иша, он и она, я и ты. Это не имя, это определение взаимоотношений. И дружба — именно это: определение взаимных отношений, где, каково бы ни было неравенство в других смыслах, абсолютное равенство устанавливается в таинстве взаимного приятия и взаимного познавания.
В этом отношении опять-таки так волнующе употребление слова «Ты» по отношению к Богу. Потому что «ты» — это как бы второе «я», второе лицо; но это второе лицо во взаимных отношениях, которые неповторимы, которые единственны. Один из латинских писателей говорит, что это значит, что мы смотрим на своего ближнего как на alter ego, как на другого «я сам». И вот Бог называет человека тварного и согрешившего, отпавшего от Него злой волей, Своим другом. Я помню, как один замечательный русский священник сказал: когда Бог смотрит на человека, Он взором проходит мимо наших грехов, Он не останавливается на добродетелях наших, которых может быть мало или вовсе нет, но Он видит в глубинах нашего существа отражение собственного Своего образа… Да, для Бога мы — alter ego. Бог может нам сказать: «ты», и мы можем Ему сказать «Ты» без кощунства, со страхом, с трепетом, с благоговением, и однако без всякого сомнения или колебания. Разве это не потрясающее видение вещей!
И этот Бог любви, словами Христа, Агнца Божия, закланного до сотворения мира (к этому мы еще вернемся) нам говорит: Познайте истину, она сделает вас свободными (Ин 8:32). Речь не идет здесь о том, чтобы мы какое-то богословие узнали, чтобы мы узнали какие-то истины во множественном числе, чтобы у нас было разработано полное, красочное и глубокое мировоззрение. Речь идет о том, чтобы нам так погрузиться в Бога, приобщиться к самой сверхтварной, внетварной реальности, Тому, Который есть, не «чему», а именно Тому, Который есть. И когда речь идет о том, что истина, то есть приобщенность Тому, Который есть, сделает нас свободными, это не значит, что это освободит нас от греховности, от уз тварности, от всего, что держит нас в плену. Этого было бы мало. Если вы читали Хомякова, вы наверно помните его слова о том, что слово «свобода» происходит от двух славянских корней, которые значат «быть самим собой». И вот: познайте истину, то есть уйдите всем существом в Божественную реальность, и только тогда вы сделаетесь самими собой, тем, чем вы на самом деле являетесь, как бы за пределом тварности и за пределом греха.
За пределом греха — это ясно; а как же за пределом тварности? Тут мне вспоминаются слова святого Иринея Лионского, который говорит, что если мы действительно примем Духа Святого, будем Им пронизаны, Его силой соединимся со Христом неразрывно, нераздельно, на вечность, до самой полноты нашего бытия, то в Духе Святом и в Сыне Божием мы перестаем быть приемными детьми Небесного Отца и во Христе делаемся все вместе — не коллективно, а как единство — единородным сыном Божиим. Вот о чем говорят нам слова Священного Писания, порой разъясненные отцами, порой разъясненные действиями Божиими во спасение мира, вот что они нам открывают о Боге.
Я остановился несколько пространно на понятии о Боге как о любви, потому что это ведет нас к следующему понятию: о Боге-Любви как о Троице.
Тайна любви раскрывается в творении и раскрывается в спасении. Если говорить о тайне любви в Святой Троице, то вы можете вспомнить слова святого Григория Богослова, который говорит, что если Бог есть любовь, то Он может только быть Троицей. Потому что если Бог был бы единицей, одиночеством святости и речь шла о любви, Он мог бы любить только Самого Себя. Святой Григорий не упоминает образ, который я хочу вам сейчас дать, но вы наверно помните рассказ из древней мифологии о юноше Нарциссе, который был прекраснее всех молодых людей. Однажды он загляделся на себя в тихих водах озера и так пленился своей красотой, что не мог оторваться от этого видения и умер, не сумев отойти от созерцания собственной красоты. Я думаю, что это применимо к мысли о том, что Бог не может быть единицей. Такой Бог любил бы только Себя и, не имея объекта любви, не мог бы открыться никому другому, был бы самозамкнут, пленник своего самообожания.
Дальше святой Григорий говорит о том, что Бог не может быть просто двоицей, парой, потому что мы знаем из земного опыта, что между двумя может быть любовь предельно сильная, предельно огненная, но эта любовь исключает возможность не только принять, но даже заметить существование третьего. Это бывает в семьях, когда муж и жена друг друга так любят, что отходят от родни, даже могут холодно относиться к собственному ребенку, потому что он стоит между ними, он отрывает их внимание, если не сердце друг от друга. Третий оказывается лишним.
И только, говорит Григорий, если Бог Троичен, Он может быть любовью, потому что двое, которые соединились всей силой взаимной любви, которые стали едины, могут обратиться к третьему и его принять. Эти двое стали одно, и третий — уже не «третий лишний», а «второй», если так можно выразиться.
Но в этой тайне Троической любви есть еще несколько моментов. Первое: я хочу обратить ваше внимание на то, что тайна о Боге Едином в Троице раскрывается не только в Новом Завете (хотя и тут прикровенно), но и в Ветхом Завете. В Ветхом Завете слово «Бог» — множественное число. И когда мы читаем рассказ о том, как праотец Авраам приял Трех Гостей, что оказалось как бы тайной посещения Богом его, то эти Три Гостя говорили о Себе в единственном числе: «Я», хотя Их было Трое (Быт 18). И до момента, когда проблема воплощения Слова Божия стала предметом трагического расхождения между Ветхим и Новым Заветом, есть одно или два места в писаниях древнего раввината, где ставится вопрос, можно ли говорить, что Бог арифметически един, или Он един в другом смысле слова. В еврейском вероисповедании «Слушай, Израиль, Бог твой — Бог един» (Втор 6:4) слово «един» говорит не об арифметическом единстве, здесь оно употреблено явно не в своем прямом значении, за этим выражением есть нечто загадочное. Таким образом, и в Ветхом Завете было зачаточное представление о том, что Бог Троичен, что Бог не просто Единица, что в Его глубинах есть тайна — тайна любви, которая возможна только при Троичном существовании.
Но если говорить об этой тайне любви, то есть и другой момент. Для того чтобы принять третьего, всякая двоица, всякая пара должна отказаться быть отделенной от всего и от всех, отказаться остаться как бы лицом к лицу друг с другом без того, чтобы кого бы то ни было встречать. Ведь для того, чтобы встретить другого, надо отказаться от себя, надо открыться, а этот отказ от себя можно назвать смертью: умереть себе для того, чтобы открыться другому. И в тайне Святой Троицы можно прозревать этот момент, когда Лица Святой Троицы ради того, чтобы принять Друг Друга, отказываются от Себя и включают Другого. Включают Другого в том смысле, что Они больше для Себя не существуют, а существуют для Другого, и не в Себе Самом только, но и в Другом тоже.
В начале Евангелия от Иоанна сказано: и Слово было к Богу (Ин 1:1). Что значит «к Богу»? На русском языке это ничего не значит, но на греческом языке προς τον Θεον значит «обращено к Богу». Вся устремленность Слова, Сына Божия, — к Отцу, до забвения о Себе, потому что любовь влечет Сына к Отцу, чтобы с Ним быть единым. И это правда о каждом Лице Святой Троицы.
Мы видим тоже, когда речь идет о Боге как о Творце, что Бог является любовью в дивном и вместе с этим, да, в трагическом смысле слова. Трагическом, потому что сотворение мира, который будет независим, свободен в своем выборе собственной судьбы, трагично. Не напрасно апостол говорит о Христе, что Он — Агнец Божий, закланный до сотворения мира (Ин 1:29). Бог знал, что будет, и был готов на то, чтобы принял смерть Единородный Его Сын, ставший человеком. Еще в самом действии сотворения есть жертвенность, потому что поставить по свободной своей воле, без всякого принуждения, только по влечению непостижимой для нас любви другое существо перед своим лицом с правом отречься, с правом, что это существо отвернется от Творца, отбросит любовь, захочет самостоятельной жизни вне Бога, вне любви — требует жертвенной, крестной любви со стороны того, кто творит. И Бог так сотворил мир. Он, свободный, ничем не принужденный, будучи за пределом всякого принуждения, поставил лицом к лицу Себе целую тварь и дал ей власть над Собой: ты можешь отказаться от Меня и уйти, а Я тебя буду любить всей жизнью Своей Божественной и всей смертью Сына Моего Единородного.
Поэтому когда мы говорим о сотворении мира, мы говорим о жертвенной Божественной любви, и когда мы говорим о кресте и о спасении, то говорим о жертвенной крестной любви.
Есть в так называемом «Житии» протопопа Аввакума место, где он то ли цитирует, то ли сам от себя выражает свое представление о случившемся. Он так описывает Божественный Совет, предтварный Совет:
И сказал Отец Сыну: Сын Мой, сотворим мир и человека. И Сын ответил: Да, Отче. И Отец продолжал: но человек отречется от Нас, и для того чтобы его спасти, Тебе нужно будет стать человеком и умереть за него… И Сын ответил: Да будет так, Отче!.. И мир был сотворен[95].Мы дошли сейчас до грани, когда можем говорить о Христе именно в этом порядке, в той линии понятий, которую я указал, начиная эти беседы: что буду рассматривать Символ веры, нашу веру в Отца, Сына и Святого Духа в свете нашего понимания о любви. Об Отце я говорил. О Сыне я только упомянул, потому что о Сыне мы говорим не только как о творческом Слове, но и как о воплощенном Слове Божием, о Богочеловеке, Который умер на кресте за нас: Большей любви никто не имеет как тот, кто жизнь свою положит за друзей своих (Ин 15:13).
Мы говорим, что Бог есть любовь, но если любовь чиста и совершенна, какова она в Боге, она в себе несет как бы два элемента. Это ликующая радость о другом и вместе с тем не только готовность, но реальное принятие забвения себя самого ради этого другого в такой степени, что любящий как бы умирает для себя самого. Эта смерть не похожа на ту, которую мы знаем на опыте, которая является результатом отчуждения людей друг от друга, потери единства с Богом Самим, когда от человека остается только как бы скорлупа или, как в своей книге «Смысл жизни» Евгений Трубецкой говорит, только как бы тень
[96]. Нет речи о тени, когда Бог так любит, что каждое Лицо о Себе забывает настолько совершенно, что для Этого Лица Его Самого больше нет, а есть только Любимый, к Которому направлена вся жизнь, все. И в этом смысле мы можем понять слова, которые я цитировал уже, из начала Евангелия от Иоанна:
В начале было Слово, и Слово было к
Богу, и Слово было Бог(Ин 1:1). На славянском, на русском языке выражение «и Слово было к Богу» мало понятно. Но на греческом языке эти слова говорят о том, что Слово, Которое исходит от Отца, Которое рождается от Отца, одновременно пронизанное, горящее любовью,
устремлено к Отцу Самому. Это Слово не замыкается в Себе. Слово не ищет самостоятельного бытия, Оно есть только любовь и устремленность к Любимому, из Которого рождено. И это тайна любви Святой Троицы: любовь такая, что Каждое Лицо перестает жить для Себя, в Себе самом, устремлено к Другому, открыто Другому.
И здесь, с одной стороны, проявляется то, что мы можем назвать «смертью»: умирание самому себе раз и навсегда, совершенное, полное. И, с другой стороны, — победа над всяким ограничением, над всем тем, что мы называем смертью на нашем языке, так что любовь, которая заключается в том, чтобы умереть себе, одновременно делается воскресением.
О сотворении мира я уже говорил, что любовь Божия поставила рядом с собой целую тварь, целое творение, и в этом отношении она как бы пожертвовала собой. Она создала мир, который существует только Божией любовью, но миру этому дана свобода, возможность самоопределения. И эта возможность самоопределения в себе носит возможность отказа от любви, отказа от любимого, желание самостоятельности.
И тут я хочу остановиться на значении слова «свобода». Я говорил о нем уже несколько раз, но хочу еще раз подойти к нему, может быть, с несколько иной точки зрения.
Всякая тварь хочет себя осуществить в полном смысле. Но когда мы говорим «в полном смысле», мы говорим одновременно о том, что тварь себя хочет осуществить так, как она себя понимает. Самоопределение порой связано с любовью, с пониманием, с принятием Творца, а порой определяется самозамкнутостью: я хочу быть тем, чем я хочу быть. И если подумать о значении слов, которые на разных языках обозначают свободу, то на английском, на французском языках мы находим слово, которое рождается в недрах латинского libertas. И в современном мире понятие liberty, свободы гражданской, свободы личной, говорит о том, что человек требует себе права самоопределения независимо ни от чего: я хочу быть тем, чем я выбираю быть.
Но это — новое отношение к свободе, уже отпадшее от основного значения слова и понятия. Потому что в латинском языке libertas было определением состояния ребенка, рожденного от свободных родителей, то есть не от рабов. Это давало ему право гражданства. Но вместе с этим понималось оно не только как право гражданства, право самоопределения, оно понималось тоже как обязательство. Для того чтобы быть свободным, надо владеть собой полностью. Если мной владеет телесная страсть, психологические какие-нибудь уклоны, эмоции, что бы то ни было, я уже не свободен.
Вспомните притчу Христову о званых на пир. Один из званых отказывается прийти на этот пир, потому что купил клочок земли, он должен обработать эту землю. Другой купил пять пар волов, он должен их испытать. Еще другой только что оженился, он может только жить своей радостью. И каждый из них думает, что он свободен, независим: теперь он обладает полем, он обладает волами, он обладает счастьем брака, а на самом деле он пленник своего поля, своих волов, радости своей самозамкнутой. И поэтому в древности с понятием libertas, то есть состояния свободнорожденного человека, связывалось тоже понятие о крайней дисциплине: человек должен быть воспитан так, чтобы он собой обладал, но ничто не обладало им, чтобы он был господином своей жизни и действовал так или иначе, не потому что он порабощен чему-то, а потому что он делает царственно-свободный выбор.
Такое понятие можно связать с определением, которое свободе дает Хомяков: свободен тот, который является самим собой. Хомяков производит слово «свобода» от двух славянских корней: сва и быть, которые значат «быть собой», но опять-таки только в тех терминах, которые я сейчас определял. Но и этого мало для того, чтобы свобода была полнотой жизни, торжеством жизни. Потому что такая свобода может быть самозамкнутая, не раскрытая, порой враждебная по отношению к другому. И слово, которое мы находим на немецком, на английском языках —freedom, Freiheit, происходит от замечательного корня санскритского языка: prya, который как глагол значит «любить» или «быть любимым», а как существительное обозначает «мой любимый», «моя любимая».
Эти разные понятия должны слиться в одно, если мы думаем о том, какую свободу нам дает Господь. Он нам дает свободу, которая рождена Его любовью, и свободными мы можем быть, только если мы на эту любовь отвечаем всей любовью, на которую сами способны. А для того, чтобы это осуществить, мы должны овладеть собой. Говоря о греховном мире, должны победить все греховное и стать уже не рабами, а детьми Божиими, быть в состоянии назвать Его Отцом в терминах изобильной любви Двух, Которые Себя отдают Другому без ограничения, умирают всему тому, что есть ограничение, и оживают как бы воскрешением любви.
Вот о какой свободе идет речь, когда Бог нас творит. Он нас творит действием крестной любви, любви, которая отрекается от себя самой и себя самое отдает. Но она отдает себя нам изумительно, потому что для того чтобы так сотворить мир, надо верить в него, то есть надо быть уверенным в том, что рано или поздно этот мир сумеет понять и ответить любовью на любовь, и именно такой любовью на такую любовь: Никто большей любви не имеет, как тот, который жизнь свою отдает другому, или для другого, или за другого…
И в этом контексте то, что мы читаем у протопопа Аввакума, приобретает особенное значение. Здесь речь идет о том, что Бог всеведущий заранее знал, что сотворенный мир, который будет как бы отпущен на свободу, эту свободу крестную и эту свободу воскрешения не сразу найдет, и что для того, чтобы ему указать этот путь, для того, чтобы повести его этим путем, Сам Бог должен вступить в пределы творения, приобщиться всему тварному, кроме того, что разделяет, кроме того, что убивает рознью, отчуждением, смертью любви, и умереть. Умереть, приобщившись ко всей трагедии тварного мира, осуществив в Своем человечестве ту любовь крестную, самоотдающуюся, которая является сущностью тайны Святой Троицы.
И вот Христос-Слово делается творческим Словом. Я хочу коротко остановиться на значении этого. Что значит, что Сын Божий, Спаситель наш, Творец мира назван Словом? Есть замечательное место у одного средневекового западного подвижника, где он говорит о том, что Бог является бездонной, непостижимой тайной, что ни познать, ни выразить Его нельзя, но Слово Божие Его открывает во всей истине, потому что это Слово — и это надо понимать не только как речь, но как полное выражение — есть Бог, Сам Бог. Из глубин, непостижимых глубин Божиих звучит нечто Божественное о Боге, о путях Божиих, и то, что звучит, — это Слово Божие, Сам Бог, выражающий Себя.
Есть подобное этому пониманию место в Божественной литургии святого Василия Великого. В одной из тайных молитв, когда святой Василий говорит о Христе, он называет Христа
печатью равноо{'}бразной[97]. Что это значит? Вы знаете, что такое печать. Если вы посмотрите на печать, вы можете не быть в состоянии ее прочесть, но если наложить эту печать на сургуч, то вдруг нечитаемое делается читаемым. Вот таково соотношение между Господом Сыном Божиим и Отцом. Вся тайна Отчая является для нас как бы печатью, которую мы не можем прочесть, но эта печать накладывается на творение и делается удобочитаемой. Мы познаем Бога в делах Его, в учении Его, в чудесах Его и даже в том, что Им сотворено — в красоте, в истине, в глубине.
В этом отношении Христос действительно является для нас видением невидимого Бога. Вы наверно помните, как на Тайной вечери Филипп говорит Спасителю: Покажи нам Отца. И Христос отвечает: Так долго, Филипп, ты со Мной, и говоришь: покажи нам Отца. Разве ты не понимаешь, не знаешь, что Я во Отце и Отец во Мне, и кто Меня видел — видел Отца? (Ин 14:8—10). Печать удобочитаемая, доступная нам печать того, что недоступно никакому пониманию…
И Слово творит мир. Что же это значит? Вы наверно слышали, как в современной науке говорится о том, что в какой-то момент вне времени прозвучал некий звук, и от этого звука начала рождаться материя. Можно себе представить, что Сын Божий, Который есть Божественное Слово, позвал к бытию всю тварь: Иди! Приди! — и от звука этого зова начала появляться тварь. Наука сейчас говорит, что от этого звука сначала открылся свет.
Я свет миру (Ин 8:12). И я вам уже упоминал — и это не богословие, а картинное изображение, — как один художник написал картину, взирая на которую, чуткий, глубокий зритель вынес впечатление, что свет в этой картине льется отовсюду, и этот свет делается цветом, цветами радуги, и эти цвета сгущаются в материю, и из этой материи создается весь мир
[98]. Это не богословие в том смысле, что нельзя это привести к тому или другому изречению Ветхого или Нового Завета. Но это картинное восприятие, которое, может быть, нам может помочь что-то понять.
В Ветхом Завете мы читаем, как Слово Божие сотворило нечто, что в греческом переводе называется
хаосом, словом, которым переводится еврейское выражение
[99]. Но опять-таки, так же как смерть бывает двояка: отдача себя без границ в порыве неколеблющейся любви или потеря любви и самого себя, и других, и всего, так и
хаос можно понимать различно. Из нашего человеческого обычного опыта мы видим хаос как разрушение. Упали бомбы на село, на город, и то, что было стройно — разрушено, остался один хаос в камнях, в кирпичах, в телах убитых.
Но не об этом хаосе говорится в Священном Писании. Тот хаос, о котором говорит Священное Писание, — это как бы совокупность всех еще не проявивших себя возможностей. Это все в творении, что возможно, что когда-то может стать, что уже в становлении, потому что Слово Божие не статично, оно приводит в движение все, что творится Им. И из этого хаоса рождается все творение. И замечательно, что первым рождается, как я несколько мгновений тому назад сказал, свет. Не солнце, не луна, не звезды, — свет, из которого родится все прочее. Я сейчас не буду вдаваться в детали о сотворении мира, скажу только, что шаг за шагом этот хаос раскрывается, все возможности, которые в него вложены, начинают, словно цветок, расцветать, и с каждым шагом новая полнота появляется. Но в тот момент, когда следующий шаг совершен, то, что было полнотой вчера, делается еще неполнотой. И поэтому кончается каждый день творения Божия словом о том, что настал вечер (Быт 1:5 и др.): то, что было утром, на грани нового дня как бы тускнеет, потому что новая полнота раскрывается, новое сияние, новая красота, новые глубины.
И так будет до конца света, но не обязательно, не механически, не без участия человека. Но — увы! — участие человека проявляется постоянно не в раскрытии глубин и постепенном восхождении от славы к славе, а в разрушении, потому что человек внес в мир ту другую смерть, о которой я говорил уже несколько раз.
Хочу еще коротко сказать о соотношении Творца с тварью. Речь идет еще не о Спасителе, а о Слове творческом.
Даже художник, когда он творит, будь то предмет, будь то картину, будь то музыкальное произведение, накладывает на него свою печать. И в этом смысле нет ничего Богом сотворенного, что не несло бы печать Божию на себе. Мы слепы, мы не видим этого, но печать Божия лежит на всем Богом сотворенном. Минутами раскрываются наши глаза, минутами мы видим невыразимую красоту — красоту, которая превосходит всякое понятие эстетики, это какая-то сущностная красота, она является как бы сиянием Божиим, блеском Божественной красоты. И Творец, Слово Божие, Сын Божий связан с этой тварью неразрушимым образом. До падения человека тварь была пронизана видением и присутствием, и человек был пронизан пониманием и соучастием. С падением человека, когда человек отпал от своего призвания, отпадши от Самого Бога, тварь зашла как бы в тупик, хотя сама осталась безгрешной.
Воплощение Слова Божия, приход на землю Сына Божия, ставшего Сыном человеческим, вновь дает этой твари Главу и Вождя. Об этом говорят отцы Церкви: что Христос вновь возглавляет, делается Главой, Вождем, Путеводителем всей твари. Тварь в Нем себя узнает, потому что Христос рождается телесно, и в Его телесности, в Его материальном существовании вся тварь от самого малого атома до самой великой галактики узнает себя самое. Узнает себя, но не такой, какая она есть сейчас: сломанной, измученной, потерявшей свой путь, обезумевшей, но такой, какой она призвана быть в полной Божественной гармонии и в полной Божественной любви. Только человек остается проблемой в этом сотворенном мире, потому что человек приобщился ко злу и внес в эту тварь то, что ей не присуще. Она безгрешна, она отделена от Бога только тем, что ее вождь потерял свой путь.
Я прошу у вас прощения в том, что то, что я говорил, может быть, вам показалось очень сложным, может быть, во мне самом, в понимании моем нет достаточной ясности. Но примите то, что я сказал, продумайте по-своему, погрузите это в свой опыт и в свою жизнь, и тогда это вам раскроется как радость, и как красота, и как строй, и как жизнь.
Сегодня я хочу приступить к теме трудной, но необходимой: к вопросу о зле.
Бог зла не сотворил. Бог сотворил мир всей любовью Своей, всей верой Своей, всей надеждой Своей. Он сотворил этот мир для того, чтобы этот мир и Сам Бог были друг другу родные, чтобы Божественное присутствие пронизывало все, как жар пронизывает железо, чтобы все было живо Им, чтобы, как говорит апостол Павел, мы жили, движились, были в Нем (Деян 17:24), или, как в другом месте говорится, чтобы пришло когда-то время, когда Бог будет все во всем (1 Кор 15:28), когда мы будем в Боге и Он будет в нас, когда мы Его познаем так, как Он нас познает (1 Кор 13:12), с такой же глубиной, с такой же открытостью.
Бог создал мир, и заключение каждого дня этого творения по библейскому рассказу было таково: И увидел Бог, что все добро (Быт 1:31). И в конечном итоге сотворен человек, тоже как нечто доброе.
Но тут, я думаю, нам всем надо помнить очень важную вещь. Мы всегда думаем, что человек был создан совершенным. И когда мы употребляем это слово — «совершенный», мы сразу думаем о святости, о таком величии духа и таком богообщении, которые являются результатом предельного подвига соединения с Богом. Человек был создан совершенным в том смысле, что в нем не было тогда ни пятна, ни порока, он был невинен, греха в нем не было, зла не было в нем. В этом отношении, да, он был совершенен. Но он не был совершенен в том смысле, будто в момент своего сотворения человек дошел уже до той святости и той глубины богообщения, которая является пределом его призвания. Этот момент очень важен, потому что не святость человеческая была подорвана грехом, а его невинность была обманута злом. И человек злым до конца не стал, он оказался запутанным, как один из отцов Церкви говорит, он оказался как бы опьяненным злом.
Но откуда зло взялось? Библейский рассказ говорит, что сатана в виде змеи явился Еве и стал ее соблазнять. Откуда же взялся сатана, когда все было совершенно при сотворении? И вот тут идут догадки бесчисленного количества богословов, которые, может быть, можно более или менее соединить в поисках какого-то ответа. В этой области богословы знают и употребляют выражение «теологумен», то есть это богословская догадка, которая отчасти основана на Священном Писании, отчасти основана на духовном опыте людей, личном и коллективном. А есть догадки, которые еще нельзя назвать «теологумен», но которые являются как бы попыткой ощупью, в полутьме найти какой-то ответ на мучающий всех вопрос о зле, о том, как оно появилось, как оно может сосуществовать с Богом и Его любовью, и каково положение Бога по отношению к твари, которая попала в плен этого зла и одновременно Ему дорога{'}, остается любимой до конца. И когда я говорю «до конца», я имею в виду не «до конца времени», но — до предела, до того предела, каким является воплощение Сына Божия и Его смерть на кресте для победы над злом.
Классически обыкновенно говорили о том, что Бог сотворил ангелов, и они окружали Его престол, с ними Он жил, они были Его славой. Тут я должен сказать, что мы употребляем это слово «слава» в таком наклонении, которое иногда смущает. Мы говорим о
славе Божией, о том, что мы призваны
петь Его славу. Слава — значит сияние. И все твари были созданы не для того, чтобы как бы воспевать величие Бога, Его красоту, а для того, чтобы быть выражением всей красоты и всего сияния и всей святости Божественной. Так вот, Бог создал ангелов, и они все были совершенны. Из них один был настолько лучезарен, что Священное Писание называет его
Люцифером, то есть светоносным; и он оказался падшим ангелом. Это — в традиции церковной, это в ветхозаветной традиции
[100].
Как же это могло случиться? Искали разные ответы. Одни говорили о том, что его обуяла гордость. Но как могла гордость его обуять, когда гордости еще не существовало? Потому что гордость есть зло, и если бы гордость существовала, то зло уже было бы в мире. Говорили, что зависть его охватила, зависть о том, что он — не Сам Бог. А некоторые говорили, что его охватила зависть после сотворения человека: Бог создал человека по Своему образу и подобию и был так близок к нему, — и зависть вошла в душу ангела. Но опять-таки, откуда взялась зависть? Ее не было. Как же это объяснить?
И вот я нашел урывками, отрывками, кусочками несколько моментов, которыми хочу с вами поделиться, потому что мне кажется, что в них есть если не ответ, то намек на то, как можно из ангела света превратиться в ангела тьмы.
У святого Григория Паламы есть рассуждение о том, что представляют собой ангелы. Он их называет «светами вторыми» и поясняет, чтохочет этим сказать: каждый ангел прозрачен, как драгоценный камень, в него льется свет Божий, и через него этот свет льется и дальше на все твари. Но кроме того, этот драгоценный камень как бы огранен, и свет Божий, который падает на него, не только через него проливается, но еще через эту огранность льется во все стороны. И свет в ангеле — это его изначальная чистота, совершенство, гармония, которые вмещают в себя, принимают в себя свет Божий и щедро, не удерживая ничего для себя, отдают этот свет, это сияние Божие всей твари.
И второй момент такой богословской догадки отчасти покоится, насколько я помню, в писаниях древнего богослова Лактанция
[101]. Речь идет о том, что ангелы, как все другие твари, должны были переходить, как Священное Писание говорит,
от славы к славе, то есть вырастать все больше, больше, больше, углубляться более совершенно в Бога, открываться Ему более совершенно, делаться более совершенно причастниками Его природы. И для этого нужны, с одной стороны, полная устремленность к Богу, и, с другой стороны — и это, думаю, страшный момент и для человека, и для всякой твари, — готовность потерять то совершенство, которое у тебя есть и которым ты наслаждаешься, которое тебя радует, от которого ликует твое сердце. От него надо отказаться для того, чтобы двигаться будто в неизвестность, хотя ты знаешь, что, в сущности, это не неизвестность, потому что эта неизвестность — Божественная любовь, которая тебе все больше открывается.
И вот кто-то из древних писателей говорит, что в какой-то момент некоторые ангелы загляделись на себя, посмотрели на себя и увидели свою непостижимую красоту и испугались ее потерять, ради того чтобы ее перерасти. Они забыли в тот момент, что вся эта красота, все это сияние, которое в них, — Божие сияние, оно им не принадлежит. В тот момент, заглядевшись на себя, Люцифер, светоносец, подумал: я же так совершенен, я так прекрасен, во мне живет все Божественное (в этом он себе отдавал отчет, это он чувствовал), почему я не подобен Богу, почему я ниже Его, когда я весь пронизан Божеством и весь сияю этим светом Божества? И, как сказано в одном месте Священного Писания, он сказал: поставлю свой престол на высоте и буду подобен Богу (Исх 14:13). И в этот момент свет, который в нем был, потух, потому что этот свет был не его свет, это было Божие присутствие. И когда он выбрал себя вместо Бога, он стал из ангела света ангелом тьмы.
Вот единственное объяснение, которое я нашел, которое меня в какой-то мере удовлетворяет. Но я говорю «в какой-то мере», потому что ононе должно нас удовлетворять. То, что совершилось с ангелами Божиими, непостижимо для нас. Если мы не можем понять, что случилось с человеком в его падении, только можем предположить немножко, что случилось, как же мы можем догадываться хоть с какой-то уверенностью, что случилось с ангелами? Но так как мы ставим перед собой эти вопросы, так как наш ум требует какого-то понимания, я вам предложил эти намеки на ответ, и каждый из вас имеет право задуматься и отвергнуть то, что я сейчас вам предлагал, искать иного, но знать, что в какой-то момент случилась самая страшная катастрофа: ангелы, которые были соединены с Богом не только как твари, но как твари без греха, совершенные, пронизанные Божеством, вдруг отпали и стали тьмой вместо света.
И эта тьма вошла в тварный мир. Рассказ, который у нас есть о падении человека, говорит о том, что падший ангел стал перед человеком в лице Евы и ее соблазнил, и затем и Адама. Но в чем же этот соблазн? Потому что соблазн не заключался в грубом предложении взбунтоваться перед Богом и создать как бы параллельное царство тьмы. Нет, речь была о чем-то другом, о чем-то изумительном, в смысле — страшном.
До сих пор человек познавал все сотворенное через свое общение с Богом. Потому что он был погружен в Бога и Бог постоянно действовал в нем свободно, человек понимал все то, что ему открывал Бог. И темная сила, сатана («сатана» на еврейском языке значит «противник», «враг»), явился ему и сказал как бы (я сейчас не повторяю слова Священного Писания): ты же можешь все, что вокруг тебя, познать сам, почему ты не стараешься это познать? Почему ты должен все спрашивать у Бога? У тебя есть ум, у тебя есть зрение — разве ты не назвал каждую тварь своим именем? Погрузись в сотворенный мир и познай его, вкуси от его плодов и независимо, самостоятельно познай все, что знает Бог. Ты это можешь сделать без Бога… И человек на это пошел. Он сделал попытку познать мир, созданный Богом, не через Бога, не в Боге, не будучи Богом наученный, а сам.
Это то, что мы видим в течение всей истории. Человечество старается познать все, что вокруг него есть. В конечном итоге это дало науку, но наука — это наша попытка увидеть то, что Бог сотворил, глазами человека. Конечно, не без Бога, потому что человек создан по образу и подобию Бога, в нем есть образ Божий, в нем действует благодать. Но вместе с тем светлое, светоносное зрение, которое ему было дано изначально, потускнело. И сейчас человек, с одной стороны, живет вдохновением, то есть тем, что Бог вдыхает в него познание, и, с другой стороны, собственными попытками узнать мир.
И встает еще один вопрос, который, мне кажется, не ставится, большей частью, верующими, но который неверующие ставят постоянно. Как же мог Бог создать мир, который, как Он знал, погибнет от соблазна? Как это могло быть? Какова Его ответственность за это? И я хочу сейчас вернуться к понятию, о котором говорил прошлый раз: к понятию о свободе.
Бог сотворил человека не для того, чтобы он был рабом, наемником, а для того, чтобы он стал самим собой в полноте всех своих возможностей. Но для того, чтобы это случилось, человек должен был иметь возможность на каждом шагу выбирать, куда он идет. Иначе он был бы просто механически сотворенным совершенством, в этом не было бы никакого нравственного измерения. Человек был бы непогрешимой и совершенной машиной. Но для того, чтобы вырасти в полную меру своего возраста, человек должен был иметь возможность на каждом шагу делать выбор: что он хочет, чего он ищет, о чем мечтает. И эта свобода, это призвание быть самим собой, но не по принуждению, а по собственному выбору, и является трагедией человека. Потому что человек должен был не только возрастать, как растет растение, — он должен был на каждом шагу делать выбор и меняться.
И человек оказался лицом к лицу с соблазнителем, который ему сразу представил волю Божию ложно. Он говорил: сделай это, и ты будешь познавать все, как Бог познает… То, что Бог человеку давал, сатана предложил ему в виде кражи. Слово «дьявол» — от греческого слова, которое значит «лжец», «обманщик». Ветхий Завет дьявола называет первым убийцей (Ин 8:44, ср. Прем 2:24), потому что, оторвав человека от самого Бога, дьявол его погрузил в область смерти, в возможность смерти. Таким образом, мы видим картину ангела, который отпал от своего призвания, ангела, который стал противником, врагом, который стал обманщиком и лжецом в первую очередь, и убийцей. И человек, соблазнившись, принял в свою судьбу смерть.
И так мир, созданный Богом, стал трагичным миром. Какова ответственность Божия за это? Я вам прочитывал прошлый раз рассказ о Предвечном Совете, о том, что Бог знал, что случится, но Он знал, что спасет человека. И можно сказать так (думаю, что можно сказать это смело и безбоязненно): Бог, зная, что Он творит, давая человеку свободу, взял на Себя всю ответственность за Свой творческий акт воплощением Сына Божия, Который вошел в падший, изуродованный мир, взял на Себя всю судьбу человеческую, включая смертность, и умер смертью человечества для того, чтобы человечество могло жить Божественной жизнью.
Но почему мы говорим о том, что ангел света, став ангелом тьмы, стал лжецом, источником всякой лжи и убийцей?
Ложь заключается в том, чтобы отвергнуть истину и вместо нее поставить нечто нереальное, то есть заставить людей думать, что реальность — нереальна, а то марево, которое им представляется, является самой действительностью. И можно понять, что, создавая мир лжи, где все превращено в неправду, где реальность отвергнута и заменена нереальностью, ангел тьмы является убийцей, потому что жить можно в относительной реальности, и полнота реальности — это вечная жизнь и Бог. Но в тот момент, когда мы за реальность принимаем нереальное, мы живем в мире, которого нет, и в этом мире мы можем только вымирать. Поэтому сатана является ложью и убийцей. И мы можем даже пример этому найти, может быть, самый страшный, который можно себе представить в Священном Писании.
Вы наверно помните, как на суде Пилата судили Христа,
Сына Божия, и как Пилат поставил вопрос перед собравшимися первосвященниками и народом: кого вы хотите, чтобы я выпустил на свободу — Иисуса, Который Себя называет Сыном Божиим, Царем Израиля, или Варавву? (Мф 27:16). Когда мы этот текст читаем на русском языке, ничто нас особенно в нем не поражает. Но если подумать о том, что имя
Варавва на еврейском языке значит «сын отчий», то мы видим, какое это страшное кощунство: Сын Отца Небесного предается на смерть, потому что другой человек, который назван «сыном отчим», выпускается на свободу. Вот здесь мы можем видеть, как ложь, обман, превращение реальности в нереальность может быть убийственна в самом страшном смысле этого слова
[102].
Я хочу вам вычитать одно место из писателя, которого я упомянул, Лактанция, из его сочинения «О гневе Божием», где он ставит вопрос о том, что может Бог сделать по отношению ко злу. «Или Бог хочет удалить от нас зло и не может; или может — и не хочет; или не хочет и не может; или хочет и может. Если хочет и не может, то это слабость, несвойственная Богу. Если может и не хочет, то это зависть, которая несвойственна Богу, столько же как и слабость. Если не может и не хочет, то это вместе и слабость и зависть. Если хочет и может, то почему не удаляет его от нас и зачем столько зла в мире?» Здесь речь идет о зле как бы в двояком смысле этого слова. Мы называем злом несчастье, горе, страдание, пожар, войну. Но, с другой стороны, зло имеет то значение, на котором я настаивал и прошлый раз и сейчас — это потеря Бога, от которой все идет: существование зла, наш плен, наше бессилие. И как же мы можем ответить на поставленный здесь Лактанцием вопрос?
Тут я хочу обратить ваше внимание на одну очень важную вещь, как мне кажется: это то, что Бог творит мир Своим решением, но как бы без согласия того мира, который Он вызывает к бытию. Если бы это было действием силы и власти, то это было бы очень страшно, потому что тогда Бог принудил бы мироздание явиться из ничего Своей властью и силой, и мироздание, которое не просилось к бытию, было бы подчинено всей трагедии, о которой мы читаем в Священном Писании и которую испытываем временами так страшно, а временами гораздо менее чувствительно и однако так реально.
Но Бог творит мир не властью. Как я уже говорил, Бог творит мир по любви. Он ставит рядом с Собой целое бытие, которому дает самостоятельность, которому дает право самоопределения, свободу, право быть собой, как бы ни понимало это бытие, что значат эти слова: быть собой. В этом смысле в момент, когда Бог творит мир, Он дает ему право самостоятельности, даже право отвернуться от Него Самого. И этот мир, который зависит только от Божией любви, может эту любовь попирать, от нее отказываться, от нее отрекаться. Но этот акт творения, постольку поскольку он есть дело Божественной любви, является уже как бы жертвой Божией. Бог Себя отдает этому миру, а мир властен Его не принять, Его отвергнуть. Не только потерять по недоразумению, потому что он соблазнен, но сознательно отвернуться от Бога, отказаться, отречься от Него. И Бог на это идет, зная, что будет.
Но, с другой стороны, это односторонний акт творения, в котором тварь не участвует согласием. Тварь не спрашивают: хочешь ли ты войти в бытие? хочешь ли ты быть любимой, хочешь ли ты в ответ любить Бога всем своим существом? готова ли ты преображаться от силы в силу, пока не дойдешь до такой меры, которую Апостол описывает: Бог будет все во всем (1 Кор 15:28); и: мы будем познавать, как Он нас познает(1 Кор 13:12)? Это единственный случай, когда Бог действует будто независимо от того, как тварь отзовется на Его действие. Естественно, тогда не было твари, которую можно было бы спросить о согласии, но Бог в Своей премудрости знал, что когда тварь появится, она появится в такой красоте, и славе, и совершенстве, что она возликует и что на любовь она ответит любовью, но еще незрелой, не любовью святости, а любовью невинности. И когда эта тварь отпадает от Бога, то Бог односторонне уже не может действовать, потому что если бы Он действовал — пусть даже во спасение этой твари — односторонне, то Он нарушил бы основной закон бытия, Своего и твари: свободу, право быть самим собой. И результат этого, если задуматься, такой страшный: потому что Бог Своей волей, скажу: «односторонне», создал мир и человека, то, когда мир и человек отпали от своей славы, когда человек изменил и вместе с собой увлек все творение в трагедию, Бог должен был на Себя взять ответственность за Свой творческий акт и за свободу, которой Он одарил тварь.
Я знаю, что то, что я говорю, может быть, некоторых и смутит, но это так. Бог берет на Себя всю ответственность за последствия Своего творческого акта и дара свободы тем, что Сын Божий, Господь Иисус Христос, творческое Слово, из Которого родился весь мир, становится человеком и вступает в этот трагический мир, изуродованный, раненый, потерявший свой путь. И мы видим, воочию видим, что в тот момент Бог Себя отдает Своей твари беззаветно, отдает Себя этой твари, которая отчасти Его потеряла, но отчасти отреклась от Него, отвернулась от Него, — пусть она была обманута, но приняла обман, не осталась верной изначальной любви. Бог вступает в этот мир и нам показывает воочию,что представляет собой любовь, — любовь, которая себя отдает, которая делается беззащитной, уязвимой до конца. И это мы видим в яслях вифлеемских. Сам Бог воплотившийся, Бог, ставший человеком, лежит как младенец, который зависит от жалости, от любви — или от ненависти людской. С первого момента Евангелия мы видим это, воочию видим. Мы видим Божию Матерь, окружающую Своего Младенца неизреченной любовью, благоговейной, трепетной любовью, потому что Она знает, что действием Святого Духа из Нее родился Сын Божий, как Ей было сказано ангелом благовестия. Хранит Младенца и Его Матерь Иосиф Обручник, которому свыше поручена забота о Ней и новорожденном Сыне Божием, ставшем Сыном человеческим. Мы видим, как пастухи, в простоте сердца узнавшие от ангела, что пришел свет, Спаситель мира, что Бог теперь среди них живет (вы наверно помните из Евангелия, что имя или звание Христа — это Эммануил, «с нами Бог»), приходят преклониться перед Ним. Вы помните, как мудрецы приходят, умудренные своей наукой, поклониться перед Тем, Который является Премудростью, Истиной и Спасением.
Но наряду с этим вы помните, как Ирод посылает своих воинов в область вифлеемскую избить всех младенцев моложе двух лет. Он узнал от волхвов, когда им было первое слово о приходе нового Царя Иудейского, что это было года за два перед тем, и поэтому все дети, которые могли бы в будущем быть царем иудейским, то есть его, Ирода, и его наследников сместить, должны умереть. Евангелие нам повторяет слова Ветхого Завета: Плач и вопль в Раме, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, потому что их нет (Мф 2:18). И Младенец лежит в яслях, совершенно отданный, зависящий всецело от любви или от ненависти, бессильный себя защитить, уязвимый до конца. Явление Божией любви, воплощенная Божественная любовь — вот какова она. Она сияет в бессилии своем, она торжествует жертвой своей, отдачей своей всем, которые захотят поступить с Ним согласно своей злой или доброй воле. В Младенце, лежащем в яслях, мы видим любовь Божию, отдающую себя — повторяю — в бессилии, в беззащитности, потому что любовь себя отдает, ее можно принять или отвергнуть, но можно увидеть ее неизреченную святость и красоту и поклониться перед ней, как поклонились волхвы, как поклонились пастухи, как благоговейно держала в Своих объятиях Сына Божия Матерь Божия.
Я хочу остановиться на несколько минут на этой теме. Я уже упомянул о том, что Бог сотворил мир как бы односторонним решением, но спасать мир Он может только с согласия этого мира. Сын Божий делается человеком, вступает в этот мир, Он будет нести на Себе все последствия человеческого отпадения от Бога, все последствия греха, зла, ненависти, смерти. Но Он вступает в этот мир не односторонним решением. Святой Григорий Палама говорит о том, что воплощение Сына Божия было бы так же невозможно без согласия Матери Божией, как оно было невозможно без волеизъявления Небесного Отца. Если бы Пречистая Дева Богородица на слова архангела Гавриила не ответила: Се, Раба Господня, да будет Мне по слову твоему (Лк 1:38), то воплощение не могло бы иметь места.
Но это не только Ее решение, потому что если бы это было только решение Божией Матери, как бы помимо всего человечества, человечество не участвовало бы в нем. И вот тут, мне кажется, играет огромную роль родословная Христова, которую мы находим в двух Евангелиях, у Матфея и у Луки (Мф 1:1—17; Лк 3:23—38). Мы ее читаем, и для нас это перечень очень многих имен, которые ничего нам не говорят. И действительно, в этой родословной есть имена, которые не упоминаются больше нигде в Ветхом Завете и потому не могут быть расшифрованы. Но что важно: от Адама до Божией Матери по прямой линии из поколения в поколение течет одна тоска по Богу. Среди предков Божией Матери были праведники, были и грешники, но все они равно тосковали по Богу, рвались к Нему, успешно или не успешно, падали и восставали. И Она является наследницей этого крика всея земли к Богу: мы по Тебе изголодались, Господи, мы Тебя ищем, мы Тебя хотим, мы не можем жить без Тебя! Приди, Господи, к нам, потому что мы к Тебе потеряли дорогу… Она является наследницей всего человеческого рода, и в Ней, Ее устами говорит весь человеческий род: Се, Раба Господня, да будет Мне по слову твоему. Я открыта приходу Сына Божия, пусть совершится надо Мной непонятное, непостижимое. Как Я могу стать Матерью Моего Творца, как Я могу стать Матерью Сына Божия? Но Я Себя отдаю на волю Божию, и да будет Мне по воле Его…
И тут замечательно связываются две воли: спасительная воля Божия и ответ всея земли и всей твари на эту спасительную волю Божию и на эту спасительную жертву Божию Самого Себя для спасения человека и всего мира. Здесь начинается изумительное сотрудничество между Богом и человеком, и через человека — со всей тварью. Это путь всей человеческой истории.
В Ветхом Завете мы видим людей, которые шли к Богу: Мафусаил, Энох и другие, которые жили в Боге, постольку поскольку это было возможно в потемневшем мире. Мы видим также и грешных людей. Вы наверно помните царя Давида и совершенный им грех, который мы вспоминаем каждый раз, когда читаем 50-й псалом: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое… Есть и другие грешники. Есть Раав, которая была блудница и однако всю свою жизнь посвятила своему народу и рвалась к Богу из глубины греха, в котором жила.
Но что замечательно: участвуют в этой устремленности не только ветхозаветные праведники, дети народа избранного. Среди них есть одно имя, которое мы знаем достоверно, имя человека, извне принадлежащего этому народу: это Руфь, жена Вооза. Она была моавитянка, была чужда израильскому народу, но вошла в этот народ верой, любовью, отдачей себя. И в ее лице весь мир человеческий вступил в этот поток богоустремленности. Может быть, были и другие имена, потому что, как я уже сказал, некоторых имен мы расшифровать не можем, мы не знаем, кто они были. Но в данном случае мы знаем: пусть твои боги станут моими богами, пусть твой народ станет моим народом (Руфь 1:16), сказала она и включилась в этот поток. И с ней — можно верить — весь языческий мир как бы включился в этот крик земли: приди, Господи, и приди скоро… Это слова, которые заключают книгу Откровения (Откр 22:17, 20), это слова, которые относятся к концу всех времен. Но они звучали через всю человеческую историю со стороны тех, которые знали, что они потеряли свой путь, что они отпали от Бога, что они найти Бога не могут, только Бог может их найти, и этот крик поднимался: приди, Господи, и приди скоро!
И эти люди сами шли на все испытания. В 11-й главе Послания к евреям, которую мы читаем часто, говорится о всех, кто пострадал за свою веру, кто страдал самым страшным, по-человечески говоря, образом, и кто не был освобожден от страдания, потому что Бог предзрел
[103] для них нечто лучшее, чем быть освобожденными: чтобы они не без нас были освобождены. И они, праведники Ветхого и Нового Завета, в какой-то момент последнего суда скажут Богу, как книга Откровения нам повествует:
Господи, Ты был прав во всех путях Твоих! (Откр 15:3;16:7).
Нам надо останавливаться снова и снова на том, какая связь, новая, славная и трагическая, устанавливается через воплощение Сына Божия между Богом, человеком и всей тварью, всем вещественным миром, в котором мы живем, который, как я вам уже говорил, не согрешил перед Богом, а стал жертвой измены, предательства человека.
Повторюсь: то, что я говорю, во многом собрано из разных источников, во многом тоже плод моих собственных переживаний и размышлений. Я вам это предлагаю на размышление, ставьте все, что я говорю, под вопрос и найдите свой ответ на те вопросы, которые встают неминуемо перед нами.
Дальше вы все знаете, что Евангелие нам повествует о Христе. Я хочу только остановиться на двух моментах. Первый момент: в Евангелии от Луки сказано, что Младенец рос и телесно, и душевно. Он развивался как всякий нормальный, естественный ребенок. Однако в Нем было одно, чего ни у кого из нас нет, потому что мы не рождены так, как Он был рожден, — от Богородицы. В отрывке из книги Исаии пророка, который читается под Рождество, сказано: раньше, чем Он сумеет различать добро от зла, Он выберет добро (Ис 7:16). Вот что характерно в этом Младенце Христе. Он рожден от Духа Святого и от Девы совершенной. И Он будет стоять лицом к лицу со злом, но в Нем нет никакого поползновения, вожделения ко злу.
Он растет, и Он окружен детьми и юношами, которых мы потом встречаем в лице Его апостолов. Если вы взглянете на карту Галилеи, вы увидите, что Назарет, Кана Галилейская, Капернаум — на небольшом расстоянии друг от друга. И Его ученики, конечно, Его знали как сверстника и дивились тому, что в Нем что-то есть особенное, что Он — как все, а вместе с тем — единственный, неповторимый, что зло к Нему не прикасается, Он светится чистотой, и правдой, и истиной. Сначала, вероятно, Он был их товарищем и другом, потом — примером, потом — как бы руководителем к добру до момента, когда Он стал их наставником. И в период этого роста Христос Сам возрастал в Своем человечестве.
И есть момент, когда совершается нечто совершенно решительное: это момент крещения Господня. Это момент, когда Человек Иисус Христос, как Его называет апостол Павел (Рим 5:15), в единстве с Божественной волей Сына Божия, Которым Он тоже является, берет на Себя сознательно, свободной волей то, что Он выбрал в недрах Божественных, в том Божественном Совете, о котором я говорил раньше. Он погружается в воды Иордана, отяжелевшие от омытого в них человеческого греха, ставшие смертоносными, Он погружается в них, по словам одного западного священника, как белый лен можно погрузить в красильню, и выходит из них, будто пронизанный смертностью, которая Ему не принадлежит, потому что в Нем нет греха, но которую Он принимает от нас и разделяет с нами. И Он живет с этой смертностью.
И после крещения — момент, когда Он уходит в пустыню быть искушенным (Лк 4:1—13). После того как Он был крещен, в Его человечество вливается благодать, сила Святого Духа. Он теперь готов на Свой подвиг искупления не только как Бог, но и как человек. Две воли соединены воедино, зрелая воля человеческая соединена с извечной волей Божественной. И тут сатана подходит к Нему. Первое искушение обращено к Его человечеству: Ты сорок дней постился, изголодался, а Ты ведь Бог. Если это правда, почему бы не сказать этим камням: станьте хлебами, и Я насыщусь… И Христос отражает это искушение: сказано в Священном Писании — не хлебом единым жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих… Второе искушение: раз Ты таков, то покажи, докажи, что Ты вне человеческих законов, что Ты все можешь. Поднимись на башню, бросься вниз, пусть люди видят, что ничего с Тобой не случится… Христос и тут отвергает искушение. Он не ищет признания, Он не ищет восторгов человеческих, Он ищет только того, чтобы совершить Свой крестный путь. И последнее искушение — дьявол Ему говорит: все мне предано (и это «предано» надо понимать в очень сильном смысле. Человек предательски отдал в его власть то, что Бог вручил попечению человеческому), все предательски мне было вручено. Поклонись мне — и все Тебе отдам… Теперь дьявол обращается ко Христу опять-таки как к человеку: Ты новый Адам, Ты начало нового рода человеческого, я Тебе все отдам, что украл у Тебя, обманув первородного Адама… И это отвергает Христос. Он отвергает в Своем человечестве все то, что сатана хочет Ему предложить, чем он хочет Христа уловить через человечество. Потому что дьявол не имеет никакой власти над Его Божеством и также никакой власти над Его телесностью. Он может, соблазнив других, привести к Его телесной смерти, но Его покорить он может, только приразившись к Его душевности, к Его человечности: уму, сердцу, воле. И дьявол отвергнут. Теперь Христос будет идти на Голгофу, на смерть, на Воскресение.
Он идет шаг за шагом, уже зная, что приближается время. Он идет шаг за шагом к Тайной вечери. Сначала вход Господень в Иерусалим, когда Его принимают, потому что ожидают, что Он воцарится и восстановит земное царство Израилево. И когда эти же люди, которые поют Ему «Осанна», увидят, что Он это царство восстанавливать не собирается, что Его царство не от мира сего (Ин 18:36), они Его предадут на смерть. Распни, распни Его! — Распну ли я вашего Царя? — говорит Пилат. — Нет у нас иного царя, кроме кесаря (Ин 19:15).
Христос, разделив последнюю трапезу с учениками, идет на Свою смерть. И Он умирает не Своей смертью, не смертью, которая Ему естественно пришла, а умирает смертью всего рода человеческого, той смертностью, которую Он воспринял, погрузившись в смертоносные воды Иордана. Он умирает нашей смертью, не Своей. И когда Он умер, Его тело полагается во гроб, а душой Своей во славе, в блеске, в сиянии Своего Божества Он сходит во ад. Такое схождение Спасителя — это жизнь, вливающаяся в область смерти. Помню, как-то я говорил с владыкой Василием об ужасе, какой мы испытываем, когда думаем, что Иуда не может быть спасен, и он мне ответил: «А вы никогда не думали, что Христос и Иуда встретились, когда Христос сошел во ад?».
И затем совершается воскрешение Христово. Я употребляю слово «воскрешение», а не «воскресение», потому что у апостола Павла есть замечательное место, где он говорит о том, что Бог Его воскресил (Рим 8:11 и др.). Христос Себя отдал на то, чтобы разделить с человеком всю его судьбу, и в словах апостола Павла как бы выражена мысль, что Христос не может самостоятельно воскреснуть. Он выбрал разделить всю судьбу человека, и Бог Его зовет обратно к жизни, и Он воскресает силой Своего Божества, но волей, призывом Божиим.
И когда мы думаем о Христе, вступающем в этот мир, мы в Нем видим одновременно нечто такое великое и страшное — и такое скромное, и тихое, и умилительное. Мы знаем, что Он Сын Божий, что в Нем
полнота Божества обитала телесно (это слова евангельские, Ин 1:14—17) — полнота Божества, это не ущербленное Божество, не
нечто от Божества, это вся полнота Божества и Божественной жизни, которая вступила через Божию Матерь в мир воплощением. И мы видим одновременно, с одной стороны, как изумительно нас Бог любит, что Он готов и способен Себя отдать, умалить Себя до такой степени, чтобы стать человеком, и, с другой стороны, как велик человек, как емок человек, что он может в себе содержать всю полноту Божества. Один из западных немецких мистиков, писавший короткие стихи, написал в одном из них после молитвенного созерцания: «Я так же велик, как Бог; Он так же мал, как я»
[104]. И в этом есть какое-то понимание, видение, превосходящее разум, но не превосходящее опыт. И в течение всей жизни Христа мы видим одновременно или по временам, с одной стороны — одно, с другой стороны — другое. В Вифлееме мы видим Сына Божия, лежащего в яслях и одновременно знаем, что Он Бог. И в этом бессилии новорожденного ребенка мы можем видеть,
что такое по существу Божественная любовь. Она себя отдает до конца, она делает себя беззащитной, она всего ожидает от нас, и она готова принять и самое страшное, и самое ласковое и тихое. Вот о какой любви говорит нам воплощение Сына Божия, эти ясли. Он родился для того, чтобы умереть за нас, и Он беззащитно идет, как
Агнец Божий, вземлющий грех мира, о котором говорит Евангелие.
И дальше мы видим, до чего Он истинно, подлинно человечен. Он растет; Он растет и умом, и разумом, и ростом телесным. Он окружен друзьями, которые постепенно в Нем открывают новые и новые стороны. Сначала Он их сверстник; но и как сверстник, Он чем-то от них разнится. В Нем есть какая-то красота, какая-то глубина, какая-то чистота, которой в себе они не могут найти. И не напрасно пророк Исайя говорит, кажется, в 7-й главе своего пророчества, которое читается под Рождество, что, раньше чем Он сумеет распознать добро от зла, Младенец Христос выберет добро. Мы ведь зло выбираем, потому что мы уже испорчены. Он без порчи, Он совершенен и в человечестве Своем, и в Божестве, и это, должно быть, ощущали все окружавшие Его, все приходвшие к Нему. И постепенно Он делался, вероятно, для них примером, совестью, вызовом, зовом к новой жизни, к полноте святой жизни.
Дальше минутами мы видим преимущественно Его человечество, а минутами видим вдруг, как через это человечество сияет Божество. Вспомните Гефсиманский сад, как Христос молил Отца Своего о помиловании, как Он боролся в Своей человеческой природе с тем, что — Он знал — должно случиться, но и что должно стать Его даром человечеству. Отче, если можно, пусть Меня минует эта чаша… И второй раз:Отче, если не миновать этой чаши, Я буду ее пить… И только напоследок: Отче, да будет воля Твоя (Мф 26:39—42). Тут мы видим подлинное человечество, причем мы должны понять нечто, что нам не бросается в глаза. Это то, что все мы перед лицом смерти, но эта смерть, как бы она ни бывает страшна некоторым или большинству людей, естественна. Она естественный последок того, кем мы являемся в течение нашей жизни, той смеси добра и зла, того влечения ко злу, которое в нас есть. Апостол Павел об этом говорит: добро, которое я так люблю, я не делаю, а зло, которое ненавижу, я исполняю (Рим 7:19). И таковы мы все.
Но во Христе не было этого зла, и для Него смерть не была естественным пределом разрушительных сил зла в Нем Самом. В Нем не было смерти, в Нем не было смертности, в Нем было только приятие нашей смертности в день Своего крещения от Иоанна и всех последствий нашей смертности и нашего греха. С каким ужасом Сын Божий, Который является Жизнью и полнотой жизни, должен был глядеть в глаза неминуемой смерти и сошествию во ад! Ад, о котором говорится в Священном Писании, в Ветхом Завете, — это не место пыток и страдания грешников, это место, куда все уходили, кто в течение своей жизни — и таковы были все — не был един с Богом. Это место, где Бога нет. И отрывок псалма, который нас теперь не озадачивает, потому что мы знаем, что случилось, был непонятен современникам Христа и тем, кто жил до Него. Псалмопевец говорит: На небе престол Твой, и во аде Ты еси (Пс 138:8). Как это могло быть, когда ад — место, где Бога нет? Давид видел пророческим прозрением, что в эту глубину богоотсутствия спустится душа, человеческая душа Христова, осиянная, нет, пронизанная Его Божеством. И когда Он вступит в этот ад, ада уже не будет, ад будет разрушен, как говорит святой Иоанн Златоуст в слове, которое мы читаем на Пасху. Мы видим Христа бессмертного по природе, Который принял смерть нашу на Себя, перед лицом смерти. И это не слабость, это ужас.
А в другой момент мы видим Христа по-иному. Вы помните Фавор, как Христос поднялся на Фаворскую гору с тремя Своими учениками, Петром, Иаковом и Иоанном, и как Он преобразился перед ними. Что это значит? Он не преобразился в том смысле, будто стал нарочито иным, чтобы они Его видели по-иному. Мы знаем из рассказа, что в этот момент Моисей и Илия с Ним беседовали о грядущем Его распятии и смерти. В этот момент, когда полнотой Своей Божественной любви, и человеческой любви, и человеческого послушания Он ликующе, с готовностью принял грядущую на Него смерть, Он воссиял всей славой Своего Божества и всей славой Своего человечества.
Вы наверно помните рассказ о том, как был сотворен Адам. Он не был сотворен как последнее звено все совершенствующегося животного мира. Когда последнее звено было сотворено, Бог взял пыль, почву земную и из нее создал Адама. То есть человек не является просто естественным «усовершенствованием» того, что было до него. Бог творит нечто совершенно новое, но из основного материала, если можно так выразиться, тварного мира. Человек создан из самой плоти тварного мира. И этим он сродни всему тварному миру, не только другим людям, не только человечеству, не только животным, которые тоже принадлежат этому тварному миру, но даже всему тому, что мы видим вокруг нас, что нам кажется как бы неживым, но что живо для Бога.
И когда Христос воплощается, Он соединяется с веществом всего тварного мира. Он делается Спасителем человечества, но одновременно делается в глазах всей твари, если можно так выразиться, явлением того, к чему она призвана. Вся тварь, от самого малого атома до самой великой галактики, как бы взирая на Него, видит себя самое во славе. Он возглавляет весь мир. Отцы говорили о том, что Он делается снова тем, чем был призван быть Адам. Он является главой всей твари, и потому что Он сродни всей твари через Свою плоть и через Свою человеческую душу, Он может всю тварь вести к полноте того момента, когда будет победа Божия одержана и когда вся тварь войдет во славу Божию. Христос соединен со всем тварным миром, Он является главой этого мира. Он является главой этого мира именно через крестную любовь. Какая дивная связь между Им, нами и тварью!
Это должно бы нас побуждать к совершенно новому, как бы несказанному отношению ко всему творению, ко всему, что вокруг нас есть, потому что все вокруг нас в каком-то смысле сродни воплощенному Сыну Божию. Все, что вокруг нас есть, как бы находит в Нем своего Главу, своего Господина, своего Наставника, своего Спасителя. И как должны мы относиться ко всему веществу мира, в котором живем, и раньше всего к себе самим! Церковь зовет нас к целомудрию, то есть к такому отношению к нашему телу, которое в нем видит святыню. Наше тело создано из того вещества, из которого создано Тело Христово. Христос взял на Себя тело, подобное нашему.
И еще больше: когда мы бываем крещаемы, в тот момент мы соединяемся со Христом так, что Он живет в нас и мы живем в Нем. Пока мы чужды Христу, когда мы язычники, пока мы Его не знаем, когда мы грешим до того как мы Его встретили, мы грешим как бы против закона жизни, который написан, по слову апостола Павла, в наших сердцах Богом (Рим 2:15). У всех написан этот универсальный закон подлинного человечества. Но после того как мы крещены, после того как мы стали членами тела Христова, когда мы грешим против своего тела, мы оскверняем тело Христово. И эта мысль такая страшная…
С другой стороны, если мы ею вдохновимся, она помогает понять, как в течение всей истории христианской церкви были люди, которые сохранили такую неимоверную, такую непостижимую чистоту своего тела, что после их смерти их останки, то, что мы называем «мощи» (славянское слово, которое значит: тело умершего человека), оставались неприкосновенные тлению. От этих мощей исходило исцеление, жизнь давалась людям, которые прикладывались к этим мощам, которые их лобызали, которые просто прикасались к ним. Если мы только задумывались бы так о себе самих, о нашем теле, о том, что оно представляет, если бы помнили, что мы в этом мире, потому что мы крещены, являемся телесно и отчасти душевно присутствием самого Христа… Апостол Павел говорит: неужели я отдам уды Христовы (то есть члены тела Христова) на осквернение? Да не будет! (1 Кор 6:15)
Но, с другой стороны, наше соотношение со Христом охватывает не только наше человечество, оно относится тоже ко всей твари вокруг. Все вокруг нас было поручено нам в лице Адама, вся тварь была призвана подняться на уровень духовного мира, которому уже частично, зачаточно принадлежал Адам. Он должен был быть вождем, путеводителем, наставником всей твари, ее влечь в глубины Божии, сам уходя в эти глубины. Но человек пал, и вождя у этой твари больше нет. Человечество не знает своего пути и весь тварный мир ведет на разрушение — что мы видим сейчас, что мы видим через всю историю, и не только через войны, но через беспутство, через безразличие, через разрушения разного рода.
Впереди нас целая наша жизнь. У каждого из нас своя жизнь, но у всех нас общая жизнь: мы — тело Христово, и уды порознь, как говорит апостол Павел (Рим 12:4). Мы все вместе составляем одно тело, и каждый из нас является членом этого тела. И придет время, может быть, это вопрос надежды, веры, ожидания, когда мы все чудесным образом, искупленные, оправданные, очищенные, так соединимся со Христом, чтобы не осталось в нас никакой скверны, никакой тьмы. Есть место у святого Иринея Лионского, где он говорит, что придет время, когда во Христе и силой Святого Духа мы все перестанем быть приемными детьми Божиими, а в Нем — потому что станем едины с Ним — станем единородным сыном Божиим. Вот наше призвание. И как мы его мало понимаем, и как мы его мало осуществляем, как мало стремимся к этому даже в мечтах наших!
А вместе с тем, если мы не исполним этого, никто за нас не исполнит, если мы не будем идти этим путем, христоподобным, следуя за Христом, куда бы Он ни пошел, вглядываясь в Него, сказавшего о Себе: Я вам дал пример, последуйте ему (Ин 13:15). Мы повторяем молитву Господню,Отче наш. Но в каком смысле можем мы говорить о нашем Боге как об Отце? Только в той мере, в какой мы верой хотя бы, устремленностью, надеждой, любовью, зачатками доброй жизни соединены со Христом. Он единственный, кто может Небесного Отца назвать Своим Отцом: Отче Мой… Мы говорим «Отче наш», постольку поскольку мы едины со Христом. «Наш» относится не только к множеству человеческих особей, это слово «наш» относится ко мне лично и ко всем нам вместе со Христом. Поскольку мы Христовы, Бог нам Отец. Над этим нам надо задумываться, потому что это не слова, это не предмет веры, то есть общего приятия того, чему учит Церковь; это вопрос жизни, нашего призвания. Если мы его не исполняем, в какой-то мере мы ответственны перед Богом за распятие Христа.
После Своего Воскресения Христос в течение сорока дней являлся Своим ученикам и в течение этого времени наставлял их о том, что перед ними лежит, какой путь созидания Церкви и какая их личная судьба как посланников Живого Бога через Него, воплощенного Сына Божия. В этом, конечно, было и дивное, и страшное предупреждение. Дивное — о том, что создается Церковь, то есть общество, где совершается живая встреча между Богом и человеком, которое является местом этой встречи, самой тайной этой встречи; и не только встречей лицом к лицу, но таким взаимным соединением, что все человеческое пронизывается Божественным. Церковь является обществом Всесвятой Троицы и человека вместе, тем, что Хомяков в свое время называл обществом любви.
Но в течение этих сорока дней случаются события, о которых я хочу вам напомнить, потому что они порой ставят перед нами вопрос, недоумение.
Во-первых, раз за разом мы видим, как Христос является Своим ученикам: приходит к ним, собранным в доме Иоанна Марка, является у моря Тивериадского, явился Своим ученикам, шедшим из Иерусалима в Эммаус, и ни разу ученики сразу Его не узнают. И встает вопрос: что же случилось? Они в течение трех лет везде сопутствовали своему Наставнику, своему Спасителю. До этого они Его знали, как я вам уже говорил раньше, чуть ли не с детства, потому что они все принадлежали к смежным деревням и областям. Как же они могли не узнать Его воскресшего? И тут можно вспомнить слова, которые говорит апостол Павел в одном из своих посланий: есть тело душевное и есть тело духовное(1 Кор 15:44). Как это понять?
Когда человек был создан, о чем говорится в начале книги Бытия, он был еще как бы в младенческом состоянии, он был чист, непорочен и ничем не был отделен от Бога: верой, любовью, надеждой все держалось воедино. И тогда он был весь пронизан Божиим светом. То дыхание Божие, которое было в него вдунуто при сотворении, его делало духовным существом, сродным всему духовному миру: и ангелам, и — поскольку это возможно твари — Самому Богу. Но когда человек пал, от него отошла благодать, не в том смысле, что Бог ее отнял, человек ее сам потерял, она стала для него недостижимой. И тогда его телесность, которая раньше сияла божественным светом, сделалась как бы чисто тварной, отяжелела.
Можно это разъяснить. Святой Григорий Нисский пишет, что когда в книге Бытия нам говорится, что Бог сшил кожаные одежды Адаму и Еве (Быт 3:21), разумеется, Бог не делал этого в том смысле, как мы говорим, что можно «сшить одежду». Но в этот момент Адам и Ева как бы стали замкнуты сами в себе, в телесности своей, в естестве своем тварном. Они стали душевно-телесным существом, в глубинах которого где-то оставался запечатленный в них образ Божий и оставался свет Божий, который они изначально получили в дыхании Божием.
Мы знаем из рассказа Мотовилова о его видении святого Серафима Саровского. Мотовилов недоумевал, каково состояние святых или праведников в Царстве Божием, чем они будут не похожи на людей, которые вокруг них жили, двигались, действовали. Святой Серафим помолчал мгновение, а потом ему сказал: «Взгляни на меня». И когда Мотовилов взглянул на святого Серафима, он не мог его в каком-то смысле узнать. Он говорит, что лицо Серафима уже нельзя было рассматривать, это было словно человеческие черты на фоне полудневного солнца, видение ломило глаза. Можно было видеть, как губы шевелятся, как глаза глядят, и вместе с тем уловить черты лица он не мог
[105]. Нечто подобное, вероятно, было и с учениками Христа, когда в первую встречу и в дальнейших случаях, которые я вам указал, они видели Христа, а узнать не могли. Это было уже не тело душевное. Это уже был не Бог, сокрывающий Свое Божество под телесностью Своей, это был Бог,
являющий Свое Божество через телесность и через душевность Свою.
После сорока дней, в течение которых Спаситель говорил со Своими учениками о том, что будет, что им надлежит совершить и что дальше совершится через них, Его учеников, и через наследников их, Христос вознесся на небо. И это Вознесение на небо опять-таки, так же как Воплощение, не было «перемещением». Мы видим на иконах группу учеников, Божию Матерь и Христа, Который возносится. Он как бы окружен, охвачен сияющей, блестящей тучей. Он не растаял в глубине небесной, Он отделился от земли, поднялся, благословил Своих учеников, и Его поглотила вечность, Он стал для них невидим. И мы знаем из опыта святых и из Священного Писания, что Он вознесся на небо и сел одесную (то есть по правую сторону) Бога и Отца, и в свое время вернется судить живых и мертвых.
Но что случилось в Вознесение? Это очень важно для нас понять. С одной стороны, Христос как Сын Божий вернулся в недра Божии. Он как бы вернулся туда, откуда никогда не уходил, несмотря на то, что, будучи, как Бог, вездесущий, Он одновременно был и на земле среди Своих учеников, и на кресте, и в аду, и снова после Воскресения Своего с учениками Своими. Но, с другой стороны, случилось что-то, что нас должно не только вдохновлять, но и потрясать: Он вознес все наше человеческое естество. По правую сторону Живого Бога и Отца восседает на престоле славы — Человек Иисус Христос. Он не разлучился с плотью Своей, когда вознесся, и вся тайна человека, все величие человека сейчас находится одесную Бога и Отца в глубинах Божиих. И когда мы думаем о том, как велик человек, мы должны, конечно, думать о том, что человек так велик, так глубок, что Бог мог стать человеком в день воплощения Своего. Но мы можем думать о чем-то еще более потрясающем: человек так велик, что он может восседать одесную Бога и Отца.
Первая часть Символа веры кончается словами о том, что Спаситель придет судить живых и мертвых, но к этому мы вернемся в конце наших бесед, когда будем говорить о том, что представляет собой вечная жизнь после воскрешения. А сейчас я хочу остановиться на том, что нам нужно помнить о Святом Духе.
Раньше чем расстаться со Своими учениками, Спаситель Христос обещал, что пошлет им Духа Своего Святого, Который напомнит им все, что Он Сам им говорил (Ин 14:26). Дух Святой, Который исходит из Отца и Им, Христом, посылается в мир, придет к Его ученикам. В Евангелии сказано, что Святой Дух является нашим Утешителем (Ин 14:16). Слово «Утешитель» на русском языке нам напоминает только одно понятие: что Он нас утешает. А в чем же Он нас утешает? Разве нам нужно утешение? Увы, большей частью нам утешение, по нашим чувствам, не нужно — в том смысле, что нам утешаться не в чем. Да, нам приходится утешаться, когда у нас горе на земле, когда у нас страдание, когда мы переживаем потерю близкого человека, но не о таком утешении говорит Евангелие.
Апостол Павел (я вам это часто цитирую) говорит, что для него жизнь — Христос, а смерть — приобретение (Флп 1:21), потому что пока он живет в этом теле, он разлучен со Христом (2 Кор 5:6), и только смертью, то есть вырвавшись из плена телесного, он будет со Христом нераздельно, неразлучно. И однако он согласен (он говорит об этом в том же отрывке) продолжать жить на земле в каком-то мучительном отлучении от Христа, Который является единственной его любовью, потому что своим присутствием, своим словом он нужен для спасения других людей (Флп 1:22—25). Павел был готов ради любви к Богу и воплощая в себе эту любовь, как бы умереть внутренне, умирать в течение всей своей жизни в разлучении со Христом до момента, когда настоящая телесная смерть его сделает свободным и введет в Царство Божие, и он окажется вместе со своим Наставником и Спасителем Христом.
Слово «Утешитель» понятно в этом контексте. Нам же оно должно быть понятно, постольку поскольку мы сами страдаем о том, что мы не постоянно со Христом и с Богом. А мы знаем на опыте, как мало времени мы уделяем — я не говорю: формально, но внутренне — тому, чтобы быть с Богом. И поэтому Дух Святой как Утешитель для нас далек, Ему как будто не в чем нас утешать. А мы должны бы так возлюбить Бога, так возлюбить Христа, так рваться к Нему всем нашим существом, чтобы нам нужно было утешение, чтобы не только словами, но чем-то таинственно происходящим в нас рождалась и росла наша близость, наше родство со Христом Спасителем. И в этом смысле Дух Святой является Утешителем для тех, кто не может утешиться от разлуки со Христом. Он их утешает тем, что раскрывает им тайны Царства Божия, раскрывает учение Христа, раскрывает им любовь Христову, призывает их быть подлинно Его учениками, утешает, дает радость.
И это второе значение на славянском языке слова «утешение»: Он приносит радость. Дух Святой приносит радость тем, что, как Спаситель нам обещал, приобщает нас к Нему, Он нас приобщает друг к другу и Он нам раскрывает тайны Божии.
И наконец (греческое слово в этом смысле богаче русского), Он является нашей крепостью. Он утверждает нас в вере, утверждает нас в преданности Богу, утверждает нас в том, что мы на земле, как апостол Павел, должны тосковать по Христу, плакать над нашим временным разделением, но знать, что мы посланы в мир для спасения всего мира ценой этой нашей разлуки и порой ценой мучительной жизни и мучительной смерти до того момента, когда мы со Христом будем в вечности. Вот что мы знаем непосредственно о Святом Духе из Евангелия: Дух Святой, Который нас утешает о разлуке, укрепляет в этой разлуке и вдохновляет знанием тайн Божиих.
И Он является Духом Истины (Ин 14:17). Вы все знаете молитву Царю Небесный, Утешителю, Душе истины… Он Дух, Он дыхание Истины в том смысле, в котором я попробовал вам ее объяснить в начале наших бесед как самое бытие неограниченное, необусловленное, как Живой Бог, Который есть Истина, есть абсолютное Бытие, безусловное, нетварное, вечное… Иже везде сый: Он везде, Он пронизывает всю вселенную как свет, как тепло. Он все исполняет, и Он сокровище благих, то есть в Нем сокрыто все благое, все святое, все священное, все дарования. Он является сокровищницей всего, что Бог нам хочет дать, и Он — жизни Податель, не той временной жизни, которая нам дана при нашем рождении, но новой жизни, которая дается нам во Христе и в Духе Святом.
И тут я хочу вам напомнить, что в Крещении мы соединяемся со Христом, мы погружаемся в воды Крещения, как бы образно являя, что мы вместе со Христом умираем, погружаемся в Его смерть и с Ним делаемся мертвыми по отношению ко всему, что несовместимо с Богом, что является отрицанием Бога не только в мыслях наших, не только в чувствах наших, но во всем нашем отношении к Богу, к нам самим, к ближнему, ко вселенной. И поднимаемся мы из этих вод, как бы воскресая вместе со Христом, входя в новую жизнь с Ним. Но в этот момент мы облечены, как бы пронизаны всем тем, чем является Христово человечество, пронизанное Его Божеством. И в Миропомазании нам дается дар Святого Духа. Он вселяется в нас, Он уже действует в нас, Он неизреченными воздыханиями, как говорит Апостол (Рим 8:26), нам шепчет истину о Боге, о нас самих, о вселенной, о всех тайнах земли и неба. И вместе с этим Он нас учит, потому что мы соединены со Христом, называть Бога — Отцом.
Я вам уже говорил, что мы можем называть Бога Отцом нашим не только потому, что Он Отец всех нас, но лишь постольку поскольку мы братья и сестры Христа. И я говорю эти слова не с дерзостью, а опираясь на Священное Писание, ибо Христос сказал женам-мироносицам:Идите к братиям Моим и возвестите им о воскресении (Мф 28:10). Да, Он нас признает Своими братьями; но подлинными братьями мы делаемся подвигом верности Ему как ученики, верности Ему как братья и сестры.
И в связи с этим раскрывается тайна не только нашего личного соединения со Христом, но открывается тайна Церкви. Я вам упомянул слова Хомякова, который говорит, что Церковь — это организм любви, это тело, где осуществляется Божественная любовь
[106]. И если представить, что такое Церковь, не думая о нас, а думая о ее существе, то мы должны понять, что Церковь — то место, где человечество, люди, живые люди, грешные и становящиеся учениками Христа, встречаются со Христом. И Христос их приемлет и в Крещении с ними соединяется так, что Его жизнь делается нашей жизнью. И, как ни страшно это сказать, наша жизнь делается Его жизнью, потому что, как один древний писатель сказал, до конца времен тело Христово, вознесшееся на небо и восседающее по правую руку Божию, несет на себе раны распятия.
И вот — мы и Христос. Но не только мы и Христос. Дух Святой нам дается в Миропомазании, Дух Святой нам дается так, что Он постоянно в нас действует, как я только что говорил. И больше того: Он стучится во все двери неверующего мира, пронизывая его пониманием, поскольку оно возможно без полного раскрытия истины во Христе. И больше того: Церковь — место, где во Христе и в Духе Святом, через Духа Святого и Христа Отец наш присутствует в нашей среде. И в этом обществе мы являемся детьми Божиими, постепенно вырастающими в полную меру роста Христова, как говорит Апостол (Еф 4:13).
Церковь, таким образом, является богочеловеческим обществом, в котором живет Бог, но Бог, о Котором я говорил с вами все время с определенной точки зрения: с точки зрения любви. Бог Творец любит нас, Он нас создает по любви с тем, чтобы нам дать все, что принадлежит Ему, с нами разделить все, что является Его как бы собственностью, Его естеством, Его жизнью, торжеством, ликованием полноты бытия и жизни. Во Христе (мы говорили о Его воплощении, о распятии) торжествует Божественная любовь. И Дух Святой, Который сходит к нам,грешным, является тоже действием Божественной любви, потому что Он не приходит к святым, в храмы, которые достойны Его присутствия; Он приходит к нам и вселяется в нас. И, как Апостол говорит, мы несем эту святыню в глиняных сосудах, то есть в сосудах, не достойных того, что содержится в них (2 Кор 4:7).
Так, Церковь является богочеловеческим обществом, где человечество в нашем лице, в лице нас, грешных, и в лице святых отзывается на Божественную любовь и соединяется с Богом, и во имя этой Божественной любви идет в мир по призванию Христа, Который нас посылает в мир, как Он сказал, словно мы овцы среди волков (Мф 10:16). Мы посланы, чтобы принести пусть даже ценой нашей жизни и смерти благую весть, чтобы разбудить новую жизнь, торжество жизни, радость жизни и приобщенность к Божественной жизни всей твари, и стать вновь тем, чем человек был призван быть: вождем этой твари, вождем, который, сам соединившись с Богом, теперь во Христе и в Духе Святом может вести, руководить всю тварь не только в Царство Божие, как бы в место блаженства, но в такую приобщенность к Божественной жизни, о которой говорит Апостол, когда нам обещает, что придет время, когда Бог будет всем во всех и во всем (1 Кор 15:28). Вот чем является Церковь: организмом любви, где живая любовь, Отец, Сын и Святой Дух, Троица Святая, в самом бытии Которой вписан крест, смерть, распятие иВоскресение, является источником всего.
И тогда делается по-новому понятно то, что будет совершаться в дальнейшем: и суд Божий, и вечная жизнь. Суд Божий — проблема очень таинственная. Слишком легко по учебникам мы говорим о том, что придет время, когда вся тварь станет перед лицом Божиим, когда Он разделит добрых от злых, и злые пойдут в муку вечную, а добрые — в вечную радость и жизнь. Но так ли это? О том ли говорит Евангелие? Возьмите притчу, которую мы читаем постоянно, притчу об овцах и козлищах (Мф 25:31—46). О чем в ней говорится? Тут говорится не о том, как мы верили, как мы богословствовали, к какому церковному обществу мы принадлежали (или ни к какому), говорится только об одном: вы напитали голодного? одели холодного? вы ввели к себе нищего бездомного? вы посетили больного? вы не постыдились того, что ваш друг в тюрьме сидит, и посетили его? Это все сводится к одному: были ли вы достойны называться человеком или нет? Если вы этого не исполнили, если вы не исполнили того, что повелевает вам закон, написанный в ваших сердцах, написанный, по свидетельству апостола Павла, у всех людей (Рим 2:15), то вы не люди. А если я не человек, я не могу мечтать о том, чтобы стать божественным человеком, чтобы пронизало меня Божество Самого Бога. Вот первое предупреждение: если мы надеемся пойти дальше в глубины Божии, в приобщение, силой Духа Святого, Христу, мы должны стать сначала человеком, стать детьми нашего Небесного Отца.
И дальше. Есть место в Евангелии, где говорится: не все называющие Меня «Господи, Господи», войдут в Царство Небесное, но только те, которые исполняют Мои заповеди. Многие придут и скажут: разве мы не ели и не пили в пределах Твоих Церквей? и Я им скажу: отойдите от Меня, вы, делавшие беззаконие! (Лк 13:26—27). Опять-таки видимая принадлежность к Церкви, даже формальная приобщенность через Крещение нас не может спасти. Я говорю «даже через Крещение», потому что Крещение, по слову отца Георгия Флоровского, являетсясеменем вечной жизни, брошенным в почву нашей души, но это семя может пролежать бесплодно до конца нашей жизни. Оно может попробовать дать маленький росток, и мы можем его заглушить тернием, завалить каменьями, отвратиться от него, и тогда это семя останется семенем. И когда-то это семя как бы встанет перед нами на суд: все тебе было дано, вся божественная жизнь, весь Христос, вся святыня Святого Духа, вся приобщенность к Богу тебе были даны, и ты ими пренебрег. То, что ты был крещен, миропомазан, даже причащался порой, тебя не спасет.
Но тогда становится вопрос: кто же может быть спасен? И Христос отвечает на это: человеку самому это невозможно, Богу же все возможно (Мк 10:27).
В чем же заключается проблема нашего спасения? Я вам попробую разъяснить одним образом. Представьте себе, что пришел конец мира, что все живые твари стали вокруг Господа. В центре стоит Сам Господь, Троица Святая, крестоносная Троица, Троица любви, и вокруг все удаляющимися рядами, по мере того как они были приобщены к Божественной любви жизнью своей, подвигом всей жизни, а не только словом, — ангелы и люди. И все дальше и дальше, чем меньше этой любви, этой принадлежности, растет отдаленность Бога, пусть не окончательная, потому что все находятся в сфере Божественной любви, из центра которой не только сияет, но изливается любовь. Она пронизывает каждого по мере его тоски по любви, по мере его желания научиться ей, приобщиться ей, и постепенно эта толпа растет и растет, приобщается к тайне вечной жизни все больше и больше.
Но представьте себе, что где-то этому есть граница и что за этой гранью — мрак, бесовский мрак, что за этой гранью — вечное осуждение, вечное проклятие, вечная отчужденность. Как вы себе представите состояние праведников, которые любили грешников, находящихся сейчас в страшном отчуждении от Бога? Неужели вы думаете, что эти праведники смогут ликовать всю вечность, зная, что любимые ими люди — мать, отец, сын, дочь, самый близкий друг, жена, невеста — не нашли себе места в Царстве Божием? Разве не понятно, что по мере того как в человеке растет любовь, его сострадание, его боль об осужденном будет только расти? Чем ближе к центру, чем ближе к Богу, тем больнее будет — или было бы — тем, которые в Царстве Божием. И в центре — Бог, Бог, Который по любви сотворил мир, Бог, Который по любви Своего Сына послал умирать, Бог Сын, Который отдал Свою жизнь и смерть для спасения мира, Бог Дух Святой, Который в течение всей истории с сотворения мира и до конца бьется и старается проникнуть и зажечь любовью сердца людей, воскресить в них тот образ Божий, который запечатлен был с самого начала, возродить этот образ Божий, обновить в них жизнь, приобщить их вечности. Неужели эти таинственные Лица Святой Троицы, Которые являются любовью и любовью крестной, могут в самой сердцевине Царства Божия ликовать полнотой Божественной жизни, когда миллионы Их тварей мучаются и погибают? Я не могу этого представить, но не только я. Об этом пишут некоторые подвижники, и сейчас найдена новая книга, написанная святым Исааком Сирином
[107], где он говорит именно об этом, не моим примером, но говорит о том, что придет время, когда каким-то, может быть, непонятным нам образом Бог спасет всех и —
он говорит, не я, — даже бесов.
Но тогда ставится вопрос: как все это может случиться? Я сейчас говорю не о догматическом богословии, которое вы можете читать в любом учебнике, я говорю о чем-то другом. Я когда-то разговаривал с одним мудрым священником о том, что сейчас чувствую, что я всегда чувствовал и чем сейчас с вами делюсь. И он мне говорил: истиной веры может быть только то, что достоверно описано в Писании. Но вы имеете право на истину надежды, потому что надежда тоже есть Божественное свойство… И вот я живу этой надеждой.
Но как может эта надежда стать реальностью? Один католический богослов, кардинал Даниелу, написал замечательную книгу, в предисловии к которой говорит о том, как возможно вообще спасение грешника. И он ставит дерзновенный вопрос о том, может ли простить Бог грех или преступление, совершенное против человека, если этот человек не согласен простить? Я уже говорил настоятельно о том, что вся тайна спасения зиждется как бы на со-трудничестве между Богом и человеком, на союзе между ними. Как же возможно, что Бог может спасти человека на веки вечные, если жертва его будет стоять и говорить: «Я простить не могу!»? Неужели тогда все превращается в такой ужас, что единственные, которые будут страдать в вечности, — это жертвы, которые не могут простить? Этого не может быть!
И кардинал Даниелу говорит, что когда мы все станем перед лицом Божиим на личный, частный суд, а потом на всеобщий суд, мы вдруг увидим, как сами недостойны помилования, прощения, вечной жизни; увидим, насколько то, что против нас было совершено, незначительно, ничтожно перед лицом того, во что мы входим: в единство жизни с Самим Богом. Увидим также, что для того, чтобы войти в это единство жизни, мы должны приобщиться тому, что является жизнью Божией, то есть неизменной, неограниченной, совершенной и жертвенной крестной любви. И тогда всякий человек, который пострадал, сколько бы он ни пострадал, что бы он ни пострадал от рук злодеев, видя себя и сравнивая себя со Христом, с Богом, падет ниц и скажет: «Прости меня, Господи! Я недостоин произносить укоризненный суд ни над кем, я сам достоин вечного осуждения, потому что мне было столько дано, и я так мало исполнил!». Вот то настроение, с которым грешник, пострадавший от иного грешника, может опомниться и сказать: «Прости ему, Господи! Прости, потому что я не могу войти в Царство Небесное, если он остается чуждым этому Царству».
Я знаю, что этим как бы противоречу тому, чему постоянно нас учат; но знаю и то, что есть святые, которые об этом писали. Страшный суд, да, будет. Но в чем же он заключается? Вы знаете русское выражение «сгореть со стыда». Вот представьте себе, что я умер и предстал на суд Божий. В это мгновение я вижу, что весь смысл жизни был в любви, в чистоте, в праведности, в том, чтобы быть живой, действующей иконой Христа, и вижу, что я этого не выполнил и этим не стал. В этот момент я могу действительно сгореть от ужаса перед лицом Божественной любви, которая является огнем поядающим (Исх 24:17). А дальше идет мое возрождение.
Это моя надежда, это надежда, которая должна бы каждого из нас питать, надежда о том, что, несмотря на все, придет время, когда Бог победит, когда победа будет Его неограниченна, и тогда начнется Царство Божие.
Царство Божие — это вечная жизнь. Вечная не в том смысле, что она длится без конца: такая длительная, бесконечная жизнь может быть и не радостью. Она вечная, потому что она — приобщенность к жизни Божией, а жизнь Божия — вне времени, вне пространства, вне расстояния. Я вам попробую это разъяснить одним рассказом.
Есть в святцах рассказ, как жил в монастыре подвижник; и он ставил перед собой вопрос о том, каким образом время может встать, перестать течь. Он пошел ходить по лесу, ходил довольно долго, размышлял и ставил себе вопрос: вот, я сейчас иду, с каждым шагом проходит сколько-то времени, как же время может встать? И вдруг запела птичка. Он остановился и заслушался, а птичка, попев, замолкла, и он услышал звон монастырского колокола, который призывал монахов в церковь на молитву. Он повернулся, пришел к монастырю и с удивлением видит, что ни одного монаха он не узнает, и никто его не узнает. Каждый его спрашивает: «Кто ты такой, откуда ты взялся?». Он им объясняет: «Я — брат такой-то». — «Брат такой-то? Брат такой-то умер триста лет тому назад!» — «Нет, я брат такой-то». Начали проверять, и оказалось, что эта птичка, райская как бы птичка, его ввела в такое состояние, когда он уже не ощущал ни себя, ни времени, — триста лет прошло, и он оставался живым вечной жизнью. И когда он это узнал, он лег и умер, потому что ему время пришло умирать.
Вечная жизнь начнется в момент, когда Христос явится снова и когда вся тварь увидит в Нем Спасителя и Победителя. Да, и Судью, но Судью спасающего. И тогда все станут перед Ним, тогда придет Страшный суд, уже не тот суд частный, о котором я говорил несколько минут тому назад, а иной суд. И на этом я хочу остановиться несколько мгновений.
Этот иной суд заключается в том, что окончательная наша вечная судьба не определяется нашей короткой жизнью на земле. Иначе не было бы никакого смысла молиться об усопших. Но мы молимся об усопших. Что же это значит? Мы не можем говорить: «Господи, он был плохой человек, но Ты его все-таки прости. Разве он не был моим другом? а мы разве с Тобой не друзья? Прости его хотя бы за то, что я его люблю». Этого не может быть, но есть что-то другое. Когда мы молимся на панихиде или совершаем отпевание, мы стоим со свечами в руках, провозглашая нашу уверенность, нашу веру как уверенность воскресения, и мы этим свидетельствуем одновременно, что этот человек был хотя бы малой свечкой, малым светом во тьме или в полумраке земной жизни. Мы свидетельствуем о том, что он не прожил напрасно: он зажег в моем сердце любовь и благодарность, в нем были такие свойства, которые меня побудили стать лучшим человеком, нежели я мог бы быть. Он не напрасно прожил, моя жизнь является в хорошем смысле продолжением его жизни, десятки и сотни людей были вдохновлены его жизнью. Если он писатель, если он художник, если он проповедник, если он наставник — сколько людей зажжены были его словом или образом! Он стоит перед нами, и мы — продолжение его жизни. И когда мы станем на суд и нам Господь скажет: «Добрый раб и верный», мы можем ответить: «Нет, Отец Небесный! То добро, что Ты видишь, это плод его жизни, возьми это и отдай ему». И, может быть, тогда многие люди окажутся спасителями тех, которые иначе были бы недостойны спасения.
Есть еще один вопрос, который я хочу быстро затронуть, — это вопрос о телесном восстании. Есть замечательное место у Исаака Сирина, где он говорит о том, что мы восстанем телесно. Но мы восстанем телесно, опять-таки не просто действием Божиим, а согласием нашей души и тела воссоединиться: без согласия нашего тела наша душа не может войти в вечную жизнь. Об этом подумайте. У меня нет на это комментария, но мне кажется, что стоит запомнить: наше тело имеет такое же значение перед Богом и в вечности, как наша душа и наш дух. Наше тело тоже может играть роль в нашем вечном спасении.
На этом я заканчиваю все беседы, которые предполагал провести с вами о Символе веры, а в следующий раз все время будет уделено вопросам, которые, может быть, вы захотите поставить.
Ответы на вопросы
Мне был поставлен вопрос, где границы Церкви. Есть две фразы, которые мне хочется вам повторить. Первая — это слово митрополита Платона
[108] о том, что разделения человеческие до неба не доходят, что мы разделены на земле непониманием, греховностью, чем хотите, но эти стены ограничены. Второе — то, что мне один раз высказал отец Георгий Флоровский об одном богослове. Я с ним говорил об одном церковном писателе и его спросил: «Как вы думаете, он еретик или нет?». И отец Георгий со своей обычной едкостью ответил: «Для того чтобы быть еретиком, надо сначала быть христианином!». И это очень важный момент — не по отношению к этому писателю, а в том смысле, что когда мы говорим, что какие-то люди еретики, мы этим же утверждаем, что они принадлежат к той области понятий или опыта, пусть поврежденного, которая является христианством. Потому что ни буддиста, ни мусульманина, ни язычника мы не называем еретиком, мы просто считаем, что они не приобщены той области, в которой действует учение Христа. И это нам очень важно помнить, потому что мы можем осуждать учение — и не отвергать до конца того человека, который в плену этого учения или даже виновен в нем.
Мы говорили однажды опять-таки с отцом Георгием Флоровским о ересях древности, и он мне сказал вещь, которая мне запала в душу: что Церковь была права, когда осудила учения тех или других еретиков, но Церковь до сих пор не ответила на их вопрошания. И примером он мне тогда дал учение Ария, которое ставит под вопрос и Божество Христа, и всю тайну нашего спасения. Флоровский говорил о том, что Арий ставил перед собой вопрос о соотношении времени и вечности, пространства и бесконечности, и указал, что в то время эти понятия философски не были разработаны достаточно, чтобы Арий мог понять, в чем дело. И отец Георгий мне тогда процитировал физика, математика Эмиля Бореля, который написал значительнейшую книгу о времени и пространстве, и сказал: если бы Арий знал то, что в начале XX века Борель знал о времени и о пространстве, он не сделал бы своей богословской ошибки… И мы справедливо отвергаем учение Ария, так же как мы справедливо отвергаем целый ряд других лжеучений, но мы должны бы с большей зрелостью в них вглядеться и поставить вопрос: откуда могла родиться такая ошибка, такое непонимание? Сказать, что просто от их греховности, что если бы они были немножко посвятей, они не могли бы так говорить о Боге, о Христе и о Божественных предметах, очень легко. Но вопрос стоит порой гораздо, гораздо глубже: почему этот человек стал таким, почему он таков?
Когда мы думаем о людях, которые вне Церкви, часто приходится поставить перед собой вопрос: что их увело, отвело от Церкви? Собственный ли грех? Это возможно. Окружение, учение, которое они получили, невежество, непонимание? А может быть, сама Церковь? Глядя на нас, они не могли поверить в Евангелие, они не могли поверить в Бога и во Христа: если таковы Его ученики, то не дай Бог мне стать одним из этих учеников!
И поэтому когда мы думаем о людях, которые чужды Церкви, людях иноверных, которые не во всем правы с точки зрения православного вероучения, когда мы думаем о людях, которые искажают это учение больше или меньше, когда мы думаем о людях, которые отвергают это учение, мы можем поставить себе вопрос: а какова моя ответственность в этом? Сумел ли я при встрече выслушать этого человека так, чтобы понять, почему для него недоступна вера, и открыть ему путь?
Я вам дам еще пример. Много уже теперь лет назад я был на съезде Всемирного Совета Церквей в маленькой группе, где обсуждались вопросы о вере, о богослужении в современном мире. И между нами (нас было восемь человек в этой группе) был очень известный тогда американский богослов ван Бурен, один из основателей движения «Бог умер»
[109]: Бог когда-то был понятием живым, но теперь само понятие умерло, и, значит, о Боге и говорить не надо. Мы должны были вести беседу о вере, о богослужении, о духовной жизни, и я сказал, что не в состоянии вести беседу с ван Буреном, потому что ничего между нами общего нет, и я прошу разрешения у председателя и у других членов группы позволить ван Бурену и мне провести диалог. Я хочу его понять, раньше чем смогу с ним общаться, тем более — спорить. Все согласились, и после целого ряда удачных или неудачных подходов, он мне сказал: «Дело вот в чем. В моем опыте я знаю только Евангелие как нравственное учение. Христос для меня —
абсолютная истина с точки зрения подлинного человека, но я еще не дошел до Христа как Сына Божия. Мне понятно Его распятие как Человека, Учителя, Который был неприемлем для Его окружения и Которого надо было вывести за стены, уничтожить, потому что было невыносимо Его учение».
Вы представьте себе, что значит учение, которое ставит как абсолют любовь такую, что ты должен забыть себя всесовершенно, для того чтобы всю свою жизнь и смерть, если нужно, отдать другим людям. Это или полнота жизни, торжество жизни, ликование, или предельный страх и ужас: что же со мной будет?
Я сейчас сделаю отступление. Представьте себе, что тогда было на Голгофе. Стоял крест. На этом кресте умирал Господь наш Иисус Христос; а вокруг была толпа. У подножия креста были Его распинатели, которым было совершенно все равно, кого они распинают. Это были ремесленники, солдаты, которые распяли бы кого угодно, их не интересовало, кого осудили. Они разделяли добычу, хитон Христов и другие предметы. Два разбойника умирали как бы поделом. У подножия креста стояла Божия Матерь, Которая была едина с Сыном Своим во всем и Его отдавала на смерть людям для их спасения и Богу с тем, чтобы Сын Ее вернулся в недра Отчии. И ученик Христов Иоанн, самый близкий Ему, потому что он был близок Ему всем сердцем, а не только рассудочным умом. Поодаль — группа женщин, которые Христу служили и следовали за Ним все время Его служения земного, которые Его и тогда не оставили, хотя ничего не могли сделать. А дальше — толпа, пестрая человеческая толпа. Толпа людей, в которой одни пришли на зрелище. Вы себе не можете этого представить, но я могу, потому что когда я был юношей, во Франции еще была смертная казнь, и на казнь смертников открывали ворота тюрьмы, и желающие имели право прийти и посмотреть, как под гильотиной погибает человек. И толпа приходила: смотрели, и переживали, и уходили домой, и обсуждали, что случилось. Такие люди, наверное, были и вокруг креста, на котором был распят Спаситель. А кроме того, были люди, которые пришли с надеждой, как бы отзываясь на вызов саддукеев, фарисеев, книжников, говоривших: если Ты Сын Божий, сойди с креста, и тогда мы Тебе поверим… Многие прислушивались и думали: да, если бы только Он сошел с креста, тогда мы могли бы поверить Ему, тогда мы могли бы стать Его верными учениками без страха, без опасности: Он доказал бы, что Он победитель и что Его Евангелие любви возможно, что Он нас защитит против всего… А были такие, которые думали: только бы Он не сошел с креста! Потому что если Он сойдет, мы должны Ему поверить; если Он умрет, мы свободны от этогоужаса евангельской крестной жертвенной любви…
Таков был и ван Бурен. Он видел Христа умирающего, но как человека, и он не видел ничего за этим. И он мне сказал: «В это я верю. В эту любовь, в эту жертвенность, в это великодушие, в это учение, которое Он доказал готовностью умереть за него, — да, я верю, но я Его как Бога еще не встретил и через Него не встретил и Самого Бога. Я верю во Христа и не могу верить в Бога». И с этого момента стало возможно нам разговаривать друг с другом, потому что тогда я мог говорить ему, почему я, как бы за пределом того, что он познал, верю во Христа как воплощенного Сына Божия. И у нас получился глубинный разговор, из которого я ушел обогащенный несравнимо, но он ушел с новыми мыслями о том, что, да, можно верить в Бога. Христос распятый стал для него прозрачен, и через эту прозрачность человечности для него начал сиять свет Божества.
И когда мы встречаемся с людьми инакомыслящими, принадлежащими к церкви, учение которой мы отвергаем, которая является с нашей точки зрения — и, я бы сказал, с объективной точки зрения — неправильной, мы должны ставить вопрос: как? почему? чем я могу ему помочь познать истину с новой глубиной? Не тем чтобы ему сказать: завираешься, неправду говоришь, тебя учили не так, ты еретик! — а поставить вопрос так: вот, ты все это знаешь. Я тебе могу сказать нечто, что обогатит твое познание, твой опыт; поставь перед собой вопрос… И как говорил один русский миссионер советского времени, Владимир Филимонович Марцинковский, надо говорить не против человека, потому что тогда он будет защищаться, а выше человека, с тем чтобы вдруг он увидел, до какой меры он может вырасти, как может расцвести его понятие, его опыт.
В этом смысле мы можем сказать, что Православная Церковь является Церковью в абсолютном смысле слова: в том, чему она учит, в ее опыте, но не обязательно в словах, которые она употребляет, и еще меньше в нашем лице. А вокруг есть люди, которые своей жизнью могут показать, что они ученики Христа, хотя по обстоятельствам — потому что их не так учили, потому что жизнь проходила в областях, где они не могли познать православную истину в полноте, не встречали святого, не встречали Серафима Саровского, даже не читали о них — не принадлежат православной Церкви. Им можно открыться и они могут открыться.
Можете ли сказать подробнее, какой был разговор с ван Буреном?
Я не уверен, что могу ответить на ваш вопрос, потому что это было давным-давно. Насколько помню, я говорил о том, что такой любви, которую явил Христос Своей жизнью и Своей смертью, мы не видим среди людей, что она превосходит все, что мы можем себе представить. И если он верит в то, что Человек Иисус Христос говорит правду, то неужели он может думать, что Он во всем был прав, кроме как в том, что Он Собой представлял? То есть можно ли думать, что Он мог сказать правду о всем, но в Себе Самом Он ошибался, когда говорил, что Он Сын Божий, Аз есмь Сущий и т. д.? — неужели Он только Себя не понимал и не знал? И что если мы стремимся познать Христа, то надо нам принять, что то, что Он о Себе говорит, так же безусловно, как то, что Он говорит вообще и что относится к нам непосредственно. Это перед ним поставило вопрос о том, что он разделил во Христе как бы две стихии: все — кроме того, что Христос знает о Себе Самом; и это невозможно. Если в отношении окружающих нас людей считать, что такой-то человек во всем прав, но то, что он думает о себе самом, — чистый бред, то мы должны поставить вопрос о том, может ли он быть прав и в других вещах. Конечно, бывает с умалишенными, что человек одно что-то понимает хорошо, но остального не понимает, но из такого человека невозможно сделать учителя жизни, пример для себя, наставника и т. д. Больше я не могу вспомнить, потому что это было, вероятно, 35—40 лет тому назад.
С одной стороны, Господь вел Свой народ к тому, чтобы он внес в мир Христа, и получается, что Он достаточно хорошо подготовил, народ Его принял. Вторая сторона вопроса: получается, что было необходимо, чтобы этот народ Его отверг, чтобы было распятие. Если можно так сказать, было правильно, чтобы народ поступил неправильно. Как этот парадокс разрешить?
Я думаю, что самое последнее ваше замечание неприемлемо в том смысле, что если бы весь Израиль уверовал во Христа и через Израиль и остальной мир стал приобщенным к тайне Христа, то мир мог бы быть спасен и без распятия. Распятие является как бы необходимостью в том контексте, в котором оно происходило. Если бы все уверовали, началось бы Царство Божие.
Что касается до принятия и непринятия Христа Израилем, у апостола Павла есть место, где он говорит о том, что заблуждение Израиля временное и что оно открыло дорогу язычникам (Рим 11:25—26). Если себе представить, что целокупность еврейского народа приняла Христа как Мессию и замкнулась вокруг Него, как она замкнулась было в Ветхом Завете как избранный народ, чуждый окружающему, то спасения мира не было бы, потому что это было бы закрытое царство. То, что еврейский народ не принял Христа — трагедия для еврейского народа, и трагедия, которая должна разрешиться. Когда — нам неизвестно, разумеется. Но благодаря этой трагедии Евангелие было проповедано во всем мире.
Как возможно, что душа тоскует много лет, раскрывается Христу и ближнему, а сердце как бы мертво? Это от грехов, или только благодатью дается новая жизнь сердцу?
Я думаю (но я настаиваю на слове «я» и на слове «думаю»), что ответить на это можно так. Бог нам дает, во-первых, вписанный в нашу душу закон жизни. Во-вторых, Он отпечатлевает в нас, в самых глубинах нашего бытия, Свой образ. И Духом Святым Он в нас рождает тоску по Боге, тоску по тому, чтобы стать цельным человеком, который живет в Боге и который расцветает в полноте своего человечества, не уменьшается оттого, что он с Богом, а, наоборот, делается человеком в такой мере, в которой он не может быть человеком без Него. Но это перерождение, это возрождение, эта полнота жизни дается только очень постепенно. Мы можем рваться всем своим существом к Богу, любить Его всеми силами души, какие у нас есть, и знать, что в нас еще есть непокоренная область.
И в каком-то смысле от этого очень болит душа, потому что когда хоть немножко любишь Бога, как бывает, когда немножко любишь человека, хочется ему открыться до конца, хочется его долюбить, хочется ему отдаться до самых глубин. И болит душа от этого. Но это возрастание, которое нам дано как подвиг. Если бы нам было дано все, о чем мы мечтаем в порядке приобщенности к Богу, любви к ближнему, настоящему совершенству, и мы оставались бы только такими, какие мы есть, было бы очень страшно. Если бы мне все было дано, а я был бы только таким глиняным сосудом навсегда… Бог нам дает, во-первых, эту тоску и рвение. И постепенно благодаря этой тоске, благодаря этому рвению в нас рождается молитва, рождается желание чистоты, света, рождается готовность к подвигу.
Я не помню, рассказывал ли вам или нет, есть книга французского писателя Жоржа Бернаноса, которая была переведена и на русский язык, «Дневник сельского священника»
[110], где молодой священник, который умирает от чахотки, всеми силами своей души, всем существом, всеми слабеющими силами тела рвется к тому, чтобы научиться молиться, жить с Богом, жить в Боге, и это ему не удается. Как-то молодой офицер предлагает его отвезти на мотоцикле домой откуда-то, где они были. И по дороге этот молодой офицер ему говорит: нас так поражает в вас ваша молитва, молитвенность… И священник с отчаянием ему говорит: вот
этого-то у меня нет! Я всем существом рвусь к этому и не могу прорваться через свою немощь… И молодой человек ему отвечает: вот это-то мы и чувствуем — ваше рвение, ваше отчаянное желание, и
этонас вдохновляет…
Можно было бы прибавить: если бы он достиг полноты молитвенности, может быть, люди вокруг могли бы ее и не узнать, и во всяком случае могли бы и не приобщиться ей, потому что это было бы слишком много для них. Но надо радоваться тому, что у нас есть тоска по Богу, что рвется наше сердце к Нему, что плачет наша душа по нашему сиротству; и Дух Святой в нас возбуждает эту тоску, это рвение, это желание и утешает нас тем, что нам дает порой какие-то моменты молитвы, сосредоточенности, близости к Богу.
Почему Церковь все время осуждает Иуду, когда Христос и при смерти ему говорит: «Друг»?
Это опасный для меня вопрос, в том смысле, что я сейчас выражу, как, мне кажется, дело обстоит, но, может, попаду под осуждение многих.
Личность Иуды очень таинственна. Христос говорит в одном месте: среди нас есть сын погибельный, которому это было как бы предназначено (Лк 22:22). Ясно, что «предназначено» не значит, что он был принужден, но Христос его приблизил к Себе. Почему он стал предателем, тоже неясно из Евангелия. Да, сказано, что он был сребролюбец, но этого недостаточно для того, чтобы друга своего отдать на смерть. Разные духовные писатели стараются найти какой-то ответ и говорят о том, что он, так же как люди, встречавшие Христа в день входа в Иерусалим, которые Его приветствовали с таким восторгом, ожидал, что Он вот теперь установит царство Израиля, то есть что Христос воцарится, возьмет власть в Свои руки и, будучи чудотворным вождем, освободит израильский народ, победит врагов и установит Свое царство. И как эти люди, которые позднее перед лицом Пилата кричали: «Распни, распни Его!», Иуда увидел, что Христос обманул его надежду, как обманул надежды других, и что, значит, Он, может быть, — лжепророк, а не тот, которого надо было ожидать и на которого можно было надеяться. Но все это гадания. Одно ясно: он действительно пошел и предал Христа.
Но что очень страшно: он ужаснулся своего поступка, когда увидел его последствия, но не вспомнил того, что Христос говорил о Себе, о победе Божией и т. д., и покончил с собой. Петр трижды отрекся от Христа, но, как в Евангелии сказано, когда он уходил после третьего своего отречения, он повернул голову и встретил взгляд Христа (Лк 22:61), и, вероятно, это его спасло. Он заплакал горько, он заплакал над собой, заплакал о своем предательстве, о своей трусости, о своей измене, но в этом взгляде он что-то увидел. Иуда не встретил Христа, он ушел и удавился.
Я этот вопрос о вечной судьбе Иуды поставил раз в разговоре теперешнему нашему владыке Василию, и он мне сказал вещь, которая меня очень тронула: «Да, на земле Иуда Христа не встретил, но когда Христос сошел во ад после Своего распятия и до Своего воскресения, они встретились лицом к лицу. И что тогда произошло — мы можем только надеяться». Потому что когда я думаю о себе в такой форме, как Иуда,таким образом я Христа не предавал, но я такой же предатель. Я неверен Христу на каждом шагу. Я не отрекаюсь от Него, как Петр, но жизнью бываю очень Ему чужд. И когда я стою у престола Господня, я часто думаю: как я могу произнести какой бы то ни было суд над Иудой, когда сам ощущаю себя подобным ему? Вот единственное, что я могу сказать. Для меня замечателен ответ нашего владыки Василия, меня так вдохновило и утешило, что они встретились. Я не верю, что можно встретить Спасителя Христа и остаться в погибели. Но это все мои гадания, вы можете счесть все это за мои еретические взгляды, я не могу ручаться за них. Я так чувствую, и для меня было большой радостью, когда я услышал эти слова такой надежды.
А сама его смерть не была раскаянием о содеянном?
То, что он повесился, было в своем роде признанием, что он поступил неправо, в своем роде это раскаяние… Вы поставили вопрос, и мне вспомнился случай из жизни одного из западных святых, которым я очень вдохновляюсь, священник из деревни Арс недалеко от Лиона
[111]. К нему пришла женщина в глубоком отчаянии: ее муж покончил самоубийством, неужели он погиб навеки? И этот священник сказал: «Я так ответить не могу, буду молиться, может быть, Господь меня вдохновит». Он молился несколько дней, потом ее призвал и сказал: «Утешься: между мостом и рекой, куда он кинулся, он опомнился и попросил о помиловании». Я видел несколько людей, которые кончали самоубийством, некоторые умирали не сразу и в этом же роде реагировали: ах, если можно было бы вернуться к жизни, я бы принял жизнь, какая мне дана, и нес бы этот крест или этот подвиг; но теперь поздно… Эти встречи у меня были не с тех пор как я священник, а когда я врачом был. И мне очень запомнилось, как человек говорил: да, я умираю, я сделал ошибку, которую не могу исправить, но я от нее отрекаюсь.
Мы говорим о человеке: ах ты Иуда! Так он проклят?
Мало ли что мы говорим! Если надо было бы судить людей так, как мы их судим, то ни одного человека вне ада не осталось бы, потому что мы очень легко осуждаем самым беспощадным судом, не только строгим, но без чувств, без пощады, без понимания. И вместе с этим когда смотришь на людей, даже на явных преступников, где-то что-то шевелится. Я одно время был тюремным священником здесь. Мне давно уже не приходилось посещать православных, потому что русских в тюрьмах сейчас нет, больше греки, но я помню, как было пять человек «россиян» в широком смысле слова в тюрьме, как мы с ними разговаривали, и как они понимали и реагировали. Если бы их осудили, то есть вывели бы из области жизни в наказание, мы никогда не знали бы, что с ними случилось внутри. Я помню одного человека, который долгое время был профессиональным вором и опомнился. Он мне говорил: «Знаете, я опомнился, сделал попытку перестать быть вором, и вокруг меня люди заметили, что я меняюсь, и стали ко мне подозрительно относиться. И я не смог освободиться от своего состояния вора, потому что боялся, что из-за того, что я меняюсь, меня арестуют. И я был так счастлив, когда меня действительно арестовали. Я мог посмотреть вокруг и сказать: да, я вор, и я об этом сожалею, я сейчас отплачу обществу тюрьмой за то, чем я был, и вернусь, и смогу быть честным человеком, без того чтобы меня в чем бы то ни было подозревали». А мы осуждаем очень легко как бы во дно адово, со счетов снимаем человека.
Я видел очень страшных людей. Первый человек, который ко мне на исповедь пришел, был убийца. Я тогда был как священник очень молод, без году неделя. Я помню это, и я не мог бы его осудить. Я не мог его одобрить; но осудить — это дело другое. То есть превознестись над ним и сказать, что я могу над тобой произнести суд, — нет.
Другое дело — судья. Положение у судьи совершенно другое. Судья не обязательно осуждает, судья — человек, который защищает правду, но который может и должен это делать без ненависти, иначе он больше не судья. Французский писатель Виктор Гюго говорит, что судья одновременно и больше, и меньше, чем человек. Он больше, чем человек, потому что у него право и обязанность произносить суд, тогда как человек ближнего своего судить не может, и он меньше, чем человек, потому что не имеет права поддаться состраданию и отпустить преступника. И это очень сложное взаимное отношение. Долг судьи — произнести какой-то суд предельной справедливости и правдивости, вот все, что он может сделать. Но он не имеет права ненавидеть подсудимого. Если он связан ненавистью с подсудимым, он не может быть его судьей.
Насчет Иуды мне кажется, что Церковь не столько осуждает, как напоминает нам о нем, называя его злочестивым.
Что он злочестивый — это объективный факт, а как мы относимся: с болью в сердце или с яростью, — это наше дело, и это совсем другой вопрос. Гадать мы можем, найти настоящий ответ не можем, но я думаю, единственное, как мы можем отозваться на трагедию Иуды, это каким-то ужасом и состраданием, а не проклятиями и осуждением. И тут я хочу прибавить, что в службе Двенадцати Евангелий есть целый ряд мест, где говорится о тех, которые ответственны за смерть Христа, и говорится: не прости им, Господи… И это поздний перевод. Первичный перевод говорил: «Но прости им…» И я, грешным делом, когда читаю этот отрывок, перевираю его на старый лад, потому что у меня язык не повернется сказать перед Богом: «не прости» про кого бы то ни было.
Есть люди, мне кажется, — носители менталитета Иуды, то есть сатаны. Если мы будем вообще отказываться видеть что-то плохое, то дойдем до утверждения, что дьявол не существует. Но мне кажется, если поставить вопрос, все скажут: да, дьявол существует. Так вот наше отношение к дьяволу какое: разве не осуждение? Я понимаю, что каждый конкретный человек всегда извинителен, но опять-таки существуют, видимо, носители этой дьявольской идеи, которая никогда никому не прощает. Если он не прощает никому, как я могу в этом случае оправдывать его? Еще с первой беседы у меня возник вопрос, когда вы сказали, что будет этот цикл лекций, и вы конкретно не сказали, но мне показалось, что своими словами вы как бы исключили существование дьявола. Как в реальной жизни? Я еще раз скажу: я могу понять уби; но существует такой человек, который говорит, что не существует прощения, не существует Бога, Его суда, есть только человеческий суд, и только он правильный. Как я должен в таком случае относиться к этому человеку?
Я попробую что-то сказать отрывками, потому что ответ полный и удовлетворительный я, вероятно, дать не могу. Но пока вы говорили, мне вспомнилось одно место из Послания Иуды, который говорит, что когда архангел Михаил спорил с сатаной о теле Моисея, он не дерзнул его осудить, а сказал: Да запретит тебе Господь (Иуда 1:9). Я сейчас не говорю о реальности или нереальности события, я говорю о том, что архангел оставил весь суд в руке Божией, потому что спасение и погибель — такая тайна, которую только Бог может разрешить, и как — мы не знаем.
Говоря о земном, мне вспоминается, — есть жизнь Моисея, где в одном месте ангелы, видя преступления израильтян в пустыне на пути из Египта в обетованную землю, подняли крик негодования перед Богом: когда же Ты их накажешь за то, что они делают? И Бог (это фольклорный рассказ, это не Священное Писание) ответил: Я тогда от них отрекусь, когда мера их греха превзойдет меру их страдания… Мне кажется, что это замечательная фраза. Это народная мудрость, конечно, это не Священное Писание, но все равно она говорит о чем-то очень замечательном.
В каком случае все-таки возможно окончательное осуждение?
Тут, я думаю, играет роль то, что апостол Павел называет различением духов (1 Кор 12:10), и различение между суждением, судом и осуждением в нашем разговорном смысле. Рассуждение духов заключается в том, чтобы вырасти духовно в такую меру, чтобы обладать тем, что опять-таки апостол Павел называет ум Христов (1 Кор 2:16), то есть думая в категориях Божиих, безошибочно или во всяком случае с достаточной уверенностью различать добро от зла, скажем, преступление от преступника. Это одно. С другой стороны, мы призваны судить поступки или судить слова, правду и неправду, но это не значит, что мы должны считать, что человек, который так поступил или так говорит, идентичен своим словам.
Мне вспоминается один случай (простите, я сказками рассказываю, потому что образованности богословской нет). Во время Французской революции был человек, которого преследовали, искали, в какой-то момент он оказался почти что взят, но ушел. Он ушел из горящего дома, но оглянулся и в окнах этого дома увидел двоих детей, которых никак нельзя было спасти, потому что не было воды, не было лестницы, ничего. И вдруг его преследователи увидели, как этот человек, который с их точки зрения был чисто преступник, подошел к окну с лестницей и этих детей вынес. И солдат, который стоял внизу, воскликнул: «Преступник ты или нет, а ты все-таки сам Господь Бог!». Тут нелогичное что-то. Он оставался тем, кем был, но этот поступок был поступком другой стороны его души, проявилось нечто иное, что в нем было.
И мне кажется, в этом мы можем видеть проявление того, что сказано в Евангелии: свет и во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин 1:5). Греческое слово здесь значит две вещи сразу: с одной стороны, «не приняла», с другой стороны, «не сумела заглушить». Этот свет светит, тьма все-таки остается тьмой, хотя она больше не тьма до конца, и вместе с этим она не может заглушить свет, потому что никакая тьма не может заглушить света. И вот мы призваны к тому, чтобы (я не помню, кто это говорит) рассматривать преступника как одержимого или как больного. Поступок безусловно плох, и мы можем осуждать поступок и порой наказывать преступника, но вместе с этим должны знать, что то зло, которое в нем качествует, не исчерпывает его, что человек остается как бы иконой, сколько бы она ни была осквернена, изуродована, и мы должны это помнить.
Что касается до беса, до сатаны, я глубоко верю в их существование и не сомневаюсь в том, что человек может допустить порабощение себя самого злой воле и что он может дойти до такого состояния, что в нем действует воля бесовская, что как бы он является орудием его. И это общее правило. Я опять-таки не помню, кто из отцов говорил, что человек стоит между Богом и бесом и Бог его зовет к правде, ко всему, что является его истинным призванием и природой, и обещает только одно: Себя Самого, любовь. На другой стороне стоит дьявол, который дать ничего не может, но который все обещает и который каждый раз, когда вы попробуете исполнить его волю и увидите, что вы обмануты, скажет: да ты недостаточно сделал; сделай еще это, и ты достигнешь того… И человек стоит между этими двумя волями, и в зависимости от того, куда он склонится, в мир входит или воля темная, или воля светлая, и в этом смысле роль человека колоссальна, потому что и Бог, и сатана действуют через человека. Я не говорю о чудесах Христовых над природой, я говорю о том, что человек может внести в мир добра или зла.
А какова конечная судьба каждого человека, мы не можем сказать, во всяком случае пока он жив, потому что бывает, что в последнее мгновение жизни человек раскается или окажется, что он обманут полностью, но что этому обману он отдал самое героическое, что в нем было. Я могу вам дать один пример, но боюсь, потому что каждый раз, когда я его давал, меня осуждали: значит, ты сам такой и сякой; ну пусть оно так будет. Во время боев на востоке Франции (я был хирургом в армии) в нашу часть принесли большую группу раненых немцев. Двое из них умирали, меня об этом предупредили, и так как я единственный из врачей говорил по-немецки, я подошел к ним. Один был уже за пределом всякого общения, я ему сказал несколько слов, потому что человек может не быть в состоянии отозваться, но он в состоянии еще воспринимать. А к другому я подошел, он корчился. Я ему сказал: «Очень страдаешь?». И он открыл умирающие глаза и сказал: «Как я могу страдать? мы же вас побеждаем». С точки зрения политического выбора, конечно, это ужасно и т. д., но с точки зрения этого человека, пусть он сделал самый ложный выбор, но он отдал все, что в нем было, и всего себя служению тому, во что он поверил. И в этом смысле я был им поражен, потому что сам никогда бы этого не сделал. Поэтому тут очень трудно. То, что он выбрал, было ужасно с моей точки зрения и, я думаю, с точки зрения любого из нас, но то, каким человеком он стал в этом ужасе, — другое дело. Сам он ужасов никаких не творил, рядовой солдат, не СС, не палач, он поверил во что-то, скажем, в величие Германии и своего вождя, и отдал все, что в нем было. С тех пор особенно мне трудно произнести какой-то суд над человеком…
И вот тут вопрос о рассуждении духов, то есть о том, что он по своей, скажем, наивности выбрал путь, который с моей точки зрения был ложный и ужасный. Другой выбрал с большей зрячестью обратный путь и также пострадал, и также умер. И оба человека в каком-то отношении одинаковы тем, что они все отдали тому, во что они поверили. Вопрос с нашей стороны различения правды или неправды. Я не знаю, понятно ли то, что я сказал, но я это очень сильно пережил перед лицом его смерти. Сейчас я рассказываю это все объективно и безболезненно, а тут лежит человек, вдребезги разбитый из пулемета, это совсем иное дело, чем просто так рассказать.
Может быть, наивно, но мне кажется, что Бог, если Свою тварь сотворил, то собирается ее и спасти…
Знаете, тут опять-таки для меня опасная область. Церковь осудила учение одного из отцов о том, что все будут спасены, в том смысле, что Бог в конечном итоге скажет: «Я вам все прощаю, потому что Я вас всех люблю». На таких началах невозможно быть спасенным, потому что надо ответить на эту любовь, то есть нельзя быть любимым и спасенным без твоего участия. Тайна любви в том именно заключается, что ты и даешь, и принимаешь, тебе дают — и ты принимаешь. Если ты не принимаешь, то спасение — чисто формальное состояние перед законом, но не меняет человека. И мне не представляется, чтобы Бог, Который создал мир, зная в Своем предведении все, что с ним случится, Который создал мир не в погибель, а в спасение, мог в конечном итоге просто малую группу людей спасти и остальных сбросить со счетов.
Ну, рискну сказать себе в погибель. Мне представляется так. Когда мы думаем о суде, мы часто представляем, что суд будет такой же, какой бывает на земле: есть закон, есть судья, который этот закон не пишет, но применяет, есть подсудимый, есть защита, есть те, которые произносят обвинение, и затем есть свидетели за, против или просто объективные свидетели, которые говорят, что они видели (или что они думают, будто видели, что неодинаково). Если мы себе представим последний суд в таких категориях, то у нас получается очень странный суд, потому что закон исходит от Бога, Судья — Тот же Бог; Защитник — Христос, опять-таки Тот же Бог; Искупитель наш — Он же… Какая же тут может быть справедливость, когда Одно и то же Лицо и закон пишет, и судит, и защищает, и как бы расплачивается за подсудимого? Если думать о Страшном суде в таких чисто человеческих категориях, оно не получается.
С другой стороны (я вам сейчас говорю о своих сомнениях, своих проблемах), если критерий спасения — любовь, то можно себе представить, что в центре Царства Божия — Бог, Который любовь абсолютная, вокруг Него — те, у кого любви много, и затем дальше, дальше — те, у кого любовь, скажем так, слабее, холоднее, и доходит до какой-то грани, где любовь, можно сказать, кончается. Но вот я себе ставлю такой вопрос: представим себе, что я сижу во тьме кромешной вне, и моя мать находится в области Царства Божия. Могу ли я себе представить, что при ее личной любви ко мне она перегнется через перила в сторону ада и мне скажет: «С детства тебе говорила! Так тебе и надо, иди во тьму кромешную и огонь!» — и потом повернется и будет наслаждаться вечной жизнью: как нам здесь хорошо!.. Я думаю, что только те могли бы в такой схеме находить себе удовлетворение, кто попал в рай, знаете, как человек, который бежит за автобусом, прыгнул в него и еще не уверен, удержится он или упадет на улицу, то есть тот, кто на грани между адом и раем и рад, что он хоть ногой вступил туда.
Иисус Христос на Кресте страдал как человек. Значит, в течение жизни Он имел все человеческие чувства. Недавно по радио одна еврейка говорила, как она потеряла всю семью в концентрационном лагере и имела чувство вины. И я подумала об Иисусе Христе. Столько погибло младенцев, когда Иисус Христос родился, когда Ирод послал своих воинов убить младенцев. Это было страшное горе для матерей. И я подумала: как Иисус Христос, имея человеческие чувства, не имел чувства вины? Ведь Он жил, и все люди знали это. Как другие еврейские семьи относились к семье Иисуса Христа, и как Божия Матерь могла чувствовать горе других матерей, которые потеряли своих детей? Как Иисус Христос жил с этим?
Чувства вины у Христа не было, потому что вина вообще смерти, смертности лежит на первом человеке, который отвернулся от Бога и внес смерть в жизнь. С момента, когда в Нем проснулось человеческое начало, Христос переживал такую глубину сострадания ко всякому страданию на земле, не только людей болеющих, умирающих, но и к страданию всей твари, которая, как апостол Павел говорит, стонет в ожидании явления сынов Божиих. И Он на Себе нес смертность, которая Ему не принадлежала, но которую Он решил, захотел разделить со всем человечеством для того чтобы его спасти. Я думаю, сострадание является более верным словом в этом смысле.
Мне хочется поговорить с вами об одной только молитве, которую мы повторяем каждодневно и которая как бы является центром молитвенной жизни, потому что она нам заповедана, она — единственная заповеданная нам Самим Спасителем Христом молитва. Когда Его ученики спросили Его: как нам молиться? — Он им ответил: молитесь так… — и произнес впервые со дня сотворения мира ту молитву, которую мы называем молитвой Господней, Отче наш (Мф 6:9—13).
Мы не напрасно ее называем молитвой Господней. Это молитва, которую полностью, до самых глубин мог произнести только Господь и которую мы произносим, которой мы приобщаемся по милости Божией, потому что Он, Христос, является нашим Спасителем и, как Он Сам выражается в Евангелии, Братом нашим. Он Сам сказал женам-мироносицам: пойдите к братии Моей и скажите о Воскресении (Мф 28:10). Отцом, говоря о Боге Отце, мог назвать Его только Господь наш Иисус Христос, Единородный Сын Божий, Бог Сын. И мог произнести эти слова воплощенный Божий Сын, потому что в Своем человечестве Он никогда не разлучался от полного единства с Богом и Отцом. Богочеловек Иисус Христос мог эти слова произнести полностью и как Сын Божий, и как Сын Человеческий — и в Своем человечестве, и в Своем Божестве.
Но Он заповедал эту молитву Своим ученикам. Мы эту молитву повторяем без колебаний, без сомнений и очень редко задумываемся над тем, каким же образом мы можем эту молитву произносить. Как могли эту молитву произносить ученики Христовы, которые тогда были с Ним не только тесно связаны, но жизнь которых как бы переплелась с Его жизнью, жизнь которых была пронизана Его словом, Его примером, Его жизнью — и это нам не всегда легко понять, потому что они тоже были еще по ту сторону Воскресения Христова, по ту сторону дара Святого Духа. Но Он эту молитву им заповедал, и эту молитву они могли произносить в единстве с Ним, потому что они так были с Ним едины, что когда они молились с Ним вместе, Его молитва охватывала и уносила на небеса их самих и молитву их.
Но как же нам эту молитву говорить? Как мы можем говорить Богу: «Отец наш»? Да, мы знаем, что в Священном Писании говорится, что Бог — Отец всех. В каком-то отношении, да, Бог является Отцом всех в том смысле, что Он всех нас родил к жизни, Он всех нас родил жить, Он всех нас возлюбил такой любовью, что захотел, чтобы мы были и никогда не разлучались с Ним, чтобы были с Ним едины, как Единородный Его Сын. Так что в этом смысле, думая, как Отец относится к нам, мы можем эти слова говорить: Отец наш… Не Создатель просто, а Создатель, который нас призывает к бытию всеобъемлющей любовью: любовью, которая в Сыне Единородном выражается крестной смертью, любовью, которая такова, что мера ей — распятие Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. Да, мы можем Его называть Отцом, когда думаем о Нем и думаем о Единородном Его Сыне, Который нас признает за братьев и за сестер и так нас любит, что всю Свою жизнь и смерть нам отдает, чтобы мы могли поверить в Божественную любовь и спастись этой любовью, Его крестом.
Но когда мы задумываемся о себе самих, где мы себя видим? Когда я задумываюсь над этим, мне представляется евангельская притча о блудном сыне (Лк 15). Мы все грешны, мы все в какой-то момент нашей жизни — и как часто, увы, как часто! — говорим Богу: я хоть на несколько минут, на несколько часов, на самое короткое время о Тебе забуду, не исполню Твоих заповедей, поживу по своей воле… В этом заключается греховность человеческая, моя, ваша, когда до отчаяния нам хочется чего-то, что идет наперекор с волей Божией, с учением Христа и с той любовью, которая должна бы нас соединять и которую мы отстраняем хоть на время. Это очень страшно, когда подумаешь, что бывают моменты, когда мы выбираем быть не с Богом, а вне общения с Ним.
Кто-то из древних писателей говорит о грехе, что это переход из области Божией в область смерти, в область темных сил. Когда нам до отчаяния хочется что-нибудь сделать, или сказать, или даже в мыслях чем-нибудь греховным насладиться, то в этот момент мы переходим Рубикон, переходим грань. На одной стороне — Бог со всей Его святостью, со всей Его чистотой, со всей Его любовью к нам, со всей Его жертвой крестной, а мы выбираем другую область, потемки, сумерки, потому что нам кажется, что достаточно того, что и там светит сколько-то свет, что мы не в полной тьме, что мы не потеряны, что мы не пропали, что мы не отреклись, что мы не обезбожились. И однако, мы находимся по ту сторону этой грани. Это уже не область Божия, а область, куда Бог вступает ценой воплощения, крестной смерти из-за нас, из-за меня лично.
Надо помнить, что распятие Христово подарено не просто всему человечеству, а каждому из нас. Есть место в житии одного из святых, где говорится, как он молился о наказании грешников, и Христос ему явился и сказал: никогда не молись об этом! Если был бы только один грешник на земле, Я бы стал человеком и умер для него и за него
[113]. Это относится к каждому из нас, это не относится к человечеству как таковому, в котором мы могли бы будто скрыться, потонуть, стать незаметными. Нет, каждый из нас стоит явным присутствием, когда переходит в область тьмы, которую избирает. Мы не всегда сознаем, насколько там темно, нам кажется, что просто света чуть меньше, нам кажется: да, мы не такие верные, как могли бы быть, но есть верность в нас, и грех, который мы совершаем словом, делом, помышлением, волей, — не убийственный. Не убийственный? Этот грех является разлукой нашей с Богом, и из-за этой разлуки Христос умер на кресте. Нам порой кажется, что убийственны только большие грехи, страшные поступки, мысли как бы «адские». Это неправда. Малая мысль, малый поступок может нас отделить. Есть немецкое стихотворение, где говорится: люби, всегда люби! Помни, что одно резкое слово легко произнести, и ты его уже забыл, но тот, кому оно досталось, ушел и плачет навсегда
[114].
И как бы примером этого мне вспоминается — о, малое событие из последней войны. Когда я был младшим хирургом в армии, в какую-то ночь привезли к нам в хирургическое отделение двух раненых. Один был пробит множеством пуль, и можно было ожидать, что он умрет, но усилиями врачей, сестер он выжил и выздоровел. Одновременно привезли молодого солдатика, который в кабаке заспорил с другим таким же безумцем, тот под пьяную руку стал махать перочинным ножом и разрезал ему главную артерию в шее, его привезли умирающим. И тогда мне вдруг показалось, что пулемет, который был символом неминуемой смерти, оказался менее страшен, чем этот перочинный ножик. Так бывает и с грехом.
Это нам надо помнить, и поэтому нельзя легко относиться к греху. Грех это не нарушение заповедей, это не нарушение правил, это нарушениедружбы. Это момент, когда мы говорим: Твоя дружба мне менее дорога, чем мгновенное мое наслаждение, отойди!.. И в рассказе о блудном сыне мы видим это с разительной ясностью, со страшной ясностью.
Рос в деревне юноша, он был счастливый, но он слышал о том, что происходит в городе, о том, как люди там живут, о богатстве, о буйной жизни, и он возмечтал об этом. Ему стало ясно, что если он сейчас не уйдет, то не успеет насладиться этим, старость придет, прежде чем он будет свободен от домашнего гнета. И он обратился к отцу, как мы читаем в Евангелии, с такими страшными словами: «Отец, дай мне ту долю, которая мне достанется после твоей смерти». Эти слова звучат как бы невинно, просто, но что они значат? Они значат: «Старик, ты зажился. Я молод, во мне кипит жизнь, мне некогда ждать момента, когда ты умрешь и я буду свободен. Сговоримся: что касается меня — ты сейчас умри. Я все возьму, что мне тогда будет принадлежать, и уйду, куда сам захочу, и тебя больше в моей жизни не будет». И каждый раз, когда мы грешим, мы поступаем именно так. Большой ли грех мы совершаем или малый, мы можем опомниться, покаяться, вернуться, но, в сущности, мы всегда говорим: «Отец, дай мне уйти от Тебя, меня влечет другое».
И отец ни словом не прекословит, отец просто отделил сыну то, что ему досталось бы, после того как он сам умрет. Он принял на себя это осуждение смерти, он принял на себя, что с этого дня он для любимого своего мальчика — труп, что его больше нет, что он не нужен, что сын даже и не вспомнит о нем. Он ему все отдал с любовью, ни словом не попрекнул, дал ему уйти.
И юноша ушел, сбросил со своих плеч домашнюю одежду, нарядился в одежду, которая, ему казалось, будет достойна города, ушел попугаем. Пришел в город, у него в карманах звенели деньги, на этот звон собрались люди, он с ними ел, пил, веселился, бесчинствовал и чувствовал себя в центре жизни. Постепенно эти деньги ушли. И когда их не оказалось, он обнаружил, что и друзей нет. С последним грошом исчез и последний так называемый друг, товарищ по попойкам, и он остался один. Ему даже прокормиться было нечем, он искал работы, но никто ему не давал, потому что он был деревенщина, а в городе он был не нужен. Наконец он нашел какого-то мужика, который его послал пасти свиней. А вы знаете, что значит свинья в еврейском контексте: это скверное, оскверняющее животное. Его послали смотреть за животным, которое является осквернением само по себе, и он обнаружил, что и тут трагедия для него: свиньи знают, как найти себе пропитание, а он не знает. И он стал голодать.
И вдруг от голода, от одиночества он вспомнил отчий дом. Там даже работники, там даже рабы, а не то что сыновья, члены семьи жили в достатке. И он подумал: вернусь я домой… В этом сказалась в нем живая искра, потому что он не остановился, подумав: как мне вернуться домой? Меня выгонят после того, как я ушел… Нет, он вспомнил лик отца, он вспомнил любовь, сияющую в его глазах, он вспомнил, что отец его ничем не попрекнул, когда он потребовал: «Умри, и я буду от тебя свободен!», а все ему отдал, может, и благословил на дорогу. И когда он вспомнил об отце, он вспомнил о нем с надеждой, что можно вернуться, что есть куда вернуться. Он не знал, жив отец или умер, но он знал, что можно вернуться. Ему в голову не приходило, что отец мог умереть за это время.
И он пустился в путь. И он шел, далеко или нет, он шел в лохмотьях, он шел с ранеными ногами, он шел голодный, нищий и всю дорогу твердил свою исповедь: отец мой (он его называл отцом в своих мыслях не потому, что тот его родил, а потому что в любовь, какую отец явил, согласившись быть отверженным и не отвернуться от сына, в такую любовь можно было верить), отец мой, я согрешил против неба и перед тобой, я недостоин называться твоим сыном, но прими меня, как одного из работников твоих… Он понимал, что, поступив так, как он поступил с отцом, сыном он себя назвать не мог, он, в сущности, был как бы в мыслях убийцей. Отец оставался отцом, но сын — сыном не был. И когда он стал приближаться к отчему дому, отец его увидел издали.
Сколько раз отец выходил на дорогу посмотреть, не возвращается ли его мальчик, сколько раз он стоял там в ожидании и надежде, что вот-вот издали появится кто-то и, приблизившись, окажется его мальчиком, его сыном. И в этот день отец его увидел и побежал к нему, обнял его, обласкал его. А сын, может, бросился к его ногам, как на картине Рембрандта изображено, а может быть, просто прильнул к нему, положил голову к нему на плечо и плакал, плакал над собой, и плакал благодарными, умиленными слезами. И начал свою исповедь: «Отче, отец мой…» Он почувствовал, он знал: что бы ни случилось в течение прошедших годов или месяцев, этот человек остался его отцом до конца, не судьей, не чужим, а отцом. «Отец мой, я согрешил против неба и перед тобой, я так поступил, что мне нет места ни на небе, ни рядом с тобой, я перешел грань, я ушел в страну далече, как говорится в Евангелии, в далекую страну, не потому что расстояние было велико, а потому что, переступив порог, он оказался бесконечно далеко».
Вы знаете, как бывает: два человека поссорятся, повернутся друг к другу спиной, может быть, они еще чувствуют телесную близость другого, но они смотрят в бесконечные дали, где нет другого. Так он и чувствовал: что он согрешил и против неба, и перед отцом, он отвернулся — и не было ни неба, ни отца больше. А теперь он вернулся. И вот есть отец, но он-то смеет ли себя называть сыном после того, что случилось? Вы же понимаете, что значит быть сыном: это значит быть самым близким, самым родным отцу, это значит его так любить, как он тебя любит, это значит всю жизнь отдавать на то, чтобы быть радостью его и, может быть, честью его, счастьем его; но все это он отверг: «Я недостоин называться твоим сыном»…
И тут отец его остановил, потому что недостойным, грешным, падшим сыном, изменником-сыном этот мальчик мог быть, но достойным рабом, достойным слугой он не мог стать, потому что он не мог перестать быть сыном ни в глазах отца, ни в реальности своей. И отец его стал влечь домой. И все выбежали посмотреть: вернулся наш мальчик. Боже мой! Какой он облохмаченный, голодный, несчастный, и вместе — как он сияет трепетной радостью и надеждой… И отец обратился к слугам и говорит: «Принесите первую его одежду». В западных переводах всегда говорится о лучшей одежде, о самом славном одеянии, какое они могли найти в доме. Но отец не хотел рядить своего сына в одежду, которая ему была чужда, он велел слугам принести первую одежду, ту одежду, которую этот мальчик сбросил с плеч, когда решил переодеться в городского. И когда мальчик надел на себя ту одежду, которую сбросил с плеч с презрением, он вдруг почувствовал, что вернулся домой, что годы, которые он провел вне дома, исчезли, что отчужденность прошла, что он снова стал мальчиком, сыном в доме своего отца. И отец сказал: «Заколите упитанного теленка, мы будем пить, есть, веселиться, потому что этот сын мой был мертв и теперь он живой». Он живой двояко: он живой тем, что вернулся и ему не умирать больше на чужбине, но он еще живой тем, что он переступил обратно грань из «страны далече», из страны греха, из страны отчужденности, из страны зла и вернулся в область очищающей любви, обновляющей любви.
Я все это вам говорю очень долго, но хочу вам передать чрез это вот что. Когда мы говорим Отче наш, мы должны перед собой поставить вопрос. Я — блудный сын, говорящий со своим Небесным Отцом. Где я нахожусь в данную минуту? не в абсолюте, не в существе своем, а в данную минуту: каковы мои вожделения, желания, мечты, где устремленность моя? Устремлен ли я уйти в город? Устремлен ли я ко греху, ко злу, к отчужденности от Бога? Устремлен ли я обратно? Иду ли я с покаянием или с наглой уверенностью, что конечно Отец меня примет, на то Он и Отец. Конечно, мой старший Брат меня примет, не напрасно Он умер на кресте… Ведь наш старший Брат Христос не является тем братом, который описан в притче, Он — Тот, Который жизнь Свою отдал, Которому поручено было Отцом умереть.
И вот когда мы говорим эти слова, Отче наш, мы должны задуматься: где я в этот момент? Говорю ли я Отцу: «Отдай! Ты мне не нужен, я только Твоего хочу». Нахожусь ли я на пути вон из отчего дома, во тьму, чтобы перейти грань, где Отца больше не будет, где я буду свободен от правды, от любви, от чистоты, где моя воля будет царствовать? Где я нахожусь: среди беспутных людей, с которыми я стал единым, или я озираюсь, потому что вижу, что истощается мое богатство? — не денежное богатство в данном случае, а богатство сердца. Или начинаю я видеть, что этого богатства ни бесу, ни злодеям не нужно, и прихожу в ужас от этого, и устремляюсь уйти, и некуда уйти, и остается мне только как-то прозябать, свиней кормить?.. Или вдруг поднимается во мне решимость вернуться к Отцу, покаяться во всем, все Ему сказать, все, все до конца Ему сказать и перенести все последствия, даже изгнание, даже отречение моего Отца от Его Отечества, принятие меня как раба, как наемника? — и я верю, что когда вернусь, то встречу Божественную любовь? Когда мы говорим: Отче наш, произносим первое слово Отче, вот какие мысли, переживания должны в нас быть. Я не хочу сказать, что каждый раз, когда мы произносим эту молитву, мы можем как бы повторять то, что я сейчас говорил, или даже быстрым взором пробежать, но сознание того, где я, мгновенно может подняться в нашей душе. И это очень важно.
Но есть второе слово, на которое я хочу обратить ваше внимание. Христос не сказал нам молиться «Отец мой», Он сказал: молитесь: Отче наш, Отец наш. Не потому что Он просто коллективно Отец всех, а потому что Его любовь, охватывающая всех, держащая всех, нас соединяет, нас делает едиными, нас делает семьей людей неразлучных друг от друга. Неразлучных не потому что мы люди, что мы сотворены Богом, что Он является нашим Отцом и нам некуда деться друг от друга, а потому что мы сознаем, что не я единственный Богом так любим, как блудный сын, которым являюсь на той или другой ступени отпадения или возвращения к новой жизни. Но каждый вокруг меня является таким, каждый человек, знакомый или незнакомый, каждый человек, который мне близок, и каждый человек, который мне чужд, и каждый человек, которого я хотел бы, да, изгладить из своей памяти, каждый человек есть мой брат, потому что является сыном моего Отца, является моей сестрой, потому что она дочь моего Отца, и нет разделений между нами в Его любви. Мы все любимы Им одинаково, равно, той же самой крестной ценой и той же ликующей радостью.
Я вам упоминал уже и не раз о священнике, который был для меня откровением чего-то, чего я не понимал и не знал тогда, и который стал для меня как бы иконой в этом отношении. Молодой тогда священник, тридцати с лишним лет, мне, девятилетнему мальчику, казался «ветхим денми». Одно меня в нем поражало, оставалось совершенно непонятным: он всех нас, мальчиков, собравшихся в летнем лагере, любил неизменной и одинаковой, всецелой любовью. Когда мы были хорошими мальчиками, его любовь была ликованием, когда мы были плохими, его любовь была растерзывающим его душу страданием, болью, но никогда его любовь не переставала быть полной, он всего себя отдавал нам и своей молитвой, и своей заботой, и своей человеческой ласковостью. В нем я позже увидел икону Божественной любви, и до сих пор я его как икону переживаю.
Вот о чем речь идет, когда мы говорим
Отче наш: Он — Отец всех нас. Никто из нас не был своим отцу Георгию
[115], у него своих детей в лагере не было, но все мы были его дети, любимые его дети, потому что мы были детьми Отца, иконой Которого он являлся своей неизреченной, неописуемой любовью.
И когда мы говорим Отче наш, помимо всего того, что я сказал раньше, мы должны понять, что мы этими словами охватываем всех, всех без остатка. Охватить дальних, незнакомых нам, чужих — нетрудно, а вот охватить ближних, близких, тех, которые рядом со мной, тех, которые мне надоедливы, приставучи, трудны, к которым меня не влечет ничто, которые мне чем-нибудь противны… вы сами знаете, как мы относимся к людям, которые вокруг нас. Вот они-то и являются теми, о которых мы говорим Отче наш: они — Его дети, как я, и кто знает, они, может быть, дети наподобие Сына Божия, тогда как я сын наподобие блудного сына. Кто это знает? Только Бог. И вот когда мы произносим эти слова: Отче наш, мы должны охватить всех.
И когда мы думаем, стараемся продумывать это первое слово: «Отче», и переходим на «наш», мы должны остановиться и подумать о именах всех тех людей, которых мы можем вспомнить. Вспомнить любимых — легко, отрадно, забыть нелюбимых — легко, отстранить ненавидимых — тоже легко бывает. И вот тут надо себя победить. Надо победить свое чувство к тем людям, о которых мы думаем: если б только его на свете не было! Если бы только он выпал из моей жизни — не смертью, а просто уехал, переехал куда-нибудь, если я мог бы его забыть!.. Но забыть нельзя. Человек, который тебе встретился, встретился с тобой навсегда, на всю вечность, а может быть, главное, на все время твоей земной жизни. Никуда не уйдешь от него. Всплывет о нем память рано ли, поздно ли, всплывет, и тогда тебе надо задуматься: где я стою, каково мое отношение к нему.
Я вспоминаю разговор с одним священником на смежную тему, который мне говорил о том, что когда стареешь, поднимаются в твоей памяти воспоминания, имена, лица, поступки. Иногда тебе страшно, отвратительно делается от того, что ты вспоминаешь, ужасаешься тому, что ты мог совершить. И думаешь: что же я могу сделать? Ты можешь покаяться, ты можешь обратиться к этому человеку в молитве и сказать: прости меня — я тебя ненавидел! Прости меня — я от тебя отворачивался! Прости меня — я тебя знать не хотел! Прости меня — я только и мечтал о том, чтобы тебя не стало ни в этой жизни, ни в будущей. Ты меня прости!.. Если мы можем это сделать до конца, до глубины души, то прощение приходит. Если же нет, мы можем умолять того человека, перед которым мы так страшно виноваты, о том, чтобы он помолился о нас и спас нас от этого, чтобы он стал одним из тех, кого мы называем «нас».
Я вам уже давал когда-то этот пример, но повторю его, потому что в этом контексте он горит во мне. Я как-то исповедал одного старика, замечательного, дивного человека, который после исповеди сказал: «Отец Антоний, я хочу с вами поговорить об одной вещи, которую я не хотел упоминать на исповеди, потому что я ее упоминал годами, годами и не получил никакого ответа». Мы сели, и он мне рассказал, что когда он был молодым офицером в Белой армии, когда шли бои на Перекопе, в их отряде была сестра милосердия, которую он глубоко, всей душой любил и которая его также любила. Они решили, что когда кончится этот ужас Гражданской войны, они поженятся и начнется настоящая жизнь. Началась перестрелка, эта девушка не вовремя высунулась, когда он стрелял, и он ее застрелил, он ее убил, убил свою любовь, чистую, светлую любовь. После этого он никак не мог прийти в себя. Он исповедовался, но ни в словах священника, ни в разрешительной молитве утешения не получал. Ему советовали давать милостыню в память ее, он давал милостыню, но боль, ужас этого воспоминания горели в нем. Ему советовали молиться, и он молился, и каялся, и все равно ничто не случалось. И он ко мне обратился с вопросом: что же мне делать?.. Я был тогда молодым священником, неопытным и ответил по безумию своему, но вместе с этим по Божию наставлению. Я ему сказал: «Ты каялся священнику, которому ты не сотворил никакого зла и который без труда мог прочесть над тобой молитву о прощении твоих грехов, ты молился Христу, Которого ты не убивал прямо, хотя убил любимого Ему человека. А молился ли ты Маше о том, чтобы она тебя простила, и чтобы, если она тебя простила, она помолилась Христу о том, чтобы тебе был дан мир?». Он так и поступил; он поверил моему неопытному слову, и через некоторое время, когда я его увидел, он мне сказал: «После нашего разговора я остался один, сел в кресло и по вашему совету Маше вслух все рассказал, рассказал о нашей любви, которая никогда не умерла, хотя прошло много лет, я ей рассказал, что представляли собой годы этой адской муки о том, что я ее убил, и кончил тем, что сказал: „Если ты меня смогла простить, умоли Христа, чтобы Он ниспослал мир в мое сердце“, и затем замолк. Я сидел, и вдруг в мое сердце влился такой мир, какого я никогда не переживал даже после причащения Святых Даров. И я понял, что она меня простила, что нас ничто больше не разделяет, и что Христос меня простил, и что мы теперь едины».
И тут я еще хочу прибавить одно. Не так давно я разговаривал с одним человеком. Я его спросил, изжил ли он скорбь о смерти жены. И он на меня посмотрел сияющими глазами и сказал: «Знаете, мы жили душа в душу, но нас было двое. Когда она умерла, мы продолжаем жить душа в душу, но мы стали одно».
Отче наш, Иже еси на небесех…
На этом я кончу свою беседу. Если еще будет случай, я продолжу размышления о молитве Отче наш, но это я хотел вам передать, потому что оно мне кажется так краеугольно, важно и значительно.
Воскресение и Крест [116]
В одной беседе, пусть и продолжительной, невозможно сказать о православной духовности в ее полноте: это была бы попытка передать, какправославная вера во всей своей многосложности, во всем своем богатстве находит выражение во внутренней жизни и в благочестии верующих. Поэтому я ограничусь одной темой, которая мне представляется особенно важной. Хотя она абсолютно центральна для христианства, но в наше время представляет трудность для многих христиан как на западе, так и на востоке, — пусть и по разным причинам, но она одинаково трудна для них. Я хочу говорить с вами о Самом Христе.
В сердцевине христианской проповеди — Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, вера, то есть уверенность в том, что Христос, умерший на Кресте, действительно воскрес плотью Своей. От христиан, которые находятся под воздействием философских тенденций нашего времени, порой ускользает все значение этого события, однако именно Христос изначально был в самом центре, вернее, был абсолютным центром христианской веры. Достаточно обратиться к рассказу об апостолах, к основоположному, первичному опыту апостола Павла и двенадцати первых учеников, чтобы уловить разницу в подходе, который был у них и какой свойствен нам. Однако прежде чем приступить к этой теме, я хотел бы отметить нечто.
Некоторые люди, хотя признают, насколько важное значение имело Воскресение в опыте апостолов, задаются вопросом: каким образом этот апостольский опыт может иметь столь же центральное значение для нас? достаточно ли нам просто поверить на слово другим людям, так что наша вера будет основываться на чем-то совершенно не подлежащем проверке? И здесь я хотел бы отметить тот факт, что из всех событий мировой истории Воскресение Господне принадлежит равно историческому прошлому и реальности сегодняшнего дня. Христос, Который умер на Кресте в определенный день, Который в определенный день воскрес из гроба в Своей прославленной человеческой плоти, как исторический факт принадлежит прошлому, но воскресший однажды Христос, вечно живой в славе Отчей, принадлежит истории каждого дня, в каждый миг, потому что, как Он нам обещал, Он жив и пребывает теперь с нами навеки. И с этой точки зрения христианский опыт по своему существу связан с событием Воскресения, потому что это единственное событие из описанных в Евангелиях, которое можно «проверить», единственное событие из Евангелий, которое может стать частью нашего собственного опыта. Все прочее — рассказ о Его распятии, различные события, о которых нам говорит Писание, — мы восприняли из Предания, записанного или устного, но Воскресение мы знаем лично, а если не так, то мы ничего не знаем о самых существенных, основоположных фактах христианской жизни и христианской веры.
Если такое простое и непреложное утверждение вызывает вопрошание, требует ответа, требует, чтобы вы задались вопросом: находитесь ли вы внутри христианского опыта? — тем лучше. Потому что все мы стоим перед судом Писания, правды Божией, но в этом — центральный опыт, вне которого нет христианина, нет христианства. Вне этого опыта наша вера не есть вера как уверенность в невидимом (Евр 11:1), а только способность принять чужое свидетельство, которое невозможно проверить, свидетельство, которое основано на том только, что кто-то сказал нечто как будто невероятное, но что мы готовы принять по столь же неубедительным причинам.
Обратимся теперь к самому событию Воскресения и поставим себе вопрос, почему оно столь центрально, почему апостол Павел мог сказать, что если Христос не воскрес, то мы самые несчастные из людей и вера наша тщетна (1 Кор 15:6—19). И действительно, если Христос не воскрес, то наше убеждение, наша внутренняя жизнь, вся наша надежда — все это основано на лжи, на чем-то, чего никогда не было и что не может служить основанием ни для чего.
Подумаем отдельно об апостоле Павле и о двенадцати учениках. Как вы знаете, апостол Павел был еврей от евреев (Флп 3:5), ученик великих наставников, человек пламенной веры, укорененный в Писании, страстно преданный отеческому преданию. Он был современником Христа, вполне мог Его встречать, совершенно определенно он сталкивался с Христовыми учениками. Он, скорее всего, приложил все возможные старания, усилия, чтобы узнать, понять и оценить этого нового Пророка. Павел сопоставил все, что знал о Нем, с тем, что познал, чему научился из Священного Писания и от свидетельства иудейской общины, и отверг Христа. Сравнивая Его со своим представлением о грядущем Мессии, он оказался не в состоянии узнать пришедшего Мессию. С намерением искоренить первые ростки христианства Павел отправился из Иерусалима в Дамаск, и на этом пути, когда он шел гонителем, оказался лицом к лицу с воскресшим Христом. И эта встреча с воскресшим Христом сообщила абсолютный смысл и ценность всему, что он до того отрицал. Встретив воскресшего Христа, Павел внезапно понял, что Тот, Кто умер на Кресте и в Ком он отказывался признать Мессию, — поистине Тот, Кого ожидал Израиль. Потому что перед ним стал Христос воскресший, живой после реально случившейся смерти, Павел понял, что все, что Христос говорил о Себе, все, что в Писании было сказано таинственного, как будто неприемлемого о грядущем Мессии, было истинно и относилось к Пророку из Галилеи. И именно в свете Воскресения стало возможным для него поверить во все сказанное Евангелием, и не только для него, но и для многих. Только благодаря Воскресению можем мы узнать Сына Божия в Том, Кто умер на Кресте, можем мы принять убежденно и с уверенностью евангельский рассказ, начиная с Благовещения, с Девственного Рождения, и дальше учение, чудеса и двойное свидетельство: свидетельство Христа о Самом Себе, подтвержденное свидетельством Божиим о Своем Помазаннике — Христе.
И этого может быть достаточно для нас, чтобы уловить один из существенных аспектов Воскресения и его значения, но если теперь обратиться к двенадцати ученикам, мы видим, что Воскресение содержит и охватывает еще большее. Смерть Христа на Кресте в опыте апостолов значительно превосходила по значению смерть начальника, друга, учителя и наставника. Они оплакивали больше, чем потерю дорогого для них человека или поражение вождя, в котором ожидали увидеть победителя.
Посмотрим в Евангелие внимательно с точки зрения тех отношений, которые были между апостолами и Господом. Ученики пришли ко Христу — одни актом веры, чудом веры, можно сказать, другие скептически: что доброе может произойти из Назарета? (Ин 1:46), пройдя через колебания сомнений и совершенно покоренные не только учением Христа, но Его Личностью. И мы видим их прежде Распятия как группу, о которой можно сказать, что эти люди поистине отделены от мира, выбраны: они — избранные и выделенные. Христос стал абсолютным центром их жизни. Когда Христос обратился к Своим ученикам и спросил, не хотят ли они оставить Его, Петр ответил: Господи! Куда нам идти? У Тебя глаголы жизни вечной (Ин 6:88). У Тебя — то творческое, животворное слово, которое передает, дарует вечную жизнь, приобщает жизни вечной. Мы видим группу людей, собранную вокруг Того, Кто есть сама Жизнь Вечная, явленная в преходящем, временном мире, в мире, куда человеческий грех вводит смерть и тление. И эти люди уже не могут существовать вне такого отношения со Христом, не потому что они связаны с Ним привязанностью, дружбой, верностью, но потому что в Нем они получают опыт вечной жизни уже пришедшей, нового измерения жизни, нового измерения отношений — онтологического, сущностного. Это не просто жизнь более величественная, более полная, богатая, более прекрасная: Христос принес им иного рода жизнь; к этому мы вернемся через мгновение.
И когда Христос умер на Кресте, отверженный, преданный теми, кто остался вне этого таинственного круга любви, вне этой тайны Божественной любви — личной, воплощенной, действенной, преображающей, то дело было не в том, что умер друг, вождь, наставник: все гораздо более трагично. Если Христос и все, что Он представлял, мог умереть на Кресте, это означало, что человеческая ненависть сильнее Божественной любви. Божественная любовь предстала человеку одновременно как осуждение и как безмерная надежда, и эта любовь отвергнута, отброшена. И с этим отвержением погасла вечная жизнь среди людей: вечной жизни больше нет, она изгнана. А что остается человеку без нее? То, что всегда было уделом человека: полутьма, в которой мы боремся, отлученные от Христа, сумерки, в которых смешалось немного любви, немного ненависти и много безразличия, полутьма, где люди чужды друг другу, отношения непрочны, связи постоянно рвутся, привязанности распадаются, рассыпаются…
Но что произошло с теми, кто принадлежал внутреннему кругу, кто был един со Христом, кто опытно познал, что Живой Бог в их среде? Им оставалось только претерпевать жизнь, продолжать существовать, но жить они не могли больше. Они вкусили вечной жизни, и преходящая, временная жизнь, конец которой — тление и смерть, стала теперь всего лишь ожиданием последнего, конечного поражения, отложенным возвращением в прах. Это нельзя уже было называть жизнью, это было преддверием смерти. Так что когда Писание образно или прямо говорит нам, что в смерти Христовой мы все умерли в ту меру, насколько глубоко мы уподобились Ему, соединились с Ним, и что в Его Воскресении мы вместе с Ним возвращаемся к жизни, оно говорит нечто вполне определенное и реальное. Здесь нечто, что мы не можем воспринимать как ту трагическую тьму, которая охватила апостолов, не можем по очень простой и очевидной причине, а именно, потому что в Великую пятницу, как бы мы ни принуждали себя мысленно погрузиться в эту трагедию, мы точно знаем, что не пройдет и трех дней, как мы будем воспевать Воскресение. Мы не можем изгладить из мысли знание, что Христос воскрес, не только потому что из года в год переживаем это и не можем искусственно как бы забыть, но потому что как члены тела Христова, как христиане, включенные в тайну Христову, тайну «всецелого Христа», то есть Церкви, мы носим в себе эту вечную жизнь, которая свидетельствует о том, что мрак Великой пятницы уже побежден, что в нас уже живет свет, есть Жизнь, победа хотя бы частичная уже одержана. И хотя мы окружены мраком Великой пятницы, мы не можем совершенно забыть о том, что грядет Воскресение.
Но для апостолов Великая пятница была последним днем недели, последним днем прошлой их жизни. Для них следующий день, день, предваривший Воскресение, был полон густого, непроницаемого мрака, наставшего в Великую пятницу, и если бы не наступило Воскресение, все дальнейшие дни, все дни их жизни были бы сплошным мраком, временем, когда Бог мертв, Бог побежден, Бог окончательно и совершенно изгнан из града человеческого.
И если вы помните то, что я говорил о тождестве, которое, согласно евангельскому рассказу, постепенно устанавливалось между Христом и Его учениками, так что их жизнь была Его жизнью, они жили и действовали в Нем, они все видели, воспринимали и понимали через Него, то ясно делается, что Его смерть означала не только полный, окончательный мрак Великой пятницы, которая была для них последним днем истории, но была их собственной смертью, потому что Жизнь была отнята, и им оставалось дальше только существовать, а не жить. Таким образом, понятно делается, почему для апостолов Воскресение означало нечто совершенно новое, было настолько решительным событием.
Когда на третий день Христос явился им при закрытых дверях, первая их мысль была, что это галлюцинация, мираж (Лк 24:37). И Христос, как во всех случаях Его явлений, о которых говорит Евангелие, настоятельно уверяет их, что Он — не призрак, не видение, что Он действительно присутствует плотски среди них. Он разделяет с ними пищу. И ясно также делается, почему первые Христовы слова — слова мира и утешения:мир вам! Он приносит им мир, отнятый у них Его смертью, в которой и они умерли, Он освобождает их от предельного, безнадежного смятения, в которое они были погружены, от тех сумерек, в которых невозможно было различить жизнь, ту временную жизнь, откуда изъята была вечность. Он дает им обещанный ранее мир, который только Он может дать, мир, превосходящий всякий ум (Флп 4:7), восстановление к Жизни за пределом всякого сомнения, всякого колебания, в полную уверенность людей, которые, потому что они сами живы, не могут ставить под сомнение Жизнь.
Есть глубокая разница, которую, мне кажется, следует подчеркнуть, между этим метафизическим воскресением апостолов и воскрешением Лазаря. Вы наверно помните, как державным словом Лазарь был вызван из гроба после четырех дней там (Ин 12:38—45). Лазарь умер физической смертью; апостолы физически были живы. Но слова Христовы, зов, вернувший Лазаря в среду живущих на земле, вернул его к временной земной жизни. Воскресение, случившееся в апостолах как бы в пределах Воскресения самого Христа, восстановило их в вечной жизни, уже победоносно пришедшей, жизни будущего века, уже наставшей даром Святого Духа, Воскресением Христовым. Да, они умрут, уснут «сном всея земли», но умрут без страха, их не испугают никакие опасности, и никакое страдание не превозможет, не отлучит их от Христа, потому что для них жизнь — Христос, а смерть — приобретение (Флп 1:21). Физическая смерть, земное успение, сон, в который они уйдут, освободит их от ограниченности, земных ограничений, и они окажутся в безграничности и полноте жизни, исходящей от Бога, которая исполнит и преобразит их. И нам понятно делается, каким образом эти апостолы, прежде полные страха, уже не боялись ничего: жизнь, исполнявшая их, была не временной жизнью, которая может быть отнята от них, это была жизнь вечная, которой никто не мог их лишить.
Как я только что сказал, эта вечная жизнь, жизнь будущего века, стала явной благодаря тому, что Святой Дух пришел, был тут. В Священном Писании говорится дважды о даровании Святого Духа: в Пятидесятницу и прежде того — собранным апостолам в вечер Воскресения Христова. Никто из апостолов не получает дар Святого Духа лично: они получают Его все вместе, вместе обладают Им, и только в своем единстве они могут обладать Им.
Мне кажется, здесь возможна некоторая параллель с тайной Тела Христова. Вы помните, как на берегу Иордана Дух сошел на Христа и почил на Нем. Теперь же эта община людей, которая стала телом Христовым — продолжением во времени и пространстве тайны присутствия Божия, воплощения, totus Christus, всецелым Христом, — в свою очередь получает тот же Дух, Который вселяется в это тело так же, как Он пребывал в воплощенном Слове. С точки зрения Церкви можно многое сказать о значении этого события. Первое: Дух присутствует только в этом единстве, и если кто-то уклоняется от этого единства, отрицается его, перестает быть членом Церкви Христовой, он не может унести с собой свою как бы «порцию» дара Духа Святого, Который целиком пребывает в сердцевине Церкви.
Второе: если мы обратимся к церковному Преданию, то нам сразу делается ясно, что это присутствие Святого Духа, богато изливаемые Божественные дары, которые передаются нам, делают нас причастниками Божественной природы, ведет нас к полноте, которую греки назвали
обожением. И это присутствие Святого Духа — уже начаток Будущего века, что грамматически абсурдно, но в духовном плане совершенно точно и выражается в богослужении, в Литургии словами: [Ты] д
аровал нам Царство Твое будущее[117]. Грамматически это невозможно, потому что невозможно сегодня быть в будущем, и тем не менее это истинно, потому что Церковь в своем нынешнем бытии — уже присутствие того, что будет, присутствие, которому еще недостает полноты, присутствие большее или меньшее, соответственно историческим обстоятельствам и человеческой верности, но реальное присутствие того, что станет явным в сиянии Полноты Будущего века.
В начале Литургии, когда дары — хлеб и вино — приготовлены для освящения, когда собрался народ, когда священник, дьякон и верующие готовы начать службу, дьякон, обращаясь к священнику, произносит фразу, которая, как многие выражения в древних языках, может быть переведена с различными оттенками. Он говорит: Время сотворити Господеви. Все, что по-человечески возможно, сделано: община собралась, подготовилась молитвой и постом к таинству встречи со Христом, хлеб и вино приготовлены, все готовы к совершению Божественной литургии. Но самое содержание Божественной литургии не может быть создано человеческим усилием: человек не может заставить хлеб и вино превратиться в реальное присутствие Христово, что бы мы ни думали теоретически об этом присутствии. Только Бог может обратить этот порыв открытых рук в данную Реальность. Это — схождение Вечности, это прорыв таинства Будущего Века в пределы истории и человеческой реальности нынешнего дня. И это и есть тайна Воскресения Христа, Который даром и силой Святого Духа делает нас единым телом с Собой, достигает нас и дарует нам вечную жизнь.
И есть третье выражение, которое приводит нас к еще совершенно другому аспекту тайны Воскресения и жизни Воскресения в нас и в Церкви. В рассказе о Иоанновой Пятидесятнице Христос, даровав ученикам Духа, даровав им мир Свой, говорит: Как Меня послал Отец, так Я посылаю вас (Ин 20:21). Когда эта фраза повторяется миссионерам двадцатого столетия, она не звучит трагически: миссионеры отправятся в чужие края при поддержке своей Церкви, сил своей страны, порой при поддержке военной силы, «мир сей» (в худшем значении этих слов) обеспечит им безопасность по своим стандартам. Опасность может предстать, но риск не столь уж велик.
Но Христос произнес эти слова Своим ученикам сразу после того, как Великая пятница преобразилась в Пасхальное сияние. Когда апостолы услышали слова: Как Меня послал Отец, так Я вас посылаю, их сердца еще были полны Голгофской трагедии. Эти слова Христа к ним означали — то, что два дня назад произошло с их Учителем, будет и их уделом, как Он и ранее обещал им: Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков (Мф 10:16). И мы оказываемся перед лицом другого аспекта тайны Христа и тайны Церкви в свете Воскресения. Апостолы теперь обладают вечной жизнью, им остается отдать свою человеческую жизнь на то, чтобы передать эту вечную жизнь другим людям. Так же, как Христос умер, как Он жил — и никто не отнимал у Него жизнь, по Его слову: Никто не отнимает у Меня жизнь, Я ее Сам отдаю (Ин 10:18), — так они должны отдать жизнь. И на этом аспекте я хотел бы ненадолго задержаться, подчеркнуть нечто именно в контексте Воскресения, не в порядке противопоставления Воскресения и Креста, а переплетения Креста и Воскресения, Креста, который Христос возлагает на плечи Своих учеников, потому что они уже принадлежат будущему веку, уже воскресли.
Я хотел бы дать вам иллюстрацию, к чему может привести Крест, как он был воспринят и воплощен в человеческой жизни, в жизни конкретного человека, женщины двадцати с небольшим лет, и показать вам, что когда мы говорим, что Христос — путь, истина и жизнь (Ин 14:6), это действительно правда. Когда мы думаем об апостолах, нам представляется, что они были исключительными людьми, глубоко отличными от нас, несмотря на все общие черты, которые можно найти между ними и нами. Но обратимся к периоду Гражданской войны в России, смутному времени внешних и внутренних конфликтов и войн.
В небольшом провинциальном городке, который только что перешел из одних рук в другие, совсем молодая женщина с двумя детьми оказалась в западне: ее муж принадлежит к противному лагерю, она не сумела вовремя уйти, и теперь прячется, пытаясь спасти жизнь себе и своим детям. В тревоге проходит день, затем ночь. К вечеру второго дня дверь хибары, где она спряталась, открывается и входит молодая женщина, ее сверстница, соседка, простая девушка из местных жительниц. Она спрашивает: «Вы такая-то?». Мать в страхе отвечает: «Да». — «Вас обнаружили, — говорит соседка, — ночью вас возьмут и расстреляют. Вам надо уходить». Мать посмотрела на детей и сказала: «Куда я пойду? Мне не спастись с малышами, они не могут идти быстро, не уйдут далеко, да меня сразу узнают: женщина с двумя детьми, которую ищут!». И девушка, которая за миг до того была безвестной соседкой, в одно мгновение перестала быть соседкой и выросла в то великое и значительное состояние ближней, о котором говорит Евангелие: стала так близка, как только возможно. Она стала ближней для этой женщины и сказала: «Вас не будут искать, я останусь вместо вас». Мать возразила: «Но вас расстреляют!» — «Да, — ответила та, — но у меня нет детей». И мать ушла.
Я передаю вам этот случай не просто как рассказ о чьей-то жертве. Я хочу подчеркнуть некоторые моменты в нем, которые придают ему ценность и значение во Христе и которые через Крест ведут нас к пониманию Воскресения и Жизни Того, Кто больше всех, в малых сих.
Мать ушла, а молодая девушка — ее звали Натальей — осталась. Я не собираюсь в воображении создавать картину того, что происходило в той ночи, я лишь проведу некоторые параллели, которые, мне кажется, могут быть проведены, имеют право быть проведенными. Ночь, осень, быстро стемнело. Становится все более холодно, сыро, тьма окутывает со всех сторон, и в этой тьме — молодая женщина, одна, в полном одиночестве. Ей нечего ожидать, кроме смерти, она перед лицом смерти, той смерти, ожидать которую у нее не было как бы основания: она молодая, полная жизненной силы, убить должны были не ее…
Вспомните Гефсиманский сад. Там тоже в холодной ночи, в обволакивающем мраке, в одиночестве, потому что ближайшие Ему люди — от усталости, от огорчения — уснули, был Человек, тоже молодой, тридцати с небольшим лет, и Он тоже ждал грядущую на Него смерть, ждал, что Его убьют вместо других, потому что Он согласился на смерть ради того, чтобы человек — Его друзья, и всякий человек, и каждый из нас — был спасен и избежал безысходной тьмы. Мы знаем все, что говорит об этом Писание: знаем о кровавом поте, знаем, что, не выдерживая одиночества перед лицом грядущей смерти, Он подошел посмотреть, не бодрствует ли кто из Его учеников, и опять вернулся встречать смерть в одиночестве — чужую смерть, заимствованную, невозможную и как будто бессмысленную. Вот первая параллель: Наталья в таком же положении, никакой разницы, она была во Христе. Не раз, должно быть, Наталья подходила к двери и говорила себе: достаточно мне открыть дверь — и я стану самой собой, не буду Зоей, не буду обречена на смертный приговор, никто меня не тронет… Но она не вышла.
Мы можем оценить меру ее страха и ужаса, если вспомним двор Каиафы. Петр, каменное основание, Петр, крепчайший апостол, который сказал Христу, что не отречется от Него, если и все отрекутся, пойдет с Ним на смерть (Мк 14:29—31), Петр, столкнувшись с молодой служанкой, которая лишь сказала: «И ты из них», отказался и отрекся: «Не знаю я Этого Человека», отказался и второй, и третий раз, и затем, обернувшись, встретил взор Христа (Мк 14:66—72). Наталья тоже могла отречься, сказать: «Я не хочу умирать, я ухожу, уйду на свободу». Но она этого не сделала. Эта юная, хрупкая девушка двадцати с чем-то лет оказалась во Христе способна не сдаться там, где Петр со всей своей человеческой крепостью не устоял. Но это было прежде Воскресения, прежде Христовой победы за нас и в нас.
Опять-таки эта девочка, должно быть, не раз задавалась вопросом, не напрасна ли будет ее смерть. Умереть ради того, чтобы эта женщина и ее дети были спасены — да. Но если предположить, что и их схватят, и ее расстреляют — что за трагическая бессмыслица!
Вы помните из Священного Писания величайшего из людей, величайшего из рожденных женами, Иоанна Крестителя. В конце жизни, также перед лицом грядущей смерти, Иоанн Креститель посылает двоих своих учеников спросить Христа: Ты ли тот, которого мы ожидали, или ждать другого? (Мф 11:3) Сколько трагизма в этих словах, в этом вопросе, столь важном и для него, и для нас, но столь трагичном для него. Он скоро умрет, он умирает, и он, Предтеча и Предвестник и Креститель Христа, перед лицом грядущей смерти вдруг охвачен сомнением: «А вдруг я ошибался? Что, если тот, о ком я возвещал, еще только должен прийти? Что, если тот, о ком я свидетельствовал от имени Божия, не Этот Человек?». Были годы нечеловеческого подвига в пустыне, самоотречение, благодаря которому Священное Писание называет его гласом вопиющего в пустыне (Ин 1:23), — даже не пророком, говорящим от имени Божия, а голосом Божиим, звучащим через посредство человека, который настолько отождествился с Голосом, что не важно даже, Иоанн ли произносит слова или другой, — говорит Сам Бог. И теперь, перед лицом смерти, все это имело смысл, если Иисус из Назарета действительно Тот. Но если нет, то Иоанн обманут Самим Богом. И подобно Наталье, окутанной тишиной и одиночеством в ночи, пророк не получил ответа, вернее, нет, он получил ответ, достойный пророка: Скажите Иоанну, что вы видели, — слепые прозревают, хромые ходят, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о Мне (Мф 11:4—6). В темнице, где ждала его смерть, в одиночестве полной самовластной ответственности человека он должен был стать перед всем своим прошлым, перед настоящей своей судьбой и перед всей своей смертью. Наталья тоже не получила ответа. Сейчас я мог бы ей сказать, что Зоя спаслась, что ее детям уже много лет, многое мог бы сказать теперь, но она этого не узнала и была расстреляна в ночи.
Но есть и еще нечто. Крест, Голгофа и Гефсиманский сад — все имеет место, но тут же и Воскресение: Воскресение, так сказать, в меру нашего участия в тайне Христовой, но также и в меру нашей человеческой малости. Вы, верно, знаете место, где апостол Павел говорит: уже не я живу, но живет во мне Христос (Гал 2:20). И мы порой недоумеваем: что могут означать эти слова, куда они ведут нас? Зоя и ее двое детей знали одну важную вещь: что они жили заимствованной жизнью, их собственная жизнь умерла с Натальей, ее жизнь продолжалась в их земном существовании. Они были живы потому лишь, что она умерла. Она приняла на себя их смерть и отдала им свою жизнь, они жили жизнью, которая всецело принадлежала ей.
Здесь на малом человеческом уровне мы можем, может быть, уловить то, что ускользает от нас в контексте трагедии человечества и тайны спасения. Мы можем также уловить здесь всю требовательность, конкретность и прямое содержание предстательства. Мы часто предстательствуем перед Богом, обращаемся к Нему и просим покрыть Своей милостью, проявить Свою всесильную любовь к тем, кто в какой-либо нужде. Но предстательство — нечто совершенно иное. Латинское слово intercedo означает — сделать шаг, который приведет нас в сердцевину ситуации, подобно тому, как человек, который видит, что сейчас начнется драка между двумя людьми, встает между ними и берет на себя ответственность за обоих. Первое, что приходит на мысль, это образ из 9-й главы книги Иова, слова Иова, на которого обрушилось столько страдания. Он говорит: где тот, который встанет между мной и судьей моим? (Иов 9:33) Где тот, которому достанет мужества стать между Живым Богом и Его ничтожной тварью в их споре, сделать шаг и стать между ними, разделить их или соединить их? Разделить их противостояние, где они — пленники один другого, соединить их в свободе, которая восстановит гармонию отношений.
Это мы находим во Христе: Он — Человек и Бог, Он — воплощенное Слово, Которое сделало этот шаг и встало между падшим, осужденным человеком и Господом, как равный и Богу, и человеку: с полной ответственностью перед Богом, поскольку Он Сам — Бог, с полной ответственностью перед человеком, потому что Он — человек и готов нести последствия Божественной любви в Своей человеческой плоти. Вот что такое предстательство, вот что оно подразумевает: сделать шаг, который унесет нас в сердцевину ситуации навсегда, навеки, потому что Христос, родившийся от Девы, — Тот же, Кто умер на Кресте, Кто восстал и Кто в Своем Вознесении унес Свою человеческую плоть в сердцевину Святой Троицы.
Мы видим на примере Натальи, что Христос действительно есть путь, то есть образ, как жить и как быть христианином. Мы видим также, что нет иной истины, человеческой или божественной, и что только она ведет к жизни, более того, к такому преизбытку, такой полноте жизни, что не только наполняет вечностью того, кто несет ее в себе, но переливается через край, изливается на окружающих, даруя спасение и вечную жизнь ценой Распятия, бесконечно повторяющегося во времени. Вот где победа — победа мученика, победа немощи над силой, победа того, что бесконечно уязвимо — божественной и человеческой любви, над тем, что кажется сильным, — над ненавистью, которая разрушает сама себя и так недолговечна.
Думаю, это все, что я скажу сегодня об этих двух аспектах нашего ви{'}дения Христа, нашей веры в Него: Крест и Воскресение, нераздельно связанные, взаимозависимые, черпающие значение одно в другом. Можно бы еще многое сказать о других аспектах Христа в нашей жизни, в нашем опыте. Может быть, у меня будет еще когда-нибудь возможность поговорить с вами об этом. Но эти два аспекта существенны для православного опыта, благочестия и духовности, именно поэтому я их выбрал в качестве введения в беседу с вами, потому что они всецело принадлежат истории, а наш Бог есть Бог Истории, и потому что то, что происходит сейчас в историческом плане с православными — это именно живоносная тайна Креста.
Ответы на вопросы
Была ли та молодая женщина верующей? Был ли ее поступок ей подсказан ее верой?
Мы ничего не знаем о ней. Единственное, что известно: перед уходом мать с детьми спросила: «Как вас зовут?», и та ответила: «Наталья». Мне думается, что какова бы ни была формально ее вера, когда она поступила так, как поступила, она была во Христе. Если вам требуются логические выкладки, то я бы сказал, что, принимая в учет время и место, где все это происходило, она наверно была обычной православной девушкой, но я не могу в этом поручиться. Единственное мне известное: что я почитаю ее имя, как и многие другие, кто знает ее историю.
Если предположить, что она была, скажем, иудейкой или атеисткой, можно ли сказать, что в этом ее поступке, в этой жертве все равно действовал Христос?
Я бы сказал: да. Но раз уж разговор пошел в этом направлении, я скажу несколько больше. Мне представляется, что мы рассматриваем Воплощение очень близоруко, мы видим вещи в таком мелком масштабе, так ограниченно, с собственной колокольни, так сказать, что не видим полного охвата события. В этом событии много аспектов.
Первое, о чем я скажу, поскольку хочу говорить о том, что особенно значительно для нас, это то, что Воплощение говорит с точки зрения Божественной не только о человеке, но о физической природе. Воплощение предполагает тело, и в тайне Воплощения явлены и становятся очевидными потенциальные возможности и призвание всего видимого мира: не только быть проводником Святого Духа, но стать как бы телом Божиим. Это событие значительное не только исторически, не только для человека, но и для всего космоса. Здесь я остановлюсь, потому что это отдельная тема.
Второе: когда мы говорим о Воплощении и о том, каким образом Христос, воплощенное Слово в Своем безгрешном человечестве разделяет условия греховного человечества, мы всегда говорим, что Он страдал от голода, от жажды, от усталости, что Он испытывал человеческие чувства любви и отвращения, что Он выражал возмущение и гнев, и наконец говорим: «Он умер на Кресте». Это последнее утверждение, что Он умер, бесконечно более значительно и важно, чем все остальные, потому что смерть — не просто одно из многих событий жизни, это совершенно уникальное событие, и смерть Христова мне представляется (и в этом я следую учению святого Максима Исповедника) смертью единственной, неповторимой, незаменимой. Ее нельзя сравнить со смертью любого из нас.
Мы все умираем, потому что постепенно наша жизнь истощается и мы возвращаемся в прах, от которого были взяты. Это умаление, схождение на нет, тление, мы совлекаемся жизни и умираем. Смерть Христа совершенно иная. Есть замечательное место в писаниях святого Максима Исповедника, который настоятельно подчеркивает, что если поистине смерть есть результат греха, а что это так — засвидетельствовано Священным Писанием (Рим 5:12 и др.), то в самый момент Воплощения Христос, плоть Христова была бессмертна, потому что невозможно представить, чтобы человечество, соединенное с Божеством, могло умереть. И Максим говорит, что Христос, будучи бессмертным, потому что Он нераздельно Бог и человек, возлагает на Свое человечество невозможную смерть, ради того чтобы разделить всю судьбу человека. И эта невозможная смерть становится возможной только в пределах неизмеримо глубокой, ужасной трагедии, на которую указывает одна-единственная фраза Священного Писания: Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил? (Мк 15:34) Если поистине невозможно умереть, не потеряв Бога, то эта фраза приобретает огромное значение: она говорит, что в этот миг Сын Божий потерял Отца и мог умереть, потому что оказался лишенным Бога. Именно это и называется быть безбожником. Греческое слово атеист именно это и означает. И глубина этой потери Бога Христом бесконечно большая, чем любое человеческое переживание безбожия. Атеизм каким мы его знаем — это слепота, неведение, нечуткость и множество других вещей, но это не есть онтологическая, сущностная потеря, которая заставила Воплощенного Господа воззвать: Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил?
И с этой точки зрения можно сказать, что после Распятия, Воскресения и Вознесения Христа ничто не осталось вне Христа — в разной степени и по-разному, но никто не может быть большим атеистом, безбожником, чем Христос в тот момент, никто не может быть заклан так, как Вечная Жизнь на Кресте. И когда ранняя Церковь говорила о сошествии Христа в ад, по-еврейски шеол, это место, где Бога нет. Это не место, где человек страдает соответственно тому, как он жил на земле, — это разделенность, полное отчуждение, пропасть между Богом и нами. И Церковь подчеркивает это сошествие в ад, передавая в Евангелии слова Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил? В 138-м псалме царь Давид пророчески восклицает: куда пойду от Твоего лица? Земля — подножие ног Твоих. Во ад? Но и там Ты еси…(Пс 138:7—9) Он там, где Его нет, так сказать; это невозможно выразить логически: все, что было вне Его, чуждо Ему, усвоено Им внутренне. Все содержится в деснице Воплощенного Слова Божия, Который опытно испытал все, даже потерю Бога.
И мне кажется, с этой точки зрения нам следует очень осторожно передумать наше отношение к тому, что мы считаем находящимся за пределами Церкви и чуждым Христу. Интересную попытку в этом направлении недавно сделал Жан Даниелу в небольшой книге «Святые язычники», где он показывает, что Церковь и Священное Писание представляют нам в Библии ряд людей, которые вне всякого Завета и Договора, и тем не менее принадлежат Богу. Прежде завета с Авраамом, говорит он, еще глубже в наших отношениях с Богом, чем последовательные соглашения Ветхого и Нового Завета, есть те внутренние договоры, которые мы так часто видим в Ветхом Завете. Есть еще более основной завет между Богом и Адамом: Я создал тебя по собственному образу (Быт 1:26), соответствие, взаимоотношение, которого ничто не может нарушить, потому что имя Нового Адама — Адам
[118]. Он не новая тварь, созданная вместо первого, Он вписан в непрерывную линию таинственного отношения между Адамом и Богом. Он пришел обновить образ Божий в его совершенстве, всецелом Адаме, всецелом человеке.
Мне кажется, когда мы думаем в порядке исключительности, нам следует помнить, что вовсе не бесспорно, будто на иных уровнях, чем завет с Авраамом, не может быть других заветов и других отношений. Есть завет с Измаилом, есть завет с Адамом, есть невероятный, таинственный как бы договор с Каином: сделал Господь Бог Каину знамение (Быт 4:15), знак защиты. Очень многое можно рассматривать с этой точки зрения, и это очень важно и позволяет поистине сказать, что все подлинное и до конца человеческое имеет связь с Тем, Кто единственно есть Человек в подлинном и полном смысле слова. И невозможно говорить в порядке противоположения «они и мы», потому что существует абсолютная солидарность, поскольку Бог с самого начала и до конца показывает, что солидарен с человеком, не только с праведником, но с грешником. Слово стало плотью, чтобы спасти грешников, не для того чтобы возвеличить праведников, и так же и мы должны относиться к тем, кого в каком бы то ни было отношении считаем «грешниками». Именно с ними мы, христиане, должны чувствовать себя солидарными в том, что касается их спасения. Не в том смысле, чтобы соучаствовать в их преступлениях, их грехе, их отвержении Бога или еще каком-либо аспекте их положения, а быть солидарными — то есть готовыми жить и умирать за них. В противном случае мы не следуем путем Того, Кто выбрал стать человеком, чтобы могли спастись грешники.
Еще два вопроса. Первый касается в первую очередь спора, который часто разделяет западных богословов. Одни предпочитают говорить, соответственно тексту Символа веры, о «воскресении плоти», другие говорят о «воскресении тела», а на втором плане — известная в эллинизме, в греческой языческой мысли проблема так называемого бессмертия души у Платона и т. д. Можете ли вы пролить некоторый свет на эту бесконечную дискуссию, несомненно хорошо вам известную?
Второй вопрос касается фактических последствий Воскресения, реальности Воскресения Христа, реальности Пасхи для православной духовности, в контексте того значения, которое Православие всегда придавало Преображению в жизни Христа. Какая связь между Воскресением и Преображением в обыденной жизни обыкновенных христиан?
Я не богослов и должен честно сказать, что не переступал порога духовной школы, пока не начал читать лекции в некоторых из них. Так что я не претендую, будто могу разрешить проблему, которую безрезультатно обсуждали люди более, чем я, ученые. На основании того, что я читал, могу сказать: в выражении «воскресение плоти» слово «плоть» подчеркивает, что к жизни вернулось реальное, осязаемое вещество Тела Воплощения, Тот Самый, Кто волей Божией стал смертным в Своей плоти.
В отличие от этого, слово «тело» порой употребляется в несколько другом смысле. Отец Сергий Булгаков говорит нам, что борьба против плоти есть борьба за тело
[119], и этим явно проводит различие между «плотью», понятой как бы в плане естественного бытия, как физический факт, вещество, из которого мы состоим, или как плоть, уже запятнанная грехом в аскетическом смысле слова. И он противопоставляет это естественное творение или человеческую тварь, уже запятнанную грехом, ее призванию быть воплощенной, и в этом последнем значении говорит о «теле». Можно сказать, что Булгаков в этом отрывке думает о теле как о той же плоти, но обладающей человеческим достоинством, потому что она следует в верном направлении, охвачена Божественной благодатью, она стала неотъемлемой частью подлинного Тела Христова. Мне кажется, это различие интересно в плане аскетического подвига, потому что оно подчеркивает тот факт, что нет существенного различия между этим одухотворенным телом и Христом, но целая пропасть разделяет то, что мы называем «плотью», и то, что Евангелие обозначает этим словом: плоть Воплощения,
Слово стало плотью (Ин 1:14). Писание не говорит, что Оно сделалось «телом», Оно стало человеческой плотью в высшем смысле этого слова, и в этом смысле Оно стало Человечеством. Так что когда мы говорим о Воскресении плоти, вот что подразумевается.
Что касается Преображения, я думаю, тут связь иная. Плоть Воскресения, Воскресший Христос — по эту сторону Креста и смерти, Преображение — по ту сторону. Но чрезвычайно интересно относительно Преображения с точки зрения нашего понимания человека и тварного мира то, что, по свидетельству Евангелия, светом Преображения просиявают физическая природа Христа и Его одежды. Это не просто внутренний свет, который сияет и льется изнутри, — сияет само тело, и в этом, мне кажется, есть нечто очень важное для нашего понимания видимого мира, осязаемого мира, окружающего нас тварного мира и его возможностей.
Духовность, о которой вы говорите, — трудно поверить, что она, так сказать, исключительно достояние православных. Хотелось бы знать, насколько мы, люди западные, могли бы не только знать и любить такой подход как близкий нам, но и усвоить его?
С такой точки зрения, я думаю, что православная духовность — это просто христианская духовность. Думаю, все, что есть истинного в том, что я сказал, принадлежит равно Западу и Востоку, любому христианину. Тем не менее между нами выросли перегородки, но они не от Бога, они не из Евангелия, они происходят от того, что, как мне кажется, Запад потерял из вида некоторые вещи. Запад потерял космический аспект Воплощения и всего, что относится к Воплощенному Слову. На Западе Воплощение и все события, масштаб которых бесконечно превосходит наш небольшой человеческий мир, сводится к истории спасения людей. Сказать «сводится», возможно, не совсем верно, потому что это существенно для нас. Но то, что это существенно для нас, не исчерпывает всего события: оно больше, чем мы, люди. Этот аспект, как мне кажется, Запад сейчас обретает вновь, хотя меня не очень удовлетворяет результат этого процесса, например, в мысли Тейяра де Шардена.
Также Запад отводит место событию Воскресения и Распятию лишь в историческом прошлом. Мне кажется, долгие дискуссии о проблеме установительных слов
[120] — следствие искаженного видения. Мне кажется: если, когда мы совершаем воспоминание Страстей или Тайной вечери, мы воображаем, что речь идет о прошлом, и оглядываемся воспоминанием в точку линейного времени, бывшего прежде нас, мы совершаем прискорбную ошибку, потому что все эти события находятся в вечности, а не просто во времени. И когда мы совершаем воспоминание этих событий, то цель — поставить нас лицом к лицу с событием настоящего времени, а не вспоминать событие прошлого. Если Крест и Воскресение были и ушли в прошлое, то все кончено. Но воспоминание, которое указывает нам, что мы созерцаем то, что случается в нашей среде в настоящем, имеет подлинную ценность. И тогда нет места этому безнадежному расхождению перед проблемой таинства или воспоминания. Это — единое событие, оно не делится надвое. Речь не о том, что «потому что что-то случилось две тысячи лет назад, нечто может произойти сегодня на этом престоле», а о том, что «то, что случилось две тысячи лет назад, пребывает вечно, и на этом престоле мы встречаемся лицом к лицу с этим непреходящим присутствием». Мы в горнице Тайной вечери, мы на Голгофе, мы в Гефсимании, у Гроба и так далее.
И мне кажется, что очень важно обрести снова это ощущение непрерывного присутствия, так чтобы были вполне реальны Крест, и Воскресение, и Вознесение, и так далее. Чтобы вся последующая история протекала на фоне этих событий, словно прозрачная пленка, которая разворачивается столетие за столетием, а эти события всегда здесь, как бы в самом центре истории, всегда события сегодняшнего, а не вчерашнего дня. Это второй момент.
Мне кажется, многим на Западе следует заново продумать Воскресение и осознать с большей силой, до какой степени оно касается не только Христа. Я вам дам пример, который, конечно, искаженное видение. Нам, православным, часто кажется, что на Западе главное событие — Великая пятница. В этот день храмы полны, три дня спустя все очень рады за Христа, что Он восстал из мертвых, тогда как на самом деле это, как я пытался объяснить, — наше воскресение, предполагаемое Воскресением Христовым. И когда мы провозглашаем «Христос воскресе!», мы на самом деле одновременно утверждаем: «И мы тоже воскресли из мертвых». В этом торжество пасхальной ночи: мы ликуем не только о том, что Распятие Господа завершилось счастливым для Него образом, мы ликуем потому именно, что этим событием и мы охвачены и соединены с Ним в вечности — хотя мы все еще в истории и в мире, как присутствие Вечности в мире.
Святой Дух [121]
Я хотел бы поговорить о Святом Духе в Церкви: о Нем Самом и о том, что Он совершает и в Церкви, и над нами, как Он воздействует на нас, как действует в нас и через нас.
В Священном Писании есть два рассказа о даровании Святого Духа. Сразу вспоминается то, что описано во второй главе книги Деяний — Пятидесятница. Другой рассказ, в 20-й главе Евангелия от Иоанна, приводил в недоумение многих толкователей. Его пытались объединить с первым, слить их воедино, равно связать оба рассказа с Вознесением. Я подойду проще, более непосредственно, к этим двум рассказам, как мы находим их в Писании, и попытаюсь показать, что в них есть общее и чем различаются эти два события.
В 20-й главе Евангелия от Иоанна мы читаем о первом явлении Христа после Его Воскресения (Ин 20:19—23). Первые Его слова — слова успокаивающие: мир вам. Того мира, который Он дал, не мог дать мир сей. Мир, который дал Христос, наполнил весь дом, остался с апостолами навсегда. Это тот мир, который сошел на них, когда они обнаружили, что ужас Великой пятницы ушел навсегда, что человеческая ненависть не убила Божественную Любовь, что человеческое общество не смогло исключить Живого Бога из своей среды во тьму внешнюю. Этот мир сошел на них, потому что они знали, что жизнь не была убита, жизнь не угасла, что Бог поистине среди них и что имя Мессии, Эммануил, о котором мы узнаем в начале Евангелия от Матфея (1:23), истинно не только в начале, но как конечная победа: Эммануил, Бог среди нас, с нами Бог.
И затем Господь дохнул на Своих учеников и сказал: Примите Духа Святого. К этому дарованию Святого Духа следует подойти, мне кажется, очень внимательно и вдумчиво. Во-первых, этот дар был сообщен всем апостолам в их совокупности, всем присутствующим, но никто из них не обладал им по отдельности. С другой стороны, тем, кто присоединился к апостольскому кругу позднее, не было нужды получать как бы дополнительно этот дар. Вы помните, что апостола Фомы не было в тот вечер вместе с прочими апостолами. Когда неделю спустя Христос снова явился Своим ученикам, и Фома был с ними, и Христос укорил его за неверие и предложил осязать раны на руках и в боку, чтобы не остаться неверующим, уверовать, то после исповедания апостола Фомы: Господь Мой и Бог мой! (Ин 20:28) — Христос не стал даровать ему Дух, Которого прежде уже приняли другие апостолы. Поскольку Фома принадлежал к апостольскому кругу, был одним из них, не откололся от них — он вместе со всеми обладал тем, что было вверено их сообществу, всем в совокупности, не как группе людей, а как единому целому.
Может быть, здесь можно провести параллель с сошествием Святого Духа на Самого Господа Иисуса Христа на берегу Иордана (Мк 1:9—11). Когда Иисус из Назарета, воплощенный Сын Божий, в Своем человечестве дошел до полной зрелости, Дух Святой сошел на Него, осенил Его, почил на Нем. Его человечество исполнилось присутствием Духа Божия. Подобным же образом эти одиннадцать апостолов, которые составляли Его тело, приняли Духа Святого, Он был вверен им. Он пребыл в их среде, в их общности, и Он объединял их в общину. Не община обладала Святым Духом — Он охватывал общину, руководил ею, покорял ее. И вместе с тем чего-то еще недоставало той полноте, которую Церковь познала позднее. Они приняли Святого Духа, хранили Его, но никто из них не достиг той полноты, какая должна принадлежать членам Церкви, составляет их призвание. Несмотря на этот дар, этот залог вечности, это эсхатологическое вторжение Духа в среду апостолов, отношения между Святым Духом и тварным миром еще не достигли завершения, потому что, как говорит в одном месте Иоанн Богослов, Христос еще не восшел к Отцу (Ин 7:39).
Шло время. Апостолы вместе обладали этим даром Святого Духа, но еще не способны были приносить плоды Духа, потому что Он был вверен их общности, их единству, но еще не исполнил их, не охватил каждого из них так, чтобы каждый из них мог сам — пусть и в единстве с другими — действовать во имя Божие. Это произошло через пятьдесят дней, в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на них и каждый из них получил дар, принял огненный язык, означавший схождение Святого Духа (Деян 2:3). Никто из них не мог бы обладать Духом, если бы все вместе, в зачаточном единстве как Тело Христово, они не были уже объяты Духом: это было свойственно всем, принадлежало всем и потому могло принадлежать каждому из них. Да, всем, но по-разному. Можно потерять дар Духа. Можно стать чуждым этому Присутствию, даруемому нам в нашей личной жизни, и тем не менее Дух Святой не оставляет Церковь. Скажем, в древности отступники, те, кто публично отрекся от Христа и вернулся к язычеству, если их затем принимали в лоно Церкви, их принимали не только через покаяние, но они должны были снова получить печать Святого Духа. Они стали чужды Ему, потому что сами отреклись от Него.
С другой стороны, не только с богословской точки зрения, но из опыта жизни в Церкви, который у каждого из нас есть, из жизни Церкви в истории или в наши дни мы видим, что Дух Божий не оставляет Церковь, когда ее члены колеблются, отклоняются от истины, ищут истину, но на пути этого искания впадают в ошибки. Дух Божий всегда присутствует, всегда деятелен, Он призывает, учит, наставляет, действует в нас, обновляет всех нас, остаемся ли мы верными или колеблемся и оказываемся изменниками. Святой Дух, дарованный в событии, которое один православный богослов назвал Иоанновой Пятидесятницей
[122], действием, описанным в Евангелии от Иоанна, сохраняется всей целокупностью Церкви. Никто не обладает Им, и вместе с тем для каждого, кто входит в апостольский круг, который все расширялся на протяжении веков — и когда я говорю «апостольский круг», я не имею в виду духовенство, я имею в виду всех тех, кто связан с апостольской верой, апостольской жизнью, вернее, жизнью Самого Христа, пребывающей, действующей в Его теле, — этот дар Святого Духа составляет условие нашей личной святости.
Если мы поставим себе вопрос, Кто есть Дух Святой, думаю, можно начать с замечания, которое много лет назад высказал Владимир Николаевич Лосский. Он говорит, что Отец открывается в Сыне, через Сына. Сына открывает Святой Дух, но Сам Дух остается неуловимым. Он еще не явлен так же, как Отец явлен в Лице Сына. Откровение Духа, победы Божией, сияния Божественной Жизни явлено самим человечеством. Святой Ириней Лионский в одном из своих писаний говорит, что слава Божия — это до конца осуществленный человек
[123]. Каждый из нас в отдельности и все вместе, каждый из нас и та общность, которую мы составляем, — вот где должно быть видно сияние Духа. Другого не дано. И это ставит нас в совершенно особые отношения с Третьим Лицом Святой Троицы, Господом Духом Святым. Невозможно определить соответствующим образом, кто такой Святой Дух. Мне кажется, самое лучшее, что можно сделать, — это подойти к вопросу описательно, в образах или попытаться уловить через плоды Духа, через Его действование все, что можно уловить о Нем.
Во-первых, один образ. Это до некоторой степени переработка древней аналогии, древней притчи. Если попытаться представить себе или передать кому-то взаимоотношения Лиц Святой Троицы, Их особенности, можно обратиться к древнему образу из Священного Писания, образу горящей купины, увиденной Моисеем в пустыне (Исх 3:2): куст, который горел, не сгорая. Таинственное, непредставимое свойство этого несгорающего пламенения мы можем наблюдать косвенным образом. Когда Моисей оказался перед лицом этого горящего куста, он не уловил горение, он уловил пламя и тепло. Само горение не укладывается в рамки того, что доступно нашему познанию, нашему восприятию, — горение можно видеть, тепло можно ощутить, постольку поскольку мы охвачены им, разделяем его. В подобных образах можно говорить о тайне Бога в терминах горящей купины, куста, который горит и непостижимо, невероятно для нас — не сгорает. И вместе с тем это горение мы постигаем через языки пламени и тепло, которое становится частью нас самих, или, вернее сказать, частью которых мы сами становимся. В чем разница между этим теплом и этим пламенем? Пламя — объективное явление, часть зримого опыта. Оно говорит о чем-то, но остается для нас внешним явлением. Можно представить это так: можно стоять перед горящим камином, видеть, как горит в нем полено, не понимая сути горения, но воспринимая его через пламя. В этот момент мы воспринимаем одновременно горение, пламя, тепло. Но можно оказаться на улице, смотреть в чье-то окно, видеть языки пламени и ничего не ощущать, кроме окружающего нас холода. То, что мы видим пламя, объективно утверждает, что оно есть, но ничего не сообщает нам о самом пламени. Если бы я из опыта не знал, что пламя означает горение и тепло, я, стоя снаружи, на улице, вполне имел бы право утверждать, что пламя не греет. Это утверждение неполно, если не прибавить к нему еще нечто.
Не это ли имеет в виду Писание, когда говорит нам, что Дух открывает нам, Кто есть Иисус (Ин 15:26). Его природа, Его Личность поистине отвечает на вопрос «Кто?». Только когда мы ощутили тепло, мы можем уловить связь пламени с горением, но если мы опытно не ощутили тепло, иными словами, если Дух Святой не коснулся нас, мы можем все знать о пламени и тем не менее высказывать ошибочные, кощунственные суждения. Опять-таки не об этом ли говорит Писание словами Самого Христа, что всякая хула на Христа простится, потому что Он есть «да», «Аминь», Он — утверждение, положительный факт вне нас самих, Он — объективное утверждение Бога в истории. А грех против Духа не может быть прощен (Мк 3:29).
Как же тогда понимать, Кто есть Дух Святой и что такое грех против Него? И здесь я хочу подчеркнуть, что то, что я собираюсь сейчас изложить, — это одна из многих и различных догадок, которые были высказаны относительно греха против Духа Святого. Если образы, которые я привел, убедительны, то вы поймете и согласитесь, что неуловимое, не поддающееся никакому нашему анализу тепло, льющееся из горящего куста, может быть познано только опытным ощущением, но если только мы его ощутили, его невозможно отрицать. А если оно отрицается, то этому отрицанию может быть два основания: или человек безумен и утверждает, что замерзает, хотя охвачен теплом, или по каким-то собственным причинам — а причины могут быть самые различные — готов отрицать собственный опыт, отрицать то, что совершенно определенно сам знает как истину. И это можно исправить только той переменой ума, которая называется покаянием, обращением, метанойа по-гречески, — изменение ума, готовность правдиво сказать о том, что нам известно как истинное, отречься от собственного внутреннего отвержения истины. Эти же образы, возможно, могут помочь, чтобы не то что углубиться, но хотя бы сколько-то вглядеться в другой, более сложный вопрос об исхождении Святого Духа.
Я изложу его, как и все, что говорил до сих пор, очень примитивно. Тепло рождается не от пламени, а от того, что горит полено. Тепло исходит из того же источника, что и пламя. Благодаря тому, что есть горящий куст, есть и пламя, и тепло. Одно происхождение, один, единый и единственный источник.
Опять-таки, если эти образы по-своему приемлемы, нам делается понятно, что природу пламени мы познаем только через то, что ощущаем тепло. Только Святой Дух может открыть нам, Кто есть «Да» и «Аминь», зримое проявление Отца в истории. И таково первое действие и свойство Святого Духа. Он есть Дух Истины. Он открывает нам истину о Боге и истину о человеке. Он открывает нам в пророке из Галилеи воплощенного Сына Божия. Он открывает нам значение всех Его слов, Его Слова. Он есть Дух Истины и ведет нас ко всякой истине. И я употребил слово «ведет к» не напрасно, потому что истина — не что-то, что установлено раз и навсегда. Это не утверждение, не система верований, не мировоззрение. Это живая, динамичная реальность. Истина — не что-то, Истина — Кто-то: Я есмь Истина (Ин 14:6). И потому, открывая нам Христа во всей полноте, во всем Его содержании, во всем, что Христос Сам открывает нам как Слово, являющее глубины Божества, как Сын, являющий тайну Отцовства, Святой Дух шаг за шагом ведет нас не к новым истинам, а во все новые глубины, ко все большему видению Того, Кто есть Истина.
Святой Дух также открывает нам глубины человека. Он открывает нам и связь, которая есть между нами и Богом. Он исследует глубины человека. Он открывает нам ту глубину, которая глубже психологической области, нашу укорененность в творческом Слове Божием, нашу укорененность в животворном Слове Божием. Он учит нас также совершенно новым отношениям с Богом. Вне отношений со Святым Духом, вне доверительных отношений через Него с Единородным Сыном Божиим мы могли бы говорить о Боге как о Творце, о Вседержителе, Господе и Судии, как о Промыслителе, может быть, как о Спасителе. Но мы не могли бы назвать Его Отцом иначе как чисто метафорически, без реального онтологического взаимоотношения между Ним и нами, без сущностной связи. Это был бы образ, а не глубоко подлинное взаимоотношение. Но поскольку мы связаны со Христом, как связаны члены одного тела, поскольку Дух Божий, почивший на Христе, пронизывает это тело дарами Святого Духа (Ин 20:22; Деян 2:1—4), постольку тем самым Христос — брат нам, мы единосущны Ему. И это Его собственные слова:
Идите и скажите братьям Моим, что они встретят Меня в Галилее (Мк 16:7). В этом братстве со Христом мы открываем зачаточным образом, смутно, что такое сыновство и чем может быть отцовство — не в эмпирической жизни нашего надломленного, полного разделения мира; мы открываем в Нем, что значит быть сыном, и через Него мы можем зачаточно, гадательно представить себе, что означает иметь Отца и Кто, Каков может быть этот Отец. В тот момент, когда мы перестаем употреблять такие слова, как «Господь Вседержитель», «Господь Бог», «Бог Судия», и бываем способны хотя бы зачаточно произнести «Отец», мы можем сказать, что нашей молитвы коснулось веяние Святого Духа. Иначе как силой и действием Святого Духа, через откровение, даруемое действием Святого Духа, мы не можем обратиться со словом «Отец» к Тому, Кто есть Святой Израилев
[124].
И наконец, как я уже упоминал, приход Святого Духа, то, что Он нам открывает, зачаток всего этого совершается в этом мире, но ведет нас к полноте, которая будет явлена в будущем мире, в Царстве Божием, в жизни вечной. У Святого Духа есть свойство, элемент чисто эсхатологический, принадлежащий исключительно последним вещам, конечному свершению всего. Только когда все будет завершено, все человечество станет в своей славе откровением пребывающего в нем Святого Духа, Который приобщает человечество Божеству, превращает весь мир в место вселения Бога. Но и в наше время Дух Святой действует в Церкви двояким образом, и об этом я хочу коротко сказать: действует в эсхатологическом измерении и в делании христианина.
Первое принадлежит области литургической. Всякий раз при совершении таинств, в частности таинства Евхаристии, Православная Церковь призывает Святого Духа, молит Его прийти и осенить и собравшуюся общину, и приготовленные дары. Это не просто своеобразный способ совершить та{'}инственное действие, как бы самый лучший способ освятить Святые Дары. Суть эпиклеза, обращения к Святому Духу, чтобы Он сошел на нас и на приготовленные дары, в том, что то, что должно совершиться — чтобы хлеб и вино могли стать Телом и Кровью Христовыми, приобщиться Божеству, — принадлежит будущему веку. Это может совершиться только потому, что Дух Божий, дарованный Церкви, пребывающий в ней, действующий в ней державной силой и могуществом Божиим, вводит в историческое время измерение и качество последних свершений, исполнения всего. Иначе это не могло бы совершиться в нашем историческом времени, в нашем состоянии становления. Это вторжение вечности, это расширение нынешнего состояния вещей в то, каким оно будет, когда все достигнет полноты, — вот непременное условие совершения таинства. И это становится совершенно ясно (хотя звучит нелепо с грамматической точки зрения) из молитвы в Литургии, где мы благодарим Бога, даровавшего нам
сегодня Его
грядущее Царство
[125].
И второе. Святой Дух в Своем эсхатологическом измерении вещей конечных определяет также, каково должно быть действие христианина, христианское действование. Неповторимая, отличительная особенность христианского действования в том, что оно — действие Божие, осуществляемое через человека, будь то отдельный человек или община людей. Христианское действие — это действие Бога, исполненное, совершенное посредством человека. И ему присуще, как всем действиям Божиим, эсхатологическое измерение последних свершений. Человеческая мудрость, умудренность собирает из прошлого человеческого опыта все возможные ответы и включает их в настоящее с тем, чтобы разрешить проблемы сегодняшнего дня, и проецирует их на будущее, планируя будущие свершения. Божественная Мудрость, мне кажется, не определяется такой причинностью, действие каждого настоящего момента не обусловлено ни настоящим, ни прошлым, всегда только будущим. Бог действует ради чего-то, а не из-за чего-то. В Божественном действии всегда есть нечто беспрецедентное, неожиданное, что вносит в ситуацию абсолютную новизну. Пример такого действия Святого Духа, принадлежащего истории, — Воплощение. Воплощение — не только ответ на прошлое человечества и на его состояние текущего момента, когда оно произошло, когда все созрело к этому событию. Воплощение — действие Божие, которое вводит в историческую ситуацию нечто, чего прежде не было в ней. Живой Бог становится частью, частицей человеческой истории, становления человека. И одновременно человечество так соединяется с Богом, настолько включено в тайну Божию, что в Вознесении наше человечество унесено в сердцевину тайны Святой Троицы. Здесь можно видеть, как Святой Дух, осенивший Матерь Божию, осуществил действие Божие, в котором Пресвятая Дева полноправно участвует Своим Се Раба Господня, да будет Мне по слову твоему (Лк 1:38) и вводит в историю нечто небывшее, новый образ Присутствия Божия.
Ответы на вопросы
Вы упомянули место у Иоанна Богослова, что Духа еще не было на земле, потому что Христос еще не взошел к Отцу. Как это понимать, если только Святой Дух — источник жизни, всего?
Не было времени, когда Святого Духа просто не было в мире. В противном случае никогда не произошла бы никакая встреча между Богом и Его тварью. Если «Бог» был бы просто объективным понятием, недоступным Своему творению, не вызывающим у твари никакого отклика, то могло бы быть объективное знание мертвого божества, но не Живого Бога. Но древние комментаторы считали, что когда Писание нам говорит, что Духа еще не было, потому что Христос еще не восшел к Отцу, то оно говорит о том, что Дух присутствовал, осенял мир, творимый Богом, Дух привлекал людей, руководил ими, но как бы извне, стучась будто снаружи у дверей, призывая извне, ожидая, чтобы человек отозвался, потому что человек был создан таким, что он способен понять этот призыв и отозваться.
Разница между тем, что произошло в Церкви в этот определенный день и в день Пятидесятницы, в том, что отношение между Духом и Церковью, Духом и каждым отдельным членом Церкви — возьмем хотя бы апостолов — было реальное вселение, Дух был в них, Дух был связан с ними. Опять-таки, если взять образ, который предлагают отцы: как огонь может пронизать железо. Это не было внешнее воздействие, голос как бы извне, это было внутреннее Присутствие, неведомое прочим в таком виде, в таком смысле. Я не думаю, что может быть адекватное учение о Святом Духе, пока все не достигнет своей полноты и пока все человечество в лице каждого его члена не просияет Духом, не станет Его отражением, видением.
Все-таки слова о том, что грех против Святого Духа не простится, очень страшны. Порой сознаешь в себе не просто грехи, а греховность, гордость, бунт почти люциферов, злую волю. Где грань, после которой мы отрезаны?
Когда люди сокрушенно говорят мне, что им кажется, что главный их грех — гордость, я обычно отвечаю: «Не волнуйтесь. Вы слишком мелки для гордости. Это просто тщеславие». Мне думается, когда вы говорите о люциферианском бунте, вы говорите о том, на что вы неспособны. Мне кажется, бунт, о котором вы говорите, — не просто своеволие, как бы капризность ребенка, который не хочет делать то, что следует. Восстание, которое могло бы отсечь нас от Бога, — не просто акт своеволия. Это намеренное, продуманное действие, решение, и не просто выбор по минутному настроению, а решительный выбор против Бога.
Писание говорит нам, что не мерою дает Бог Духа (Ин 3:34), что означает: дает Его Весь — каждому, кто готов принять Его. Есть, однако, древнее присловье, которое дополняет эти слова и говорит, что, как ни печально, но мы принимаем Его в свою меру. То есть соответственно широте и глубине своего сердца, своего великодушия, своей способности отдаваться как можно более совершенно, быть до конца верными, мы получаем больше, чем если мы колеблемся волей, сомневаемся. Предлагается все, абсолютно все, мы можем взять столько, сколько способно вместить наше сердце. Можно сказать, что Дух Святой пребывает в полноте в Церкви и каждый из нас причастен Святому Духу в той мере, в какой способен воспринять Его и понести. И я бы добавил, что это не неизменное состояние, бывают моменты, когда добрую волю сменяет злая воля. Но Бог никогда не оставляет нас, разве что мы прямо скажем: «Уйди! Я выбрал другую сторону!».
Но даже и тогда Он не просто отойдет с безразличием. Он будет стучаться в двери вашего сердца воспоминаниями о Себе, порывами вашего сердца, Своим голосом, всем, что ведет к Нему, потому что мы сотворены такими, что способны отозваться; Он будет стучаться через обстоятельства жизни, через людей. Я бы сказал, что к каждому из нас можно отнести фразу из «Пастыря» Ерма, который описывает свои видения, где его ангел-хранитель (его он и называет Пастырем) дает ему наставления. И в одном месте ангел говорит ему: «Не бойся, Ерм, не оставит тебя Бог, пока не сокрушит либо сердце твое, либо кости твои»
[126].
Мой вопрос, если коротко сформулировать: что произошло во время сошествия Святого Духа в Пятидесятницу?
Что произошло в день Пятидесятницы… Я могу только дать один пример, который мне что-то подсказывает в этом направлении; не знаю, что вам ответить более толково. Но я встретил человека, который был неверующий, который уверовал во Христа очень серьезно, очень глубинно, очень решительно. Он стал жить, сколько умел, по обстоятельствам, согласно тому, что он понимал в учении Христа, но у него как бы не хватало чего-то. Он чувствовал, что он не в состоянии любить людей. Бога он может любить — он Его любил из всей благодарности за то, что Бог ему открылся. Но людей он не мог любить. И он мне рассказывал, что как-то (странные обстоятельства!) он ехал на автобусе и говорил: Господи! Как я могу научиться любить людей Твоей любовью? не так чтобы любить тех, кто мне любится, и оставлять в стороне других?.. И вдруг он почувствовал, что в него как бы вещественно влилась новая жизнь и что он вдруг открылся любви. И в этот момент он вдруг стал любить все твари.
Предел этого можно найти, например, в писаниях святого Исаака Сирина, который говорит, что милующее сердце любит и жалеет всех: не только людей, не только грешников, но и животных, и гадов, и даже бесов не может не любить и не жалеть. Вот это открылось ему в этот момент.
И мне кажется, что во время Пятидесятницы случилось нечто в этом роде: в какой-то момент апостолы, потому что они так всецело соединились со Христом, потому что так всецело Его приняли как своего Учителя, начали жить Его учением и Им. После сорока дней подготовки, которую Христос проводил с ними до Вознесения, и десяти дней, когда они молились и размышляли, апостолы вдруг оказались готовыми принять это вдохновение Духа Святого. Я не могу это объяснить иначе или лучше.
Часть II. В доме Божием
Вечерня и утреня
Молитва может родиться из живого порыва нашего сердца, выражая охватившие нас сейчас чувства, или из состояний, свойственных нам постоянно как основа нашего существа. Это могут быть наши собственные, спонтанные молитвы или молитвы святых, с которыми нас связывает общая молитвенная жизнь. Если вы возьмете утренние или вечерние молитвы православной Церкви, вы увидите, что многие из них надписаны именем того или другого святого. Мы призваны читать эти молитвы, вдумываться в них, приобщаться собственным чувством, опытом, мыслью тем чувствам, тому опыту, тем мыслям, которые выражены в них. Но все мы знаем по опыту, как редко мы можем полностью слиться со словами, и мыслями, и чувствами этих святых. И это не удивительно, потому что если посмотреть, как на протяжении времени эти молитвы рождались в душе людей, прорывались в их жизни, выражая все их знание Бога, весь их опыт Бога, мы поймем, что каждый святой пользовался той или другой молитвой, и совокупность молитв, предлагаемых нам в качестве утреннего или вечернего правила, — это совокупный молитвенный опыт всей Церкви. Поэтому не удивительно, что каждый из нас, греховный, неопытный, еще младенец в духовной жизни (каков бы ни был наш возраст), не способен приобщиться до конца всему этому богатству.
Есть, однако, способ, чтобы мы могли пользоваться этими молитвами, пользоваться ими с полной честностью, и пользоваться ими для того, чтобы внутренне расти, возрастать в спасении. Я вам дам образ, который, разумеется, много ниже того, о чем мы говорим, но может пояснить, что я имею в виду.
Во-первых, если посмотреть на эти молитвы, вы увидите, что они начинаются со слов, которые мы произносим легко, потому что мы привыкли к ним и не чувствуем, какую ответственность берем на себя, насколько ответственно наше положение, когда мы произносим их. Это слова «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Они означают, что все, что мы теперь будем делать, все молитвы, которые мы будем читать, все наши мысли, все чувства нашего сердца — все будет совершаться во имя Божие, не в наше, ради Бога, не ради нас самих. Когда мы воздаем славу Богу, когда стараемся научиться жить в Духе, мы должны делать все это из любви и благоговейного поклонения Богу. Разумеется, в процессе этого делания мы станем ближе нашему Спасителю и Господу, но это должно произойти из чувства благоговейного поклонения, а не быть отношением просителя, который подходит к своему хозяину или господину с множеством прошений, так прекрасно выраженных на протяжении столетий Его святыми. В этом должна быть большая трезвость и вместе с тем полная открытость сердца.
В одном из старых исповеданий веры лютеранской церкви первая часть вся посвящена Богу. А затем все остальное — все учение о молитве, о христианской жизни, о том, как должно жить христианину, озаглавлено так замечательно: «О благодарности». Потому что если мы поняли, Кто такой Бог, что Он такое, все становится не обязанностью, не «долгом» в обычном смысле слова — все является делом благодарности. Абсолютный центр всего — Бог, и потому мы должны быть абсолютно трезвы, и вместе с тем наше сердце должно быть безраздельно устремлено к Богу, и наше поведение должно соответствовать тому, что мы знаем о Боге.
И еще, помимо этого основоположного отношения к Богу и к нашей собственной молитве, мы вступаем во взаимоотношение со святыми, которые произнесли эти молитвы прежде нас и лучше, чем мы умеем, от своего имени и, можно сказать, от имени всего человечества. Как я уже говорил, мы едва ли можем рассчитывать, что усвоим себе все чувства, все мысли, весь опыт святых прошлого. Как же в таком случае можем мы пользоваться этими молитвами, оставаясь правдивыми? Как можем мы пользоваться этими молитвами по всей правде и тем не менее сознавая, что мы касаемся всего лишь края их ризы, разделяем малую часть их опыта?
Вот здесь-то я и хочу провести некую параллель. Все мы были детьми; и бывало, что нас отсылали из общества взрослых, либо потому что было позднее время и нам пора было спать, либо потому что мы были, мягко говоря, лишние. И, думаю, многие из нас — если не все — исхитрялись (из-под дивана, из-за прикрытой двери, или у отрытого окна в саду, или еще какой-то уловкой) послушать, о чем же говорят взрослые, когда нас нет. И я уверен, что многие разделяют опыт, который знаком мне и другим: поначалу мы слышим, что взрослые говорят о чем-то совершенно непонятном, нелепом, пустом. Затем время от времени кто-то расскажет случай или скажет что-то вполне понятное, осмысленное. Взрослый разговор становится доступным пониманию ребенка, и мы думаем: да, конечно, так и есть! А потом снова сказано что-то, что нас озадачивает, — оно не вовсе бессмысленно, но не вполне понятно. И мы думаем: да, в этом что-то есть.
Нельзя ли применять этот же принцип, когда мы читаем молитвы святых? Святые — взрослые члены Царства Божия. Они говорят с Богом из зрелого опыта, они употребляют слова, которые порой выражают этот опыт с кристальной ясностью. Их мысли и чувства далеко превосходят наше понимание, потому что мы еще незрелые, мы младенцы не в том смысле, в каком Христос зовет нас быть детьми (Мф 18:3), а в том отношении, что мы еще не достигли зрелости. По слову апостола Павла, нас надо питать молоком, твердая пища еще не для нас (1 Кор 3:2). Если понять это, мы вполне могли бы читать каждую из этих молитв со вниманием, читать ее с интересом, читать с полным участием то, что уже в наш уровень, что уже нам понятно. А затем честно отключиться и, сказав фразу или несколько строк, остановиться и обратиться к Богу со словами: «Господи, я не понимаю, как мог Василий — или Иоанн, Марк или кто еще — сказать так. Я этого не познал на опыте. Я это понимаю вот так, но не ошибаюсь ли я? Если мое понимание замутнено, потому что во мне есть зло, очисти меня! Если все дело в том, что я еще не дорос, слишком мал, чтобы понять всю глубину и простор их мысли, дай мне время вырасти!».
Если поступать так, то мы могли бы быть совершенно честны в своей молитве. Нам не нужно было бы вести себя перед Богом так, будто мы произносим эти молитвы из глубин нашего сердца, нашего ума. Мы могли бы признать перед Богом, насколько мы не в уровень этих молитв, и наши отношения были бы совершенно правдивы. Мы приносили бы Богу то, что можем, как это выразили великие святые, и честно признавали бы, где мы находимся по отношению к их опыту.
И потом мы могли бы сделать следующий шаг, который мне кажется ценным. Когда мы поняли, как таинственны души эти святых, насколько они превосходят нас, мы могли бы, прежде чем читать какую-либо из молитв, надписанных именем того или другого святого, сказать: «Святой Иоанн Златоуст, святой Василий, святой Симеон, святой Марк! Я сейчас буду читать слова, которые выразили твой опыт Бога, может быть, мгновенный, может быть, долговременный, твой собственный опыт себя самого и жизни. Помолись о мне! Принеси эту твою молитву Богу. Помолись о мне, чтобы я мог понять больше, чем понимал вчера и раньше, помолись, чтобы эти слова стали истиной в моем опыте и в моей жизни, чтобы я был правдив по отношению к тем словам, которые произношу».
Если бы мы исполняли те три вещи, о которых я упомянул, если бы мы становились на молитву в собственное Божие имя, в акте благодарности, благоговейного поклонения, неизглаголанной радости о том, что нам так многое известно о Боге и что мы можем сейчас обратиться к Нему, если бы мы обращались к святым, которые выковали эти молитвы, и просили их помощи и поддержки в молитве, просили просветить нас, если бы мы честно стояли перед этими молитвами и точно знали, где мы стоим, мы были бы совершенно честны и могли бы двигаться дальше в более глубокие, подлинные отношения со святыми и с Богом, и знать, где мы и кто мы такие.
Это один род молитвы, один способ молиться. Он наиболее подходит, когда мы в одиночестве, когда у нас есть время вдуматься в слова, когда мы можем произнести несколько слов с полным убеждением, до конца слиться с ними, затем остановиться, вдуматься, осознать себя, обратиться к Богу со словами другими, чем те, что мы можем вычитать в книге, и затем продолжать дальше. Это не так легко сделать, когда молящихся несколько, когда двое или трое собраны вместе, разве что они сговорятся, что будут моменты, когда тот, кто читает, остановится, замолкнет и принесет собственную молитву, или кто-то из тех, кто молится с ним, легким движением руки остановит его, чтобы остальные могли постоять перед Богом в полной истине и тишине.
Есть, однако, еще один существенный момент. Молитвы святых не родились из теоретического знания, а из самой жизни, из жизни, основанной на Евангелии и в которой Евангелие стало живым через следование ему. И если мы хотим понять, что святые могли сказать Богу о себе и о Нем, о своем взаимоотношении с Богом, о других людях, мы должны идти тем же путем, каким шли святые, — путем верности Евангелию Христову. В прошлые годы мы говорили о Литургии. Тогда я старался дать вам уловить, что в центре Евхаристической Литургии, как и других служб, включающих та{'}инственные события, — не наша молитва. В центре — действие Божие, на которое мы отзываемся, которое происходит и развивается в контексте молитвы; но самую сердцевину Литургии, или таинства Крещения, или любого другого та{'}инственного действия составляет Божие присутствие и Божие действие, потому что, как я уже говорил раньше (и, может быть, так часто, что вам уже надоели эти мои слова), Совершитель таинства — Сам Христос. И мы становимся участниками таинства, но то, что совершается, первичнее всякого нашего действия, даже если службу совершает священник и само та{'}инственное событие совершается в какой-то момент богослужения. Богу принадлежит не только первое движение, инициатива, — на всем протяжении, от начала и до конца, Он действует.
Службы, о которых я хотел бы говорить в этом году — вечерня, утреня, если успеется, то и последование часов. Службы, которые обнимают другие таинства (и я говорю именно о чинопоследованиях, а не о богословии таинств), — все они иного рода службы. Начнем с вечерни и утрени.
Вечерня и утреня — две службы, в которых перед нами развертывается вся история Ветхого и Нового Заветов, но развертывается очень своеобразным образом. Мы привыкли встречаться с Ветхим и Новым Заветами в чтениях, когда перед нами текст, и мы читаем его критически, что-то принимаем, над чем-то задумываемся и до известной степени остаемся вне того, о чем читаем. Вот текст, а вот мы. То, как богослужение в храме представляет нам Ветхий и Новый Заветы, несколько отличается: мы одновременно и стоим перед лицом событий, и становимся участниками, частью этих событий. Можно сказать, что вечерня (поскольку я начну свои беседы с вечерни) построена как драма, как великие древнегреческие трагедии, где есть действующие лица, которые через слово и движение передают ситуацию, есть хор, который отвечает и выражает свою реакцию, вернее, подсказывает, как следует понимать происходящее и правильно на него отозваться. И, кроме того, поскольку все происходит в амфитеатре, который своей формой, окружностью охватывает всех, то присутствующие — не зрители, они связаны с местом, где все происходит, посредством хора. Такое переживание может, в лучшем случае, создать современный театр — будто ты сам проходишь через представляемое действие и выходишь из него, обогащенный новым, конкретным опытом.
Это же самое происходит во время такой службы, как вечерня. Есть окружение, материальная обстановка. Есть слова, действия и движения. Что-то происходит с освещением: в храме то светло, то темно. Слышатся мелодии и чтения, которые возглашает хор или чтец, они говорят от имени всей Церкви. И есть мы, все мы вовлечены в происходящее в той мере, в какой способны отозваться, и каждый из нас способен отозваться в большей или меньшей степени. Но наше участие имеет определенный характер. Я бы сказал, что мы участвуем в состоянии крайней уязвимости, потому что мы не сидим перед книгой, мы охвачены, драматически вовлечены в действие. Позднее мы сможем размышлять над своими чувствами, мыслями, эмоциями, реакциями, но пока событие имеет место, мы — участники драмы, мы не можем отрешиться от происходящего и стать объективными в смысле: до известной степени чуждыми, разве что мы сознательно или по небрежности выпадем из происходящего. И это очень важно, потому что в Ветхом Завете есть много такого, что мы не способны охватить умственно, но когда мы оказываемся лицом к лицу с событием, мы можем понять его, потому что сами стали его участником и частицей.
Помню, лет тридцать тому назад англиканский священник впервые попал на православную вечерню. Служба началась, как обычно, при ярко освещенном алтаре, храм был залит светом, прозвучал первый возглас, при пении предначинательного псалма (Пс 103) вышел священник и кадил народ — все это вызвало в нем душевный подъем, радость: Бог в нашей среде, Бог с нами, мы — Его люди. А затем служивший священник (то был я) ушел, и одновременно затворились двери алтаря и погас свет. И он мне говорил потом: «В тот момент я понял, что случилось при падении человека: вся слава померкла, и люди могли видеть, что есть область Божия, еще светлая, и область человеческая, погрузившаяся в полную тьму». Это дало ему новое, более глубокое понимание того, что могло случиться при падении.
Дальше я буду еще говорить о различных элементах этой драмы, но сегодня я хотел передать вам тот основной подход, который может у нас быть. Невозможно прийти на вечерню, отстоять ее, просто слушать и оценивать, насколько удовлетворительно (или неудовлетворительно) пение, или чтение, или тексты, — не в этом ее суть. Надо быть готовым рискнуть и стать уязвимым, точно так же как рискуешь, что будешь глубоко ранен, потрясен, когда идешь на представление пьесы Шекспира. Для пьесы характерно, что из ситуации, которая всегда многосложная и содержит основные черты и дополнительные случайные, необязательные черты, автор выделяет то, что абсолютно существенно, делает это как бы выпуклым, высвобождает от всего случайного и наносного, так что оно безжалостно, остро бьет нас в самое сердце. В обыденной жизни мы слышим, читаем в газетах о убийствах, ревности, жестокости, о многих подобных вещах, но читаем и отзываемся совершенно по-другому, чем отзываемся на ревность, или предательство, или ненависть, как они представлены нам у Шекспира. Вы знаете английскую литературу гораздо лучше, чем я, и прекрасно знаете, что какая-то одна черта или одно свойство выделено, подчеркнуто так, что невозможно уйти от этого, — настолько оно впечатляет.
Точно так же построены вечерня и утреня. Ветхий Завет содержит множество элементов, он очень богат, но есть поворотные моменты истории спасения, которые принадлежат равно истории человечества и истории каждой отдельной души. И эти элементы берутся, как бы выделяются, и в сочетании с другими элементами Ветхого или Нового Завета приобретают такое значение, мимо которого невозможно пройти без внимания. Их смысл больше не тонет в пространном тексте, содержание которого мы не способны распутать.
Здесь тот же принцип, как при написании иконы. Если можно, я немного скажу об этом. Икона не ставит целью передать портретное сходство, а духовный опыт. Икона не должна быть реалистичным изображением, потому что чем реалистичнее картина, тем больше в ней поверхностных, нехарактерных черт. В основе иконы — и, я думаю, тут со мной согласится и Леонид Александрович Успенский — тот же принцип, что в основе карикатуры: она выделяет самые значительные черты, оставляя в стороне все обыденное, что мы знаем из общего опыта жизни. С той разницей, разумеется, что карикатура выделяет те черты, которые делают образ забавным, нелепым, уродливым, отвратительным, тогда как икона подчеркивает те черты, которые с предельной рельефностью передают нам непосредственно частицу определенного опыта или целиком тот опыт, над которым мы еще не успели даже задуматься.
Так что когда будете думать о вечерне, с которой начнутся наши беседы, или об утрени, поставьте их в контекст такого представления об иконе. Вы не раз вглядывались в иконы: на одни смотреть приятно, но есть иконы определенно поражающие, настолько они «некрасивы», как бывают лица уродливые, но потрясающе значительные. Так что когда мы смотрим на икону и, вместо того чтобы просто (слишком упрощенно!) сказать: «Ах, какое уродство!», мы только стоим перед ней и даем тому, что в ней есть, воздействовать на нас, мы обнаружим, что нам передается нечто из ее содержания. То же самое со структурой вечерни или утрени. Я говорю не о том или другом тексте, а именно о структуре, об элементах, собранных вместе и сменяющих один другой, и ставящих нас перед лицом той или другой ситуации порой мягко, с материнской нежностью, а порой остро, жестко, грубо.
Думаю, я остановлюсь на этом, потому что дальше я хотел бы говорить о литургическом молитвенном действии. Вы бывали на Крещении, на Миропомазании, сообщающем нам дар Святого Духа, бывали на Венчании, на Соборовании больных, сами участвовали в Елеопомазании в Великую среду, участвовали молитвенно или причащались на Литургии, так что все это вам известно. Кроме того, вы мо{'}литесь, читаете молитвы святых или мо{'}литесь собственными словами, так что и это вам известно. И все вы бывали здесь при совершении вечерни и утрени. Так что все то, о чем я говорил, вы можете сопоставить с собственным опытом, с тем, что сами знаете, что сами испытывали, с теми мыслями, которые все это вызвало в вас. И я хотел бы знать вашу реакцию на то, что я говорил, — на такой подход и на то, что вы сами знаете об этом из собственного опыта.
Прежде чем прейти к описанию служб вечерни и утрени, которым будут посвящены несколько бесед, я хотел бы обратить ваше внимание на одну черту относительно этой группы служб, которую редко когда подчеркивают.
Главная тема всех трех служб — это свет: откровение света, сумерки греха, славное явление света во Христе, света среди сумерек истории, которая тем не менее течет в свете Христовом и в ожидании Его Второго пришествия и времени, когда ничего не останется, кроме блистания Божества.
Свет — тема первого откровения нам, когда начинается вечерня, открывается ярко освещенный алтарь, и сам храм сияет светом. Тьма наступает, когда появляется грех, и однако этот мрак греха не полный. Алтарь все еще сияет великолепием, потому что область Божия остается в том же сиянии и свете, как было прежде начала всего сущего, и только в корабле храма, в пространстве, где стоим мы, отделенные от Бога грехом, свет приглушен. Но даже и там свет не погас до конца: перед каждой иконой горит лампада, в храме зажжены свечи, и хотя идет борьба между светом и тьмой, свет сияет во тьме, и даже когда тьма не может вместить света, она не может погасить его. И вся история человечества после падения — не полная тьма, а сумерки, где все еще светит свет Божий, свет веры, свет святости. Моментами этот свет воссиявает с особой силой. В праздники свет становится блистательным, когда мы провозглашаем тропарь праздника и выходим возвестить присутствие Божие и Его победу тем, кто вне церкви. Свет сияет, когда мы воспеваем хвалу Божией Матери. А затем снова мы погружаемся в сумерки и полутьму, когда всматриваемся в собственную душу, потемненную грехом, например, во время шестопсалмия, в начале утрени. И затем снова нарастает свет все ярче и ярче, до момента, когда при полном блистании света в храме мы оказываемся перед чтением Евангелия. И снова наступает полутьма во время чтения канона, в котором мы вместе и воспеваем Божию победу, Его величие и близость, и также выражаем потребность, устремленность наших душ к более совершенному, более полному общению с Богом, чем то, какое нам доступно теперь. И завершается служба в конце первого часа последней молитвой снова о свете: она обращена ко Христу, Свету мира, и просим мы в ней о том, чтобы вечный свет, изливающийся от Него, достиг до нас.
В конце этих бесед о вечерне и утрени я вернусь к этой теме света, когда, рассмотрев составные части богослужения, мы сможем говорить о них без того, чтобы упоминать каждую часть отдельно в связи с этой темой света. Но важно нам понять и помнить, что вся тема службы — свет.
Это сказывается еще другим образом, может быть, не столь очевидным, как видимый, осязаемый свет свечей и других светильников, каждый раз, когда мы произносим имя Христа. Он — Свет, тихий, радостотворный, животворный свет, пришедший в мир. Эта же тема звучит всякий раз, когда мы провозглашаем славу Божию, потому что «слава» значит «свет», «сияние», «великолепие». Так что вся служба предлагает нам зрелище света и тьмы, Божественного сияния и потемнения наших душ и также, соответственно, потемнения истории мира и трагедии, которая охватила все, что было сотворено для жизни и света и что мы ввергли в сумерки и мрак.
Теперь я перехожу к самой службе. Служба начинается, когда все собрались в храме, после краткого периода молчания и покоя, когда отодвигается алтарная завеса, открываются Царские врата, и свет заливает алтарь и весь храм. В начале бесед о Литургии я объяснил, что храм как бы разделен иконостасом на две неравные части: алтарь — область Самого Бога, место святое, место Его пребывания, где нашим взорам предстает тот стол, который в православии называется Престол Божий, и сам храм, корабль храма, неф, где стоят верующие. Сюда сходит Бог, здесь Он пребывает через Свое Воплощение, но тем не менее корабль храма грехом человеческим отделен от славы области Божией. Придет время, как говорится в книге Откровения, когда не будет храма, святилища, Сам Бог будет все во всем и Бог будет Светильником и Храмом будущего века (Откр 21:23, 22:5). Но в том времени, в котором мы живем, в нас самих, и в Церкви, и в мире качествует эта разделенность. Мы тоской устремлены к утерянной или еще не достигнутой полноте. Бог сходит к нам, и мы принимаем Его, но принимаем Его в ограниченную меру, соответственно тому, насколько глубоки и широки наше сердце и наша жизнь. И таким образом с первого момента, даже когда явлена слава, даже когда свет заливает весь храм наравне с алтарем, мы сознаем, что как ни велика наша приобщенность Богу, она еще неполная, и мы чаем большего в будущем.
Первое действие священника, совершающего службу — он кадит алтарь, престол, икону на восточной стене алтаря, иконы по стенам. В русском храме, в православном храме в восточной части алтаря обычно — икона Воскресения. Затем он кадит иконы справа и слева, и это совершается в полном молчании, созерцательном, благоговейном молчании и тех, кто совершает службу, и стоящего в храме народа. Это как бы видение. Мы созерцаем область Божию, и никакое слово не может достойным образом выразить наше благоговение, может быть, любовь, во всяком случае — нашу веру и устремленность нашей души. Безмолвное движение. Есть замечательное высказывание у святого Исаака Сирина о том, что вечное занятие ангелов на Небе — танец, и, вероятно, он имеет в виду глубокое созерцательное безмолвие, в которое погружена душа, в то время как она выражает свое молитвенное поклонение движением, полным гармонии.
Когда каждение окончено, священник становится перед престолом и произносит возглас, благословение. Если вечерня служится отдельно от утрени, то произносится малое благословение: «Благословен Бог наш…» Но если служится вместе с вечерней и утреня, и, значит, перед нами раскроется и будет явлено в полноте богословие и видение света, тогда произносится другой возглас: «Слава Святей Единосущней Животворящей и Нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков». И произнося эти слова, священник, который все еще держит кадило, начертывает им знак креста, как бы вписывая в это провозглашение Бессмертной, Животворящей, Нераздельной Святой Троицы знак смерти. И на это хор, который в каждом богослужении представляет собой совокупную мысль Церкви, выражает от имени Церкви ее знание Бога, полученное через откровение и приобщенность Ему, отвечает «Аминь». «Аминь» этот означает: истинно так, мы верим тому, что было сказано, мы будем жить под знамением того, что провозглашено.
Этот знак креста, начертанный, вписанный в Имя Триединого Бога, говорит нам об одном из аспектов Божественной любви — о жертвенном ее аспекте. Он говорит о том, что открывается нам в словах Писания об Агнце, закланном прежде всех веков и всякого творения (Откр 13:8). Неотъемлемо присутствующая в вечной тайне Святой Троицы, эта любовь Божия изливается жертвенно. Бог, Которому мы поклоняемся, с первого момента, когда тварь может созерцать Его, есть Бог, отдающий Себя, отдавший Себя сотворенному Им миру в даре любви, как обетование еще большего исполнения. И ответив «Аминь» на это видение славы и красоты, приняв благоговейно эту весть о Кресте, хор начинает петь псалом, который вы так привыкли слышать, 103-й псалом. В нем дается картина тварного мира, картина, далеко не выражающая то, что было, когда творение шаг за шагом призывалось войти в бытие и встать перед лицом Божиим и перед уже существующими тварями, картина мира, который мы видим теперь, но увиденного глазами Того, Кто видит его свободным от искажения, уродства, зла, видит его не в сиянии первозданной славы, но освобожденным от потемнения, насилия, жестокости.
И в то время как поется эта песнь, этот псалом, священник, предваряемый дьяконом, выходит из алтаря Царскими вратами. Вы наверно помните, как в начале книги Бытия нам говорится, что Бог был среди созданного Им мира, Бог ходил в раю в прохладе дня (Быт 3:8) и общался с человеком, как с близким другом. Это и явлено нам зримо действием и песнопением. Священник выходит с дьяконом, кадит икону Христа над Царскими вратами, икону Спасителя и иконы святых справа, икону Божией Матери и святых слева. Потом, продолжая движение с того места, где стоит, кадит присутствующий народ точно так же, как он кадил иконы. И подобно тому, как дьякон кланяется перед каждой иконой, благоговейно склоняя перед ней свою свечу, так же священник кланяется, когда кадит народ Божий, потому что в каждом человеке Бог видит, святые видят и мы верой можем видеть образ Живого Бога. Каждый человек — икона, может быть, икона оскверненная, раненная, обезображенная, но которую Бог нежно любит и с которой мы должны обращаться почтительно и с нежностью, не несмотря на то, что она так ранена и испорчена, а может быть, именно тем почтительнее и нежнее, чем больше она потеряла красоту и отличается от того, что она поистине есть в реальности.
И затем дьякон и священник обходят храм и кадят стены храма, которые были освящены в день освящения всего храма, кадят иконы на стенах и в идеале (что легко сделать в нашем храме, потому что нас не так уж много, но что невозможно, разумеется, в храме, куда набилось несколько тысяч народа) каждого человека надо было бы кадить, как кадят икону. И таким образом дьякон и священник обходят весь храм, воздавая честь и поклонение святым, небесным человекам, и раненным и обезображенным образам Божиим, какими мы являемся и которые тем не менее — образы Живого Бога. И в конце пения псалма священник и дьякон возвращаются в алтарь, входят в него, и после того как по завершении псалма была провозглашена слава Божия, Царские врата закрываются, и свет в самом храме должен бы гаситься. В монастыре были бы погашены все свечи, и только мерцание лампад перед иконами указывало бы, что в мире, куда вошла тьма, все-таки еще остается свет.
На что же указывает этот момент? Физически, зримо, ощутимо для наших чувств — здесь момент, когда между человеком и Богом пала пелена, пришла разлука, расстояние, средостение встало через падение человека. Алтарь еще сияет светом, но сам храм уже не таков: общение прервано, врата затворились, никто из храма не может пройти в алтарь, и человечество погружено во тьму. И тут от земли к Богу восходит первый крик о милости и помощи: дьякон выходит из алтаря и начинает произносить великую ектенью.
В церковно-богослужебной символике дьякон часто ассоциируется с ангелом Божиим, с вестником Божиим. Не столько в том смысле, как мы говорим об ангелах: ангел-хранитель, архангел Михаил, архангел Гавриил, но в том смысле, что ангел — это вестник. Человечество в растерянности, каждая душа погрузилась во тьму и печаль, и тут из области Божией выходит некто, кто будет руководить нами в том единственном, что можно сделать, — воззвать к Богу, молиться Богу. И вестник, дьякон провозглашает прошения ектеньи, и некоторые ее слова могут поразить нас неожиданностью. В момент, когда люди, все потерявшие, находятся в полной растерянности, он произносит: «Миром Господу помолимся». Миром, потому что в нашей растерянности мы можем быть уверены, что есть Тот, Кто гораздо более, чем мы сами, огорчен нашим падением и озабочен нашей судьбой. «О свышнем мире и о спасении душ наших…» И следуют прошения о всех людских обстоятельствах и о всех человеческих нуждах. Вестник собирает вопль всего человечества, который может звучать так беспорядочно, так нестройно, разъединенно, приводит его в гармонию, направляет в мощный поток молитвы. И помолившись, мы, может быть, поставим себе вопрос: но что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Неужели ничего не можем?
И снова чтец и хор, которые выражают разум Церкви, просвещенной Духом и под Его водительством, предлагают нам слова первого псалма:Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых… — и далее ряд стихов, в которых указывается, что мы можем сделать, если наш крик подлинный, чем мы можем постараться стать и быть, чтобы засвидетельствовать Богу, что наше падение нам мучительно, что мы страдаем, но готовы бороться с самими собой ради того, чтобы Бог нас принял. И в заключение этих стихов, взятых из первых пяти псалмов, снова наш крик о помощи выражен дьяконом, вестником, в короткой ектенье, в которой есть, однако, одна черта, уже несущая надежду, созвучная с Божиим обетованием человеку сразу после падения, как мы видим в книге Бытия: обетование, что придет Спаситель. И это выражено в словах ектеньи о Матери Божией: «Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш (жизнь нашу) Христу Богу предадим».
И снова новое наставление и новая надежда. Здесь начинается пение ряда псалмов, от которых у нас остались только отдельные стихи: «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя! Услыши мя, Господи! Приклони ко мне ухо Твое! Вонми гласу моления моего!». Это псалом устремленности, это крик земли, крик сынов света из сумерек и мрака падшего мира, крик того, что осталось в нас светлого, из среды охватившей нас тьмы. И опять-таки две вещи происходят, которые являются знаками надежды: священник выходит и кадит иконы в иконостасе, весь народ, иконы по стенам храма, всех молящихся в храме. Он проходит не Царскими вратами, вратами славы. Он выходит из двери слева, на которой всегда изображается архангел Гавриил, архангел Благовещения, архангел обетования, архангел прихода Божия. Священник выходит как бы вестником, удостоверяя нас, что все это действительно так. И он кадит нас, падших детей Божиих, как он кадил нас, когда мы та{'}инственно изображали первозданное, еще не падшее человечество: даже в нашем падении мы сохраняем образ Божиим.
И еще другой знак надежды в том, что псаломские стихи не читаются, не поются сами по себе. Они перемежаются стихирами, которые все относятся к событиям Нового Завета. В случае праздника они относятся непосредственно к данному празднику. Под воскресный день они относятся к Воскресению Христову. В день памяти святого они относятся к празднуемому святому, но в любом случае они относятся к личности или к событию, которые говорят о победе жизни над смертью, победе света над тьмой, победе добра над злом, победе Божией в нас и за нас. И пока звучат в наш слух эти стихи, как крик потерявшегося человечества, нам снова и снова говорится: не отчаивайся, Воскресение пришло; не отчаивайся, святые сияют во тьме, и что было возможно для одних, возможно и другим, и то, что потенциально возможно, станет реальностью для всех нас.
С этим дьякон обходит и кадит весь храм, и несет эту весть надежды, с благоговением обращаясь к тем, кто пал, а Церковь тем временем воспевает уверенность грядущей победы, потому что победа уже одержана, уже здесь. Как Агнец Божий был заклан прежде всех веков, так Он есть Агнец Божий, торжествующий через все века и навеки. То, что мы видели в начале как славу Божию и вписанный в нее Крест, теперь провозглашается действительно как реальность, хотя в каком-то отношении оно все еще остается событием, которого мы ожидаем и которое еще впереди. И затем дьякон возвращается к иконостасу и входит обратно в область Божию той дверью, на которой мы видим грозное изображение архангела Михаила. Он преграждает вход в область света любому, кто пришел бы из области тьмы, через эту дверь может вернуться в область света только тот, кто из нее ранее вышел.
В завершение этого сочетания стихов и стихир провозглашается слава Божия. И в момент, когда провозглашается слава Божия, Царские врата открываются, и нам дается взглянуть в область Божию, к которой мы больше не принадлежим, но куда мы призваны. И в этот момент хор поетдогматик, песнопение в честь Матери Божией, посвященное всегда, в частности, Воплощению, потому что исполнение всех наших надежд, всех обетований Божиих, всех наших устремлений — это приход Господа, а еще прежде того — рождение Той, Которая Своей совершенной верой, Своей полной отдачей Богу и Своей святостью делает возможным Воплощение. Вслед за прислужником со свечой, светильником, идет священник с кадилом, и происходит то, что называется малый вход, и через это песнопение в честь Божией Матери нам обещано рождение Христа.
Скажу попутно несколько слов о пении в церкви. Как я уже говорил, хор всегда выражает то, что хочет сказать Церковь в целом. Если провести очень тонкое различие, можно почти что сказать, что когда чтец читает псалмы или какой-либо длинный текст, он говорит от лица данной общины, почти как бы в отличие от всей Церкви. Тут говорит не Церковь с большой буквы, а конкретная церковь, то есть я хочу сказать — конкретные люди во всей их хрупкости, в их греховности и в их устремленности к Богу. Чтение идет не от имени святых Божиих людей или ангелов, а от имени нас, «грешных и недостойных», как говорится в молитвослове.
Кроме того, бывает — у нас в храме это бывает редко, но часто практикуется в больших, битком набитых храмах, — что чтец произносит строку, и хор повторяет ее же. Это идет с того времени, когда певцы были не очень-то грамотными, да и книг было очень немного. Знаете, в XIIIили в XV веке в монастыре была, возможно, одна-единственная книга, и чтец становился канонархом, произносил первую строчку, хор ее повторял и так далее. Это также очень полезно, когда мелодия очень сложная, — бывает, что за мелодией люди, стоящие в церкви, теряют весь смысл, содержание песнопения. Тогда как если они слышат сначала стих, произнесенный чтецом: «О, преславного чудесе!», который потом поет хор, то они расслышали слова, и потом музыка уносит их на другом уровне, потом снова произносится ясно стих и так далее. Так что есть практическое преимущество. Преимущество еще в том, и почему я люблю такую практику: я очень медлительный умом, и когда я слышу слова дважды, сначала прочитанные, затем в пении, это дает мне возможность понять слова. Тогда как если они только пропеты, да еще так, что мелодия порой скрывает слова, мне это трудно. Скажем, на Афоне, в Пантелеимоновом монастыре, пение архангельского приветствия «Богородице Дево, радуйся!» длится двадцать минут. Неужели кто-то способен понять, какое слово поется в данный момент, если двадцать или около того слов этого текста растянуты на двадцать минут сложнейшей мелодии! Но если сначала прочесть, потом петь, вы это воспринимаете и можете жить этим все то время, пока музыка уносит вас.
Вы наверно помните, что я говорил, что по окончании вечерни в субботу или в праздничный день, согласно русской традиции, о которой я говорю, начинается утреня. Если взять утреню как самостоятельную службу (она такая и есть), вы увидите, что она начинается с краткого введения, которое опускается, когда утреня служится непосредственно вслед за вечерней. Эта часть состоит из благословения, начальных молитв и двух псалмов, говорящих о Боге как о Царе. В византийском обиходе считалось, что эти псалмы говорят о царственном достоинстве византийского императора, во время их чтения император входил в храм и занимал свое место. По окончании псалмов произносилась краткая ектенья, молились о патриархе, об императоре, о всей стране, и после этого начиналась сама утреня. Эта часть опускается, когда утреня служится вслед за вечерней, и нет оснований совершать ее теперь, когда мало вероятно, что во время чтения этих псалмов в храм войдет византийский император.
Так что в конце вечерни, сразу после теплого песнопения, прославляющего Матерь Божию, и отпуста церковь погружается в темноту, и нам предлагается период, когда мы можем задуматься над собой, над великими делами Божиими, над всем, что случилось перед нашими собственными глазами на протяжении предыдущей службы. И читаются шесть псалмов, и если мы читаем их внимательно, мы видим в них размышление над самими собой и над нашим падшим состоянием, но уже не с отчаянным криком о помощи, который звучал в начале службы, а в контексте того, что мы уже знаем — что было дано обещание, и это обещание было исполнено: Бог совершил то, что обещал, и хотя мы молимся и мучительно переживаем, каковы мы, в стыде, в благоговейном ужасе, но уже в свете нового знания, уверенности, радости. Перечитайте их сами, потому что сейчас слишком долго было бы нам пройти по всему тексту, и вы увидите, что некоторые псалмы выражают именно такое отношение. В других ударение ставится на то, что совершил Бог, на Его деле спасения, это псалмы надежды и радости. Наше сердечное сокрушение не есть отчаяние мира, который потерял Бога и так часто погружен в холод обезбоженной вселенной, сокрушение нашего сердца — отношение сыновей, дочерей Божиих, которым стыдно за свое состояние, свое бедственное положение, они сознают своей грех, который в конечном итоге означает отделенность от Бога, разделенность, отпадение от того, что есть в нас самое глубокое и святое, разделенность и отлученность от нашего ближнего, но все это — на фоне надежды и уже исполнившегося обетования.
Эти псалмы — долгое, спокойное размышление, и Устав говорит, что во время их чтения мы должны стоять в глубокой тишине, в благоговении, сложив руки на груди, склонив голову, ни единым словом, ни движением не отвлекая рядом стоящих, погрузившись как можно глубже в размышление или давая словам молитвы унести нас как можно глубже. Но когда это размышление окончено, провозглашается нечто столь славное, что одновременно является и противопоставлением этому глубокому, спокойному размышлению, и исполнением его, потому что, как я уже говорил, это размышление проходит на фоне исполнившегося обетования, а не в обездоленности потерянного рая. (За шестопсалмием следует — или должна следовать — великая ектенья. Она читается, когда утреня служится как самостоятельная служба, ее можно опустить, когда утреня следует за вечерней, поскольку с этой же ектеньи начинается, как почти любое наше богослужение, вечерня.) Возглашаются стихи: «Бог Господь и явися нам. Благословен Грядый во имя Господне. Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его». И хор повторяет эти слова, выражая тем самым уверенность, что эти слова, провозглашенные из алтаря, — это вера, и опыт, и знание Церкви. И следующий стих: «Обышедше обыдоша мя, и именем Господним противляхся им». И снова: «Бог Господь и явися нам…» «Не умру, но жив буду, и повем дела Господня». «Бог Господь и явися нам…» «Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бысть во главе угла; от Господа бысть сей, и есть дивен во очесех наших». И, подхватывая эту тему победы Божией, откровения Божия во Христе Иисусе, хор поет тропарь — или воскресный, или праздника, или святого, провозглашая, как бы вписывая в историю, в течение данного исторического дня величайшую весть, которая звучит от века и которой будет исполнена вечность: «Бог — Господь, и Господь — Бог». И в завершение — песнь в честь Божией Матери, Богородичен, он напоминает нам о Божией Матери, Которая стоит на пороге всех этих обетований, у врат небесных. Она — Вратарница, Она открывает дверь приходу Господа Своей совершенной верой, Своей совершенной отданностью Богу.
И затем начинается провозглашение славы и радости, которое наполняет всю церковь. Уже во время пения стихов «Бог Господь и явися нам» постепенно зажигаются все светильники в храме, и после пения тропарей и Богородична начинается часть службы под названием полиелей.Полиелей — момент, когда горят все огни, вся церковь залита светом, Царские врата открыты и по всему храму будет совершено каждение, как в самом начале, до символического изображения грехопадения, но теперь уже в новой радости, в новой славе. В начале мы созерцали этот мир, каким он возник в своей первозданной чистоте, в хрупкой невинности. Теперь мы провозглашаем победу Божию над грехом, победу Божию над злом, победу, одержанную Богом ради нас. Это уже зрелость мира, который опытно познал грехопадение и искуплен, спасен.
И поется псалом 134-й или отдельные стихи этого псалма: «Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа. Благословен Господь от Сиона… Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век имя Его… Исповедайтеся Богу Небесному…» — и дальше продолжение этого псалма, более или менее полно, в зависимости от того, идет ли служба в монастыре, или в нерадивом приходе, или в более динамичной среде, или где регент, может быть, доносит до нас свою духовную энергию. Если есть праздник, то вместо того чтобы сразу обходить храм с каждением, духовенство выходит на середину, где стоит аналой. По общепринятому обычаю, на аналое уже лежит икона праздника, и к ней мы идем под это хвалебное пение, духовенство останавливается перед иконой и кадит ее. По Уставу, все должно происходить более торжественно. Аналой должен бы оставаться пустым до этого момента, и икона выносилась бы торжественно с престола, в предшествии свещеносцев, дьякона или священника с кадилом, и помещалась на аналой, знаменуя реальное, конкретное наступление праздника в среде данной конкретной общины, вторжение праздника, вторжение события, ознаменованного иконой, как бы содержимого иконой. Как бы то ни было, если речь идет не просто о воскресном дне, а о каком-то празднике, после хвалебного псалма поется особое величание, во время которого кадят икону, помещенную на аналое. И затем, в то время как это величание повторяется снова и снова, священник обходит и кадит всю церковь. И когда я говорю «церковь», то, как вы помните по началу вечерни, церковь — не только стены и иконы на них, это и стены, и иконы, и народ — все они вместе составляют Церковь Божию, живую Церковь Божию.
В воскресный день особого величания не бывает, и каждение совершается во время пения тропарей, говорящих о Воскресении, со стихом: «Благословен еси Господи, научи мя оправданиям Твоим», «Ангельский собор удивися, зря Тебе в мертвых вменившася, смертную же, Спасе, крепость разоривша, и с Собою Адама воздвигша, и от ада вся свобождша». «Почто миро с милостивными слезами, о ученицы, растворяете; блистаяйся во гробе ангел мироносицам вещаше: видите вы гроб и уразумейте, Спас бо воскресе от гроба» — и далее песнопения, которые провозглашают Воскресение Христово.
После тропарей следует малая ектенья, и мы доходим до того, что называется антифонами, или степенными. Это ряд стихов, взятых из Ветхого Завета или составленных позднее, которые соответствуют восьми гласам, употребляемым в православной Церкви. Если у нас останется время в конце этого года, я хотел бы взять эти антифоны и показать вам, как в них выражается целое учение о духовой жизни, но сейчас было бы слишком долго ввести их, как отдельный ряд образов, в описание службы, это нарушит строй, и вы потеряете из вида поступательное развитие службы. Пример можно дать из 4-го гласа: «От юности моея мнози борют мя страсти; но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу… Святым Духом всякая душа живится и чистотою освящается, светлеется, Троическим единством священнотайне».
И так мы подходим все ближе к самой сердцевине этой службы, которая, как я уже говорил, может быть, слишком часто, но должен повторить еще, вся благоухает, вся сияет обетованием спасения уже исполненным. Мы подходим все ближе к ее сердцевине, которую составляет чтение Евангелия. Чтение это предваряется, как и в Литургии, стихами из Ветхого Завета, прокимном, который подготавливает нас к слышанию последующего чтения. Каждый субботний вечер провозглашается нам Воскресение и победа Божия, и ответный наш крик о том, чтобы эта победа Божия стала нашей победой, чтобы Его победа стала нашим спасением. Дам вам примеры: «Ныне воскресну, глаголет Господь, положуся во спасение, не обинюся о нем» (Пс 11:6). И церковь отвечает: «Словеса Господня словеса чиста». Или вот другой прокимен: «Восстани, Господи Боже мой, повелением имже заповедал еси, и сонм людей обыдет Тя». И отклик: «Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя».
Как видите, здесь, с одной стороны, провозглашение Воскресения и победы, с другой стороны, Бог объявляет, что Он спасает и спасет. А Церковь отзывается в смирении и надежде, провозглашая свое убеждение в том, что это слово истинно, выражая свою уверенность, что спасение придет. И завершает это возглас священника: «Яко свят еси, Боже наш, и во святых почиваеши, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков». Это заключение того, что мы слышали. Этот крик, восходящий от Церкви, выражает все чудо спасающей любви Божией. А если так, то как можем мы не воздать хвалу Богу? И дьякон обращается ко всем собравшимся и к хору и возглашает: «Всякое дыхание да славит Господа! Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждение силы Его». И отозвавшись на эти слова, мы готовы к провозглашению Евангелия.
Но это тоже милость нам. Мы так привыкли к Евангелию, оно настолько нам обычно, что часто мы уже не чувствуем, какое это чудо, какое диво. Миллионы людей полжизни отдали бы за то, чтобы Евангелие было им возвещено, дошло до них. Мы к нему привыкли, и здесь нам напоминание, что не так все просто. Во времена Иоанна Златоустого Евангелие было доступно только грамотным людям, да и то было редкостью, оно переписывалось от руки. И Иоанн Златоустый говорит, что оно свято в самой своей материальности, что никто не должен бы касаться книги Евангелия, не умыв руки, не попросив Духа Святого очистить его сердце и ум, не спросив самого себя, может ли он коснуться этой книги, символа, образа Христа, через которую Бог обращается к нам со Своим словом. Святой Серафим говорил, что Евангелие надо бы читать, стоя на коленях, потому что через него Бог говорит с нами. Так что нам надо вернуться если не делом, то сознанием к благоговению и благодарности, которые Евангелие должно бы вызывать в нас, и вот почему, прежде чем читается Евангелие, дьякон возглашает: «И о сподобитися нам слышания святого Евангелия чтения Господа Бога молим». И еще: «Премудрость! Про{'}сти! Услышим святого Евангелия чтения». — «Мир всем» — «И духови твоему». И читается отрывок Евангелия, после чего (кроме как в великие двунадесятые праздники) сама книга Евангелия выносится на середину храма для благоговейного поклонения ему.
Почему такие различия между службой в праздник, или в обычный воскресный день, или в празднование некоторых святых? Потому что на середине церкви мы всегда помещаем — для того чтобы поклониться, облобызать, получить благословение и милость — то, что как бы содержит, вмещает Присутствие. В великие праздники, такие как Рождество, Богоявление, Воскресение Христово, Благовещение, реальная суть праздника выражается в иконе. В воскресный день, помимо иконы Воскресения или просто иконы Христа, которая всегда, постоянно находится на середине храма, выносится Евангелие, потому что оно — реальное присутствие как слово и как символ. И стоя перед лицом святого Евангелия, мы читаем молитву, из которой я напомню вам несколько слов (эта же молитва входит в чин литии): «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостию и щедротами, возвыси рог (укрепи) христиан православных, ниспосли на ны (нас) милости Твоя богатыя…» Затем поминаются святые, и молитва завершается так: «Молим Тя, многомилостиве Господи, услыши нас, грешных, молящихся Тебе и помилуй нас!».
И хор воспевает Воскресение: «Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, вси вернии, поклонимся святому Христову Воскресению. Се бо прииде крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем воскресение Его. Распятие бо претерпев, смертию смерть разруши… Молитвами апостолов, Милостиве, очисти множество прегрешений наших… Молитвами Богородицы, Милостиве, очисти множество прегрешений наших… Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое… Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече, даде нам живот вечный и велию милость». И после этого читается канон.
Канон первоначально был поэтической формой из трех песней, которая начиналась с ветхозаветного образа и продолжалась воспеванием празднуемого дня: Воскресения, Распятия, Матери Божией, святого, того или другого воспоминаемого события. Позднее канон расширился и теперь состоит из девяти песней, которые странным образом свелись к восьми, потому что вторая песнь фактически всегда опускается. Канон основан на девяти ветхозаветных песнях, и вторая из них совершенно не праздничная, поэтому она не входит в ряд прославления праздников.
Канон может оказаться чрезвычайно длинным. Во-первых, предполагается, что он весь будет петься, а не читаться. Во-вторых, что петься он будет целиком, без сокращений. Вот почему канон может занять в службе довольно-таки большое место, а в монастырской службе длиться очень долго, потому что предполагается, что каждый тропарь будет спет дважды, правым и левым хором, что вводная ветхозаветная песнь (ирмос) будет повторяться в конце, — все это очень удлиняет службу.
К канону можно относиться по-разному. Некоторые люди, например Иоанн Кронштадтский, жили им, другие — я чуть не сказал: умирали от него, но я не буду распространяться на этот предмет. Во время чтения канона верующие подходят и, поцеловав Евангелие и икону или только икону, получают благословение. И в храмах, где прихожан очень много, существенно важно, чтобы канон был длинный. Потому что если вы окажетесь в храме в России, где три—три с половиной тысячи человек или, как случилось однажды со мной, двенадцать тысяч человек подходят к праздничной иконе, и каждого помазывают или дают благословение, канона должно хватить на то, чтобы все присутствующие успели получить благословение, иначе это может затянуться много дольше, чем сама служба. Особенно если учесть мнение русского человека, что получить благословение — это так благодатно!
Помню, когда я впервые был в России и еще не знал хорошо особенности русского отношения к некоторым вещам, подошла ко мне старушечка за благословением, потом подошла еще раз, потом третий, потом и четвертый… И поскольку в храме стояло около трех с половиной тысяч человек, я подумал, что если все так будут поступать, то служба очень уж растянется. Я ее остановил и говорю: «Бабуся, разве я не тебя благословлял уже три раза?». Она просияла улыбкой от уха до уха и ответила: «Да, но так замечательно получить благословение!». По счастью, не все так настроены.
К концу канона, после восьмой песни, наступает нечто, что в каком-то смысле заменяет вторую песню канона, которую мы потеряли. Это песнь в похвалу Божией Матери. Дьякон выходит, кадит Царские врата, икону Спасителя и другие иконы на этой стороне, и, дождавшись, когда хор допоет свое, возглашает: «Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим!». И тут поется «Величит душа моя Господа…» (Лк 1:46—55), и стихи перемежаются второй частью известного гимна в честь Богородицы: «Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу, Тя величаем». Теоретически после этого и прежде начала девятой песни должна бы петься песнь Захарии, которую мы находим в Евангелии от Луки (1:68—70), но, насколько знаю, во всяком случае, из собственного опыта, этого никогда не бывает в приходском храме и случается только в монастырях. И затем девятая песнь канона, в которой продолжается воспевание Божией Матери. Вводное песнопение посвящено ей, и вся песнь построена вокруг почитания Ее и святых.
После канона, в котором мы видим исполнение обетования о Воскресении, силу Креста, святость Божией Матери, святых, спасение человечества, идет малая ектенья, которая завершается словами: «Яко Тя хвалят вся силы небесныя, и Тебе славу воссылаем…» И торжественно возглашается: «Свят Господь Бог наш! Над всеми людьми Бог наш!». Затем несколько строк из псалма, прославление Божией Матери и после возгласа «Слава Тебе, показавшему нам свет!», — великое славословие: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоея. Господи, Царю небесный, Боже Отче вседержителю. Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый Душе. Господи Боже, Агнче Божий. Сыне Отеч. Вземляй грех мира, помилуй нас. Вземляй грехи мира, приими молитву нашу. Седяй одесную Отца, помилуй нас. Яко Ты еси един свят, Ты еси Един Господь, Иисус Христос, в славу Бога Отца». Еще одна молитва, и на этом практически кончается служба, потому что утреня действительно кончается этим славословием Богу, в котором со всей яркостью выражена полнота того, что ему предшествовало, начиная с исполнившегося обетования, которое мы видим в развитии, в действии, в силе, и чтения Евангелия, и нашего ответа на то, что Бог совершил ради нас. Фактически служба завершается двумя ектеньями: сугубой и утренней просительной и отпустом, который мы слышали уже в конце вечерни. После этого обычно читается первый час, и вечернее богослужение кончено.
Как вы видите, несмотря на то что утреня много длиннее, чем вечерня, схема ее чрезвычайно проста. Она начинается с размышления над самим собой, над обетованием Божиим, над его осуществлением, как мы видели его развитие в вечерне. Служба переходит к провозглашению того, что Господь Иисус есть Бог и, следовательно, победа уже пришла, она не далекое обещание, а осуществленная реальность. Царские двери открыты, свет сияет, каждение храма — все это говорит о том, что Господь уже пришел победоносно, эсхатологическое исполнение уже настало, полнота последнего дня уже присутствует в нашем историческом дне. И все это ведет к чтению Евангелия и нашему ответу на него: сначала в размышлении канона, затем в великом славословии, великой хвале, и это все, что мы можем сделать. Последние ектеньи — это как бы время нам успокоиться, протрезветь, потому что невозможно нам выйти из храма на улицу в том состоянии духовного подъема, опьянения, невозможно сразу после того, как мы воспели эту хвалу, выйти в метро, сесть в автобус, все еще воспевая хвалу Богу. А ектеньи дают нам время успокоиться, войти в себя, прийти в чувство, осознать, что, кроме славы, есть и необходимость жить, осуществить в жизни то, что мы узнали, и именно этому посвящены ектеньи. И после этого мы посылаемся во внешний мир во имя Господне.
Я начал эту серию бесед о вечерне и утрени, о всенощной со слов о том, что главная тема этих служб — ви{'}дение истории человечества, Ветхого Завета вместе с Новым, откровение света во тьме, и что можно сказать, что тема всенощной вместе с первым часом — это переплетение света и тьмы. Сегодня в этой заключительной беседе я хотел бы сказать нечто о свете, и о тьме, и о том, каким образом они бывают явлены, переплетаются, борются в службе и куда ведут нас.
Несколько недель назад одна из наших старых прихожанок обратила мое внимание на что-то, чего я никогда не замечал, во всяком случае, не осознавал, — что можно поместить Пролог Евангелия от Иоанна (Ин 1:1—18) перед началом книги Бытия, потому что в нем говорится о Боге, Творце всего, говорится о Слове Божием, через Которое все было сотворено, и о Духе; и говорится также о свете, том Свете, который есть Свет миру. Мы знаем из Священного Писания, что Бог есть свет и что нет в Нем никакой тьмы (1 Ин 1:5). Слово Бог означает на древнем языке «Тот, пред Которым падаешь ниц в священном ужасе», но и латинское, и греческое слова связаны с корнем, который указывает на Его светоносность. Он есть Свет. В Боге нет тьмы, потому что в Нем нет ничего незавершенного, неполного, в Нем все — полнота и слава. А слава — значит великолепие, сияние, блистание. И таким образом в самом начале нашего представления — Живой Бог, в Котором нет тьмы, потому что нет ничего в Нем неисполненного, неполного, незавершенного. И Этот Бог вызывает целый мир из небытия. Этот Бог, призвав мир из небытия как из таинственного хаоса, то есть из совокупности всех возможностей, начинает вызывать все это возможности, дает им расцвести, раскрыться, как раскрывается цветок. Дух носился над бездною, и мир стал: да будет свет! И один за другим, дни творения ставят нас перед лицом того, как постепенно раскрываются возможности этого мира. То, что было темно, что было застывшим полумраком, было не завершено, существовало только как возможность, начинает раскрываться от славы к славе, пока все дело творения не совершено.
Это показано нам в вечерне, когда открытые Царские двери позволяют нам заглянуть в таинственный и великолепный мир Божий, в алтарь, залитый светом и исполненный благоговейной тишины и молитвы, когда кадят безмолвно святой престол и иконы, движением как бы танца. И мы впитали глазами то, о чем говорит нам пролог Евангелия от Иоанна, и тогда слышим первые слова службы, но и сами эти слова — откровение, явление, раскрытие, вводящее в тварный мир знание о Боге, которое есть свет и есть жизнь: «Слава Святей Единосущней Животворящей и Нераздельней Троице…» На пороге этого видения стоят слова, которые доходят до нас, настигают нас, расцветают в откровение, в проявление, словесное выражение неисследимого, животворного, священного безмолвия, священной тайны Живого Бога. Свет — и откровение, и самая сущность того, что мы знаем о Боге.
Я сказал в начале, что в Боге нет тьмы. Каким же тогда образом целый ряд мистических авторов говорят о «мраке» божественного видения? Здесь нам следует точно понимать значение слов. В греческом языке есть разные слова, означающие «мрак»: skotos означает отсутствие света, как бы тень, покрывающую то, что само по себе является светом. И другое слово — nux, которое говорит о сущностной тьме, о непроницаемом, непознаваемом. Святой Григорий Нисский, говоря о божественном мраке, поясняет, что сияние Божества так ослепительно ярко, что если мы взглянем на него, мы бываем ослеплены и видим только мрак. И в другом смысле Бог представляется нам мраком, тайной, непознаваемостью. Лучше всего это показывает нам рассказ об откровении Бога на Синае (Исх 19). Гора покрыта мглой, словно дымом от горящей печи. Если смотреть извне, мгла эта — только страх и тьма, но когда Моисей вошел в этот мрак, мрак оказался сиянием божественной славы. Свет, божественный свет можно познать, только приобщившись ему, он не познается извне, внешним наблюдением.
И другое свойство света: он изобличает тьму. Свет подчеркивает тени, но сам же и разгоняет их. Христос называет Себя светом, пришедшим в мир. Он говорит также, что суд пришел, потому что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, потому что дела их были темны, злы (Ин 3:19). Здесь можно видеть отсылку к Ветхому Завету. Древние писатели применяли ко Христу мысль, сравнивали приход Христа в мир с Ноем. О Ное говорится, что он был одновременно осуждением мира и спасением человечества. Он был осуждением, потому что, раз один человек со своим семейством мог остаться чистым и праведным среди всего зла и соблазнов окружающего человечества, значит, это было возможно, и тем, кто не был таков, нечем оправдаться. Они выбрали тьму, а не жизнь. Но вместе с тем Ной был спасением человечества, потому что то, что он и его семья выжили, дало возможность человечеству жить дальше. В этом смысле Христос, Который пришел в мир, свет в просвещение языков и славу людей Своих, Израиля (Лк 2:32), есть одновременно суд и спасение. И свет разгоняет тьму. Евангелие говорит нам, что все, поставляемое в свет, становится светом, все, что мы выносим на свет, начинает сиять светом. Нет такой тьмы, в которую свет не мог бы проникнуть и разогнать ее. И однако, мы живем в сумерках, потому что Свет — Христос, свет жизни всякого человека, свет, который есть спасение мира, откровение Бога, свет, благодаря которому тварный мир разверзается до безграничности божественного измерения, — этот свет сияет во тьме. Тьма его не принимает, но тьма не может его и заглушить, и тем, кто выбирает свет, Христос дал власть быть сынами Божиими, сынами и дочерьми Живого Бога.
Если вы помните то, что я говорил в этих беседах о свете и темноте, о борьбе между добром и злом, между грехом и святостью в вечерне и утрени, вы, может быть, увидите, как это обогащается тем, что я только что старался передать: ви{'}дение славы области Божией, алтаря, и полумрак самого храма. И затем каждение всего храма священником, перед которым идет дьякон со свечой, показывая, что свет пришел в мир, что свет распространяется в мире, словно пламя по сухому дереву, и кто-то загорается и становится новым очагом жизни, и кто-то остается темным. Святой Григорий Палама, говоря об ангелах, называет их «светы вторые». Единственный истинный свет — Бог, но ангелы стали настолько восприимчивыми для света, прозрачными, что свет во всей чистоте сияет через них. Святые причастны этой же тайне прозрачности. Свет Божий доходит и до них, свет Божий сияет в них и через них ради нас.
Во время этого каждения, первого каждения храма, поется предначинательный псалом (Пс 103) о сотворении мира. Вот в чем состояло, состоит творение: Бог в среде Своего народа, свет, который и других приобщает к Свету, свет, который делает и других причастниками вечной жизни. И когда каждение окончено и священник возвращается в алтарь, Царские врата закрываются, свет гасится, и мы ощутимо можем познать, чтоозначает быть погруженным во мрак. Грех затворил двери, врата Неба, грех разделил тварный мир от источника жизни — Света. И мы в области чего — тьмы? Нет, потому что мы не покинуты. Мы в области полутьмы, потому что свет, когда-то в нас заложенный, не погас, он светит во тьме. Более того, таинственным образом, но ощутимо для тех, кто понимает то, что видит, Сам Бог снисходит из области света в эту область тьмы. Каждение во время пения псалма «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя!», — тут мы встречаемся и с тьмой, и с присутствием, с отчаянным зовом Ветхого Завета о Спасителе, и с новозаветными песнопениями, которые говорят нам о святых, принявших, воспринявших свет и ставших светильниками в сумерках этого мира.
И внезапно отверзаются двери, и выходит свещеносец, и откровение нам — выход священника во время пения догматика. Матерь Божия снова открыла Врата Небесные, совершенством Своей веры, полнотой Своей отданности Она сделала возможным Воплощение. «Премудрость. Про{'}сти!»: смотри, что все это означает. И Церковь отзывается пением гимна света, гимна Свету: «Свете тихий святыя славы Бессмертного отца Небесного…» Христос назван тихим, радостотворным светом Божественной славы. Свет явился вновь, мы можем с уверенностью знать, что мир выживет не благодаря тому, что осталось в нас от изначального света, — Живой Бог, Слово, Которое есть Свет мира, пришло в мир, стало человеком, никогда не оставит нас, и пришел Он не судить мир, а спасти мир (Ин 3:17).
И служба развивается дальше, ектеньи и молитвы ведут нас к замечательным словам, воспетым Симеоном: «Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видесте очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей твоих, Израиля» (Лк 2:29—32). Из недр Ветхого Завета провозглашается первое Новозаветное откровение, Ветхий Завет провозглашает истину Благовещения и рождения Христа. Слава Израиля пришла. Пришел свет, который будет спасением для всего мира. И немного спустя еще другие молитвы снова говорят о Благовещении, говорят о его славе, не описывают ее в тропаре, а передают самыми словами ангельского приветствия, словами, в которых Архангел принес Деве весть: «Радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобой!». На этом кончается вечерня: в свете. Свет пришел, свет был предметом и видением всей службы, и теперь начнется другая часть, которую можно определить в двух словах: начинается она в глубокой темноте, а продолжается и заканчивается в блистании света.
Начало утрени отмечено тем, что гасятся все огни, пока идет чтение шестопсалмия. Теперь темнота играет совершенно новую роль, имеет совершенно другое значение: темнота разделяет, темнота окутывает нас одиночеством, обездоленностью, брошенностью — и именно это и происходит. В этой темноте каждый из нас может стоять сам по себе перед лицом случившегося и вслушиваться в слова псалма наедине с собственной душой: кто ты? каково твое положение в мире? какое твое отношение к свету, который был явлен? Эта темнота — как бы защитный покров и дает каждому из нас возможность задуматься, глубоко погрузиться в нерассеянное, ничем не нарушаемое безмолвие.
И когда это углубленное размышление позволило нам собрать все наши силы, поставило нас перед Богом в правдивом видении самих себя и в изумленном видении дел Божиих, мы снова слышим славное провозглашение: «Бог Господь и явися нам! Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его. Обышедше обыдоша мя, и именем Господним противляхся им. Не умру, но жив буду и повем (поведаю) дела Господня. Камень егоже небрегоша зиждущии (которым пренебрегли строители), сей бысть во главу угла, от Господа бысть сие и есть дивно во очесех наших». Мы снова перед лицом откровения, перед нами раскрывается, расцветает видение, и все это сказывается светом. И в самом деле, в алтаре зажигается свет, он заполняет весь храм, мы — внутри Откровения.
И после тропаря, который совершенно конкретно говорит о данном событии, будь то воскресный или праздничный день, двери алтаря открываются, и свет его льется на нас, и начинается полиелей. Само слово значит «многосветие». Песнопения и молитвы, все ведет к кульминации — чтению Евангелия, того слова, которое изначально было с Богом и теперь пребывает с нами. Тот Свет, который есть жизнь мира, пребывает среди нас, Сын Божий, Чье Воплощение от Девы мы воспевали, теперь говорит Сам. Все стало светом, и все молитвы, канон, ектеньи сливаются в это раскрытие света, откровения, великолепия. И на этом, по сути, завершается утреня и вся служба.
Но мы не вырваны из этого великолепия, не брошены как бы без приготовления в сумерки, во мрак внешнего мира. Свет, который мы видели, очень похож на опыт, пережитый апостолами на горе Преображения, когда они увидели Христа во славе. Славой просияло Его Божество, божественный нетварный свет сиял в Его плоти, через Его плоть, сиял в Его одеждах и через них, падал на все вокруг, всему давал красочность, свечение, глубину и вызывал из всего тварного ответный внутренний свет. Но еще прежде чем Христос свел Своих учеников с горы вниз, свет этот погас. Они снова увидели Христа в привычном для них, обыденном виде. Пока они сошли с горы вниз, они вышли из своего состояния экстаза, стали самими собой, какими были обычно.
Так же действует на нас конец утрени, ектеньи, последние молитвы и первый час. Свет снова гаснет, но полутьма, темнота нас уже не страшит. Мы приобщились свету, свет достиг до нас словами Евангелия, силой молитвы, благословением свыше. Мы можем задуматься на короткое время, вернуться в свои глубины, собрать внутри себя, в сердце, по примеру Божией Матери, все, что мы слышали, все, что нам дано было видеть, и после этого мы уйдем из храма. Но перед этим мы становимся перед иконой Христа и говорим: «Христе, Свете истинный, просвещаяй и освящаяй всякого человека грядущего в мир. Да знаменуется на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный, и исправи стопы наша к деланию заповедей Твоих». Мы стояли перед иконой Христа, подобно апостолам, мы видели Его вновь в обыденности Его Воплощения, но мы знаем, что в этом плотском образе живет полнота Божества (Кол 2:9), что можно взглянуть в Его лик и увидеть Свет. И после этого мы посылаемся в мир. Последние слова молитвы указывают нам идти обратно в мир и принести в него тот свет, который мы нашли, который, может быть, стал еще ярче, если мы дали ему переплавить нас, сделать новыми, зажечь тот свет, который есть внутри нас. И мы посылаемся, как сказал Христос в вечер Своего Воскресения, как Его послал Отец (Ин 20:21).
На этом я хотел бы закончить эти беседы с вами о вечерне и утрени, и я надеюсь, что благодаря этим беседам, особенно этой последней, вам будет легче уловить смысл происходящего, воспринять то, что оно сообщает нам, и из недели в неделю обновляться.
Беседы о Божественной литургии
I
Темой для наших бесед я выбрал Божественную литургию, потому что она является самым средоточием нашего христианского опыта, именно жизни во Христе.
Я хочу сначала остановиться вниманием на тех словах, которыми обозначается Литургия, потому что мы употребляем для этого таинства, этого события нашей жизни разные выражения. Мы называем ее Тайной вечерей, называем ее обедней, или Божественной литургией. Греки называют ее коинонией, то есть приобщением. Каждое из этих слов выражает и раскрывает нам какую-то глубину этого события. Я уже несколько раз употребил слово «событие» и хочу на этом остановиться.
Службы, которые совершаются в Церкви, можно разделить на два рода: одни службы совершаем мы, собираемся в храме и возносим молитвы к Богу, — таковы, например, молебен, панихида, вечерня, утреня, часы. Они не во всем одинаковы. В некоторых случаях мы просто, собравшись, взываем к Богу, вознося Ему хвалу, благодарение, выражая Ему наши прошения, нужды. В других случаях службы более сложны, они не только являются выражением того, что у нас на душе, но также представляют нашей душе обстоятельства, образы, картины, приточные воспоминания, которые способны возбудить нашу душу к молитве. Это сущность всякого символизма и всего нашего богослужения.
Но есть другой род богослужений, который самым резким образом отличается от первого. Это те богослужения, где совершается таинство. В этих богослужениях мы участвуем, но действует в них Сам Бог. Это событие, в которое мы вовлечены, в котором мы принимаем участие, но самое центральное, значительное в них именно то, что Бог действует, а мы соучаствуем в том, что совершается. В этом отношении чрезвычайно значительно и интересно начало нашей Литургии.
После того как священник, один или с дьяконом, совершил проскомидию, после того как хлеб и вино готовы для совершения таинства, дьякон обращается к священнику со словами, которые с греческого можно перевести двояким образом. Или: «пора теперь принести жертву Богу, служить», или: «теперь пришло время Богу действовать». Все, что человек мог сделать, он сделал. Он пришел, принес приготовительные молитвы, выбрал самый чистый, самый достойный в своем недостоинстве хлеб для приношения, приготовил чашу с вином, разведенным каплей воды в образ крови и воды, истекшей из сердца Господня, когда оно было прободено копьем сотника (Ин19:34). Он покрыл эти дары светлыми покровами в образ жертвы распятия, смерти Христовой. Он воздал им честь молитвой, и теперь человек ничего не может к этому прибавить. Теперь если что-нибудь случится, то только действием и силой Самого Бога, потому что как бы пламенны и искренни ни были наши молитвы, все равно этот хлеб останется хлебом и это вино будет только вином, если Сам Бог Своим действием не вторгнется в наше время или не внесет то, что происходит в нашем времени, в вечное Свое действие.
Вот почему таинства являются событием, вот почему мы в них — соучастники. Мы вовлечены в них, мы в них стоим, мы ими живем, мы совершаем некоторые тайнодействия, которые необходимы для того, чтобы Бог действовал в условиях нашей ограниченной жизни, — но действует Бог. И каждый раз, как совершается таинство, мы находимся перед чудом, потому что чудо определяется не «чудесностью», а тем, что Бог вошел в мир и властно, мощно, божественно в нем действует.
Сказав это, я хочу вернуться к определениям Божественной литургии, тайны причащения, которую мы совершаем в воскресные дни. Воскресный день — это день, когда Литургия особенно исторически значительна, потому что это день, когда Христос воскрес из гроба, разорвал законы времени, законы природы, законы естества и поставил нас перед возможностью уже теперь жить вечностью. Мы называем службу этого таинства Тайной вечерей или обедней. Вечеря — это пир: вы помните, сколько раз Евангелие и Ветхий Завет говорят о вечере, например в притче о званых и избранных (Мф 22:1—14).
Что составляет сердцевину, самое значение этих слов для нас? Первое это то, что когда собираются люди вокруг одного стола, когда они преломляют вместе хлеб, они — на равных началах: за одним столом едят только равные, за одним столом едят только те, которые приравнены друг другу гостеприимством и любовью. Это очень важно. Когда Христос возлежал на Тайной вечере со Своими учениками, Он им сказал: Я вас больше не называю рабами, потому что раб не знает, что творит его господин, Я вас называю друзьями, потому что Я вам сказал все(Ин 15:15). Русское слово «друг» значит «другой»: другой не в смысле «иного», не в порядке противоположения, а, наоборот, в порядке признания в том, кого ты видишь, «другого самого себя». Друг — это тот, которого ты признаешь равным с самим собой. И вот вокруг стола Тайной вечери Христос принял учеников как друзей Своих, сравняв их любовью, среди них — и предателя. Это отношение Христа с Иудой разбилось уходом Иуды, не отказом Христа.
Это первое, что мы должны помнить: Господь, приглашая нас на этот пир, приглашает нас как равных. Но мы скажем: «Мы нищие, мы недостойны, как можем мы прийти на этот пир?». Вспомним притчу о званых и избранных (Лк 14:16—24), о том, как хозяин уготовал пир для брака своего сына и, когда все было готово, послал своих слуг звать приглашенных на пир. Но они не хотели прийти, у каждого была своя забота, им некогда было. Один купил землю, и ему надо было ее осмотреть, другой купил волов, он должен был их испытать, третий женился, ему некогда было думать о чужой радости и о чужом браке. И хозяин разгневался, горько ему стало, что равные ему по праву, друзья его с давних пор так отвернулись от него, сочли, что самые порой мелкие мелочи, самые случайные события их жизни для них важнее исключительного события в его жизни. И он послал своих слуг уже не достойных искать, а голодных, и нищих, и бездомных, искать тех, которые не откажутся, потому что в их жизни ничего нет, не от чего отказываться, они обездолены до конца.
Слуги обошли дороги, и пути, и переулки и собрали Господу нищих. В притче мы видим, как они все воссели, одетые в брачную одежду, в праздничную одежду, достойную брака, кроме одного, который вошел в своих лохмотьях. И можно себе поставить вопрос: почему такая жестокость со стороны хозяина, что этого человека он велел изгнать вон? Откуда тому было взять брачную одежду, как он мог оказаться умытым, убранным, одетым к браку, когда его подобрали на каких-то перекрестках?.. А другие? Все нищие такие были, всех слуги хозяина собрали рваными, грязными, усталыми, но каждый, входя, желая воздать честь хозяину, который такую доброту проявил, умывался, как это было принято в древности. Когда приглашали гостей, им раньше всего предоставляли после пути вымыться и одеться, и чтобы один гость перед другим не стыдился, хозяин предоставлял одежду, которая была достойна праздника.
И вот каждый из них вошел, и умылся, и оделся, и убрался, и пришел на пир. Только один отказался, прошел мимо всего этого, как бы говоря: «Я пришел сюда, потому что здесь едят». Он вошел в своих лохмотьях, потому что до хозяина и до брачного пира ему не было дела. Он хотел просто разделить стол, и он не был принят, потому что на таких началах равным не бываешь. Любовь делает равными, гостеприимство эту любовь облекает в достоинство. И вот почему, подобно нищим, бездомным, оборванным, которых собрали слуги по дорогам и проселкам, и мы можем принять Христово предложение: зная, что мы недостойны, зная, что у нас ничего нет, кроме облекающей нас милости Божией, кроме допускающей нас до равенства любви Господней.
Это первое, что останавливает внимание в этом образе обедни, то есть пира, Тайной вечери. Второе — то, что Господь нам предлагает особую пищу. Пища — это приобщение: когда мы делим хлеб, мы все участвуем в одном хлебе. Но здесь не простой хлеб и не простая чаша, здесь нечто гораздо большее. Господь под таинственным видом хлеба и вина предлагает нам приобщиться Ему Самому, то есть не только разделить с Ним то, что у Него есть, но с Ним разделить то, что Он Сам есть, стать через это приобщение тем, что Он Сам есть. Как Афанасий Великий говорил, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Бог во всех отношениях стал тем, что мы есть, чтобы через это нам дать возможность стать тем, что Он есть. Тайна есть в пище и в питании. С одной стороны, человек — плотяной и вещественный, он своими корнями уходит в сотворенный мир. Часть своей жизненной силы, своего существования, жизни своей мы черпаем в этом естественном мире: мы едим хлеб, мы пьем воду, мы приобщаемся всему тому, что видимо вокруг нас. Мир вокруг нас, как один русский богослов сказал, — как трапеза. Мир представляется нам минутами как Божия любовь, ставшая животворящей пищей, и в этом отношении, приобщаясь тварному, мы от него неотделимы, и наша человеческая судьба включает в себя судьбу всего видимого.
С другой стороны, человек духовен, он своими глубинами приобщен Богу, он живет не одним хлебом, но и словом Божиим, творческим словом, которое его вызвало из небытия в бытие, словом жизни, прощения, которое его содержит и животворит и, наконец, словом воскрешающим, которым мы облечемся телесностью для вечной жизни.
И в этом тварном мире, где человек отпал от Бога, где он уже бессилен вознестись к Богу духом пламенным, Бог делается человеком. Он делается плотью для того, чтобы стать нам доступным на том простейшем уровне, который нам безусловно доступен: не на шатком уровне наших душевных переживаний, которые то яснее, то туманнее и всегда неустойчивы, но на той природной тварной глубине, которая не подлежит случайностям наших переживаний, — на уровне нашей телесности. Через этот хлеб, который стал Его Телом, через это вино, ставшее Его Кровью, Он нас приобщает к области духа и к Божественному миру.
И вот здесь мы видим, что эта тайна общего стола обедни, Тайной вечери имеет, с одной стороны, такое громадное нравственное значение: через любовь Господню, через то, что мы ее принимаем трепетно и благоговейно, мы удостаиваемся Его гостеприимства, и делаемся Его друзьями, и приравниваемся Ему, ставшему Человеком нашего ради спасения. И, с другой стороны, в пределах этой любви и гостеприимства, вокруг этого стола мы приобщаемся вечной жизни, делаемся причастниками хлеба и вина, которые стали Телом и Кровью воплощенного Слова Божия.
Нам придется еще вернуться к вопросу о значении вещества, потому что значение вещества забывается, и на Западе, может быть, еще больше, чем на нашем православном Востоке. Но сейчас я не буду останавливаться на этом, а хочу обратить ваше внимание на другое слово, на слово «Литургия». Греческое слово Литургия переводится «общее дело», дело народное, и, значит, сказанное в самом начале о том, что Божественная литургия является событием, совершаемым Богом, не до конца исчерпывает вопрос. Да, действует Бог, но действует Бог не без нас. Это общее дело Божьего народа, с одной стороны, и Бога этого народа — с другой стороны. Это соучастие, это сотрудничество, это событие в том смысле, что это — со-бытие Его и наше. Мы не только совершаем вещественное приготовление хлеба и вина, мы делаем гораздо больше: мы предоставляем Богу нашу веру, и нашу надежду, и посильную нашу любовь. Где нет веры, там нет чуда, потому что нет Царствия Божия, и в этом отношении без человеческой веры Бог не может нас сделать участниками этой тайны Небесного Царства. В этом отношении наша вера так же необходима, как Божественное воздействие. Общее дело может быть еще более дивным, чем гостеприимство, потому что мы не являемся только теми, кто получает от Бога, мы являемся одновременно теми, кто обусловливает Божий дар не только своим нищенством, но и ответом этого нищенства на Божию любовь и щедрость.
Ответы на вопросы
Только ли те, которые приобщались, имеют право считать себя участниками Литургии?
Я думаю, что только такой человек, который отказывается от общей жизни во Христе, должен считать, что он вне Литургии, потому что (и это мне кажется очень важным для нашего православного сознания) мы не ставим на первое место приобщение, а — приобщенность. Приобщение, то, что мы принимали таинство в такой-то день за таким-то богослужением, обусловливается всецело тем, что я приобщен цельной, всецелой жизни Церкви и через нее — Христу. И человек, который не приобщается за Литургией сегодня, потому что его духовная жизнь следует определенному ходу и он хочет приобщиться в определенный момент, когда он к этому созрел, прав, так же как другой человек, у которого ход духовной жизни иной, тоже не подпадает под осуждение. Но тот и другой до конца участвуют в Литургии, постольку поскольку они до конца участвуют в жизни Церкви. Я говорю, разумеется, не о каком-то внешнем участии, а о той основной, глубокой приобщенности к тайне Церкви, вне которой не может быть самого причащения.
Вы сказали о нравственном значении причащения. Разве его значение не превосходит уровень просто нравственности?
Я употребил слово «нравственное» в более широком смысле, чем просто нравственность, — как все внутреннее, все нутро. И конечно, во всякой молитве, во всяком таинстве, но особенно в Божественной литургии, которая является как бы небом на земле, это переживание, этот мистический момент может быть наиболее глубок.
Если мы, лично и вместе, не будем из тех таинственных откровений, которые нам даются постоянно в Литургии, учиться жить духовной жизнью, а будем оставаться только в области душевности, то Литургия будет нам в самом основном и глубоком непонятна. Нам часто кажется, что духовное — это чрезвычайно высокая, утонченная, особенно близкая к Богу душевность. На самом деле из чтения молитв, из изучения облика святых ясно, что есть какой-то разрыв между этими двумя областями, есть какой-то предел душевности, и есть область духа совсем иная, где Бог действует совершенно иным образом. Разумеется, все, что в человеке происходит, имеет тоже отражение в его душевности и в его телесности, но то, что происходит особо в духе, — не есть душевность, как бы она ни была высока. Это приобщенность чему-то, что превосходит тварность, и в этом отношении аскетический подвиг как его понимает православие — очень своеобразен. С одной стороны, он использует все силы душевные и все силы телесные, но, с другой стороны, он не имеет целью что-то создать, а освободить человека, сделать богоприемным, раскрыть его, как чашу, как руки. Подвиг не стремится сделать человека самодовлеющим. В этом важная черта аскетических советов, которые мы находим в Православии, — богоприемная немощь, то, о чем апостол Павел говорит так подчеркнуто: сила Божия в немощи совершается(2 Кор 12:9).
II
Раньше, чем коснуться вопроса о призывании Святого Духа в Литургии и о том месте, которое в ней уделено Лицам Святой Троицы, я хочу остановить ваше внимание на двух выражениях, которыми характеризуется Божественная литургия, потому что эти два слова нам откроют нечто, что для нас важно в понимании этой службы. Это, во-первых, слово «Евхаристия», а во-вторых, греческое выражение кинония, то есть общение.
«Евхаристия» обозначает две вещи. В современном словоупотреблении это слово значит «благодарение», но в более древний период, так же как русское слово «благодать», это слово значило одновременно и благой дар, и самое благодарение. Употребление слова «благодать» в смысле благого дара, подарка мы находим в каноне святому ангелу-хранителю, находим в одной из утренних молитв: «если по заслугам спасешь нас, Господи, это не благодать, а долг только», говорится в молитве. Здесь слово «благодать» надо понять в простом смысле: не благой дар, не подарок Твоей любви, а выплата заслуженного, то есть погашение с Твоей стороны долга, который Ты имеешь, вернее, имел бы по отношению к праведнику. Так и слово «евхаристия», хотя значит преимущественно или даже исключительно «благодарение», имеет эти два смысла, и каждый из этих смыслов в соединении с другим дает полную, богатую картину того, о чем идет речь.
Литургия есть величайший дар, самый благой, самый совершенный дар, который Бог может нам подарить. В Литургии мы находимся уже теперь, будучи земными людьми, на небе. Это, как выражался Иоанн Кронштадтский, уже «небо на земле», причем небо в полном, богатом смысле этого слова: присутствие Самого Живого Бога в нашей человеческой жизни и обстановке и превращение этой земной обстановки в явление небесных вещей, когда каждое действие, совершенное на земле, имеет небесный смысл, когда каждый предмет, который мы употребляем на земле, обозначает нечто небесное.
К этому мы вернемся, когда будем говорить о символах Литургии, но это так прозрачно и ясно, например, в великом входе, в херувимской песни,Иже херувимы тайно образующе: «Мы, которые таинственно, неизреченно являемся образом самих херувимов и поем Живоначальной Троице трисвятую песнь, отложим теперь всякое земное попечение». С одной стороны, если смотреть глазами плоти, мы видим, что идет шествие людей: идет прислужник со свечой, идет дьякон и несет сосуд с хлебом, идет священник и выносит чашу с вином. Они двигаются из того предела, где заготовлены были дары, для того чтобы поставить их на святом престоле, действие необходимое и простое, потому что приготовленное сначала должно быть принесено теперь в центр молитвенного церковного события. Это физические действия, которые всякий может обнаружить, но одновременно для тех, кто знает, о чем идет речь, здесь явно что-то другое.
Этот хлеб — образ Божия Агнца, Мужа скорбей (Ис 53:3), воплотившегося Сына Божия, агнца, который был приготовлен на проскомидии и заклан, надрезан крестообразно, и так же в чаше приготовлен образ Его крови. Это шествие, когда закланный агнец приносится на алтарь освящения, и молитва, которую священник в это время читает, об этом говорит: «Благообразный Иосиф с древа снем (сняв) пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив и вонями (ароматами) во гробе нове покрыв положи». Это погребальное шествие закланного Агнца, закланного Сына Божия, но за ним мы опять-таки видим другую реальность. Заклание это — не только событие в истории, но и событие, которое покоится в самых глубинах Божией премудрости, это тайна, сокрытая до начала века, это тайна, которая пребывала в Боге как знание о том, что будет, когда человек будет сотворен, когда он отпадет от своей славы, будет ужален смертью и когда Сам Бог станет человеком, чтобы человека сделать Богом, по слову Афанасия Великого.
Поэтому в образе закланного Агнца мы видим покоящиеся в самых глубинах Божественной любви сострадание к человеку и предведение о том,что будет, и спасительное Божие действие. Это то, что можно видеть на земле, но Церковь видит больше. Она видит и знает из опыта церковного, что Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ, что крестная смерть Христа Спасителя была победой над смертью, что не было такого момента, когда воплотившийся Сын Божий был поражен злом, был только миг, когда казалось, будто зло и смерть восторжествовали, тогда как на деле в это самое мгновение зло, и смерть, и ад были поражены смертельной раной. Церковь в этом закланном Агнце, мертвом теле Христа видит уже победу. И она видит еще больше, потому что Тот, Который умер на земле крестной смертью, Тот, Который погребается Иосифом и Никодимом, Тот, над Которым рыдает Мать, Тот, Который оставляет Своих учеников осиротевшими и отчаянными, никогда не разлучался от славы Отчей.
В начале Литургии священник кадит вокруг престола и говорит: «Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в рай с разбойником, и на престоле был еси со Отцем и Духом, вся исполняя, Неописанный (Неограниченный)». То есть, пока Ты лежал плотью Своею во гробе, душа Твоя, сияя Божеством, была в аде, побеждая ад, освобождая пленников от века, как говорит другая церковная песнь. Но вместе с этим Ты был уже в раю с тем разбойником, которому Ты обещал, что он будет в тот же день вместе с Тобою в раю, и все время Ты находился одесную славы Бога и Отца с Духом Святым, Неописанный, то есть неограниченный ничем.
И это Церковь прозревает: в то время, как слепой плотской ум видит только вещественное перенесение хлеба и вина, нужных для совершения таинства, вера прозревает смысл действия. И еще Церковь нам открывает, что это шествие, которое казалось поражением, является славой, и Христос, Который как будто здесь уносится на погребение, одновременно торжествующе движется во славе. Об этом — вторая часть херувимской песни: «яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносимого чинами. Аллилуйя». То есть отложим всякое земное попечение с тем, чтобы встретить Царя всех, Который, как победоносец, носим теперь ангельскими чинами. Аллилуйя: слава Богу, слава Богу, слава Богу.
Вот каким образом переплетается видимое и невидимое, и каким образом через видимое и постигаемое умудренный смыслом человек восходит еще дальше к тому, что невидимо, и открывается вере и раскрывается Богу. Это я привел в пример тех церковных действий, которые так богато нам раскрывают одновременно две разные стороны того же события.
Что касается до Евхаристии, именно это и случается. Богатейший дар и одновременно — наше благодарение. Что Литургия является богатейшим даром Божиим, предельным выражением Божественной любви — нам не трудно понять, но каким образом Литургия может являться одновременно самым совершенным способом нашего благодарения? Тут, мне кажется, нам дает намек на ответ, и больше, чем намек, один из псалмов, который читается в правиле, приготовляющем нас к причащению Святых Тайн. Там говорится: Что воздам Господеви о всех яже воздаде ми? (Пс 11:3) — чем я отплачу Господу за все, чем Он меня одарил? Если поставить этот вопрос, то многие, вероятно, все начнут думать: что я могу дать Богу, что выражало бы как можно более совершенно мою признательность, мою любовь, мое изумление о том, каков Он есть и что Он для меня делает? И поставив вопрос так, мы можем думать, что единственное, что мы можем дать Богу, — это любовь. И на самом деле, в книге Притчей говорится: Чадо, дай мне сердце твое (Притч 23:26). Что мы Богу можем дать? Все — дело Его собственных рук, все принадлежит Ему, но одно мы можем Ему дать, над чем Он не имеет власти — это наше сердце, потому что любовь не может быть получена иначе как дар, как подарок. Святой Максим Исповедник говорит: Бог все может, кроме одного, — Он не может заставить человека Его любить, потому что любовь и свобода неразлучимы друг от друга.
Значит, сердце человеческое можно отдать, любовь можно дать Богу. Но любовь — понятие многогранное. Когда мы говорим о любви, нам всегда думается о радости давать: человеку, которого мы любим, Богу, поскольку мы Его любим, мы хотим что-то принести в дар. Возьмите волхвов, которые, увидев звезду, предварившую приход Спасителя, принесли Ему свои дары — золото, фимиам и мирру. Золото — как царю, фимиам — как Богу, а мирру — как человеку, предназначенному к погребению. И каждому человеку, и Самому Господу мы в той или иной мере хотим принести эти же самые дары. Но любовь не ограничивается принесением дара. Апостол Павел в одном из своих посланий, повторяя слова Христа, которые не записаны в Евангелии, пишет: как говорит Господь, блаженнее давать, чем принимать (Деян 20:35).
В псалме, которым я начал это рассуждение: что воздам Господеви о всех яже воздаде ми? — псалмопевец дает ответ: чашу спасения прииму и имя Господне призову (Пс 115:4). Приму чашу спасения… Для того чтобы быть в состоянии принять дар сердцем открытым, сердцем радующимся, надо не только любить, но надо верить в любовь того, кто дает. В нашем земном опыте это так ясно: если человек, которого мы не любим, нам дает, мы стараемся отплатить чем-нибудь, лишь бы быть свободным от долга благодарности и от душевной связи, которая создается через подарок. Если мы не верим в любовь человека, дающего нам подарок, нам тяжело получать. Только когда, с одной стороны, мы уверены в чистоте, совершенной светлости любви, из которой исходит дар, и, с другой стороны, когда сами любим дающего так, чтобы его дар был для нас чистой радостью, можем мы получить и принять до конца. Но тогда принятие нами предложенного подарка является самым глубоким, самым совершенным выражением нашей благодарности. Вот почему Евхаристия, которая является величайшим даром Божиим, когда она нами принимается сердцем открытым, ликующим, умиленно-благодарным, нежным, является одновременно и самым совершенным нашим благодарением, то есть той самой совершенной радостью, которую мы можем принести Богу.
Это нам важно помнить, потому что Литургия является уже новым соотношением в вечности, радостью не земной, а небесной. Если мы поставим себе вопрос: за что мы благодарим Бога? — мы получаем два ответа. С одной стороны, в Божественной литургии Господь предлагает нам пищу, которая нас делает не только небожителями, но делает нас общниками, соучастниками Божественной природы. Через Божественную литургию, в пределах Церкви, силой и благодатью Божией мы так соединяемся с Христом Спасителем, как члены тела являются одно между собой, с главою и друг с другом. И в этой тайне тела, в котором каждая клетка, каждый член является не частью механизма, где одна часть может быть заменена для того, чтобы сам механизм не был уничтожен, каждый член есть именно плоть от плоти и кость от кости. В этом теле совершается то, что Игнатий Богоносец называл «всецелый Христос», «явление всецелого Христа». Глава вместе со всеми частями тела связана так, чтобы Церковь вырастала из тысячелетия в тысячелетие, принимая все новых и новых живых людей и соединяя их все глубже и глубже со Христом. И это тело становится постепенно всечеловечеством, но не природным, каким мы знаем человечество, и себя, и друг друга, а человечеством, возведенным к настоящему его призванию — быть тем, что есть Христос в отношении к Богу и Отцу.
Здесь есть за что благодарить, но более конкретно еще мы благодарим за то, что Божественная любовь, предлагая нам вечную славу, не предлагает нам собственным трудом, кровью своей только получить небесное Царство. Божественная любовь в воплощении Сына Божия являет нам беспредельность своей жертвенности, своей спасительной солидарности с нами. За это мы тоже благодарим. И тут мы доходим до момента, который очень важен. Если мы действительно, на самом деле, всерьез верим, что через причащение Святых Тайн мы соединяемся со Христом, так что во веки вечные Его слава будет по приобщению нашей славой, что Его Сыновство по нашему приобщению к Нему станет нашим сыновством по отношению к Богу и Отцу, что нашим приобщением на земле начинается приобщение и вечной славе, и временной исторической судьбе Христовой, — если мы хотим с Ним быть во славе, мы должны быть с Ним на кресте.
Помните место в Евангелии, где мать апостолов Иакова и Иоанна, услышав, что Господь идет в Иерусалим, чтобы завершить Свое дело служения, подходит к Нему и начинает молить о своих сыновьях: дай им воссесть одесную и ошуюю Тебя в Царствии небесном (Мф 20:20). И Христос ставит им вопрос: способны ли вы пить чашу, которую Я буду пить? — то есть приобщиться той судьбе, которая Моя судьба;способны ли вы креститься тем крещением, которым Я буду креститься? Здесь выражение, трудно понимаемое на русском языке, но на греческом слово «крещение» значит «погружение»: готовы ли вы погрузиться, уйти с головой во все то, что будет сейчас со Мною происходить? И их ответ: да. И тогда Христос им говорит: Чашу, которую Я буду пить, и вы испиете, крещением, которым Я буду креститься, и вы будете креститься, а кто сядет одесную и ошуюю Меня, то определить не от Меня зависит.
И здесь обетование Христа обращено не к нашим духовным вожделениям, не к мечтам о небесной славе, а к готовности любовь проявить делом: если вы Меня любите, то вы со Мной до конца разделите Мою земную трагическую судьбу. Если вы ее не хотите, значит, вы не хотите делить судьбу со Мной, а хотите только трагедией Моей жизни и смерти извлечь себе пользу, выгоду… Это та же самая картина, как то, о чем мы говорили в прошлый раз, когда я упоминал о человеке, который вошел в небрачной одежде на пир Господень: ему не нужно было быть гостем, ему нужна была предложенная пища. Глубокое отношение гостя и хозяина ему было неинтересно, он только хотел хлеба.
В Евангелии мы находим нечто подобное в другом месте, когда люди хотели Христа сделать царем, после того как Он их накормил хлебами и рыбой в пустыне. Он им говорит: вы потому этого хотите, что вы ели хлеб (Ин 6:26). Тут та же самая тема: если нас со Христом соединяет любовь, то эта любовь нас должна сделать неразлучными с Ним в трагедии Его жизни, и если наша любовь совершенна, то мы должны быть готовы с Ним разделить трагедию крестной любви, проявленной в Нем, даже не задумываясь над тем, что потом будет. Достаточно нам так любить, чтобы с Ним быть одно во всем, но конечно, раньше всего в горе, в страдании, в трагедии, а только потом в ином. И здесь третий аспект вообще любви — способность не только давать и получать, но так крепко соединиться с любимым, чтобы жить только им и в нем, иначе сказать, умереть для себя с тем, чтобы жить для него.
И это сказывается тоже в Божественной литургии, когда мы благодарим Бога не только за Его благодеяния, но за все в жизни, не ограничивая никаким образом нашу благодарность. Потому что если мы во Христе, все в жизни является нашим со-участием в Его судьбе на земле, за исключением нашего греха, который и является тем, что должно быть очищено и изжито.
И тут я хочу сказать одно слово о последнем выражении, характеризующем Литургию: «кинония», общение. Общение со Христом, во Христе с Духом Святым, действием Святого Духа, Который есть Дух сыновства, неизреченно взывающего в нашем сердце Авва, Отче (Рим 8:15), с Отцом, так что Духом Святым наша жизнь сокрыта со Христом в Боге, как говорит апостол Павел в Послании к колосянам (Кол 3:3).
Но кроме того, это общение идет не только в глубь вечности, но и в ширь времени. Все те, которые из одной чаши причастились Тела и Крови, сроднились через Христа в одну единосущную семью, приобщенную истинному человечеству Христову, — это новая тварь, о которой говорит Священное Писание: во Христе вы стали новой тварью (2 Кор 5:17) не только нравственно, но всем, что только в нас есть. Приобщаясь Святых Тайн, мы приобщаемся Христу Спасителю, через Него сродняемся неизреченным образом с Духом и Отцом, но одновременно приобщаемся и соединяемся по-новому, по-благодатному, по-небесному и чудесному со всей тварью, со всяким человеком, и дальше человека — со всем тем, что Богом сотворено и что в Боге движется и имеет свое бытие.
III
Каждая церковная и частная молитва, каждая православная молитва начинается всегда призыванием Святого Духа. Часто нам объясняется, что мы только Духом Святым можем обратиться к Богу. Это Тот Дух, Который есть Дух Христов, Дух сыновства, и только вдохновением Святого Духа мы можем обращаться к Богу и Отцу именно как к Отцу, только Он в глубинах нашей души может нас подвигнуть к тому, чтобы говорить Богу Авва, Отче (Гал 4:6). И это правда.
Но настаивают также и на том, что всякая церковная молитва построена по схеме нашей веры во Святую Троицу. Духом Святым нам дается познание Христа, без вдохновения Святого Духа, без того чтобы Он нам открыл, что Иисус есть Христос Сын Божий, мы этого познать не можем (1 Кор 12:3). И дальше, как говорит Сам Спаситель в Евангелии от Матфея, никто не знает Сына токмо Отец, ни Отца никто не знает токмо Сын и ему же аще волит Сын открыти (Мф 11:27), то есть никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына и тех, которым Сын эту тайну откроет, если захочет и как захочет.
Таким образом Дух Святой нам открывает ведение Христа, приводит нас к познанию Его как Бога нашего, как Спасителя и как Сына Отчего, и это познание, вернее, Христос, нами познаваемый, оказывается, по Его собственному выражению в Евангелии от Иоанна, дверью (Ин 10:7), через которую надлежит войти, которой надлежит пройти для того, чтобы через Сына познать Отца. И только пройдя Духом Святым путем Сына, мы можем подойти к Отцу и поклониться Ему в Духе и в Сыне.
Но, кроме того, надо обратить внимание на чрезвычайно важное свойство молитвы Святому Духу. Евангелие нас учит, что Дух Святой был послан Сыном от Отца сначала совокупности всей Церкви, как нам повествует об этом Евангелие от Иоанна в 20-й главе, в вечер Воскресения Господня, когда Спаситель стал посреди Своих учеников, дунул и сказал: Примите Святого Духа (Ин 20:22). И затем, пятьдесят дней спустя, в день, который мы называем праздником Святой Троицы, этот же Святой Дух, живущий в Церкви, был дан каждому из учеников Христовых, созревших к тому. До этого Дух Святой, конечно, был, Дух Божий дышал над водами, как нам рассказывает начало книги Бытия (Быт 1:2). Духом Божиим созданы небеса и земля, Дух Божий вдохновлял пророков, но Его отношение к твари было как бы внешнее. Теперь Он вошел в совершенно новое отношение к твари через искупление, совершенное Христом, и через дар Святого Духа Церкви, которая стала храмом Святого Духа, местом Его пребывания на земле, стал как бы внутри-тварным. Но Дух Святой, который дается Церкви, это уже предвкушение тайны будущего века. Познание Христа в каком-то смысле (конечно, далеко не полном) находится в пределах исторической судьбы мира. Христос стал человеком, Христос есть Спаситель, и мы Его познае{'}м как Судию на грани между временем и вечностью. И только в вечности мы Его позна{'}ем в полном смысле как Слово Божие в Его таинственном соотношении с Отцом. Но Дух Святой и Его присутствие в мире, в пределах Церкви, уже дает нам предвкусить тайну будущего века.
В этом отношении призывание Святого Духа в каждой церковной молитве говорит о том, что всякая церковная молитва, будь то частная, будь то коллективная или всецерковная, уже за пределом нашего исторического становления. Эта молитва уже принадлежит вечности, хотя она происходит в этом мире, точно так же как земная жизнь Церкви есть уже жизнь будущего века в пределах нашего времени. Это небо на земле, пока земля еще не прошла. Это еще не будущий век, когда будет новая земля и новое небо (Откр 21:1—2), но это уже соединение вечного и временного.
Так что призывание Святого Духа, с одной стороны, является нашим свидетельством о том, что мы действительно находимся в пределах вечности, а не только в пределах времени, а с другой стороны, призывая Святого Духа, мы Его умоляем расширить наше временное бывание до безмерных пределов вечного.
В одном месте Литургии это как-то особенно ярко чувствуется: это то место, когда перед освящением Святых Даров, перед тем, как священник произносит над ними слова: и сотвори хлеб сей пречистое Тело Христа Твоего, а яже в чаше сей — честную Кровь Христа Твоего, — перед этими словами возносится молитва Святому Духу. Очень важно понять, какое она имеет значение. Речь не идет о том, Которое Лицо Святой Троицы совершает это чудо изменения хлеба в Тело Христово и вина в Кровь Христову. Во всяком действии нашего спасения со-действуют, со-участвуют все Три Лица Святой Троицы. Речь идет не о том, как совершается это чудо преложения Святых Даров — именем ли Христовым и повторением Его слов, как считается у западных христиан, или действием Святого Духа, как ожидаем мы. Речь идет о том, что самое чудо освящения Святых Даров немыслимо как событие земное, совершающееся только в пределах земли или даже в пределах времени. Это событие, которое возможно только в вечности, когда мы уже будем находиться или, вернее, когда мы уже находимся как бы предварительно, как бы упреждая ход истории, в Божией вечности.
Тут эсхатологический момент имеет центральное и решающее значение. Вся церковная действительность, включая этот хлеб и это вино, вдруг становится содержанием вечности, а вечность — содержанием данного мгновения времени. В этой вечности нет ни «раньше», ни «позже», ни «теперь», а все со-присутствует Богу, все одновременно содержится в Нем. Тайна вечери Христовой, первой Евхаристии, первой Литургии, совершенной самим Спасителем, делается реальностью данного мгновения. Это не повторение, не изображение того, что когда-то произошло, но сама сверхвременная реальность: мы входим в вечность, где нет ни прошлого, ни будущего, а только одно настоящее. Очень важно понять, что весь смысл, все значение этой молитвы в том, чтобы подчеркнуть в нашем сознании и осуществить в церковном опыте этот переход от времени к вечности, от непрерывного течения, изменения, становления и относительности к абсолютному, безусловному, неизменному. «Неизменность» здесь не есть неподвижность, но преизбытствующая творческая жизнь, в которой одно мгновение не вытесняется другим, как на земле, а входит во всеобъемлющую полноту жизни.
Мы начинаем Литургию тоже призыванием Святого Духа. Перед тем как произнести первые слова: Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа… — священник молится именно молитвой Святому Духу, Царю Небесный. Уже раньше, когда он совершал проскомидию, то есть приготовление, все обрамлялось мыслью, что Литургия вневременна, что она совершается и пребывает в вечности, являя вечность в пределах времени. Только это делает возможными некоторые другие свойства и черты Литургии. Это позволяет рассматривать Литургию как благодарение и делает возможным для христианина, поскольку он приобщен духу Церкви, духу Христа, приносить это всецелое и порой почти невыносимое для наших человеческих способностей и сил благодарение за все, такое благодарение, которое охватывает не только счастье, не только очевидные благодеяния Божии, не только как бы даже скрытые Божии благодеяния, но охватывает и всю трагедию мира, охватывает все без исключения, не оставляя в стороне ничего.
Так благодарить можно только в вечности, потому что только в вечности можно оглянуться на всю трагедию мира и истории и увидеть ее оправданной и осмысленной. Только когда все совершится, все будет завершено, все будет закончено, сможет тварь сказать, что Бог был прав. До этого происходит постоянное борение между безусловным доверием к Богу и ужасом, который охватывает тварь перед лицом ею переживаемого. Вы наверно помните место из книги Откровения Иоанна Богослова, где нам говорится, что, когда все совершится, станут мученики, и восхвалят Бога, и скажут: Ты был прав, Господи, во всех путях Твоих (Откр 15:3; 16:7). Или то место из Евангелия, где Христос нам говорит, что премудрость будет оправдана детьми своими (Мф 11:19). Это возможно только когда все совершилось, когда все завершено и тварь может взглянуть и понять, что действительно премудр замысел Господень, несмотря на всю трагедию земли, на все страдания, на весь ужас, на все то, что разрывало душу и тело твари, — Бог был прав в Своем замысле и прав в Своих путях его осуществления. И только если мы врастаем в вечность, то есть только если мы живем Духом Святым, если мы прошли тесными вратами, дверью, которая есть Христос, если мы прошли путем, который есть Сам Христос, — Он Сам, а не просто что-то — и вошли в устойчивые пажити вечности (Ин 10:9), можем мы это сказать.
В этом отношении мы не должны обманываться: для нас чрезвычайно трудно рассматривать Божественную литургию, Евхаристию как благодарение и всецело в этом благодарении участвовать. Хотя каким-то краем души, а иногда почти всей душой мы касаемся тайны вечности, мы колеблемся, тогда как все, что мы можем сделать, это повторить слова одной из тайных молитв евхаристического канона, которую священник произносит перед словами: Поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще, где он говорит: Благодарим Тя, Господи, за все, за все Твои благодеяния ведомые и неведомые, как бы прикрывая этим словом «неведомые» и то, что мы назвали бы благодеянием, и то, что, по нашей немощи и неспособности познать пути Божии, мы не в силах назвать благодеяниями.
Я думаю, что нам чрезвычайно важно это понять для того, чтобы место Святого Духа в Божественной литургии стало ясным, потому что положение Святого Духа сложное в нашем понимании и в нашем богословии. Он неуловим. Как говорил Владимир Николаевич Лосский в одной из своих лекций, Отец открывается через Сына, Сын открывается через Духа, а Дух остается в тайне невыразимого опыта. По слову святого Василия Великого, Сын является как бы печатью, которая нам раскрывает иначе непонятную тайну Отца. Дух Святой открывает нам глаза и раскрывает душу для того, чтобы мы узнали во Христе Того, Кто Он на самом деле есть. Но Дух Святой остается неуловим, неопределим, о Нем и Спаситель сказал: Дух дышит, где хочет, откуда Он приходит и куда Он идет никто не знает (Ин 3:8). Единственное, что мы можем о Нем знать, это что Он нас коснулся, как ветер. И вместе с этим Он дышит во всей Божественной литургии. Как я уже говорил, Он Литургию раскрывает до беспредельности не только охвата в том смысле, что Литургия своей молитвой, своей заботой охватывает весь мир, всякого человека, всякое положение или состояние и нужду. Он раскрывает Литургию до глубин вечности, перенося нас в вечность вместе с тем временем, в котором мы находимся, как бы врываясь во время и разверзая его до пределов беспредельности, как выражается святой Максим Исповедник. Но, кроме того, Дух Святой присутствует во всей молитве Церкви, потому что, как я сказал в начале, Он есть Дух Христов, Дух сыновства, и только Его силой, действием, вдохновением мы оказываемся способными обратиться к Богу как к нашему Отцу: Авва, Отче!(Гал 4:6).
И тут я хочу подчеркнуть второе особое свойство Литургии. Божественная литургия — единственная служба, которая вся обращена к Отцу — через Сына, в Духе Святом. Она обращена именно к Отцу, и это понятно (поскольку вещи нам вообще понятны), потому что Литургия — действие всей Церкви, которая есть тело Христово и храм Святого Духа. Это действие Церкви, понятой как Тело Христово, где Глава Христос и Его члены составляют одно неразделимое целое, которое Игнатий Богоносец еще в I веке называл «всецелым Христом». И в этом теле Христовом, в единстве Самого Христа и всех тех, которые являются живыми членами Его тела, живет Святой Дух, данный сначала всей Церкви, а потом каждому лично, это тело является храмом, притом живым, трепетным храмом, пронизанным присутствием Святого Духа. Это тело по отношению к Отцу находится в исключительном, единственном и неповторимом положении.
Вот до какого непостижимого величия нас возводит Литургия. Это действие через нас, в нас и вместе с нами Самого Сына Божия. Литургия не является просто действием какой-то человеческой общины как таковой, как группы людей, которая устремлена к Богу. Это действие Сына Божия Единородного и нас, живых членов Его тела. В этом смысле Литургия всегда и бесконечно больше каждого из нас и всех нас. Не только ее вместить до конца мы никогда не сможем, но мы никогда не сможем вырасти в ее меру. Она всегда будет тем пределом, к которому мы можем стремиться и которого достигнем только тогда, когда все уже будет завершено, за пределом Страшного суда. Но уже на земле Литургия, в силу того что является делом Единородного Сына в совокупности со всеми теми, которые Духом Святым являются в Нем живыми членами этого тела, нас ставит по отношению к Отцу в абсолютно единственное, неповторимое и ни с чем не сравнимое положение. Вот почему Литургия является единственной службой, обращенной к Богу и Отцу не посредством Сына, а в Сыне, потому что тут действие Сына, не только Иисуса из Назарета, но всех нас, ставших одним телом, одним существом с Ним и одновременно храмом Святого Духа.
Ответы на вопросы
Когда можем мы сказать: «Да, Господи, Ты прав»?
Я думаю, что дело вот в чем. Напряжением всех сил нашей веры и при очень значительной нашей ослепленности, когда мы просто не видим перед собой пути, не видим ответа, мы можем сказать: я не сомневаюсь, что Бог в конечном итоге прав, но я не понимаю… Например, отец Софроний говорит в своем введении к русскому изданию книги о старце Силуане, что часто стоишь перед Богом и говоришь: «Я не могу, Господи, Тебя понять». Это может выражаться просто в нашем стоянии перед очень сложной, глубокой тайной всего в целом. Это может быть созерцательное, благоговейное настроение, когда мы стоим и видим перед собой непостижимое и говорим: «Господи, я не понимаю Тебя! Однако это лишь показывает, что я только напряжением веры могу принять Тебя».
Но гораздо чаще в жизни, особенно когда мы сталкиваемся с острым, тяжелым, как будто бессмысленным горем в своей или в чужой жизни, в событиях мира и т. д., мы идем дальше. Мы говорим: «Я не понимаю», но с таким оттенком, будто только отказавшись от понимания вообще, можно не взбунтоваться и не отвернуться. Я не говорю сейчас, что это законно или правильно — это просто факт. Та цитата, которую я давал, — это указание Иоанна Богослова, что когда все, что Бог решил совершить для спасения мира, будет совершено, когда все это принесет плод победы, тогда человек увидит, что Бог победил не для Себя, а победил для всех. И тогда все страдания, свои и даже чужие, весь ужас истории откроется перед нами как пройденный путь, не бессмысленный, а единственно возможный путь к тому, чтобы дойти до того состояния и до того взаимоотношения с Богом, которые Бог задумал для нас: чтобы мы были вовеки Его друзьями и разделяли пир с Ним в том смысле, в котором я старался этот пир объяснить в первой беседе. И тогда человек сможет сказать: «Да, Господи, Ты был прав!».
Бог хочет нашего спасения, и Он нас к этому ведет, а мы все время делаем вещи, которые не соответствуют Его промыслу. Зачем молиться «да будет воля Твоя», если мы не творим волю Его?
Нельзя сказать, что все случающееся в мире является положительной волей Божией в том смысле, что Он хочет каждого события. Но при каждой ситуации всякое событие, всякая встреча, сложное пересечение людей и вещей является Божиим как бы творчеством, которое нам дает возможность, если мы только вникнем в Божии замыслы и не станем искать своего разума и воли, поступить правильно в пределах иногда уродливого положения. После того как Адам и Ева съели свое первое яблоко, все заколебалось, и теперь нет такого положения, которое можно назвать нормальным с точки зрения Бога. Все ненормально, потому что мы живем в падшем мире.
И Бог не только терпит. Он вместе с нами постоянно творчески старается и в нас что-то менять, и через нас что-то в мире менять, но мы-то очень часто, вместо того чтобы быть Ему сотрудниками, стараемся по-своему поступить. Мы говорим: «Ты, Господи, подожди, я это устрою, как надо, а уж потом мы поговорим. Ты говоришь: подставь ему другую щеку. Я ему сначала в зубы дам, потом подставлю щеку, и Ты увидишь, так будет гораздо лучше». И в каком-то смысле это, к сожалению, оправдывается на малюсеньком отрезке времени, потому что когда человека побьют, он становится смирным на какое-то время. И в результате мы говорим Богу: «Видишь, а если бы я подставил щеку, что было бы?». И так мы делаем со всеми заповедями Господними, с Его советами, со всем тем, что составляет Его точку зрения на жизнь. Если бы мы исполняли то, что уже знаем как волю Божию, мы, может быть, что-нибудь узнали бы и о другом. Но беда в том, что и то, что мы знаем, мы не делаем. Например, есть какие-то основные правила, которые Господь нам предложил, а мы говорим: «Это я слышал, а Ты мне лучше скажи, что мне делать в этом специальном положении. Ты же говорил Серафиму Саровскому!». Дело только в том, что раньше, чем Серафим Саровский услышал от Бога: «Скажи Мансурову — встань и иди», Серафим Саровский сорок с лишком лет творил Его волю в других областях. Вот единственная между нами и им разница. И мы постоянно хотим частного откровения для данной минуты, всегда оставляя в стороне общее откровение на все времена.
Кроме того, мы очень редко даем себе время посмотреть на вещи, мы большей частью спешим что-то сделать. Если посмотришь на жизнь святых: сколько лет они просто вглядывались в жизнь до того момента, когда что-то в ней увидят. Знаете, бывают для детей такие беспорядочные рисунки с вопросом: «где заяц?». И вот держишь картинку, вертишь во все стороны, смотришь, смотришь и не видишь. Потом вдруг замечаешь зайца и тогда удивляешься, как можно было его не видеть. Так мы живем на самом деле. Жизнь является очень сложной картиной, в которую вписаны и заяц, и охотник, и собака, и многое другое. Если вместо того чтобы сказать: «собаки не видно, я сам буду лаять», мы сели бы и смотрели с уверенностью, что если достаточно долго молчать, смотреть и быть свободным от предрассудков и преждевременных решений, то мы увидим — мы, может быть, и увидели бы, и тогда нужно было бы что-то делать. Но нам кажется, что если я сейчас что-то не сделаю, то все пропадет, как будто вообще нет Бога, Который и за этим может посмотреть. Нам кажется, что если мы сейчас же чего-нибудь не сделаем, то случится что-то непоправимое. Но то, что мы делаем, часто более непоправимо, чем если бы мы переждали и попробовали понять. В некоторых областях это совершенно очевидно и ясно. Скажем, когда вы зовете врача, он вас сначала осмотрит, прослушает, потом подумает, может, опять придет, и только тогда, часто после нескольких недель, скажет: теперь я понимаю. Но в жизни мы так не поступаем, мы хотим сразу, как только увидели, так и действовать. Но для этого надо быть святыми, вот в чем проблема. Бог тоже не доволен падшим миром и знает, что мир не таков, каким Он его задумал, но знает тоже, что Он мир так сотворил, что он в конечном итоге оправдается.
IV
В прошлой беседе, если вы ее еще помните, я говорил о том, что призывание Святого Духа, которое является характерной чертой во всяком таинстве, и особенно в Литургии, является раскрытием перед нами того, что веянием Святого Духа, Его жизнью в Церкви мы находимся уже в будущем веке. И тем, что мы уже в будущем веке, обусловливается и освящение Святых Даров.
Теперь мне хочется отметить другую черту: это присутствие и веяние Святого Духа относится не только к Святым Дарам, к хлебу и вину. Дух Божий заполняет Собой весь храм, и всякий человек, всякий верующий, который в нем находится, тоже погружен уже теперь, в пределах нашего исторического времени, в это непостижимое присутствие вечности. Освящение, которое теперь совершается, является не только освящением Святых Даров, хлеба и вина, но одновременно — всех собравшихся. В этом смысл последнего, предельного возгласа, который вы слышите перед причащением Тайн, перед причащением священника и затем мирян. После дьяконского возгласа «Вонмем!», то есть «сосредоточим внимание, сейчас будет сказано что-то решающее, что-то имеющее основное значение», священник возглашает: «Святая святым», то есть — то, что было освящено — тем, которые освящены, то, что Божие, — народу Божиему.
И это предел того двойного ряда освящений, который можно проследить через всю Литургию. Потому что, как, может быть, мне удастся вам показать, когда мы будем подробнее разбирать самый ход богослужения, шаг за шагом не только Святые Дары освящаются, но приготовляется всякий верующий и вся совокупность верующих к тому, чтобы, освященные Духом Святым, они стали способными принять Святые Дары. В молитве, которая предшествует освящению Даров, священник молится о том, чтобы Дух Святой сошел на нас — то есть на народ — и на Дары. Если Дух Святой не сойдет на народ, если народ не станет по-новому народом Божиим, если он не будет освящен веянием и вселением Святого Духа, то некому принять приобщения Святых Тайн, не для кого совершать это таинство.
Поэтому так важно, чтобы всякий человек, который собирается принять участие в Литургии, пусть даже не причащаясь, а молясь, присутствуя, участвуя молчанием или действием или пением в Литургии, себя готовил так же сосредоточенно, так же серьезно, как мы приготовляем святой хлеб и святое вино для совершения таинства. И поэтому так важно, чтобы все без исключения в храме были настроены, чтобы это был действительно Божий народ, тело Христово, ожидающее сошествия Святого Духа, Который коснется каждого, освятит каждого, кто будет себя к этому готовить и будет к этому стремиться. Иное отношение к Литургии кощунственно, и это мы все должны помнить и понимать. Будем ли мы причащаться или нет, мы должны одинаково готовиться к участию в этом таинстве, потому что участие начинается нашим приходом и тем, что вместе с другими мы составляем Церковь, Божий народ, и мы не имеем права вносить сюда что бы то ни было, что не есть Божие.
В этом смысле мы должны быть предельно строги и честны, и в древней Церкви было правило, что никто не остается на той части Литургии, в которой он не может до конца принять участие. Этим объясняется то, что в какой-то момент оглашенные высылались из храма, позже кающиеся высылались из храма, позже еще выходили из храма те, которые не будут причащаться, потому что нельзя принимать участие в том или другом частично. Это не значит, что обязательно причащение за каждой Литургией при определенных условиях, о которых мы еще будем говорить, но пока я подчеркиваю эту сторону. И всякий участник в Литургии, то есть всякий человек, который на ней присутствует и молится, несет ответственность за неоскверненность святыни, потому что эта святыня дается не тому или другому причастнику, а дается в совокупности всему телу церковному.
После молитвы, в которой священник просит Господа Отца ниспослать Святого Духа, вернее, просит Христа послать Духа Отчего на народ и на Святые Дары, следуют две другие молитвы. Одна молитва, где священник умоляет Господа послать Духа Святого на нас так же, как Он послал Его на Своих апостолов, потому что, как я уже сказал, если некому принимать Тайны, то не для кого совершать таинства, и вторая — молитва освящения Святых Даров. Здесь соединяются воедино эти два течения, эти два ряда освящения, постепенных, прогрессивных, которые шаг за шагом ведут к встрече верующего со своим Господом в таинствах и в молитве.
Здесь я хочу сразу перейти на другую тему. Я сказал о том, что встреча с Господом происходит в таинствах, отцы древней Церкви это подчеркивали постоянно. Они подчеркивали, что таинство является дверью к познанию Бога. Познать Бога умом, переживанием вне таинств невозможно, потому что только через таинства мы приобщаемся к непостижимой жизни и реальности Божией. Только познав ее изнутри через таинства, мы можем начать ее знать всеми свойствами нашей человеческой природы — и умом, поскольку Бог уму открывается, и сердцем, и телом, и всем нашим естеством.
И тут встает вопрос о том, каким образом Бог раскрывается нам, людям, через вещество этого мира — через воды Крещения, через миро Миропомазания, через Хлеб и Вино освященные, Тело и Кровь Христовы в Божественной литургии, через освященное масло в Помазании больных и так далее. Каким образом то видимое вещество, которое нас окружает, которое кажется нам мертвым и недуховным, может стать путем, каким до нас доходит Божественная благодать? Каким образом Бог до нас доходит через вещество, тогда как мы, люди, оказывается, неспособны до Него подняться ни верой, ни молитвой, ни любовью, ни всей устремленностью иногда очень глубокой и мощной души?
Мы всегда думаем о материи, о том, что в нашем мире видимо, осязаемо, как о мертвом веществе, но не таково учение ни Ветхого, ни Нового Заветов и не таков опыт верующих в Церкви. Ветхий Завет нам ясно показывает, что Бог ничего не создал мертвым, таким, что оно не может быть в Боге, не может жить Богом, не может быть Ему послушным, не может жить в Божественной гармонии. Все Богом созданное способно на какое-то для нас непостижимое познание Бога и жизни в Боге. В Ветхом и Новом Заветах ярче всего об этом говорят чудеса.
Есть чудеса, в которых как связывающее звено участвует человеческая душа, — чудеса исцеления, например. Но есть другие чудеса, где человеческая душевность, вера, сознание не участвуют никаким образом. Это чудеса, которые Бог совершает над самой природой. Вспомните, например, усмирение бури на море Тивериадском, когда Христос, встав на корме лодки, которая погибала, обратился к ветрам и морю и повелел им стать тихими, умолкнуть (Мк 4:36—41). Такое чудо можно понять и объяснить только двояко: это либо насилие, совершенное Богом над природой, которая бесчувственна, которая не воспринимает Божие слово, но порабощена Божией властью. Это то, что называется магией: власть воли над бесчувственным естеством. Но не таково отношение Христово, не таково отношение Бога в Ветхом Завете. Мы видим, что все Ему послушно, об этом постоянно говорит, например, Псалтирь (18:2, 96:6 и др.). А послушно — значит способно услышать Божий глас, и, услышав Его, откликнуться радостью, и войти в ту гармонию, которую только Божия воля может установить и глас Божий может восстановить. Таким образом, мы видим, что природа создана Богом таковой, что она Его волю принимает, что она чутка и понятлива.
С другой стороны, есть основное чудо Ветхого и Нового Завета — это воплощение. Мы о воплощении Слова Божия думаем постоянно в категориях человеческой истории, нашего спасения, и думаем о том, что Сын Божий стал Сыном человеческим, что Слово Божие стало человеком. А вместе с тем Священное Писание нам говорит, что Слово плоть бысть, Слово стало плотью (Ин 1:14). Есть в воплощении два аспекта: с одной стороны — спасение мира, спасение человека, восстановление совершенно небывалых взаимоотношений между Богом и человеком. Но, с другой стороны, есть еще нечто. Бог, вочеловечиваясь, становится человеком не только по отношению к его душе, но и по отношению к его плоти. Божество соединяется с человеческим физическим естеством, так же как Оно соединяется с человеческим душевным естеством. Об этом говорит, например, то, что мы верим, что Тело Христово оставалось нетленно во гробе, потому именно что это тело не разлучилось с Божеством, тогда как оно разлучилось с человеческой душой Богочеловека.
И есть целая проблема вещества по отношению к воплощению, по отношению к Богу, которая недостаточно продумана. Бог соединяется с веществом Своего неповторимого человеческого тела, и в этом соединении раскрывается что-то совершенно изумительное. Оказывается, что физическая природа способна быть богоносной, что видимый наш мир, пусть в единственном пока примере, оказался способным соединиться с Божеством и не сгореть в этом огне. Это говорит о том, чем может быть наш видимый мир. Об этом уже можно кое-что предчувствовать, предвидеть в чуде Преображения Господня, потому что Евангелие нам ясно говорит, что не только свет Божественный, нетварный лился от Христа, от Его рук и лика, но и одежда на Нем просияла светом, охваченная благодатным состоянием как бы внутри славы Божией.
И то же самое мы видим в таинствах. Хлеб и вино веянием, благодатью, наитием, силой, действом Святого Духа делаются Телом и Кровью Христовой, Божество соединяется с природой этого мира. Опять-таки это имеет громадное и недостаточно исследованное значение — о нем говорили древние отцы, а потом оно забылось. Значение в том, что воплощение Христово имеет всемирное значение, значение для всей видимой твари, для всего вещества видимого мира. Воплощение Христово по своему существу космично, потому что случившееся с плотью Богочеловека — это только явление того, к чему призвано все видимое, вся видимая, материальная тварь.
Поэтому совершение таинств имеет значение не только для нас, людей, которые приобщаются им, но имеет вселенское, космическое значение. Когда Христос стал человеком, этот видимый нами мир принял в себя Божество, соединился с Ним и вырос в совершенно небывалую меру. В Вознесении же Господнем мы видим, что то же самое тело Христово, пусть воскресшее, но все равно человеческое тело, то есть вещество этого видимого мира, возносится, и Христос восседает одесную Бога и Отца, и наша вещественность, видимый состав этого мира входит в самые глубины Троичной тайны. И каждый раз, как совершается таинство, вещество нашего мира переживает перемену.
Что случается на самом деле с этим веществом в таинстве? Своей верой, тем, что он — Божий, человек изымает из контекста падшего, греховного, тленного мира какую-то, пусть самую малую, частицу: небольшое количество воды, которая станет крещальными водами или водами Богоявления, или частицу хлеба и немного вина, или масла, или то сложное вещество, которое мы называем миром. Оно изымается из контекста греха, падения, обезбоженности и человеческой верой приносится в дар Богу. И Бог дар принимает, и эти воды, этот хлеб и вино, и масло, и миро вырываются из тленного мира и возвращаются в нетленный. Они возвращаются в свободу, они делаются такими, какими их задумал и создал Господь. Больше того: при сотворении они создавались со всеми возможностями преображения, а теперь сошествием и действием Святого Духа они уже принадлежат тайне будущего века и делаются такими, какими будут явлены в будущем веке.
Но они потому делаются способными принять благодать, что они исполнены силой Святого Духа. Они делаются способными и нас омыть от тления, и нас приобщить к миру нетленности, к миру, который за пределом смерти, к миру вечной жизни. Таким образом, Бог соединен с веществом в таинствах, но ясно, что Он соединяется с веществом разно. Воды Крещения остаются водами, они освящены, они очищены, они преображены, они исполнены благодатной силы. Но хлеб и вино, которые освящаются в таинствах, не только изъяты и преображены, они приобщены лично к тайне воплощенности Слова Божия, они являются Телом и Кровью Христа. И еще иначе соединяется благодать Святого Духа с миром. Мы верим, что когда человек помазуется святым миром после Крещения, он получает печать дара Святого Духа, и что в этой печати, в этом запечатлении он получает Самого Святого Духа, в него вселяется Господь Бог Святой Дух. Каким образом по молитве Церкви, через освящение этого вещества Святой Дух соединен с ним — нам непостижимо, потому что это миро не есть Святой Дух, и однако, оно дает нам Духа Святого.
Так же можно было бы говорить дальше и о других таинствах, в которых вещество как будто и роли не играет, где вещество заменяется словом — словом освящающим, словом очищающим, обновляющим, как в таинстве покаяния, где словом Божиим разрешаются грехи, или в таинстве брака, где слово Божие соединяет двух воедино. Или есть очень глубокая, интересная молитва на освящение колоколов, где молятся о том, чтобы Господь дал благодать этому колоколу своим звуком пробуждать в жизнь вечную заснувшие души.
В совокупности всего этого мы видим, что в Божественной литургии речь идет действительно о таинстве будущего века, когда не только проснутся человеческие души к вере, к надежде, к любви, к евангельской жизни, к устремленности к Богу; речь идет о том, что пришла эта жизнь и собой охватывает всего человека и, за пределом человека, все естество видимого мира. И происходит это воплощением Христа, освящением Тайн и изменением через приобщение человеческого естества, которое теперь стало духоносным и Богоносным.
Здесь начинается и завершается какой-то круг. Он начинается верой человека и Божиим действием, он продолжается через освященность, преображенность, духовность, богоносность видимого вещества. Он возвращается к человеку, освящая и обновляя его, приобщая тайне будущего века. Но приобщенный человек остается свободным, и здесь начинается новый круг веры, горения, духовного роста, оставления, возвращения, обновления через покаяние, очищение словом, державным Божиим словом и новым освящением духоносной, богоносной вещественностью нашего мира.
V
Литургия совершается ради тела Христова, живого организма, который, кажется, Хомяков называл «организм любви». Поэтому первое ее действие — собирание народа, не толпы, а общины, которая стоит перед лицом Божиим и только тогда может стоять достойно перед Божиим лицом, когда эта община есть организм любви.
Отсюда прямое следствие — то, что говорит Спаситель: если соберешься в храм и вспомнишь, что брат твой на тебя что-либо имеет, оставь свой дар, пойди примирись с твоим братом и только тогда иди в храм (Мф 5:23—24), потому что вне таинства любви присутствие в храме бессмысленно. Если у нас нет сил, надо бороться, но нельзя принимать за нормальное, естественное — стояние в храме с чувством отчужденности по отношению к тем, которые в одном храме с вами стоят. Они являются плотью от плоти вашей, костью от кости вашей, они являются единым телом Христовым, в котором каждый член дорог и значителен для других. Вспомните слова Павла: может ли болеть один член тела без того, чтобы все тело не страдало? Может ли радоваться один член без того, чтобы эта радость не простиралась на всех? (1 Кор 12:26). А если не так, то это не Церковь, и тот, кто вне этой тайны любви, также вне тайны Божественной литургии. И это надо воспринимать самым резким, беспощадным, прямолинейным образом. Потому у нас так все слабо, так все неглубоко, что мы гораздо легче относимся к нашему участию в Божественной службе.
Первое — подготовка, приход в храм. Если мы воспринимаем храм как Церковь, которую мы все составляем, тогда понятны наставления отцов Церкви и духовных писателей и мои настойчивые призывы к тому, что в храме должны царствовать совершенная тишина и безмолвие: это время, когда мы можем встретиться друг со другом только на глубинах, а совсем не на той поверхности, которая сказывается приветствиями, улыбками, разговорами.
Мы все знаем, как трудно собраться, как трудно сосредоточиться, войти в себя, установиться на той глубине и на той точке молитвенного покоя, где можно стоять перед Богом. И всякий человек, который не делает этого для себя, поступает преступно и по отношению к себе, и по отношению к святыне, которая будет совершаться. Он относится к ней небрежно, сознательно небрежно, и подпадает под суд опять-таки библейского слова: проклят всякий творящий дело Божие с небрежением (Иер 48:10). Горе ему! И кроме того, всякий, кто не дает другому войти во внутреннюю клеть своей души, углубиться и вмолчаться в тишину, стать перед лицом Божиим, поступает преступно, потому что нарушает самое основное в общей молитве. Общая молитва может начаться только из этих глубин, общая молитва не начинается на поверхности, на поверхности может быть почитание Бога устами, могут быть те или иные действия, которые можно совершить почти без внимания, но это не молитва, это не церковное предстояние. На этой плоскости мы Бога не встречаем или встречаем только самым краем души, где хоть на небольшой глубине мы все-таки можем что-то ощутить и пережить. Поэтому всякий приходящий в храм обязан молчать, обязан хранить свою душу для Бога и обязан и чужую душу уберечь, и кто этого не делает, тот в каком-то смысле делается преступником против чужой души и всецерковной молитвы, против тайны предстоящей Богу Церкви. И это, повторяю, надо воспринимать в самом резком, точном смысле этих слов.
Настоящая молитва не в устах начинается. Настоящая молитва идет из глубин человеческого сознания. Мы все знаем, что иногда находит на нас какая-то углубленность, внутренняя духовная тишина, которую и не хочется нарушить ни словом, ни движением, которая понуждает нас закрыть глаза, умолкнуть, утихнуть до самых недр нашей души. И когда мы уйдем так далеко в глубины наши, что найдем точку соприкосновения с вечностью, тогда мы можем кратко, тихо, собранно принести Богу несколько молитвенных слов. Но только из глубины молчания могут вырасти, родиться, заискриться слова, которые выражают молчание, не нарушая его. И это очень важно. Когда наши слова нарушают наше молчание — случилось горе, а тем более когда пустые слова нарушают зарождающееся молитвенное молчание, тогда горе это действительно неутешное.
Один из западных писателей XII века, оставшийся безымянным, говорит где-то, что если мы действительно называем Христа Словом Божиим, то есть совершенным явлением для нас воли Божией, Божией премудрости, Божией любви, то мы можем сказать также, что Отец — то бездонное творческое молчание, из которого только может прозвучать Слово, до конца Его выражающее. И это же мы должны признать о глубинах своего молитвенного молчания, о тех редких, скупых, но драгоценных словах, которые рождаются в недрах души, когда мы ушли в молчание.
И это чрезвычайно важно, потому что вне этого безмолвия не только не родится в нашей душе подлинная молитва, но вне него мы остаемся разобщенными. Пока мы вместе молимся вслух, участвуем действенно в богослужебных обрядах, мы остаемся «особыми», мы обособлены друг от друга, и только в молитвенном молчании, которое может дойти до напряжения, называемого созерцательным безмолвием, мы встречаемся на той глубине, которую не может нарушить ничто, никакая человеческая разобщенность, никакое человеческое непонимание, никакая отдаленность. Именно этого мы должны добиваться.
Если мы умеем молчать, и вживаться, и вслушиваться в то молчание, которое покоится в церкви, то скоро обнаружим, что это молчание, тишина церковная не является просто отсутствием внешнего шума, защищенностью от городского гама. Это молчание, эта тишина имеет совершенно иное качество и иную глубину. В сердце этого молчания мы можем найти присутствие Живого Бога. Это то безмолвие, которым Он облечен, это та глубина, в которую нам надо погрузиться для того, чтобы Его найти.
Если бы мы так готовились к участию в Литургии! Если бы мы с вечера знали, что нам предстоит дивная радость войти в Божественную тишину, приобщиться небу, если ради этого мы внимательно, трепетно, радостно готовились бы постом, воздержанием от всего того, что рассеивает (будь то разговор, будь то пустое, бесцельное чтение, уж не говоря о всех других видах рассеянности), если мы встали бы утром и встретили утро молитвой, хотя бы теми словами, которыми мы на Пасху предваряем вход наш в храм: Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!.. (Пс 117:24) Это день, который вышел из рук Божиих, из Его премудрости, из Его любви, и содержание этого дня — моя встреча с Богом, и в этой встрече — обнаружение всего мира, включая самых близких людей, которых я знаю часто так поверхностно и так безбожно, и включение всех в чудо Небесного Царства, уже пришедшего Духом Святым.
И затем идти в церковь, идти, стараясь не расплескать углубленность настроения, которое так легко в себе создать при внимательном, строгом отношении к себе. Дальше — вступление в храм как в то место, где присутствует Бог: Вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому во страсе Твоем (Пс 5:8). И радость этой встречи, и бережное, благоговейное отношение ко всякому человеку, который уже там или придет туда после нас. И собирание своей тишины и своего безмолвия, чтобы другому было легче на них опереться и уйти в собственное безмолвие и тишину. И охранение взаимного благоговения и молитвы — это начало такое же значительное, такое же необходимое, как и различные церковные действия.
А затем различные действия. Молитва священника, дьякона перед Царскими вратами, где он умоляет Господа ему дать совершить это таинство. Ведь человеку сейчас придется войти в алтарь, в место, которое принадлежит только Богу. Он будет стоять перед престолом, который вместе есть жертвенник, то есть место, где приносится жертва заколения, он будет произносить слова, которые страшно произнести, совершать действия, которые превышают всякую человеческую возможность. Потому он и облачен в священнические одежды, которые символически значат защиту.
С какой бережностью надо было бы общине относиться к собранности и молитвенности своего священника, молиться с ним, молиться за него, когда он оборачивается и говорит: Простите меня отцы и братья, простите мне, людие вси, простите и благословите… С какой глубиной мы должны бы ответить, безмолвно или вслух, прощением и призыванием Бога, чтобы Бог его благословил.
И затем совершается облачение священника: он надевает на себя белую одежду, которая напоминает крещальную одежду. С какой радостью можно было бы эту одежду надевать, если бы душа не болела о том, что человек грешен: Возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спасения и одеждою веселия одея мя, яко жениху возложи ми венец и яко невесту украси мя красотою (Ис 61:10). Возрадуется душа моя о Господе…
После покаянных молитв он дерзает надеть на себя эту одежду крещения, которая напоминает день, когда, отрекшись от сатаны, и от всех дел его, и от всей гордыни его, и от всей силы его, человек сочетался со Христом. А затем Господь призвал человека, потому что, как говорит апостол Павел, никто сам на себя честь не приемлет, а только кому дано от Господа (Рим 12:3—8; 1 Кор 7:7). И Бог призвал не обязательно лучших, а пригодных Ему, тех, от которых Он ожидает верности в служении по силам и сверх силы — по благодати. И это служение действительно только по благодати: Сила Божия в немощи совершается (2 Кор 12:9), и то, что надлежит совершать, все равно за пределом всяких человеческих сил.
Священник надевает епитрахиль: Благословен Бог изливаяй благодать Свою на священники Своя, яко миро на главе, сходящее на браду, браду Аароню, сходящее на ометы одежды его (Пс 132:2). Епитрахиль образно напоминает нам о том, что когда Аарона, брата Моисеева, посвящали в священники Бога Живого, по указанию Божию на его голову излили освященное масло, которое прообразует собой и милость и крепость Господни, и это масло текло по его волосам, по его плечам, вдоль его одежд и до земли. Так и тут: священник надевает через голову епитрахиль, которая ложится вдоль его тела до самых ног и знаменует благодать, благой Божий дар для того, чтобы человек оказался в силах делать то, что ему совершенно невозможно сделать, — стоять перед лицом Божиим, призывать благодать Всесвятого Духа, словом и действием быть как бы орудием освящения твари и превращения этого хлеба в Тело Господне и этого вина в Кровь Господню.
И для этого нужна крепость, но крепость не человеческая. В свое время, во время боя, Моисей стоял, воздев руки, и молился в течение всей битвы, всего борения, но у него не хватало сил держать руки воздетыми к небу, чтобы они не опустились к земле (Исх 17:11). Тогда речь шла о молитве, а здесь речь идет о таком тайнодействии, в котором человеческая поддержка недостаточна. Эти руки должен облечь крепостью Сам Господь, и вот надеваются на эти руки поручи: Руце Твои сотвористе мя и создаете мя: вразуми мя и научуся заповедем Твоим (Пс 118:73). Десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десная рука Твоя сокруши враги, и множеством славы Твоея стерл еси супостаты(Исх 15:6—7).
Нужна крепость для всего, но Божия крепость, потому что человеческая сила может только разбить Божие дело. Священнику для служения нужна Божия сила, в немощи совершающаяся: Благословен Бог, препоясуяй мя силою, и положи непорочен путь мой, совершаяй нозе мои яко елени, и на высоких поставляяй мя (Пс 17:33). И священник препоясуется поясом, как на работу, надевает пояс и собирается в путь.
И наконец, поверх всего, риза: Священници Твои, Господи, облекутся в правду и преподобные Твои радостью возрадуются (Пс 131:9).
И омовение рук: Умыю в неповинных руце мои и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышати ми глас хвалы Твоея и поведати вся чудеса Твоя. Господи, возлюбих благолепие дома Твоего и место селения славы Твоея. Да не погубиши с нечестивыми душу мою и с мужи кровей жизни моея (Пс 25:6—9).
Облачение совершается в алтаре, должно бы совершаться, пока народ безмолвствует, пока народ трепетом готовится войти в таинственное служение и в этот праздник церковный. Теперь священник готов служить. Но, облаченный как он есть теперь в священнические одежды, он представляет не только себя, он — евангельский образ. Он — икона, икона Того, Кто был помазанником, Христом (по-гречески Христос означает «помазанник»). И в течение богослужения он будет, с одной стороны, как Богом помазанный в образе Христа, совершать служение сверх человеческой меры, а с другой стороны, сам, внутри своего сердца, хотя он облечен в эту трагическую славу, будет предстоять перед Богом с трепетом и ужасом и внутренним плачем.
Затем начнется проскомидия, приготовление хлеба и вина, которые должны стать Телом и Кровью Христовой, а затем и самая Литургия, на грани которой стоят те слова, которые я вам уже приводил: «Теперь время Богу действовать». Теперь настало время, когда человек ничего не может прибавить к тому, что он уже сделал: то, что теперь ожидается, может осуществить только Сам Бог.
VI
В прошлый раз мы говорили о приготовлении народа к богослужению, о той части проскомидии, которая собой представляет приготовление людей, и часть эта, как я настаивал, чрезвычайно важная. Дальше мы увидим, что вся Литургия построена как два ряда постепенного освящения и приготовления, с одной стороны, народа, с другой стороны — вещества таинства, которые друг ко другу приближаются и встречаются в момент, когда священник провозглашает слова: Святая святым! — то есть то, что принадлежит Богу, то, что Божие до конца, — для тех, которые Божии до конца. И продолжается это движение вместе до момента самого Причащения.
Теперь я хочу сказать нечто о самой проскомидии в том смысле, в котором она всегда понимается технически как приготовление Святых Тайн. Проскомидия происходит на жертвеннике. Священник, пришедши в храм, помолившись и облачившись, приготовляет на жертвеннике дискос (по-гречески дискос значит — тарелка или блюдо). Это блюдо на подставке, на ножке, на котором будут расположены Агнец, то есть та частица, которая потом будет освящена, и другие частицы, о которых мы будем еще говорить. Приготовляет чашу, приготовляет отдельно в небольшом сосуде вино, смешанное с водой, и впереди чаши — некое блюдо, на котором будет совершаться вынимание просфор, то есть вырезывание частиц. Направо, если глядеть в сторону чаши и дискоса, он кладет копье, налево он кладет лжицу, то есть ложечку причащения, она по своей форме и по своей идее представляет губку, вонзенную на трость, о которой говорит Евангелие (Мк 15:36). Поэтому они расположены одно направо, другая налево от того места, где будет совершаться это приготовление, так же, как изображается на Распятии.
Когда это все приготовлено, жертвенник представляет собой, вместе с чашей, дискосом и всем тем, что на нем есть, нечто двойственное. Часто в описаниях нам указывают, что дискос, покрытый и приготовленный, представляет собой пещеру рождения Христова. С другой стороны, он одновременно представляет собой место заклания Христа, и я сразу хочу подчеркнуть, что эти две темы (и к ним добавочно еще одна, о которой я скажу несколько слов) не являются просто сопоставлением разных тем, они связаны между собой очень глубокой связью.
Всякий человек, который рождается в мир, вызван Богом из небытия: его не было, и по державному, творческому слову он появляется в мир. В этом мире он живет, в этом мире он проходит все свое человеческое созревание и становление, и этот мир является для него началом вечной жизни за гранью смерти. Человек рождается в жизнь относительную, жизнь временную, в хрупкую человеческую жизнь, и вырастает из этой жизни через врата смерти в вечность. Для него, появляющегося из небытия, рождение — это начало жизни.
Если мы думаем о Христе и о воплощении Слова Божия, мы видим, что для Христа дело обстоит не совсем так. Слово Божие, Сын Божий, вечный, не ограниченный ни временем, ни пространством, извечный Сын Своим рождением от Девы не входит в область жизни, потому что Он есть Жизнь, а выходит из области вечной, торжествующей, победной Жизни для того, чтобы войти в область смерти, потому что Его воплощение — это уже начало умирания. Мы рождаемся из небытия в бытие, а из него — в жизнь вечную. Христос из полноты бытия входит в область бывания, относительного, ограниченного земного бытия, где царствует время, пространство и конец которому на земле — смерть.
И потому не удивительно, что тот же дискос, тот же жертвенник представляет для нас рождение Христа и начало Его смерти. Христос рождается в смерть, Он рождается в нашу смерть, Его рождение — начало умирания, и это очень ярко подчеркнуто тем, что совершается дальше.
А совершается следующее: священник берет один из хлебов, которые называются просфорами, то есть «приношение», и молитвенно вырезает из него кубическую частицу, которая собой изображает Христа. Эта кубическая частица не случайно изображает Христа: в Ветхом Завете Христос называется камнем нерукосечным (Дан 2:45), то есть камнем, который будет положен во главу угла, но не будет приготовлен человеческой рукой. Камень егоже небрегоша зиждущие, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей и есть дивен во очесех наших(Пс 117:22—23) — камень, которым пренебрегли создатели Израиля, тот стал во главу угла Нового Здания, Нового Израиля, который есть Церковь, но он от Господа, он не от человека. Также и Евангелие от Иоанна нам говорит: Он был рожден не по воле человеческой, а от Бога(Ин 1:13).
Эта кубическая частица изображает собой именно краеугольный камень всего мироздания, Который есть Христос. В Его образ был создан человек, и Он есть начало новой твари. Но этого мало. Эта частица кладется на дискос, и тут совершается что-то очень страшное: священник заносит копие, то есть треугольный нож, и надрезает эту частицу крестообразно: Жрется (приносится в жертву) Агнец Божий, вземляй грех мира, за жизнь мира и за спасение мира, как бы указывая на заклание Агнца, и не только указывая, а мистически, таинственно, больше чем образно совершая его. И затем, положив Агнца снова на дискос, священник прободает одну сторону, ту частицу, на которой указана надпись «Иисус» и говорит: един от воин копием ребра Ему прободе. И затем, благословляя чашу, в которой вино и вода, прибавляет слова: и абие изыде кровь и вода, и видевший свидетельствует об этом, и свидетельство его истинно (Ин 19:34—35).
Вот теперь перед нами образ, действительно образ рождения Христа в смерть, действительность присутствия Его, Агнца, закланного до создания мира, присутствие Агнца, ставшее действительностью теперь в пределах нашего исторического мира и бытия, причем именно подчеркивается Его смерть. Он рожден в смерть, тело и кровь Его отделены друг от друга, тело на дискосе, кровь в чаше. Это рождение в смерть, и когда я вам сказал раньше, что священник совершает действие, которое он не может не совершать с глубоким трепетом и ужасом, я думал вот о чем: у кого поднимется рука совершить заклание Агнца? Это заклание совершилось крестной любовью Святой Троицы, это заклание совершилось в воле Отца, в единстве воли Сына и Духа, но на земле это заклание совершилось преступной человеческой волей как результат человеческого греха, как печать последнего, предельного богоотступничества. И совершить это заклание на земле можно либо как совершили его распинатели Христовы, либо можно его совершить, так соединившись с волей Божией духом, верой, любовью, единством жизни, приобщенностью, чтобы совершал это действие Сам Господь нашими трепетными, испуганными руками. И совершая это, каждый священник стоит перед вопросом: что он делает? Совершает ли он таинственно, страшно то действие, которое совершил над Собой единственный Первосвященник Христос, является ли он только руками Того Христа, Который принес Себя в жертву заколения? или находит он в своем сердце что-то, что его приобщает к сонму распинателей? Здесь происходит очень страшный суд над душой священника, совершающего это действие.
Но вот заготовлен на дискосе закланный Агнец, и в чаше — излитая Им кровь. Они еще не освящены, но уже образно представляют собой реального и действительного Христа, пришедшего умереть за нас. Они еще не освящены в Тело и Кровь Христовы в том смысле, в котором они будут потом осиянны Святым Духом, Его действием, но они уже то, что святой Василий Великий называет «вместообра{'}зная святаго Тела и Крови», то есть то, что образно занимает место Тела и Крови и станет Телом и Кровью в течение Божественной, таинственной и страшной Литургии.
А затем вокруг Агнца собирается вся Церковь, и первая частица, которая вынимается после Агнца и поставляется на дискос, — это треугольная частица, изображающая Божию Матерь. Агнец носит Ее плоть, по плоти Он — Сын Девы, и здесь Она образно предстоит по той же причине, почему после освящения Святых Даров, когда действительно хлеб стал Телом Христовым, мы раньше всего поем песнь Божией Матери:Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу… — потому что перед нами чудом воплощения, которое сейчас продолжено освящением Даров, предлежит Тело Христово, и это Тело взято от Девы.
А затем разные члены Церкви: опять же, самый близкий после Божией Матери ко Христу духом и служением — святой Креститель Иоанн, затем святые пророки, затем святые апостолы, затем святители, то есть епископы, святые, бывшие вслед за апостолами теми основными камнями, из которых путем таинств и учения была создана Церковь. Затем мученики, которые так поверили Богу, что Его возлюбили до смерти включительно, затем те, которые не пострадали от чужой руки, но всю свою жизнь, душу и тело подчинили подвигам, действию и вдохновению Святого Духа и стали действительно образом, иконой Христа, — преподобные, то есть святые подвижники. Затем ряд святых, во главе которых стоят Иоаким и Анна, родители Пречистой Девы Богородицы. Тут поминаются святые данного храма, данного дня и те святые, которые почему-либо особенно почитаются в этом храме. И, наконец, тот святой, чья Литургия совершается. Вы знаете, что обычно у нас совершается Литургия Иоанна Златоустого. Десять раз в году, то есть во все воскресные дни Великого поста, и сверх того — в день Василия Великого, в канун Рождества и в канун Богоявления совершается Литургия Василия Великого. В древности еще совершалась (и теперь еще совершается раз в году в Иерусалиме) Литургия святого апостола Иакова. Частицы, которые изображают святых, кладутся рядом сверху вниз по три в три ряда рядом с Агнцем.
Затем поминаются предстоятели православных Церквей, епископ данной епархии, народ и правители страны и родина и, наконец, вынимается частица о всех усопших. И напоследок священник вынимает частицу, поминая епископа, который его рукоположил, и себя самого, а затем вынимаются частицы за всех, кого может успеть помянуть священник.
Говоря уже практически, чрезвычайно важно, чтобы у священника было время молиться и вынимать эти частицы. В этом отношении, конечно, составляет большую трудность и большую помеху необходимость исповедовать перед Литургией или заниматься каким бы то ни было делом перед Литургией, потому что для того, чтобы помолиться хотя бы о каждом из наших прихожан, нужно относительно много времени. Если читать внимательно каждую записку самому и молиться действительно о каждом имени, нужно много времени, и люди, приходя на исповедь перед Литургией, лишают священника радости этой молитвы. Но и тех, о которых кто-либо хочет помолиться, они лишают того, чтобы священник мог сам это делать. Тогда кто-нибудь должен читать эти записки вслух, пока он вынимает частицы, и это, конечно, большой ущерб, во всяком случае для него.
Когда все частицы положены на дискос, мы видим перед собой земную Церковь, какая она есть в действительности. Пока мир стоит и пока хоть один грешник еще не спасен, Христос является закланным Агнцем. Когда мы смотрим на иконы Христова воскресения, мы Его видим воскресшим, но с руками и ногами, пробитыми гвоздями, и с открытой раной в боку: Он — Агнец закланный, пока не совершится все, что в мудрости Божией было предусмотрено для нашего спасения. Агнец закланный и вокруг Него те, которые вошли в тайну Божией любви, Божественной крестной любви и в тайну Христова Воплощения для спасения мира, — святые. Но вместе с ними все те, ради которых Христос вошел во время и пространство, ради которых Он жил и умер, ради которых и святые несли свой подвиг любви и жертвы.
И вот мы все собраны вокруг закланного Агнца. Если мы умели бы смотреть на этот образ Церкви, то нам стало бы ясно, что мы делаем, согрешая против Бога. Если порой человеку случается увидеть страшные последствия своего преступления, он ужасается и, может быть, благотворно ужасается. Этот ужас мог бы нас охватить каждый раз, когда мы знаем, что предлежит перед глазами не священника одного, но ангелов Божиих, которые трепетно присутствуют при совершении этого приготовительного действия: распятие. Но не только распятие, потому что жертвенник, который собой изображает место рождения Христова в смерть, место, где предлежит нам уже от века, прежде века закланный Агнец, есть тоже место, откуда будет совершаться позже, в течение Литургии, торжественное шествие во время херувимской песни. Этот Агнец, закланный до сложения мира, будет выноситься видимо в образе хлеба и вина, внутренне — в виде Агнца закланного, распятого, грядущего на смерть. Но вместе с этим Он видится ангелами и нами в вере именно так, как говорит о том херувимская песнь: это торжественное шествие, где ангелы Божии носят Победителя, Сына Божия, Слово Божие, ставшее плотью. И, начав с тайны рождества, пройдя через всю тайну воплощения и распятия, мы останавливаемся у пределов воскресения. Смертию смерть поправ, Он как победитель будет потом носим ангелами, когда мы на земле еще с ужасом видим Его распятие.
Расположив частицы на дискосе, священник ставит над ним согнутую подставку, как бы два скрещенных полуобруча, которая называется звездицей и напоминает нам о той звезде, которая остановилась над местом рождения Христова. Священник покрывает все это одним покровом, чашу — другим, потом покрываются оба сосуда большим покрывалом, читается последняя молитва — и все готово. Очень многое уже готово, очень многое совершено: народ собрался, молитвенно приготовившись уже раньше, молитвенно собравшийся духом священник, дьякон, служащие приготовились к этому страшному, величественному действию, приготовлены хлеб и вино, Церковь Христова собрана образно, и теперь мы стоим на грани совершения самой Литургии.
И вот на этой грани я вам напоминаю слова, которые говорит дьякон по-славянски: Время сотворити Господеви. Выражение неясное, которое еще менее ясно на греческом языке, его можно перевести двояко. Либо: «Пришла теперь пора послужить Богу», — но тогда что же было сделано раньше? чем занимались? разве это не было богослужением? Либо так, как некоторые переводят: «Теперь пришло время Богу действовать».
На самом деле пришло время действовать только Богу, потому что все, что можно было по-человечески сделать, сделано, но то, чего мы ожидаем, что будет сейчас совершаться, что составляет собой сердцевину совершающегося, то есть претворение хлеба в Тело Христово, вина — в Кровь Христову, встреча между живыми душами и Живым Богом, приобщение верующих к жизни и действительности Христовой — все это никакими человеческими силами нельзя совершить. Это может совершить только Бог, и поэтому на этой грани дьякон говорит священнику, что теперь пришло время действовать Богу.
Теперь священник будет устами провозглашать слова и совершать действия, которые превосходят его во всех отношениях. То, что до сих пор было совершено, человек может совершать, стоя перед лицом чего-то очень большого, но то, что сейчас будет совершаться, он совершить не может сам, сделать не может, не может довести до конца. Он может произносить за Бога, во имя Бога решающие слова, совершать действие, которое имеет решающее значение, но силу этим действиям, силу этим словам может придать только Сам Бог, Который в действительности совершает то, о чем провозглашает священник.
И действительно, по учению Православной Церкви единственный Первосвященник, единственный Совершитель каждого таинства — Сам Христос. Тайная вечеря, как я уже говорил в одной из предыдущих бесед, не повторяется. Она была совершена единственный раз Христом, она делается реальностью данного времени и данного места, но это та же самая Тайная вечеря. Мы входим в единственную Тайную вечерю, которая была единожды и неповторимо совершена. Но это совершается в глубинах вечности, и в этом отношении — повторю уже сказанное — наше призывание Святого Духа именно это подчеркивает: присутствие, веяние, действие, пребывание в нашей среде Святого Духа говорит о том, что совершающееся принадлежит вечности. Присутствие Святого Духа — уже начало будущего века, и вся Литургия с этого момента имеет этот характер: это уже вечность, раскрывающаяся перед нами, вечность, в которую мы уже вошли, вступили, пребываем, но в которой мы еще не можем удержаться до конца. Мы пребудем в ней, а потом отзвучат литургийные слова, закончится служба и, Божиим благословением, как Сын Божий оставил славу Отчую для того, чтобы войти в грешный мир ради его спасения, так и мы выступим из этих глубин вечности, в которые мы на мгновение были погружены, для того чтобы вернуться в мир, но уже осиянными вечностью, для того чтобы в мир принести слово оттуда, опыт оттуда.
Ответы на вопросы
Как можно понять, что Тайная вечеря совершалась один раз и она неповторима? То есть каждый раз, когда мы приносим в жертву закланного Агнца, мы творим — «сие творите в Мое воспоминание» — новую жертву, или это всегда то же самое?
Единственная жертва — это смерть Христа на кресте, и в этом смысле она абсолютно единственна и неповторима. Тайная вечеря, которую Христос совершал, это было событие, которое, хотя произошло до распятия (потом ему не было места совершиться), но живое действие Тайная вечеря получила только после крестной смерти, только когда был дан дар Духа Святого, и это мы видим на учениках. Христовы ученики приобщились Тела и Крови от руки Самого Спасителя, в ту же ночь они спали от уныния, бежали от страха, не смели объявить себя Его учениками, укрылись в доме Иоанна Марка страха ради иудейского (Ин 20:19). И только после воскресения Христова они воспрянули духом, и только после дара Святого Духа они вышли в силе и славе своего призвания. Тем, что им было дано на Тайной вечере, они не могли воспользоваться, это было как бы сокровище, которое они умели только сохранить, но плоды они могли принести только тогда, когда то, что в тот момент было образом грядущей смерти, стало уже действенным образом совершившегося искупления на кресте и дара Святого Духа, который открыл измерение вечности.
Каждый раз, когда совершается Литургия, совершается (конечно, в иной форме) сущность Тайной вечери, то есть крестная смерть Спасителя, воскресение, дар Духа Святого, вознесение, но все это содержится исторически в крестной смерти Христа и в том, что последовало. А для нас — содержится в вечности, которая не есть «раньше» или «позже», а есть каждый день, и час, и столетие пребывающее ныне, теперь. Если мы хотим приобщиться реальности события, мы приобщаемся в глубинах вечности именно Духом Святым тому, что раз совершилось, но пребывает вовек как реальность каждого мгновения. Если же мы думаем об этом как о воспоминании, которое мы повторяем, мы именно его совершаем в порядке истории, то есть события, которое имеет прошлое, настоящее и будущее, которое может отзвучать и остаться воспоминанием прошлого. И в этом отношении, говоря не о том, что на самом деле совершается, потому что об этом знает только Бог, а о том, как об этом думают люди, когда протестантские общины нам говорят «это не реальность, это воспоминание о прошлом», они ставят себя вне пребывающего ныне Бога, вне того, что у Бога нет истекшего прошлого или грядущего будущего. Есть в Нем прошлое, которое никогда не истекает, и будущее, которое никогда не является для Него новизной, а является в совокупности реальностью, покоящейся на точке, где вечность соединяет в себе прошлое, настоящее и будущее. Вот в этом отношении я хотел сказать, что мы приобщаемся одной только Тайной вечере, которая вообще только одна и была.
Но это было историческое событие?
Это было историческое событие, но мы не можем этому историческому событию приобщиться. Мы не можем вернуться в прошлое. Мы можем приобщиться этому событию, ставшему реальностью вечности, то есть каждого мгновения. Я помню священника, который говорил, что это можно себе представить так: распятие, воскресение, вознесение, дар Святого Духа, Тайная вечеря являются как неподвижные картины, перед которыми проходит прозрачный фильм истории. Все время течет мимо, а это стоит неподвижно, и каждый раз, как время доходит, это является настоящим временем для Него, и вот в каком смысле. Когда мы погружаемся в то, что вечно, мы одновременно приобщаемся тому, что когда-то случилось, но никогда не кончилось, потому что распятие Христово случилось, но распятый и воскресший Христос носит на Себе раны распятия, пока мир не искуплен. Он и воскресший является Христом распятым, а не Христом, Который оставил позади трагедию распятия и теперь вне трагедии, — трагедия продолжается.
Если служат несколько священников, должен ли тот же священник, который совершает проскомидию, совершать освящение Даров?
Нет. Совершает проскомидию один из священников, представляя собой остальных, но Литургия совершается всеми священниками как одним человеком, то есть как священство. По Уставу (который никогда не соблюдается, потому что практически неудобно), слова: Примите, ядите…Пиите от нея вси… должны произноситься в один голос всеми служащими, не только старшим, который служит.
VII
Я хочу начать сегодняшнюю беседу с замечания или вопроса, который мне был поставлен, о том, какое место личным заботам, какое место человеческому отношению отводится в богослужении, в частности — в Божественной литургии. Это можно проследить в самой структуре службы. После того как была совершена проскомидия, то есть приготовление хлеба, вина, служащих, народа к совершению этой тайны, таинственной встречи с Богом, и после того как дьякон, как бы на рубеже таинства, произнес столь многозначительные слова: «Теперь время Богу действовать», первое слово, произносимое священником, — это провозглашение Царства: Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа…
Здесь провозглашаются две вещи. С одной стороны, мы признаем, что принадлежим Богу как Царю нашему, что Он есть наш Царь, Господь, что у Него над нами всякая власть, что мы добровольно, свободно, сознательно, любовно в эту власть отдаемся. В этом отношении эти слова нам напоминают первую заповедь блаженства: Блаженны нищие духом яко тех есть Царство Небесное (Мф 5:3): тех, которые духом своим, своим опытом вечного и Божественного познали Бога как своего Господа, тех, которые познали свое нищенство, то есть осознали, что у них ничего нет, что принадлежало бы им, но вместе с тем — что они так богаты Божией любовью, действительно блаженны нищенством своим и тем, что через это нищенство Бог делается их Господом безраздельно.
Но кроме того, что здесь провозглашается безусловное, неограниченное признание наше Господа как Царя, провозглашается и другое: в момент, когда совершается Литургия, мы находимся уже в Царстве Божием, в Царстве Божием уже наставшем, в Царстве Божием, которое уже невидимо, незримо, но ощутимо уже пришло, уже нас охватило, и мы вошли уже в вечность.
Я говорил на одной из предыдущих бесед, что призывание Святого Духа, молитва Ему в начале Литургии и в решающий момент освящения Даров говорит нам о том, что это совершается именно в вечности, уже пришедшей к нам, в вечности, которая уже вошла во время, исполнила время, которая в нем действует, живет, трепещет и в которой мы тоже живем и оживаем.
В этом контексте Царства произносятся и следующие молитвенные слова. Провозгласив Царство, которое есть Царство только любви, Царство, где нет ненависти, где нет тьмы, Царство, о котором говорит святой Иоанн Златоуст в Слове Пасхальном: «никтоже да рыдает своего убожества, ибо наста общее Царство» (никто пусть не рыдает о своей бедности: богатство одного является богатством другого, и не только людей, но и Самого Бога, единственно подлинно богатого), первое действие детей Царства — вознести заступническую молитву перед Богом о всех нуждах земли: миром Господу помолимся. Христос в первый вечер после Своего воскресения явился ученикам и сказал им: Мир вам(Ин 20:19) и этими словами действительно внес в смятенные их души, в отчаянные их сердца мир, который земля дать не может, но который Он один может дать. Так и тут, осознав, что мы принадлежим этому Царству, войдя сознанием, всем нашим существом в состояние Божиего Царства, мы произносим первые слова: помолимся миром, то есть в мире Божественном, в мире, который превосходит тревоги земли, трагедии земли, все земное, в том мире, которого не может отнять ни страдание, ни гонение, ничто, потому что это мир, который Бога дает.
И дальше: О свышнем мире и о спасении душ наших Господу помолимся. Мы сознаем, что принадлежим этому Царству, что мы возносим наши молитвы в этом Божественном мире, и однако — и здесь вся тайна нашей способности и нашей борьбы за спасение — этот мир, который принадлежит всем, который дышит вокруг нас, который действует вокруг нас, каждый из нас должен усвоить, получить, принять, сделать своим, каждый должен стать чадом Божественного мира. Потому мы и просим, чтобы этот мир, который свыше сходит, который есть Божий, был дан нам, хотя он уже тут присутствует, и чтобы с этим миром пришло и спасение. Мир, о котором здесь говорится, — это один из плодов Святого Духа, один из плодов действия Духа над нашими душами, над нашим человечеством. Мир, радость, кротость, долготерпение, воздержание, вера, смирение — вот плоды Духа, о которых говорит апостол Павел в двух различных местах своих посланий (Гал 5:22; Кол 3:12). И спасение не в том только, чтобы избежать греха, а в том, чтобы принести еще на земле плоды Святого Духа, Который есть вечность.
И дальше: О мире всего мира, о благостоянии святых Божиих Церквей и о спасении всех Господу помолимся. Если есть в человеке сознание того, что он принадлежит Царствию Божию, что он — один из детей этого Царства, что он живет жизнью Христовой, не может быть, чтобы человек не обернулся милосердием, жалостью, готовностью принести хотя бы последнюю жертву жизни или смерти за спасение мира, потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Единородного Своего Сына, чтобы мир был спасен. Христос говорит о Себе несколько раз: Я не пришел судить мир, но спасти мир (Ин 3:17). И вот первая мысль этого общества людей, которые собрались во имя Христа, которые познали Его как своего Господа и Бога, — вознести молитву, которая была бы исполнением воли Отчей, отражением всего дела Христова: Его воплощения, жизни, проповеди, страдания, смерти, воскресения и дара Святого Духа. Но для этого нужна стойкость, крепость в любви, притом такой, которая превосходит простые человеческие силы. Любить евангельски, любить врагов, любить их с готовностью отдать свою жизнь, чтобы они были спасены, любить, как апостол Павел говорит о любви не только в своем послании к Коринфянам (1 Кор 13), но когда восклицает, что готов быть отлучен от Христа, лишь бы другие спаслись (Рим 9:3), — так можно любить только вселением любви Самого Бога, и только той крепостью и стойкостью, какую может дать Бог и никто другой.
И поэтому молимся о благостоянии, не благосостоянии: не о том, чтобы Церквам Христовым было хорошо, а о том, чтобы они стояли добрым стоянием, чтобы они стояли в крепости Господней, в силе духа, в чистоте веры, в непоколебимой Божественной любви. Здесь нет молитвы о том, чтобы Церквам было хорошо, нет молитвы о благополучии, есть молитва только о том, чтобы эти Церкви были достойны своего церковного, Христова призвания во Христе и Духе.
И о соединении всех, потому что всякая рознь, разделенность, вражда, взаимоосуждение, проклинание — все это есть отрицание самого прихода Христова. Христос пришел для того, чтобы расстоящееся привести воедино, то есть чтобы то, что разошлось, воссоединить, чтобы человечество, раздробленное на особи, сделать снова одним телом, притом телом Своим, Христовым телом.
Затем забота обращается от всего мира, от условий его спасения к тем людям, которые собрались здесь, потому что, думая о Церкви в широком, неограниченном ее составе, мы можем забыть о конкретном живом человеке, о небольшой горсточке людей, которая иногда несет в определенном месте всю тяжесть креста Христова или посредством которой трагически продолжает совершаться спасение, трагически продолжает стоять крест Господень: О святом храме сем и о всех с верой, благоговением и страхом Божиим входящих в онь (в него)Господу помолимся. Дальше забота, которая была общая, стала частной, потому что каждый стоящий в этом храме чувствует, как велико его призвание и как малы его силы, как божественно его призвание и как хрупок он по-человечески.
Забота переходит, в частности, ко всем тем, кто в особенной нужде, или к тем положениям людской жизни, которые требуют особенной заботы, вызывают особенную тревогу. Во-первых, молимся о тех, которые у власти, — у власти Церкви и у власти в миру. Власть всегда ставит человека на грань двух миров: Божией воли, единой, цельной, и воли человеческой, противоречивой, раздробленной. И призвание всякого человека, который у власти, в сущности, только в том, чтобы сделать волю человеческую единой с волей Божией. Будь то епископ, будь то священник, будь то правитель земной, знает ли он это или не знает — он стоит на этом страшном пороге. Он стоит и будет отвечать, и поэтому Церковь с такой заботой и тревогой молится о тех, которые у власти. Священник стоит там, где только Христос может стоять, он стоит во святилище, куда с трепетом проникают ангелы. Как человек, он там стоять не может, он может стоять только защищенный священством Христа, веянием Святого Духа и тем, что он на это служение поставлен от лица всей Церкви, Тела Христова, храма Святого Духа.
А правитель народа — древняя Церковь не разбирала, каков он, она не разбирала, друг ли он христианства или враг, гонитель или защититель, потому что Церковь Христова в ранние трагические годы своего сознания понимала, что плох ли он, хорош ли он — все равно, его положение страшно и трагично на этом рубеже воли человеческой и воли Господней. И если человек поступает хорошо, если он воин и слуга Христов, то за него трепетно, но если он враг Христов, то за него страшно. И кто бы ни стоял на этой грани, будь он самый жестокий гонитель или самый благочестивый правитель, все равно забота Церкви о нем одна, тревога одна, потому что Церковь мыслит только о спасении людей и с ужасом видит опасность их погибели. Этим объясняется, что Церковь в моменты самых страшных гонений молилась за тех правителей, которые гнали христиан и уничтожали Церковь. Этим объясняется и то, что, например, в Литургии апостола Марка есть специальное прошение о гонителях и о их спасении. За них особенно страшно, и за них надо молиться особенно. Теперь это прошение вышло из употребления уже столетиями, но в нашем храме мы в одной из ектений молимся о всех ненавидящих и обидящих нас, о творящих или желающих нам зла, чтобы им не погибнуть, и в этом мы продолжаем древнюю трезвую, мужественную традицию христианской Церкви.
Но Церковь так реально смотрит на вещи, так углубленно просто смотрит на все, что она не только думает о вечном спасении, не только заботится о тех, которые в особенно ответственном положении. Церковь думает о всем, о каждой человеческой нужде, о каждой человеческой заботе: нет мелких вещей, все значительно, все имеет смысл, ничего нет такого, что можно было бы вычеркнуть из человеческой жизни и забыть о том. И потому, вознося молитву о граде сем и верою живущих в нем, Церковь дальше молится о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и о временех мирных, о том, чтобы был мир среди людей, чтобы вражда утихла, чтобы ненависть заглохла, чтобы перестала литься кровь. Молится и о том, чтобы Господь послал изобилие плодов земных, то есть богатый урожай, чтобы людям не гибнуть от голода, чтобы не умирать им напрасно.
Молится она дальше о тех людях, которые в течение своей нормальной, обычной жизни подвергаются той или иной нужде, или о людях, которые с точки зрения общества, может быть, поступили нехорошо, но которых жалко Церкви. Молится о плавающих, путешествующих, о недугующих, о страждущих. Молится и о плененных — одни из них попали в плен на войне, другие гонимы и страдают в тюрьмах и застенках, а еще другие нехорошо поступили и справедливо наказуемы, но над всеми простирается та же забота церковная, та же тревога о том, чтобы к горю земному не прибавилось еще непоправимое горе погибели. О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды… Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
И затем обращение к Божией Матери, чтобы Ее заступление вместе с заступлением святых поддержало нашу молитву. Эта молитва, эта просьба к Божией Матери и святым о заступлении в контексте явленного, переживаемого единства всех в Царстве стирает всякую грань между живыми и мертвыми. Все — одна Христова Церковь, одно общество любви, одна тайна вечной жизни, живущая, ликующая, бьющая, как ключ воды живой, в сердцах людей. И молятся не только видимые, собравшиеся в этом храме люди, молятся ангелы Божии, молятся святые, когда-то усопшие, когда-то жившие на земле, которые знают ее тяготу, молится Матерь Божия, Матерь Воплощения, Которая стояла у Креста и ни одним словом не взывала о том, чтобы Ее Сын не умер, потому что Она, вместе с Божественным Отцом, Его отдавала во спасение мира.
В этом отношении каждый раз, как мы обращаемся с молитвой к Божией Матери, мы должны себе отдавать отчет, сколько в этом неосознанной, большей частью, веры в Ее великодушие и в Ее любовь. Ведь каждый из нас ответствен за смерть Ее Сына. Если бы один только из нас согрешил, Сын Божий стал бы Сыном человеческим, чтобы его спасти. И каждый из нас, кто грешит, кто разрушает своей жизнью то Царство Божие, которое Христос пришел принести на землю, ответствен за Крест Господень. И каждый раз, как мы идем к Божией Матери с молитвой, мы, в сущности, Ей говорим: «Мать, я убил Твоего Сына своим грехом, но Ты заступись за меня, чтобы мне быть прощенным, потому что если Ты, Мать, простишь, то никто не осудит, мимо Твоего прощения никто не пройдет». И это мы должны помнить: что мы просим от Божией Матери чего-то непостижимого для нас, великого и по-человечески непостижимо страшного.
С этого начинается церковная молитва. Не случайно эта ектенья, эти прошения следуют друг за другом после провозглашения Царства. Это конкретное, живое, действенное явление того, что представляет собой Царство любви, какой заботой, какими мыслями оно исполняет сердца людей, которые ему отдаются. И если проследить дальше главные ектеньи в Литургии, мы находим тот же контекст, то же сочетание вещей.
После чтения Евангелия — сугубая ектенья: сугубая в том смысле, что это удвоенное, настойчивое моление Богу, опять-таки построенное по тому же принципу: моление о всех людях, о всех нуждах. И сюда вносится, в виде специальных прошений, молитва о тех конкретных нуждах, которые мы знаем вокруг нас, в приходе, в мире, в той обстановке, в которой мы находимся, — о больных, о страждущих.
После сугубой ектеньи не кончается ряд прошений, а выделяются некоторые нужды, которые особенно трогательны для нас. Во-первых, усопшие. Усопшие для себя уже ничего не могут сделать, но мы для них можем сделать много. Молитвы об усопших не сводятся к тому, чтобы Господь по Своему милосердию и в ответ на наши молитвы поступил по отношению к усопшим несправедливо, отменил справедливое Свое суждение. Нет, эти молитвы являются свидетельством перед Богом о том, что те люди, которые покинули мир и теперь стоят перед лицом Божиим, за собой оставили добрый след, своей жизнью посеяли в каких-то сердцах, хоть в одном чутком, живом сердце — любовь, жалость, трепет об их вечной судьбе. И эта любовь, эта жалость, этот трепет восприняты, поскольку мы находимся в Божием Царстве, поскольку это Царство любви воспринято всеми, кто тут находится и которые едины, каждый со всеми и друг с другом.
Дальше специальная молитва об оглашенных, о тех, которые услышали хоть краем души призыв Господень и сейчас готовятся стать детьми того Царства, куда мы уже восприняты. Оглашенные — те, до кого зов Господень дошел, кто услышал животворящее евангельское слово и стоит на грани Церкви. В древности они стояли в притворе, теперь они допускаются в храм, но все равно они стоят на грани Крещения, обновления, новой жизни, и за них возносятся особенные молитвы.
И дальше молитвы о тех, которые служат эту страшную Божественную литургию.
Почему, после чтения Евангелия, этот ряд молитв? Да потому, что все Евангелие говорит только об одном — о любви к Богу и о любви к людям. И если мы услышали этот призыв Божий любить Его и любить друг друга, если мы поняли слово в Послании апостола Иоанна о том, что если мы говорим, что любим Бога, Которого не видим, а ближнего нашего, которого видим, не умеем любить — мы лжем (1 Ин 4:20), если мы это так восприняли, тогда, да — всякое чтение Евангелия должно расцвести в молитву, именно в эту заботливую, конкретную молитву о каждом и всех.
И дальше — великий вход, который напоминает нам, с одной стороны, о погребальной процессии, когда Тело Христово уносилось в гроб. В тот момент, когда Дары поставлены на престоле, в тот момент, когда мы видим, чего стоил Богу и воплощенному Сыну Его наш грех и грех всея земли, снова Церковь возносит напряженно свои молитвы в новой ектенье, в новом ряде прошений о том, чтобы этого больше не было. К деталям этих молитв мы еще вернемся.
И наконец (хотя это не последняя молитва, я просто беру эти отдельные моменты как примеры), после освящения Святых Даров, когда под таинственными образами Хлеба и Вина мы перед собой видим на престоле уже не хлеб и вино, а закланного на смерть Христа, в тайной молитве священник снова молится о всех — и о праведных, и о тех, которые сейчас на земле живут, и о всем мире. Всех охватывает эта молитва, потому что если мы не отвечаем тревожной, любящей, заботливой молитвой на то, что мы сейчас увидели, то мы чужды всякого понимания.
И в самом конце — еще другая ектенья, где опять-таки в контексте Креста и Воскресения и дара Духа Святого, освящения этих Даров, то есть в контексте Царства Божия, пришедшего в силе, пришедшего для того, чтобы мощно, победоносно спасать людей, мы снова молимся о том, чтобы все это было не напрасно, ни для кого, ни для чего.
Вот как отражается в структуре молитв Божественной литургии человеческая забота, вдумчивая, чуткая забота детей Царства. Тут есть место для каждой нужды, для каждого человека, но нет места для того, чтобы кто-нибудь занял такое значительное место, чтобы собой вытеснить заботу о других. И здесь нам приходится учиться охватывать своей любовью, своей молитвой всех, и никогда не заменить слово «всех» тем или другим частным именем, как бы вытесняя всех, чтобы включить в церковную молитву только тех немногих, которых мы умеем любить. Да, они включены, но выделены они не должны быть, потому что каждый раз, когда Царство делается частным, оно перестает быть общим, теряет свою глубину, свою всеобъемлемость. Да, мы посылаем в алтарь имена тех, о ком хотим молиться особенно, чтобы священник в свое время, когда положено, молился о них. Когда произносятся ектеньи, мы можем вплетать в них все конкретные имена. Но мы должны разомкнуться, должны открыться, быть шире каких бы то ни было привязанностей, дружб, какой бы то ни было частной любви и охватить вместе со Христом весь мир. Потому что церковная молитва только тогда является подлинной молитвой Церкви, когда она является молитвой Самого Христа, продолжением Его молитвы, как Церковь есть продолжение, продление через века, в пространстве воплощения Христова.
VIII
В прошлой беседе я попробовал показать, как различные молитвы, различные ектеньи в течение Литургии располагаются по отношению к основным событиям Литургии, давая новую глубину и новое содержание прошениям, молитвам и отношениям, которые существуют и без них, но получают новую глубину в этом сопоставлении. Меня просили вернуться еще к вопросу, который мне кажется очень важным, о роли человеческих чувств, о человеческих отношениях в Литургии.
Если вы помните, я указывал на то, что Литургия начинается словами Благословенно Царство, Царство Отца, Сына и Святого Духа, царство, самым содержанием которого, внутренним двигателем и законом является любовь. И в ответ на этот призыв, на этот зов вознести Богу хвалу за Его Царство, Церковь отвечает молитвой, которая является делом конкретной, вдумчивой любви по отношению ко всем людям, ко всем нуждам. Эта молитва — великая ектенья, с которой начинается Литургия. И те же нужды, но в различных видах будут уже дальше представляться в связи с малыми ектеньями, в виде тех молитв, которые читает священник.
Второй поворотный пункт, который по-новому оттеняет молитвенное сознание верующих, — это чтение Евангелия. В начале Литургии после ектеньи идет поучительная часть. В древности она начиналась чтением Ветхого Завета, теперь от Ветхого Завета остается только прокимен, несколько стихов, «аллилуйя» и опять несколько стихов, которые выбраны из-за пророческого, вечного их значения. Затем следует чтение Апостола и чтение Евангелия. И вот после Евангельского чтения вопрос ставится перед каждым из нас: если это чтение было не напрасно, что мы из этого чтения извлекли? Разумеется, из каждого конкретного чтения мы извлекаем конкретные уроки, но из всякого Евангельского чтения мы слышим Божий призыв к любви, любви к Богу и любви к людям, сливающейся в единственный опыт Божественной любви, которой нам дано приобщиться. И тут начинается снова ряд молитвенных криков, взываний: это сугубая ектенья, где молятся о всех людях. Затем ектенья, которая посвящена как будто наиболее беспомощным в этом отношении — усопшим. Мы можем за них молиться, мы можем жить так, чтобы в какой-то день стать перед Богом их оправданием, поэтому специальная молитва о них возносится. Затем о людях, которые тоже по-своему беспомощны — это те, которые услышали призыв Божий, стали оглашенными, то есть стоят у самой ограды Церкви, но в Церковь еще не приняты по неподготовленности, потому что они не прошли через тайну Крещения. За них особенно молятся, потому что их нужда должна особенно трогать наши сердца и нас волновать.
Затем молитвы снова сосредотачиваются на одной нужде в двух ее выражениях. Эта нужда вот в чем: верующие, которые собрались в храме, через несколько минут приступят к совершению таинства Евхаристии, а это нечто, чего человеческими силами не осуществить. Человек, стоящий здесь, находится на той грани, через которую переступает Бог, чтобы принести небесную тайну на землю к нам. И вот собравшиеся люди молятся, с одной стороны, о себе, потому что страшно предстоять перед совершением тайны. Мы недостаточно отдаем себе в этом отчет, но если мы могли бы пережить, как переживали святые, веяние Святого Духа, если мы могли бы прочувствовать, что сейчас тайносовершителем является Сам Господь, потому что человек не может совершить то, что будет совершаться, то, конечно, мы с бо{'}льшим трепетом предстояли бы в безмолвии перед тем, что совершается.
И вот народ молится, вернее священник от имени народа в тайной молитве возносит специальное прошение о том, чтобы было дано этому народу предстоять, чтобы этим людям было дано не в суд и не в осуждение причаститься Тайн. И затем, во второй молитве, — о том, чтобы было дано священникам, как добрым строителям тайн Господних, совершить таинство. Здесь тоже все течет от нового евангельского откровения о любви. С одной стороны, в Евангелии нам открывается Божия любовь, которая переливается в наши души и нас учит относиться друг ко другу так, как относится Сам Господь. С другой стороны, именно оттого, что нам открывается эта глубина Божественных действий, мы сознаем, что стоим на грани, перейти которую своими силами мы не можем.
Затем третий поворотный пункт: освящение Святых Даров, после чего снова льется молитва, которая до своего предела дойдет, именно молитва любви перед тем, что совершилось, когда народ будет петь Отче наш. А что совершилось — мы видим воочию: мы видели великий вход, о котором мы уже говорили, мы видим на престоле Тело и Кровь Господни разъединенные, подчеркивающие заклание Агнца, излияние крови, смерть. И перед совершившимся мы снова возносим Богу молитвы о том, чтобы Его жертва была не напрасна. Мы принесли то, что по человечеству могли принести, и молим, чтобы Господь нам даровал Дух, и чтобы все люди получили помилование, и все нужды встретили Господню заботу. И в конечном нашем излиянии, в крике души поется молитва Господня, Отче наш. Я об этом вам только напоминаю, потому что об этом говорилось подробно в прошлый раз. Очень нам важно помнить, что Литургия есть «небо на земле», как ее называл Иоанн Кронштадтский. Все земное является содержанием и предметом литургической молитвенной тайносовершительной заботы, но, с другой стороны, это не только ряд человеческих молений, это событие чисто небесное, с которым переплетается земное именно так, как в деле спасения переплетается земное и небесное.
Теперь если поставить себе вопрос о том, что же чисто божественное, какие тут действия совершаются, где мы можем видеть почти воочию действующего Бога, то можно несколько моментов выдвинуть. Первый — это основной общий момент: Церковь не является просто земным обществом, это общество сложное, это общество одновременно и равно земное и божественное, человеческое и божеское. И то, что совершается в Церкви, принадлежит одновременно двум мирам. В Церкви есть человеческий момент, но он не ограничивается только нами. Когда мы смотрим на Церковь в нашем лице, она действительно представляется как хрупкое, шаткое, ищущее общество людей. Но это только один аспект Церкви, притом даже один из аспектов только человечества в Церкви, потому что в Церкви есть один Человек, который принадлежит до конца земле и одновременно принадлежит до конца небу, — это Господь Иисус Христос. Он истинно и подлинно Человек, но Он и истинно, подлинно Бог. Оставляя на минуту мысль о Его Божестве, если мы подумаем о Его человечности, о человечестве в Нем, то увидим, что, как Священное Писание нас учит, как опыт нас учит, Он является человеком, во всем подобным нам, за исключением греха (Евр 4:15). Нет ничего человеческого, что было бы Ему чуждо, кроме отпадения от Бога, отречения от Бога, активного безбожия, которое есть в конечном итоге корень всякого греха. Но, с другой стороны, Он являет нам не просто одного из множества людей, а в Его лице является образ того, чем человек может быть: все, чем человек может быть, мы находим в Его лице. И в Церкви мы видим человечество в двух видах, падшем и истинном. Мы видим человечество, какое мы есть, и мы видим человечество, каким оно может быть, потому что оно явлено во Христе. К этому можно добавить, что еще одно лицо в Церкви уже осуществило эту дивную человечность — это Божия Матерь.
Мы видим таким образом, что даже в своем чисто человеческом аспекте Церковь не является только эмпирическим обществом, которое мы знаем в опыте жизни, но в ней явлено, что такое человек в окончательном, совершенном, полном смысле слова. Церковь в этом отношении принадлежит и нынешнему веку, и будущему веку, и полноте и не-полноте. Мы еще не выросли в свою меру, но эта мера человека нам дана во Христе. Мы можем ее созерцать, познавать и уподобляться Ему. Но я сказал уже, что во Христе, как Священное Писание нас учит, обитала полнота Божества телесно (Кол 2:9), и таким образом даже если думать о Церкви только по отношению ко Христу, она не является обществом людским, она является человеческим и божественным обществом одновременно.
Но, кроме того, в книге Деяний мы читаем рассказ о том, как члены Церкви, в которой живет Святой Дух, когда они выросли в ту меру, которую им определил Господь, каждый порознь, каждый лично получил дар Святого Духа и вошел с Ним в небывалое до того соотношение (Деян 2:3), стал, как апостол Павел говорит, лично, каждый храмом Святого Духа (1 Кор 3:16). И тут мы видим, что и в Духе Святом Церковь Божественна, но одновременно знаем, что этот неизреченный дар мы носим в глиняных сосудах, как говорит апостол Павел (2 Кор 4:7), потому что Святой Дух присутствует в Церкви в нашей исторической реальности, в нас, хрупких и порой очень хрупких храмах, Он живет и действует. И тут тоже, не только во Христе, но и в Духе, вечное и временное, историческое и неизменное, человеческое и Божественное соединены как бы крепким узлом, неразделимо, одно действует в другом и через другого.
И, наконец (и здесь я буду очень краток и только укажу на эту тайну), Священное Писание нас учит, что во Христе и действием Духа Святого мы входим в совершенно новое отношение с Богом и Отцом. Послание к колосянам нам говорит, что наша жизнь сокрыта со Христом в Боге (Кол 3:3). Спаситель, в конце одиннадцатой главы Евангелия от Матфея нам говорит: вся Мне предана суть Отцем Моим, и никто не знает Сына кроме Отца и никто не знает Отца кроме Сына, и тот, кому, если того захочет Сын, Он это откроет (Мф 11:27). И это дало основание одному из древних отцов Церкви, Игнатию Антиохийскому, указывать, что, соединяясь уже неразлучным единством со Христом через Крещение, через Причащение Тайн, через жизнь церковную в ее совокупности, мы делаемся вместе со Христом тем, что он называет «всецелым Христом», подчеркивая, что Христос, опять-таки по учению апостола Павла, является главой, мы являемся членами (1 Кор 12:12) и вместе составляем всецелое явление Человека с большой буквы, в полном смысле слова, нарастающее в мире. А по отношению к Отцу, следуя учению Священного Писания, вы наверно помните то место, где говорится, что Дух Святой воздыханиями неизреченными молится в нас и учит нас взывать к Отцу словами Авва, Отче (Рим 8:15; Гал 4:6), то есть именно теми словами, которые Христос употребляет по отношению к Отцу. Духом Святым мы делаемся по отношению к Богу сыновьями, родными детьми не только потому, что мы принадлежим Христу, но и потому что приобщены Христу.
Часто подчеркивается, что Священное Писание говорит: вы дети по приобщению, а Христос единородный Сын (Рим 5:11; Гал 4:4—7). Я думаю, мы слишком подчеркиваем то, как мы делаемся детьми Божиими, и забываем, что Бог различения не делает между Своими детьми. Этим объясняется то, что святой Ириней Лионский так смело говорит, что Духом Святым, делаясь едиными со Христом, мы, в конечном итоге, призваны не только быть общниками Божественной природы, как говорит апостол Петр (2 Пет 1:4), но единородным сыном Божиим. Всецелый Христос, глава и члены, вошедшие в это неизреченное соотношение со Отцом, — вот какова Церковь, в которой совершается таинство.
После этого не удивительно, что можно говорить о Церкви как о небе на земле, как о тайне будущего века, потому что будущий век, то есть вечность, присутствует и действует в Церкви, в которой мы живем. И таинства церковные являются подлинно Божественными действиями, такими действиями, которые возможны в самой Церкви и невозможны вне нее, в том смысле, что это не прорывы как бы Божественной власти и силы, порабощающие себе тварь, которая иначе была бы непослушной. Это значит, что в пределах тайны церковной, где хотя бы волей, хотя бы в намерении уже восстановлена гармония между Богом и нами, Бог свободно и беспрепятственно может действовать, в полную меру Его Божественной власти и в меру нашей веры.
IX
Мы говорили в прошлый раз о действии Божием в Божественной литургии, и мне хочется сказать снова на ту же тему.
Несколько лет тому назад мне пришлось быть в Гааге на Литургии, которую совершал митрополит Николай Крутицкий. Алтарь был чрезвычайно маленький, храм невелик, а народа было очень много. И в течение какого-то времени мне показалось совершенно невозможно молиться, показалось, что в этой обстановке совершенно невозможно совершать Литургию. В алтаре собралось довольно много духовенства и прислужников, так что настоящей, глубокой молитвенной тишины там не было. В храме было такое разнообразие — не людей, а настроений, что, казалось, невозможно собрать их воедино никаким образом. Были прихожане этого храма, которые пришли с благоговением, но тоже с большой долей любопытства встретить человека, о котором говорили много, о котором мнения расходились. Он был значительный человек, но неизвестно было, в хорошую или в плохую сторону. Были люди, которые пришли просто из любопытства, для кого Литургия, которая должна была совершиться, в сущности, не имела никакого значения: они хотели видеть этого человека, хотели его слышать, либо чтобы создать себе мнение о нем, либо для того чтобы можно было вспомнить, что они его встречали. Собралось немало таких людей, которые и православную Церковь не любили, и патриаршей Церкви были недругами, которые пришли туда только для того, чтобы искать повода уловить русского епископа в слове или в чем-нибудь.
И в этом переплете намерений, настроений, чувств мне показалось одну минуту, что нет места для совершения Литургии. Я тогда посмотрел на митрополита Николая, который, как вы знаете, столько пережил с начала революции до смерти и который, вероятно, служил в обстановках еще более трудных, сложных, противоречивых, напряженных. Он стоял, как скала, с закрытыми глазами, молился и совершал богослужение. Перед ним к тому моменту, после великого входа, на престоле стояли чаша и дискос, закланный Агнец и излитая Кровь. И мне вдруг представилось, что именно эта обстановка лучше всего отражает то, что когда-то, около двух тысяч лет тому назад, совершилось на Голгофе.
Там тоже был центр, средоточие совершенного божественного безмолвия, когда все чувства, все мысли, все совершающееся было как бы вобрано в тайну спасения, совершаемого Богом. А вокруг было все, начиная с веры, но были и сомнение, и недоумение, и колебание, и искания, и грубый разгул ненависти — все было. Притом в нашем небольшом гаагском храме это все как-то звенело и дребезжало мыслями и чувствами, столкновениями переживаний, все это чувствовалось, но на Голгофе все это разразилось шумно, громко, безобразно.
И тогда, вглядываясь в чашу и дискос, во Христа, закланного на спасение мира, глядя на митрополита Николая, который сумел войти в это страшное, таинственное безмолвие, и затем мысленно вперяя взор в нас самих, мне представилось, что эта Литургия (но и каждая Литургия в каком-то очень страшном смысле) является голгофской тайной, и то, что было когда-то на Голгофе, как бы оно ни было прикровенно изо дня в день, из недели в неделю в нашей жизни, совершается при каждой Литургии.
Посмотрим, что там было. В центре всего, в центре маленького пригорка Голгофского и в центре мироздания, в средоточии мира стоял Крест. На этом Кресте висел Сын Божий, ставший Сыном человеческим. Он умирал всей глубиной и всем ужасом человеческой смерти. Было совершенное и страшное безмолвие, несколько слов, которые произнес Спаситель, это безмолвие делают более глубоким: они раскрывают тайну Его погруженности в Бога, они раскрывают нам тайну вступления Бога в человеческую судьбу и историю. В самом глубоком средоточии этой тайны —слова Спасителя: Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил? (Мк 15:34). Это не просто слова пророческого псалма (Пс 21:2); это момент, когда Христос приобщился не только к телесному умиранию человека, но к той страшной тайне богооставленности, лишенности Бога,безбожия, которое сделало смерть и смертность реальностью земли. Не потеряв Бога, человек не может умереть, не потеряв Бога, Сын Божий не мог приобщиться к самому трагическому, к самому основному, что является драмой человеческой истории, — к обезбоженности. Без нее смерть — не смерть, а успение, она то, чем смерть стала для нас после смерти и воскресения Христовых. Но до смерти Христа смерть была потерей Бога, и то сошествие во ад, о котором повествуют нам иконы воскресения Христова и победы Христовой, было сошествие в то место, где Бога нет и не будет.
Это и совершалось в средоточии истории, в сердцевине мира, и, приобщенные к этой тайне безмолвия, в ужасе, в священном ужасе, стояли Мать и любимый ученик. Мать тоже безмолвствовала. В Евангелии мы не видим того, что изображают многие западные картины, — женщину в слезах, в полуобмороке. Евангелие нам Ее показывает стоящую в безмолвии, так приобщенную тайне Христа, что Она может отдавать Своего Сына исоумирать с Ним. Она погружается с Ним в смерть, из которой Он выйдет воскресением, и об этом мы поем в Великую субботу: Не рыдай Мене, Мати, зряще во гробе… И ученик, тот, который был провозвестником любви, Иоанн, бессловно, безмолвно стоящий и созерцающий эту тайну, эту двойную тайну умирающего Христа и безмолвно соумирающей Матери, приносящей в жертву Своего Сына…
И когда я говорю об этом жертвоприношении, я думаю о дивном и таком страшном празднике Сретения Господня и о таком дивном и страшном приношении детей и воцерковлении их в нашей православной Церкви. Праздник, который мы торжественно вспоминаем в Сретении Господнем, установлен еще в Ветхом Завете. После того как евреи вышли из Египта, Господь сказал Моисею, что в выкуп за египетских младенцев, которые должны были погибнуть ради освобождения Израиля от рабства, в выкуп за тех, кто тоже был Божией тварью, любимый Ему Израиль должен из столетия в столетие приносить Богу всякого перворожденного младенца мужеского пола. Бог получал над каждым из них право жизни и смерти. Они приносились Ему в кровавую жертву, и милосердием Господним было разрешено их заменять агнцем или двумя голубями. Один только раз в истории всего мира Бог принял эту жертву в лице Единородного Сына Своего, ставшего человеком. Он принял Его и заклал подлинного и единственного Агнца много лет спустя на Кресте Голгофском. В этом приношении в храм Своего Младенца Пречистая Дева принесла Его в кровавую жертву, и не напрасно пророческое слово Ее настигло: и Тебе оружие пройдет сердце (Лк 2:35). Это сердцевина того, что совершилось на Голгофе, это то, что я тогда мог видеть на престоле Господнем в виде Агнца надрезанного и закланного, в виде Крови, излитой в чаше, и в виде человека, который среди всего шума, всей тревоги, всего колебания чувств и мыслей непоколебимо стоял в этой тайне.
А направо и налево от Христа — два разбойника. У ног Спасителя — воины, исполняющие свои обязанности в окаменелом безразличии. Они привели осужденных, они их прибили ко крестам, они воздвигли эти кресты, а теперь бросали жребий: кому что достанется из того, что сорвано с этих умирающих людей. Они чувствуют себя совершенно неответственными, их это не касается. Какая-то судебная власть приняла решение, они не участвуют в этом решении, они так же безучастны при убийстве и смерти. Позже один только из них, сотник Лонгин, который должен был наблюдать над совершающимся, когда увидел все, сказал: Поистине этот человек был Сын Божий (Мф 27:54).
А вокруг — шумная восточная толпа, люди, которые пришли из ненависти: первосвященники, фарисеи, саддукеи, политические враги Христа, и другие, которые пришли из любопытства посмотреть, как человек умирает. Были и такие, которые пришли с разделенными мыслями: одни — потому что их тронула, взволновала проповедь Христа, потому что они видели чудеса, потому что они пережили некоторые из этих чудес — ожидали, что Христос сойдет со Креста. Но им было страшно идти против людей. Если бы Христос теперь сошел со креста, то можно было бы верить победоносно и безопасно, а если Он не сойдет, то вместе с Ним идти на этот позор и страх, и на эту смерть — нет.
А были такие, которых глубоко ранило, может быть, слово Христово о любви, в которых блеснула возможность веры, но они испугались, им эта евангельская любовь показалась слишком страшной. Те, может быть, стояли и думали: только бы Он не сошел со креста, только бы оказалось, что проповедь эта — пустая мечта и Сам Бог нам показывает, что можно не верить… А проповедь Христа действительно страшная. Может быть, самое страшное, что есть во всем Евангелии, — слово Христово о любви, о том, что человек должен так совершенно умереть всему тому, что собирательно мы называем себялюбием, так умереть до конца, чтобы жить для другого, в другом, ради другого. Это проповедь о такой страшной смерти, которой нет подобной на земле, она значит умереть заживо всему, что, нам кажется, есть наша жизнь. Принять такую проповедь любви можно благодатью Святого Духа, но и тогда она бывает порой так страшна! Феофан Затворник где-то пишет об этом: это то же самое, как на себя кинжал поднять. Только Бог может такую руку поддержать.
Много еще разных оттенков было, наверное, на Голгофе: были жены-мироносицы, были два разбойника, о которых можно было бы говорить отдельно, но по существу там был такой страшный разнобой криков и безмолвия, переживаний, душевных движений, намерений, надежд противоречивых. И оглянувшись тогда на наш алтарь и на толпу в храме, я увидел, что это та же самая страшная Голгофа. И с тех пор каждый раз как я оглядываюсь на храм, где совершается Божественная литургия, я вижу и эту Голгофу, и ту сердцевину безмолвной тайны спасения, и тот ужас, который тогда происходил и в нашем храме в Гааге, и на Голгофе две тысячи лет тому назад.
Здесь мы видим, что Бог совершает над нами, и нам становится понятно, почему нам говорят: «Иди, иди в церковь, стой, если ничего другого в тебе нет, стой, если нет чувств, переживаний, стой, если все в тебе возмущается, стой. Что бы ни происходило, даже мертвая зыбь, стой и смотри, потому что простоять там нельзя напрасно». Это одна из самых важных вещей, которую мы, стоящие во храме, должны понять о том, что в нем совершается. С одной стороны, тайна, которую ничто не может поколебать, а с другой стороны, именно потому что совершается эта тайна — такое колебание души, жизни, судьбы мира, всего мироздания, что иногда делается невыносимым, и впору бежать с криком, только бы уйти от этого. И никуда не уйдешь, потому что, как говорит псалом, куда мне бежать от лица Твоего, Господи? На небе Ты еси, земля — подножие Твоих ног, в ад ли (то есть в преисподнюю)? — и там Ты находишься после смерти и воскресения Христовых (Пс 138:7—8).
И последний образ: два разбойника. Последний, потому что он говорит нам о последнем суде, который, в конечном итоге, разделяет нас всех на две категории. Одни видят, что умирает Невинный на Кресте, и отвергают человеческое правосудие, смысл событий, не могут верить, что во всем Божия рука и Божие действие. Другие видят, как умирает Невинный, и становятся способны все принять в тайне Голгофского умирания.
Как бы нам из этой пестрой, шумной, крикливой, противоречивой толпы подойти ближе, как бы нам оказаться пригвожденными к кресту! Вот к чему надо стремиться, вот чего надо искать: дойти до того момента и места, когда мы или направо, или налево от креста, вернее, когда мы прибиты к этому неотвратимому суду, и премудростью Господней, благодатью Духа оказаться одесную, а не ошуюю.
Ответы на вопросы
Евхаристия — это благодарение, то есть величайшая радость, но мне кажется, что вы говорите немного грустно. Мне хочется радоваться и благодарить на Литургии, не то чтобы танцевать, но бывает иногда страшно возвышенное настроение на Литургии. Как надо это понимать?
Ну, и танцевать бы неплохо, потому что царь Давид танцевал перед ковчегом (2 Цар 6:16), и я все больше и больше убежден, что, например, Пасхальную заутреню надо было бы ритмически совершать, то есть не совсем танцевать ее, но чтобы движения соответствовали пению.
Но насчет сегодняшней беседы — во-первых, у меня есть, вероятно, мрачная черта, а во-вторых, я сегодня говорил именно об этом аспекте в связи с другими вещами. Я, кажется, раньше говорил о благодарении и о радости, но вообще о радости я, очевидно, говорить не умею. Слово «евхаристия», так же как славянское «благодать», имело двойное значение: с одной стороны, «благой дар», то, что ты получаешь, и, с другой стороны, «благодарение». Это мы находим в каноне ангелу-хранителю, где слово благодать употребляется именно как «дар благой». В Литургии находятся эти два момента: это величайший дар, который мы можем получить, и в ответ на величайший дар — величайшее ликование, но в этом ликовании есть один момент трудный. Сказать Богу, что мы Его благодарим за все без исключения перед лицом того, что совершается на земле, можно, либо забыв на время, что совершается (а это немыслимо, потому что в тайне любви забыть нельзя), либо если мы действительно находимся уже в эсхатологическом веке, то есть если Литургия есть небо на земле, если она есть тайна будущего века.
X
Я получил письмо по поводу прошлой моей беседы и хотел бы из него кое-что вычитать и с этого начать сегодня. Я это делаю тем более охотно, что в конце письма сказано: «может быть, в какой-нибудь из ваших бесед вы ответите на некоторые вопросы из моего письма». Таким образом, надеюсь, я отвечу на письмо отсутствующего члена нашего собрания и, кроме того, начну нашу беседу с очень важного, что здесь указано.
«Беседа ваша меня привела в глубокое уныние, может быть, потому что я нездорова и плохо соображаю, а может, правда, в вашем толковании есть что-то очень страшное. По вашим словам, на каждой Литургии, совершаемой на бесчисленных алтарях вот уже две тысячи лет, Господь снова умирает мучительной крестной смертью, а мы стоим и смотрим в безмолвном ужасе, и этой непрекращающейся Голгофе не будет конца, пока в нас останется хоть капля себялюбия. Где же радость и торжество воскресения? Где слова апостола Павла: Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти (Рим 6:9)? И как можно радоваться Рождеству, если оно есть только начало нескончаемых мучений Спасителя?».
Вот первая часть этого письма, с которой я хочу начать сегодняшнюю беседу. В прошлой беседе я действительно настаивал как можно более сильно на одном из аспектов нашей Литургии, со всем чувством, которое он во мне вызывает, — именно на том, что когда мы присутствуем на Литургии, мы присутствуем хоть в какие-то определенные моменты при Голгофской трагедии. Каждый раз, как священник заколает Агнца на жертвеннике, каждый раз, когда этот хлеб образует собой Агнца, закланного еще до начала мира, когда лежат перед нами освященные Тело и Кровь, разделенные друг от друга, перед нами ставится вопрос о Голгофе. Вопрос этот стоит перед нами, перед каждым из нас, потому что Христос умер не вообще за человеческий род, Он умер за каждого из нас.
Это одна из сторон тайны Божественной литургии, и это мы должны принять как факт: что это страшно, более, вероятно, страшно, чем мы даже представить себе можем, потому что это относится к каждому из нас в отдельности, не в нашей совокупности, а каждый из нас перед этим вопросом стоит. И дай Бог, чтобы слова этого письма отражали правду, когда пишущая говорит: «а мы стоим и смотрим в безмолвном ужасе». Если бы мы стояли в безмолвном ужасе, если бы только мы так стояли! Если бы хоть раз на Литургии нас охватил именно ужас и сковал нас до безмолвия, мы не могли бы уйти из храма и моментально вернуться в мир в самом худом, самом неприглядном смысле этого слова. А это, к сожалению, так, и различные противоречивые настроения, которые я описывал в прошлый раз и которые можно было бы еще подробнее, еще углубленнее описать и уловить в себе, действительно окружают Крест Господень. Так что в этом отношении я от своих слов не отказываюсь: действительно, это так, действительно, это страшно.
Но вполне справедливо, что это далеко не исчерпывает тайны Божественной литургии. В ней есть и другое. Есть то, что выражается первым возгласом, который священник делает в начале службы: Благословенно Царство… Мы благословляем то, что для нас наступило Царство Божие, что для нас Господь есть Царь, что мы вошли в такое состояние и взаимное отношение в пределах Церкви, когда действительно Царство Божие дошло до нас больше или меньше. Оно зачинается внутри каждого человека, растет, как горчичное зерно, развивается, разрастается, перерастает самого человека. Как опять-таки в притче Христовой говорится, оно вырастает в целое дерево, под которым могут укрыться птицы небесные (Мф 13:32), и, может быть, засеменяет собой почву шире, дальше, так чтобы стать реальностью какого-то общества или, в свое время, всего мира. И это мы предвкушаем не только надеждой, не только как будущее, а, как я старался объяснить, когда мы говорили о призывании Святого Духа на Литургии, как что-то уже случившееся. Призывание Святого Духа, Его присутствие, Его действие на Литургии нам говорит о том, что наш мир как бы перерос себя, раскрылся, и что в этот открытый мир вошла тайна будущего века. Уже действуют законы будущего века, а не только законы времени, и в этом уже торжество и радость бесконечные.
Но притом мы сознаем, что это нам дано только зачаточно, что мы обладаем этим только частично. Тому есть две причины. Бог Духа Своего дает без меры, но мы-то принимаем Его в меру нашей открытости Святому Духу. И кроме того, эта тайна будущего века как бы двоится: с одной стороны, она пришла, а с другой — она еще в будущем. Слово, которое по-гречески выражает эти понятия и дало в русском языке словоэсхатология, то эсхатон, показывает на двоякий смысл. То эсхатон — нечто решающе и нечто завершенное. И в этом отношении Крест Христов, вся тайна домостроительства Христова совершили что-то решающее для судьбы мира. Прибавить к этому ничего нельзя, ничего не нужно, все уже совершено Крестом, все Духом Святым нам уже дается. Но вместе с этим то, что дано, что дается Христом и во Христе, должно стать достоянием каждого из нас. Оно еще находится в состоянии становления в нас, и по мере того как мы приобщаемся, мы меняемся, мы врастаем в тайну будущего века.
И поэтому несмотря на то, что таинство будущего века, радость и победа Царства нас ощутимо достигли, все-таки стоит перед нами Крест Господень. Пока есть становление, пока есть какие-то души, которые еще не спасены, которые еще не ищут спасения, Царство как победа Господня и Крест как Господень подвиг нашего ради спасения все еще соприсутствуют, стоят рядом.
Дальше мы произносим молитву Отче наш. Бог, Отец Единородного Сына через наше хоть зачаточное приобщение ко Христу уже стал самым настоящим образом нашим Отцом, а вместе с тем мы так часто остаемся по отношению к Нему блудными сынами. И опять-таки это совмещается. С одной стороны, нам во Христе все дано, потому что мы с Ним соединяемся не только в таинстве Крещения, но всей любовью церковной, всей жизнью Церкви. А с другой стороны, нам еще надо совершить путь из далекой страны обратно в отчий дом. Да, мы дети Божии, мы сыновья Господни, а все-таки мы не в самом Царстве, а еще на пути. И это одно от другого различно, но не противоречит одно другому.
Дальше в Божественной литургии все основано на воплощении и воскресении Господнем. Не только Крест обусловлен воплощением, воскресение тоже обусловлено воплощением, и также наше обо{'}жение, то есть то, что, приобщаясь Богочеловечеству Христову, мы приобщаемся к Божественной жизни и делаемся человеком по образу Создавшего нас, делаемся человеком в подлинном смысле слова, а не только в том смысле, в котором мы наблюдаем человека на земле, падшего. Воплощение обусловливает самую возможность таинств. Только потому что Христос стал Человеком, только потому, что человеческая плоть соединилась с Божеством, видимое нашего мира, плоть нашего мира, вещество нашего мира уже связано с Божеством и может приобщиться к тайне Божества, может стать духоносным и Богоносным для нас. Этот хлеб и это вино делаются Богоносными, потому что Христос стал плотоносец, облекся в плоть. И в этом ликующее торжество, которое мы поем по случаю Рождества Христова, поклонения волхвов, Крещения Господня, Преображения, Воскресения и Вознесения, когда вещество нашего мира, собранного в личности Христа в виде плоти воплощенного Сына Божия, возносится на небо и покоится теперь в самых глубинах тайны Святой Троицы. Человек во Христе, через Христа, человек Иисус Христос, как Его называет апостол Павел (Рим 5:15), сидит одесную Бога и Отца, и в Нем вся видимая природа, вся видимая тварь себя видит в тайне Божества.
В этом, конечно, ликующая и торжествующая радость, но мы не можем забыть, что вся эта радость нам дана во Христе, Который назван Перворожденным из мертвых (1 Кор 15:20), о Котором говорится, что Он — Первый, за Кем должны последовать другие. Но последовать как, почему? Потому что из смерти мы должны родиться в жизнь, потому что от зла мы должны перейти к добру, потому что от обезбоженности мы должны перейти к богообщению, к приобщению к Богу и к обожению. Но все это пока не совершилось, и все равно пребывает ужас Голгофы и ужас ночи в Гефсиманском саду. Пока есть один грешник на земле, Гефсиманская тайна в действии, как и тайна Голгофская. Да, Христос воскрес из мертвых, Он уже не умирает, но Его смерть присутствует среди нас. Она присутствует разно: она присутствует как наше воспоминание, как наш безмолвный ужас перед тем, что это должно было случиться из-за меня. В этом смысле то, что она случилась, не требует, чтобы она постоянно вновь случалась, чтобы меня заковать в безмолвный ужас. И она присутствует еще иначе. Как говорит апостол Павел, мы — какнасмертники до скончания мира, до Страшного суда. Смерть Христова действует в нас, она присутствует как сила, убивающая в нас все то, что противно Христу, то есть ветхого Адама, чтобы он умер до конца и ожил новый Адам, новый человек родился бы в нас и действовал по образу Христа. Да, смерть уже не имеет власти над Ним, потому что смертью смерть Он победил, но можем ли мы это забыть?
В письме еще поставлен вопрос о том, что на каждой Литургии, совершаемой на бесчисленных алтарях, вот уже две тысячи лет Господь снова умирает мучительной крестной смертью. Это и так — и не так. Христос умер однажды и больше не умирает, но каждый раз, когда совершается Божественная литургия, это событие, которое случилось раз в истории, но пребывает как действительность всей вечности, вдруг оказывается перед нашими глазами реальностью нашего опыта. Вечность врывается во время, потому что во время Литургии мы не живем моментом нынешнего дня и не возвращаемся в тот момент истории, когда был убит Христос, а стоим перед лицом события, которое — от века утаенная тайна нашего спасения, тайна крестной Божественной любви.
Крестной она была до воплощения, до смерти Христа на Голгофе. Это событие вечное, перед которым мы находимся, также как та Тайная вечеря, которой мы приобщаемся, когда мы причащаемся Святых Тайн. Это не новая Тайная вечеря, это та единственная Тайная вечеря, которая только один раз и могла быть совершена, потому что ее совершает никто как Христос, и эта Тайная вечеря, поскольку вечность прорывается в наше время и мы в ней живем во время Литургии, эта Тайная вечеря, однажды только совершенная, делается реальностью для нас в этом мире, в это мгновение, в этом храме, в этом чуде приобщения. Одна Голгофа, одна крестная смерть, одна-единственная Тайная вечеря, но мы, потому что вступаем в вечность, находимся лицом к лицу с этим единственным событием со всей реальностью и во всем ужасе совершившегося.
Я говорил, что эта тайна, сокрытая от нас до момента, когда она открылась нам в ужасе Гефсиманской ночи, Страстной седмицы и смерти Христа на Голгофе, уже присутствовала, пребывала в Боге раньше, вот в каком смысле. Не падение человека и не необходимость его искупить внесли в Божественную любовь крестный, трагический момент. Любовь в себе содержит его, Бог как полнота любви в Себе содержит изначально радость давать, радость получать и трагедию самоуничижения.
И тут мы приходим к второй теме этого письма: к вопросу о самоутверждении и самости. Об этом я хотел бы говорить в следующий раз в связи с остальными моментами этого письма, а сейчас предлагаю перейти к собеседованию. Но я хочу сначала вернуться к теме о славе, о радости, о торжестве Божественной литургии.
Вся Божественная литургия возможна только потому, что воскрес Христос. Если бы Христос не воскрес, все было бы безумно, бессмысленно. Ничему не было бы места, потому что тогда все, во что мы верим, было бы основано на иллюзии, на мечте, на том, чего на самом деле никогда не было, никогда не случалось. Если Христос не воскрес, говорит апостол Павел, то мы самые несчастные из людей, потому что мы живем ложью и мечтаем о несбываемой надежде (1 Кор 15:17). Все, что совершается в Литургии, основано на этой изумительной радости воскресения Христова. Но кроме радости воскресения я хочу обратить ваше внимание на одну вещь: каждая Литургия остается незаконченным событием.
В конце Литургии священник говорит: Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя, и потом поворачивается к народу и говорит про себя: Благословен Бог наш, и вслух: всегда, ныне и присно и во веки веков. Здесь есть что-то незаконченное. Христос возносится на небо, и ангелы говорят: Он вознесся на небо, откуда Он в свое время вернется (Деян 1:11). Когда Святой Дух дается, опять-таки Дух Святой и святая Церковь ждет возвращения Христа во славе: Ей, гряди Господи Иисусе! (Откр 22:17) Что же здесь совершается? В чем эта незаконченность и в чем она нас касается? Она имеет прямое к нам отношение и вот какое: эти Тайны Христовы, к которым мы приобщились, нас делают в самом страшном смысле слова присутствием Христа на земле. Мы приобщены Его Телу и Крови, мы делаемся соучастниками Его человечества и хоть частично, зачаточно приобщаемся тайне Его Божества. Хлеб и вино, которые торжествующе, ликующе, дивно, радуя весь видимый вещественный мир, стали Телом и Кровью Христа, хлеб и вино совершили весь свой действительно таинственный путь от вещества к приобщенности тайне будущего века. Но мы — нет, мы только отчасти. Хлеб и вино вне греха и потому могли стать богоносными, но мы во грехе и только постольку делаемся Христовы по образу Его человечества и приобщаясь Его Божеству, поскольку преодолеваем грех и делаемся новой тварью силой благодати и силой своей верности Богу.
И незаконченность Литургии обращена на нас. Все то, что касалось вещества, завершено, большей славы оно не может достигнуть. Но мы, которые через это освященное вещество приобщились ко Христу, теперь только начинаем свой новый путь или заново начинаем путь, на который нас поставило Крещение, Миропомазание и первое наше Приобщение. Эти Тайны, которые должны нас преобразить, теперь должны начать действовать в нас. И Литургия в полном смысле будет только тогда завершена в одном отдельном человеке, когда он достигнет святости, и Литургия только тогда будет завершена на земле, когда после последнего суда явится слава сынов Божиих, победа Господня во всех, и Бог будет все во всех (1 Кор 15:28).
Так что здесь опять-таки та ликующая и торжествующая слава воскресения, вознесения, дара Святого Духа, пришедшего Царствия будущего века, которое уже достигло до нас, вошло и стало зерном горчичным внутри нас, раскинулось вокруг нас, охватывает нас, уже теперь вводит нас в самую вечность. Вся эта слава нам дана, и вместе с тем она вся еще впереди, она все еще — наше призвание. Церковь одновременно уже в Отчем доме и, в лице каждого своего члена, еще на пути. И в этом отношении каждая Литургия остается незаконченной, потому что только последнее свершение закончит тайну Божественной литургии, потому что только тогда Евхаристия как последнее ликование благодарной твари будет доведена до конца, когда вся тварь сможет сказать перед лицом Божиим: Ты был прав, Господи, во всех путях Твоих (Откр 15:3; 16:7), когда все будет совершено и исполнено.
Вот что я хотел сказать в ответ на первую часть этого письма, а в следующий раз будем продолжать его разбор.
XI
За последнее время я продолжал размышлять над заданным мне здесь вопросом и над двумя письмами, которые я получил по поводу того, что мои беседы своим содержанием просто повергают в отчаяние и отнимают радость Литургии.
И я стал задумываться над тем, каким это образом я вполне серьезно и, сколько умею, ответственно говорил то, что говорил до сих пор, а сам этой радости Литургии не теряю? Почему выходит, что я разрушаю чужую радость, хотя моя радость от этого не разрушается? Я себе поставил вопрос: в чем моя радость Литургии? — и теперь хочу попробовать ответить на этот вопрос, и, может быть, что-нибудь прояснится и в других моих замечаниях.
Во-первых, вся Литургия опирается на то, что Христос воскрес. Это событие, которое имело место столько-то столетий тому назад, имело место в истории человечества, принадлежит людям. А с другой стороны, это событие, которое стоит вне ряда других исторических событий в том отношении, что все события человеческой истории случаются, имеют последствия, но сами никак не присутствуют из столетия в столетие. Воскресение же Христово присутствует из столетия в столетие не только в сознании, но в реальном опыте людей, потому что Христос, Который однажды умер и воскрес, уже не умирает, смерть над Ним больше власти не имеет (Рим 6:9), Он живой, и Он среди нас живет. В этом отношении воскресение Христово присутствует изо дня в день, и каждый из нас может опытно знать, что Христос воскрес, потому что сам может опытно знать воскресшего Христа.
Но самая радость воскресения выражается разно. Она выражается в пасхальную ночь резко, ошеломляюще, ломит глаза, а затем этот свет воскресения, который так ярко вторгается в нашу жизнь в пасхальную ночь, не исчезает, но делается тем, о чем поет Церковь в вечерне: Свете тихий святыя славы бессмертного Отца небесного, святаго блаженного, Иисусе Христе… Этот ломящий глаза свет делается тихим, пронизывает собой все, освещает все, он везде, он всегда с нами.
И может быть, я мало, меньше, чем должен бы, чувствую из недели в неделю этот резкий, потрясающий день воскресения, потому что мне кажется, что воскресший Христос с нами так постоянно, так неотъемлемо, что этот свет невечерний, о котором поется Свете тихий (радостный, радостотворный свет), с нами всегда. И в этом свете — наша радость: нам, в каком-то отношении, не нужно ничего другого, мы стали детьми света, мы живем в этом свете, и это источник спокойной, тихой радости. Это свет, о котором в Евангелии говорится, что свет во тьме светит и тьма не приемлет его и не может его погасить (Ин 1:5). Древняя пословица говорит, что вся тьма вселенной бессильна погасить самую малую свечку.
Трудно уйти от противоположения света и тьмы. Свет загорелся во тьме для того, чтобы тьма постепенно разошлась. И здесь я чувствую, вероятно, слишком исключительно трагический момент этой тьмы. Мне жалко всего того, что во тьме живет, и сколько бы ни было света, пока есть тьма, мне кажется, нельзя утешиться до конца.
Но в этом свете есть еще и другое. Внутри этого света нам открывается радость, во-первых, присутствия Самого Господа. Он нам говорит: Где двое или трое будут собраны во имя Мое, там и Я буду среди них (Мф 18:20). Среди нас Христос, и в этом радость несказанная. Но если посмотришь на Христа, когда Он станет перед тобой так, как Он стал в вечер воскресения, Он стоит воскресший, а на руках и ногах и в боку — раны от гвоздей и от копья. Каждый из нас, как Фома, может это видеть. И здесь тоже радость и трагедия переплетаются.
И еще. Во Христе мы видим единственного человека, который настоящий Человек, Человек в полном, совершенном, неограниченном смысле этого слова. И наше призвание — стать людьми, человеками, подобными Ему. Изумительная радость видеть, чем может быть человек: мера человека — Иисус Христос из Назарета. Это человек, и это явление того, что человек есть, — и в этом радость. Но наряду с этим есть сознание, что я не такой человек. В этом тоже радость, потому что если, будучи тем человеком, каковы мы, можно иметь такое колоссальное богатство жизни, и радости, и познания Бога, то каково будет познание, какова радость, какова жизнь, когда мы вырастем в полную меру роста Христова, как говорит апостол Павел (Еф 4:13)!
И тут встречаешься опять с другой вещью, встречаешься с тем, что для того, чтобы это было, Бог должен был стать Человеком, и этот Человек должен был умереть позорной и мучительной смертью, и весь мой рост обусловлен Крестом. Опять радость и трагедия переплетшиеся, и нельзя уйти ни от одного, ни от другого. И это идет дальше. Тот мир, в котором мы живем, весь связан со Христом, потому что Христос не только Человеком стал, Он воплотился, то есть стал плотью, и вещество нашего тварного мира соединилось с Божеством. В каком-то смысле, очень точном, определенном, во Христе присутствует все видимое, образно представлено все вещество тварного мира, от самого малого атома до величайших созвездий. Все глядится во Христе, как в зеркале, все себя видит соединенным с Богом, исполненным, доведенным до желанного предела, до предела, который пока есть мечта. И через воплощение Христово и смерть Христову явлено видимой твари, что смерть бессильна разъединить то, что соединилось в Боге, разбить ту цельность, которая зиждется на Боге, создалась в Боге.
А в вознесении Христовом, после воскресения Спасителя, видимое вещество этого мира, составляющее плоть Богочеловека, восседает одесную Бога и Отца, то есть входит в самую глубину тайны Святой Троицы. И теперь материальная тварь может себя видеть уже присутствующей в глубинах Божества: Божество не только ее пронизало в воплощении Христовом, но вознесло, окутало в тайне вознесения. И это то, что должно быть, в конечном итоге, судьбой и радостью всего тварного мира, потому что апостол Павел говорит, что придет время, когда, победив все, Христос всякую власть, которая Ему дана на небе и на земле, отдаст Отцу, Сам покорится Отцу, и тогда будет Бог все во всем (1 Кор 15:28). Это слава, которая в каком-то решающем и окончательном смысле пришла, которая присутствует, которая есть и действует. И вместе с этим, когда мы смотрим на мир, мы видим, что, как тот же апостол Павел говорит, тварь воздыхает в ожидании явления чад Божиих (Рим 8:22). Пока человек не станет Человеком, пока мир не станет Божиим через нас, в человечестве и, шире, в мире продолжает действовать и властвовать страдание, смерть, жестокость, отчужденность от Бога, оторванность и отчужденность друг от друга. И опять-таки человек себя видит на той грани, где это решается, и видит это, с одной стороны, с ужасом, с другой — с изумлением.
Дальше мы говорим о призывании Святого Духа. Святой Дух, который дан Церкви, говорит о том, что в пределах Церкви, внутри Церкви уже настало будущее, уже будущий век настал: то, что совершается в Церкви, есть тайна будущего века. Эти события как бы выходят из ряда вон в нашей грешной обстановке, но это события нормальные в обстановке будущего века. Дух веет и действует. Мы видим Духом Святым в Церкви освящение воды, освящение хлеба, освящение вина, через человеческую веру, и верность, и через Божественное воздействие они освобождаются от плена времени и греха и делаются частью той славы земной, которая будет открыта когда-то позже. И мы уже живем в этом будущем веке, мы прикасаемся хлебу и вину, которые уже богоносны, мы прикасаемся к этой воде крещальной или воде, освящаемой в Богоявление, которая уже вода будущего века. Мы живем этим, и ликуем, и все-таки вдруг ощущаем, что (как я говорил в одной из прошлых бесед) Литургия и всякая, в сущности, тайна Церкви обрывается незаконченной. Она обрывается, как незаконченный аккорд, который звучит и плачет, потому что все это так, но за пределами Церкви есть сиротство, есть еще та тьма, в которую свет не проник. Мы можем ликовать в Церкви — и переходим от радости к горю, от горя к радости, но оба момента соприсутствуют, потому что тот же самый Дух, Который претворяет хлеб и вино в Тело и Кровь Христовы, тот же самый Дух, изливаясь в наши души, нас учит взывать к Богу и Отцу и говорить Авва, Отче (Гал 4:6). Этим открывается наше сыновство, и о большем мы и мечтать не можем. И вместе с тем в этом сыновстве мы встречаем сыновство Христово и Его слова к ученикам в вечер Его воскресения: как Меня послал Отец, так и Я вас посылаю (Ин 20:21). А как Отец послал — мы видим из всего Евангелия и, в частности, из того, что полтора дня тому назад случилось на Голгофе, и в течение нескольких дней предыдущей недели, в Гефсиманском саду и во время Страстной. Я вас посылаю как овец среди волков (Мф 10:16). В этом нет горя, в этом чистая радость, в этом нет страха, в этом победа, ликование нашего единства со Христом. Но вместе с этим, конечно, и трагический момент: ведь идем-то мы в мир, потому что мир во зле лежит, потому что есть заблудшие овцы, потому что есть горе, потому что князь мира сего называется сатана, а не Христос.
И здесь перекликаются постоянно радость и горе, вернее радость, изумление и сознание трагичного. Нас может захлестнуть радость, но очень трудно не переживать и трагедию. Вот некоторые моменты, которые я хотел выделить, чтобы объяснить себе, а может быть, и вам, почему ударение в моих беседах до сих пор было так настойчиво на трагической, то есть на жертвенной, стороне Божественной литургии, общего дела, которое у нас с Богом.
И теперь я хочу перейти к одному или двум вопросам, которые были поставлены. Первый вопрос — следствие того, что я говорил последний раз о том, что ни в Евангелии, ни в иконах древней Православной Церкви Божия Матерь никогда не изображена рыдающей, бьющейся, в полуобмороке, как это часто бывает на картинах Запада. Я, вероятно, неточно, нехорошо выразил свою мысль, потому что мне поставлено было на вид: «Неужели Она могла не страдать? Она же человек!».
Да, Она человек, но ответ, который я нахожу на это безмолвное предстояние у Креста, вот в чем. Во-первых, в том, что у Нее не было иной воли, кроме воли Божией, и когда Она предстояла у Креста, не было терзающего противоречия между тем, что происходило, и тем, на что Она шла. Во-вторых, при этом единстве воли, сознания между Ней и Божественным Сыном, Она не только стояла, наблюдая за смертью Иисуса, Онасоумирала с Ним, и это Ее соумирание соединяло Ее с Ним, а не разъединяло. И, в-третьих, изречение из древности: «как глубоко горе, которое не находит даже слез для своего выражения». Это окаменелое, безмолвное предстояние Божией Матери за пределами скорби, за пределами внешне выраженного страдания, потому что всякое выражение есть одновременно и облегчение. Здесь нет облегчения, здесь готовность на смерть до конца, и здесь не пассивность, а живая, сильная отдача себя, своей судьбы, своего растерзанного сердца, своего изнемогающего ума, своей воли в руку Божию: пусть будет, как Ты хочешь, Отче, а не как я.
Другой вопрос мне был поставлен: на чем основано церковное мнение, что мертвые беспомощны и что, потеряв физическое тело, мы так отдаляемся от Бога, что уже не можем Его просить помочь нам?
Я думаю, что в этом вопросе две разные половины: во-первых, о беспомощности, а во-вторых — об отдаленности от Бога. Беспомощность есть, а отдаленности может не быть. Есть в «Братьях Карамазовых», в записках старца Зосимы, глава, которая называется «Об аде», и в этой коротенькой главе Достоевский определяет ад так: это место, где все слишком поздно. Поздно верить перед лицом очевидности, поздно поступать по закону любви, когда бросается в глаза, что, кроме как в пределах закона любви, нет ни жизни, ни спасения. Перед лицом очевидности, которая открылась, уже поздно верить, поздно и проявлять любовь.
И встает вопрос: что же с этой беспомощностью можно делать? Человек стоит перед лицом того, что есть, и видит себя, какой он есть, и видит свою отдаленность, большую или меньшую, от Бога, видит большую или меньшую свою, по отсутствию любви, отдаленность от людей и видит также, как его жизнь, порой очень страшно, переплелась с жизнью других. Но что может он сделать? Да, он может взывать о милости, он может сознавать до самых глубин свое положение, но теперь помощь должна прийти к нему откуда-то, и может она прийти от Божией милости. Но Божия милость не есть Божия неправда, Божья несправедливость или слабость. Апостол Павел четко, ясно и так справедливо нам говорит, что ничто нечистое в Царство Божие не войдет (Еф 5:5). Значит, что-то должно случиться с человеком, чтобы ему открылся путь.
И вот раскрывается перед ним другая возможность. Земля — еще земля, на ней еще живут люди, которые его знали, люди, через жизнь которых он прошел, которые, может, его и не знают по имени, но на которых легла печать его личности. Вот эти люди теперь могут помочь. Чем? Мы молимся об усопших. Мы, конечно, не молимся о том, чтобы Господь поступил по отношению к ним несправедливо, простил то, что не заслуживает прощения, простил людей при обстоятельствах, которые прощения не позволяют. Но наша молитва говорит об одном: как бы ни был грешен, даже преступен данный человек, он в жизни оставил хоть одного человека с любовью к себе. Если кто-то о нем молится, значит, любовь жива, и наша молитва должна быть свидетельством о том. Мы потому помним этого человека не только памятью ума, но памятью сердца, что этот человек посеял в нашу душу крупицу любви к себе, а может, просто крупицу любви, нам открыл сердце, и ум, и глаза, и руки.
Но эта молитва только тогда получает полное свое значение, когда не ограничивается одними словами. Недостаточно только вспоминать человека в ту или другую годовщину его, заказать по нем панихиду и на этом успокоиться. Если человек жил на земле и прожил не напрасно, то его жизнь должна продолжаться как-то в нас. Каждый пример добра, правды, красоты, который мы от него получили, должен стать плотью, должен стать конкретной реальностью, так чтобы все добро, которое в нем было, через нас продолжало действовать на земле. А если так, то действительно мы можем в свое время встать перед Богом и сказать: «Да, этот человек жил, он грешил, но не только грешил, он в мою душу вложил любовь, он мне дал пример хоть в одном чем-то, что было достойно Евангелия и человеческой правды, земной и человеческой правды, и благодаря ему я прожил достойно имени человека». Тогда наша молитва делается живая, сильная, и жизнь этого человека и наша делаются не столь отделимы друг от друга, как кажется.
Когда два человека действительно друг друга любят и один умрет, тот, кто остается на земле, в какой-то мере уже высвобожден от рабской привязанности к земле, он уже частью своей души, вожделением встречи, надеждой и любовью находится там, где образ мира сего проходит (1 Кор 7:31). Но тот человек, который отслужил на земле свою человеческую жизнь, который вошел теперь в вечность, еще чем-то присутствует на земле, и ответственность его за жизнь на земле не кончена. Не кончена она в том смысле, о котором я говорил несколько мгновений тому назад, но не кончена она и в более широком смысле, потому что, встречаясь, общаясь, разговаривая, мы накладываем друг на друга печать своей личности, иногда на одно мгновение, на много часов, а иногда на всю жизнь. Можно ли сказать, например, что писатель, который в течение столетий вдохновляет в хорошую или дурную сторону людей, не несет ответственности за то, что он написал, и за то, что люди сделают по его слову? В этом отношении он беспомощен: человек начал дело, но остановить его больше не может, он положил начало, а последствия вне его власти.
В этом смысле усопшие действительно беспомощны перед лицом Господним, и мы имеем над ними какую-то спасительную власть — не потому что мы будем ставить свечи или заказывать те или другие богослужения, а по той любви, которая будет выражаться в нашей молитве, и по той любви и правде, которые благодаря им будут выражаться в нашей жизни. Здесь сложная, очень богатая круговая порука, которая нам приоткрывает разницу между судом над человеческой душой, душой только что отошедшей и Страшным судом над миром.
Этот Страшный суд — не просто повторение того, что когда-то было сказано и решено на частном суде, это событие, где все жизни, сложно переплетшиеся через все столетия, все последствия каждого поступка, каждого слова, каждого мгновения, все плоды этих жизней и поступков сведены так, что каждый стоит уже перед Богом и перед людьми со всем тем, в чем он участвовал иногда уже после того, как скончался. И здесь уже не суд над одним человекам, здесь какая-то сложная круговая порука, о которой говорит Достоевский: здесь народы и царствия, здесь все человечество стоит перед судом. Это было бы очень страшно, как-то безнадежно страшно, если не помнить, что среди человеческих имен в нашей истории есть одно Имя, которое собой суммирует всю историю, которое есть средоточие всей истории, но и спасения — Имя воплотившегося в Вифлееме Сына Божия, ставшего Иисусом Христом и нашим Спасителем.
XII
Для того чтобы поставить Литургию в ту богослужебную рамку, в которой она происходит, я хочу сказать кое-что о храме, о том, как его структура, его устройство составляет одно целое с христианским мировоззрением и содействует ходу всякого богослужения, в частности, Божественной литургии.
Как вы знаете, храм состоит из трех частей: из притвора, из той части, которая в древности называлась кораблем, где верующие стоят и молятся, и из алтаря. Каждая из этих частей о чем-то нам говорит, и говорит о чем-то существенном. Притвор теперь потерял свое значение, но было время, когда в притворе молились оглашенные и те люди, которые на время, а порой и пожизненно были отлучены от участия в богослужении. Притвор открыт наружу и закрыт в сторону корабля храма. В этом отношении он является связующим звеном между улицей и храмом, это именно связующее звено, а не просто проходное место, каким он стал теперь. В древности притвор расписывался фресками, и в нем всегда изображался Страшный суд, а на той двери, которая вводила в храм, часто была икона Спасителя — но именно Спасителя, не Господа Вседержителя, не Судьи, а Христа, пришедшего в мир по Божьей любви для того, чтобы этот мир не судить, а спасти, как об этом напоминает несколько раз евангелист Иоанн в своем Евангелии (Ин 3:17).
Притвор широко открыт наружу, всякий может до него дойти и встать перед лицом Божиего суда и Божиего спасения. Как я сказал, два рода людей молились в этом притворе: люди, которые, живя вне Церкви, через слово проповеди, через чтение Евангелия, через слышание, через опыт жизни среди христиан или встречи с единственным христианином, кто стал для них откровением, огласились словом жизни и спасения. Это люди, которые услышали голос Христов, оклик Господень, повернулись и пошли в сторону этого голоса. Всякий оклик Божий является призывом к вечной жизни, но этот же оклик всегда является началом суда человека над самим собой. Апостол Павел в одном из своих посланий говорит, что неверующие, то есть язычники, оправдываются и судятся тем законом человечности, жизни, который Господь вписал в их сердца (Рим 2:15). Всякий человек, который услышал глас Господень, делается чутким к этому закону, и осознает его, и стоит перед этим судом.
С другой стороны, вы, наверное, помните то место в Евангелии, где Господь говорит: Мирись с твоим соперником пока ты еще с ним на пути, потому что придет время, когда вы дойдете до судьи и тогда соперник отдаст тебя в его руки, а он отдаст тебя стражам и будешь ты посажен в темницу, где останешься, пока не выплатишь последней полушки (Мф 5:25—26). Отцы Церкви в этом сопернике, о котором говорит Господь, видели человеческую совесть, совесть, которая является нашим спутником от рождения до смерти, придирчивым, непримирительным спутником, строгим, требовательным спутником, который никогда не пропускает ничего дурного без того, чтобы нам об этом не сказать, спутником, который в течение всей нашей жизни нам будет докучать и которого мы действительно часто почитаем противником, помехой, врагом, потому что никогда он не дает нам наслаждения во зле. И вот этот спутник, совесть, как только глас Господень коснется нашей души, как только мы начнем думать о суде, о Боге, о правде и о себе, о людях, сразу поднимает голос и влечет нас на суд: не для того, чтобы нас засудить, а для того, чтобы, наконец опомнившись, мы могли выправить свою жизнь. Человек, который услышал глас Господень и увидел славу Божию, Царство Божие уже пришедшее в силе, идет, и первое, с чем он встречается, это странное положение, при котором Господь является Судьей и Спасителем одновременно.
Другой разряд людей, который стоял в притворе в древности, это те, которые были отлучены от церковного общения за немилосердие, за грехи против любви. Они в этом отношении уже не принадлежали Церкви и тоже стояли перед судом. Они нарушили единственную Христову заповедь о любви и уже были вне храма, вне земного общения, но они были извергнуты для того, чтобы могли опомниться и не оказаться когда-либо во внешней тьме, во тьме кромешной.
В этом отношении отлучение, суд древней Церкви был делом крайнего милосердия, а не мстительности. Это было извержение с тем, чтобы люди осознали, что значит быть вне хотя бы того начального образа Царствия Божия, который они познали в братской любви, и в жизни общины, и в таинствах Церкви, и в радости церковной. И перед ними стояли и суд, и Спаситель. Это начало пути в самом деле начинается блужданием вдали, окликом Господним, поворотом человека в сторону позвавшего Господа, и этот поворот называется обращением — обращением к Господу, началом покаяния, той перестройки всех мыслей, всех чувств, всего волевого строя, всего поведения внутреннего и внешнего, которое человека делало в конечном итоге чадом Царствия, вместо того чтобы он был чадом плоти, как об этом говорит молитва Крещения. За этой дверью, на которой была видна икона Спасителя Христа, в сущности, был Сам Христос. Вы помните, как в Евангелии от Иоанна Он говорит: Аз есмь дверь овцам. Кто Мною входит и исходит пажить обрящет (Ин 10:9) — тот, кто Мною, через Меня войдет, тот и путь найдет за пределом этой двери, пажить, где можно жить и питаться.
А дальше — та часть храма, которая называется кораблем, отчасти потому что церковь в древности часто строилась в форме корабля в память Ноева ковчега, в котором было единственное спасение от потопа, то есть от гнева Божия, разразившегося по злой человеческой воле. Кроме того, этот образ Ноева ковчега и самого корабля так ярко говорил о том, какова тогда была действительность духовной жизни. А действительность была такая: вокруг били волны языческой ненависти и преследования. Те люди, которые собрались в пределах этого храма, были отделены от ненавидящего их и гонящего их мира хрупкой стеной, которую эти волны могли в одно мгновение размыть, если только она давала трещину, то есть если только один человек оказался неверным и злоба и ненависть находили себе путь в пределы этого храма, внутрь этой общины. А люди, которые находились в этой общине, сознавали, что друг для друга они ближе, чем самые близкие и родные, оставшиеся снаружи. Так же как когда во время плавания в море разразится гроза, и опасность смерти висит над каждым, и жизнь каждого зависит от жизни другого, и каждый человек делается близким и исключительно значительным, так и тут люди, собравшиеся в храм, становились друг для друга бесконечно близкими. Они выбрали отверженность, смертную опасность, они согласились быть ненавидимыми всеми имени Христова ради. Они были гонимы и отвергнуты, но одновременно они были избраны.
Слово «избрание» на современном русском языке всегда содержит в себе какой-то оттенок привилегии, и, действительно, этот оттенок есть, но не совсем в том смысле, в котором мы часто его ощущаем. Избрание значит, что из какой-то среды некоторые люди выбраны, вынуты, отделены, и это дело Божие, следствие того оклика, оглашения Господня, которое вырвало человека из мира и заставило его прийти к Церкви. Это избранничество еще не есть избранничество к славе. Христос, соединив с Собой учеников, сказав им, что они составляют тело Его, что они словно ветви, а Он — лоза (Ин 15:5), что они — храм Святого Духа, что Он — глава, а они члены тела. Христос также сказал им в вечер воскресения: Я вас посылаю, как Отец Меня послал (Ин 20:21), а в другом месте Евангелия Он им говорит: Я вас посылаю, как овец среди волков (Мф 10:16). Он призвал их к тому, к чему Сам был призван Отцом: идти к людям для того, чтобы спасать их, но спасать ценой собственной жизни и ценой собственной смерти.
Это избранничество сознавали тогда люди, потому что смерть действительно была реальностью в их опыте. И корабль церковный они действительно осознавали как место спасения, потому что это место, где Живой Бог был в их среде неразлучно и где они были с Богом неразлучно, сознавая одновременно, что кругом бьют волны, стараясь раздробить и размыть этот корабль.
Но в этом корабле не все одинаково, в нем как бы две части: та часть, где стоит народ, и алтарь. Отделен ли алтарь высокой иконостасной стеной или легкой перегородкой — не важно. Это область, которая принадлежит собственно Богу, и церковный Устав запрещает в нее входить не только мирянину, но и священнику без дела. Священник или дьякон может войти в алтарь только для исполнения священных обязанностей, он не может войти просто так: это область Господня.
Это разделение храма на две части указывает на что-то очень важное. В Церкви есть как бы двойственность бытия: с одной стороны, она уже — Царство Божие, пришедшее в силе, небо на земле. Но, с другой стороны, это небо, это присутствие Божиего Царства является частью земной судьбы, земного становления и земной трагедии, и потому Церковь одновременно и дома, и на пути. Каждый из нас является одновременно членом тела Христова и вместе с этим грешником, которого Христос спасает. Мы уже и еще нет. Мы уже всего достигли, и все же перед нами лежит путь. Дело Христово уже завершено, и ничего к нему нельзя прибавить, решительная победа уже одержана, но каждый из нас должен приобщиться этой победе, и поэтому одержанная победа для каждого из нас еще впереди. Это и подчеркивается разделением храма на две части: с одной стороны, мы уже в Царствии Божием, с другой стороны, Царствие Божие, то место, где живет Господь, алтарь, — впереди, и нам туда пока нет пути, или есть путь только через определенное служение священника.
Между западной дверью, той дверью, которой входят из притвора в храм, и алтарем — целый путь. На этой грани в древности (как и в западных церквах теперь) находилась крещальная купель, потому что из притвора, из места покаяния и суда в общину верующих можно пройти только через крещальную воду. А дальше от купели к алтарю — путь, который можно видеть просто в той дорожке, которая лежит от одного края церкви к алтарю. Это целый путь, потому что от крещальной купели до алтаря духовная дорога иногда очень далекая.
На самом деле, что происходит у царских врат? Там происходит приобщение Тела и Крови Христовых, и над этими царскими вратами стоит крест. Вот где, при каком условии мы можем причаститься Святых Христовых Тайн: если мы покаянием пришли через воды Крещения, через весь этот путь к готовности приобщиться и жизни, но и смерти Христовой. Мы часто думаем о Крещении просто как о даровании нам вечной жизни, помощи, сил и крепости. Это правда, это так. Христос нас приобщает этому всему, но если мы хотим приобщиться в полном смысле этого слова, то есть соединиться с Ним для общения в одной жизни, то мы должны быть готовы на все то, чем была земная жизнь и земная смерть Христова, поскольку это в пределах наших сил; но об этом судит Сам Господь и мерит Сам Господь.
За пределом царских врат — престол Господень, престол заклания, и в глубине храма большей частью икона Воскресения Христова, которое есть предел того, что нам постижимо на земле, но за этим пределом есть все вечное и для нас непостижимое. Как вы знаете, в алтаре стоит в середине престол, слева от престола — жертвенник, и здесь совершается самая тайна Божественной литургии; и несмотря ни на что, там совершается больше, чем мы можем вместить или уразуметь. После причащения священник говорит: и даруй нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего. Все земное — это только образ того лучезарного и великого, что нам будет дано потом.
Вот в таком храме, который представляет собой целую жизнь человека, целое мировоззрение и целый путь, и совершается наша служба. Тогда делается понятно, почему в праздники в конце вечерни на молитву перед освящением хлебов, на литию положено выходить в притвор, чего мы не делаем, потому что там больше никого нет. Но раньше, когда там были кающиеся и были там еще не приобщенные Церкви, вся Церковь выходила к ним с пением праздничных стихир, потому что в дни великих праздников Господних не только радость церковная, но и самая тайна спасения переливалась через край и достигала до них. Теперь эти молитвы читаются в глубине храма, и иногда недоумеваешь: почему надо было туда уходить? Вот почему: радость церковная приносилась из храма тем, которые могли в другое время только издали слышать отдаленные созвучия церковной радости. Теперь она до них доходила и их вдохновляла, им открывала новую надежду и радость спасения. А потом снова они оставались перед лицом суда, но перед лицом нового суда: они только что увидели, что может быть достигнуто, какая радость может быть их, если они согласятся на это очень страшное избранничество, страшное и теперь по своему духовному значению, и по своей духовной готовности.
Эта структура храма нам объясняет тоже, почему наша Литургия содержит в себе не только молитвы, но и действия, если только помнить, что эти три предела образно являются подлинными пределами духовной жизни и невидимого для нас мира. То, что происходит в алтаре, те шествия, которые приводят священника с Евангелием, или с кадилом, или со Святыми Дарами в народ, — все эти действия имеют такое же значение для нашего понимания тайны спасения, как самые молитвы.
XIII
В прошлый раз я пытался описать храм и показать, как он выражает собой православное христианское мировоззрение. К этому описанию, думаю, надо прибавить еще несколько моментов.
Во-первых, храм, как он построен для православного богослужения, предполагает не только слова и молитвы, но и литургические действия, и Литургия (как и все наши богослужения) построена драматически, то есть как действие, выражаемое словом, движением, обстановкой, всем тем, что человек может воспринять зрением, слухом, целостным своим переживанием. И эта драматическая постановка нашего богослужения имеет целью довести те истины или тот опыт духовный, которые составляют содержание богослужения и христианской веры, не только до рационального нашего сознания, но довести это глубже, чем наше сознание. Наше богослужение, вместо того чтобы обращаться только к нашему уму, ставит нас сначала и раньше всего в обстановку молитвы, и в условиях молитвы нас ставит лицом к лицу с теми реальностями, которые составляют духовный мир. Эти реальности, в конечном итоге, выражаются в двух порядках и передаются нам в двух порядках: словом и действием — с одной стороны, а с другой стороны, непосредственным приобщением к горнему миру, миру духовному, в таинствах.
И вот эти два момента как бы выделены своеобразно и в структуре храма, и в драматическом действии, которое составляет структуру богослужения. Все, что относится к учению, к проповеди, происходит в центре той части храма, где находится народ, потому что именно в центре, среди народа древние пророки, патриархи, наставники народа, а затем в христианском мире учители Церкви и святые провозглашали слово Божие и являли ту силу духа, которой исполнена проповедь Евангелия.
Этим объясняется, например, что при архиерейском служении, которое сохранило в себе некоторые черты древнего богослужения, исчезнувшие в обычном порядке, все начало архиерейского богослужения вплоть до малого входа перед чтением Священного Писания происходит посредине храма. Здесь указывается именно на центральность этой части храма для этой части богослужения, и когда архиерей ушел в алтарь перед Трисвятой песнью, Евангелие, которое было вынесено на середину и теперь относится на престол, будет читаться все равно на середине храма.
Таким образом, малый вход с Евангелием, которое в древности хранилось не в алтаре, а в отдельном хранилище, нас ставит лицом к лицу с Божиим словом, которое приходит в народ. Уход этого Евангелия со служащими в алтарь подчеркивает что-то, к чему я сейчас вернусь, и выход на середину чтеца для апостольского чтения и дьякона или священника для чтения Евангелия ставит нас вновь в эту же обстановку. Господь из горнего, таинственного мира приходит в среду народа, среди Своего народа стоит, учит и действует. В ветхозаветной Церкви не было иного служения, кроме служения слова, не было таинств, и поэтому все богослужение происходило на середине храма, как и теперь происходит в еврейской синагоге. Неоткуда было выносить Священное Писание и некуда было его относить, потому что предел, который назывался Святое Святых, был запретным пределом, туда мог входить первосвященник, и то единственно раз в году и только после специального очищения и окропления жертвенной кровью.
Но с Новым Заветом, в котором Христос явил Бога среди людей, в котором до нас дошла благая весть об Эммануиле, о «Боге среди нас», о том, что небо и земля встретились и сочетались, о том, что небесное и земное теперь переплелись самым тесным образом, алтарь, как я в прошлый раз говорил, образует собой присутствие области Божественной уже на земле. Хотя одновременно нам указывается, что нам надо пройти целый путь для того, чтобы вся область веры, весь храм, где находятся верующие, стал тем престолом, о котором говорится в книге Откровения (Откр 14:3 и др.). И теперь там хранится слово Божие, как Слово Божие, которое изначально было со Отцем и теперь восседает одесную Бога и Отца. И когда приходит время Самому Христу говорить народу, Он именно из этой священной области приходит к нам. В синагоге Священное Писание всегда хранится в специальном шкапу (арон кодеш — святой ящик), вблизи народа.
А все, что составляет тайну Церкви, то есть таинство церковное, последование Божественной литургии, совершается именно в алтаре, потому что, как я в прошлый раз говорил, алтарь представляет собой то место, которое вера человеческая отделила для Бога, это место, где Он живет и действует. Это, в терминах уже не пространства, а времени, уже область будущего века. Там присутствует вся тайна того, что было, есть и будет. И поэтому при совершении таинств призывается Святой Дух, дар будущего века, поэтому Его силой и действием таинства совершаются, поэтому эта область есть собственно область таинств. Здесь — жертва, принесенная до сложения мира, жертва, которая является спасением мира в истории, жертва, которая является как бы началом будущего века, потому что будущий век и нынешний переплелись в одну тайну вечности.
В Литургии есть одна группа действий, на которую я хотел обратить ваше внимание. Вы знаете, что епископ носит на своих плечах омофор, этот омофор образует собой потерянную овцу, которую Христос взыскал, которую Бог взыскал, как указывается в Новом Завете (Лк 15:4—6). В древности омофор всегда делался из белой шерсти, подчеркивая именно это значение. И в Божественной литургии все то время, когда служащий епископ является как бы образом, иконой Христа, когда он действует от имени Христова, епископ носит омофор. Когда же он действует как человек среди людей, то этот омофор с его плеч снимается. Это можно видеть, например, в том, как епископ читает Евангелие без омофора, потому что здесь говорит Сам Христос. Когда он совершает самое таинство, молитвы, связанные с призыванием Святого Духа, он читает без омофора, потому что не он будет совершать чудо претворения хлеба и вина — здесь будет действовать Сам Бог. Причащаться он будет без омофора, но дальше причащает он священников и народ с омофором на плечах. Часто кажется тем, кто в храме, — почему эта усложненность обряда? Здесь подчеркивается что-то основное в самом положении священнослужителя по отношению к тому, что он совершает. С одной стороны, как я раньше говорил, он стоит перед народом и говорит именем Божиим, с другой стороны, он стоит перед Богом вместе с народом в такой же нужде быть спасенным, как и все другие. И это спасает нашу Церковь от сосредоточения на духовенстве, на священнике, на епископе. В центре всей церковной и литургической жизни стоит Сам Господь. Минутами те или другие из нас, по Божиему призыву и по данной благодати, действуют Его именем, но одновременно они всегда находятся, как овцы заблудшие, в стаде.
Теперь мне хотелось бы быстро пройти с вами порядок Литургии, сначала в общих штрихах, а потом, может быть, некоторые места более подробно.
Вы наверно помните, что первые слова Литургии: Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа… Это Царство Божие, Царство любви, это будущий век, пришедший в силе и уже действующий Духом Святым и Христом среди нас. И потому первое действие Церкви в ответ на это возглашение Царства Троичного Бога любви — это действие любви и заботы, великая, или так называемая мирная, ектенья, где мы молимся о нуждах всех людей, потому что если мы принадлежим этому Царству, если мы поняли, что наш Бог есть Бог любви, то мы не можем обойти вниманием нужды, горести всего мира. И только провозгласив эту молитву любви, мы обращаемся к тому Богу, Который нас научил любить, в похвальном псалме. Первый наш ответ на призыв к любви — это действие любви, второй — изумленное благодарение, благословение Того, Кто нам эту тайну открыл: Благослови, душе моя Господа, благословен еси Господи. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззакония твоя, исцеляющего вся недуги твоя, избавляющего от истления живот твой, венчающего тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желание твое…(Пс 102:1—5) — и, в зависимости от обстоятельств и храма, большее или меньшее количество стихов этого псалма.
Затем короткая ектенья с молитвой, в которой мы восхваляем Бога, и снова наше сердце обращено по-новому к Богу, не только благодарением, но просто хвалой и изумлением: Хвали, душе моя, Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему дондеже есмъ. Не надейтеся на князи, на сыны человеческия в нихже несть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в тот день погибнут вся помышления его. Блажен емуже Бог Иаковль помощник его, упование его на Господа Бога своего сотворшего небо и землю, море и вся яже в них, хранящего истину во век, творящего суд обидимым, дающего пишу алчущим. Господь решит окованныя, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженныя, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет и путь грешных погубит. Воцарится Господь во век, Бог твой Сионе в род и род (Пс 145:1—10) .
И воздав славу Богу, мысль от этих ветхозаветных образов обращается к тому Богу, Который воспевался здесь, но Которого мы знаем теперь, после воплощения Слова Божия, как Иисуса Христа, с новой четкостью и новым богатством: Единородный Сыне и Слове Божий, бессмертен сый и изволивый спасения нашего ради воплотитися от Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся, распныйся же Христе Боже, смертию смерть поправый, един сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас. Здесь наше внимание уже сошлось на Христе, Который будет теперь стоять в центре всей Божественной литургии.
После второй короткой ектеньи начинается пение заповедей блаженства (Мф 5:3—12), то есть как бы центрального учения Нового Завета о Царстве Божием, о том, каково его земное, трагическое содержание и небесная слава, выраженные словесно Христом, о Котором только что пела Церковь. Заповеди блаженства вы знаете, и потому я их вычитывать не буду, но укажу вот что: во время пения заповедей блаженства будет происходить некое действие, и это одно из типичных действий вообще всего нашего богослужения. Это выход Евангелия с преднесением свечи.
Если вы представите себе в другом разрезе случающееся, если вы вспомните уже не то, что случается здесь, в храме, а совершалось когда-то жизнью на Святой Земле, вы можете себе представить, как постепенно по лицу Святой Земли разнеслась весть о новом Учителе, о Наставнике новой, поистине небесной жизни, Который говорил так, как до Него никто не говорил. Эта весть шла, разносимая бесчисленным количеством людей, которые так или иначе, непосредственно или косвенно, прикоснулись Христу. И когда эта весть доходила до людей, они настораживались, то, что было в них способно отозваться на Божие Царство, отзывалось, сердце загоралось, ум зажигался, воля подвигалась на новую жизнь, надежда на небо зарождалась или возрождалась. И у многих вставал вопрос: но где Он? Кто нам Его укажет? Где Его найти? И первый на него указал явно, торжественно, именем Самого Бога — Иоанн Креститель, Предтеча, тот, который идет впереди, тот, который самый великий среди рожденных женами (Мф 11:11) и кому, однако, положено сходить на нет (Ин 3:30) для того, чтобы вырос в полную меру образ Христов в человеческих душах. Как говорит песнь церковная, он светом вошел в мир, как свеча, прошел перед Христом.
И вот во время пения заповедей блаженства священник снимает с престола книгу Евангелия, которое есть Слово Божие, и, обходя престол, выходит боковыми дверями в предшествии свещеносца. Все это происходит молча. Предтеча идет, только указывая светом свечи на Того, Кто идет за ним. И ставится вопрос: Кто же Тот, Кто шествует за ним?
В действии свещеносца есть еще нечто еле заметное: свеча зажигается от лампады, которая стоит перед образом Божией Матери, и затем свеча переносится и ставится перед иконой Христа Спасителя, от Девы воссиявый миру, Христе Боже, как говорится в церковной песне. И вот уже некоторое указание, Кто Тот, Который молчаливо является народу теперь. Закрытая книга — как бы замкнутые уста. Тот, Который как бы возжен во чреве Девы, вошел в мир светом, Он — Тот, Чей образ освещается сейчас этой свечой. И дойдя до царских врат, когда пение заповедей блаженства закончено, священник как бы дает предупреждение, что это не просто перенос Евангелия с места на место, что здесь нужны глаза и сердце. Священник говорит: Премудрость, прости! Здесь есть премудрость, здесь пора нам выпрямиться и стоять перед Божиим лицом. И тут хор, который в богослужении представляет собой сознание Церкви, не отдельного члена ее, а Церкви в целом, всей Церкви, нам провозглашает ответ на наш вопрос: Кто же Он? — Приидите, поклонимся, и припадем ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий, во святых дивен сый, поющия Ти аллилуйя: приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси нас, Сын Божий, дивный во святых, нас, которые поем Тебе «аллилуйя».
После этого поется тропарь, то есть провозглашение опять-таки праздника дня, славы Господней, и заключительные слова священника: Яко свят если, Боже наш, и Тебе славу воссылаем… Как Ты свят, так мы славу Тебе воссылаем, по святости Твоей мы Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу. И тут опять хор в сознании церковном нам свидетельствует, в чем истина, которую мы только что узрели, и поется Трисвятая песнь: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Это явление Христа народу, это узрение Христа народом, сердцем Церкви, чистым сердцем, которое видит Бога там, где Он, может, и неуловим для затемненного взора и помраченного сердца. Теперь мы перед лицом Самого Христа. Теперь мы услышим уже явственно что-то о Нем, о той правде, о том Царствии, которое Он пришел провозгласить и которое принес с Собой. Следует чтение Апостола, то есть свидетельство живых людей, которые говорят о том, что они видели и слышали, руками своими осязали, как об этом свидетельствует апостол Иоанн в одном из своих посланий (1 Ин 1:1).
И потом, после свидетельства апостолов, голос Самого Христа, чтение Евангелия на середине храма или, если не служит дьякон, то с амвона, то есть тоже в пределах того корабля церковного, который есть зачаток Небесного Царствия, Царствия Божия, пришедшего в силе. Чтение Евангелия происходит там, где стоят люди, которым непостижимым образом уже принадлежит будущий век, но которые еще борются за свою душу и за свое спасение в нынешнем веке.
Опять-таки всякое свидетельство Евангельское говорит нам только об одном — о Божественной любви и о той любви к Богу и друг ко другу, к которой мы призваны. И поэтому ответ народа, ответ Церкви на евангельскую проповедь, какова бы она ни была, должна быть конкретной заботой любви. Следует ряд молитвенных прошений, который покрывает собой почти — нет, просто все человеческие нужды. Во-первых, сугубая ектенья: Рцем вси, от всея души и от всего помышления нашего рцем… — и молитва о тех, которые несут тяготу церковную: святейшие патриархи православные, архиереи и все братство, о тех, которые носят тяготу народной, государственной, общественной жизни, о тех, которые носят тяготу служения, о тех, которые ее несли и костьми легли, уже усопших; о тех, которые несут самые малые, как будто незаметные служения в храме и в мире.
А затем с особенной заботливостью, любовью, жалостливостью — молитва об усопших, о тех, которые теперь уже не могут себя оправдать жизнью, верой, но чья жизнь стоит перед нашим сознанием, перед нашим воспоминанием и должна приносить плоды. Напряженная, вдумчивая молитва о них, свидетельство каждого из нас и всей Церкви о том, что они жили не напрасно, что они оставили след любви и посеяли доброе семя в поле наших душ, нашего сознания, нашей жизни.
Затем забота обращается к тем, которые вне этого храма, тем, которые стоят в притворе, до которых уже донеслось слово Божие, оклик Господень: молитва об оглашенных, чтобы Господь огласил их словом истины, открыл им Евангелие правды, соединил их Святой Своей Соборной Апостольской Церкви, их помиловал, чтобы и они, вместе с нами находящиеся, с нами могли славить пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святого Духа.
И затем две молитвы, которые относятся к тому, что вот-вот будет совершаться. Помолившись о всех, о живых, об усопших, о всех нуждах и о всех людях, Церковь обращается уже к себе самой и молится о всех тех, которые присутствуют в храме и должны стать участниками, не только зрителями, не только наблюдателями, но живыми, творческими, активными участниками в области духа, совершителями на самом деле Божественной литургии. Церковь молится о всем народе и особенно о священниках, стоящих на той страшной грани, о которой одна молитва церковная говорит, что они там стоят, где ангелы боятся преклониться.
И когда все это кончено, когда принесены плоды любви евангельской в этой молитве, тогда остается только отрешиться от всякой заботы и войти в самые глубины тайны любви Божественной Евхаристии, войти в самое таинство и тайну будущего века. А на грани нам напоминается, что мы должны для этого отложить всякое житейское попечение.
Во время Великого входа, как вы знаете, поется Херувимская песнь: Иже херувимы тайно образующе, и животворящей Троице трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение яко да Царя всех подымем ангельскими невидимо дориносима чинми. В переводе: «Мы, которые неизреченно, невыразимо являемся образом херувимов и которые приносим, воспеваем Животворящей Троице трисвятую песнь, отложим теперь всякое житейское попечение так, чтобы быть в состоянии подъять Царя всех, которые приносится ныне ангельскими соборами, ангельскими чинами». Здесь самое непонятное слово — «дориносима». Это слово славянско-греческое, которое соответствует обычаю древности: вождя-победителя, возвращающегося в город, вносить на плечах воинов, которые клали через плечи копья (по-гречески дорон), на них клался щит, и на нем стоял победитель. Поэтому «дориносима» значит «который торжественно, как победитель, вносится в храм».
Здесь, как во многих местах богослужения, ряд образов, и тут надо, с одной стороны, уметь воспринять физические действия и, с другой стороны, посмотреть на то, что Церковь ими выражает. Глядя плотским взором, просто на физическое явление, мы видим, что в предшествии свещеносца идет дьякон и несет высоко над головой дискос, на котором заготовлен Агнец, та частица, которая собой изображает Христа, а за ним священник с чашей. Если вы вспомните, что было сказано о малом входе, о входе с Евангелием, о чем нам говорит свещеносец, какое свидетельство он приносит, как он является предтечей Того, Кто грядет сзади, за ним — нам уже приоткрывается нечто о том, что значит это шествие Святых Даров. Это шествие с той частицей хлеба и той чашей вина, которые в начале службы были выделены, можно сказать, из всего творения, из всего хлеба и всего вина, доступных выбору, для того чтобы стать той частицей и той чашей, над которой совершится величайшее действие и величайшее чудо — освящение Духом Святым и превращение в Тело и Кровь Христовы. Выделила этот хлеб и это вино человеческая воля, поставила перед лицом Божиим с надеждой и радостью человеческая вера, и поэтому этот хлеб и это вино, хотя они еще не освящены, уже выделены и принадлежат единственно Богу.
И в этом отношении для нас они уже не только мысленно, но как вещь, принадлежащая Богу, соединены с Богом, они уже имеют на себе освященность, печать святыни. И вот перед этой святыней, даже в плане чисто земного зрения, мы благоговеем. Поэтому когда выносят Святые Дары, еще не освященные, переносимые от жертвенника к престолу, мы поклоняемся им до земли. Это нечто Божие, это нечто, что не принадлежит грешной земле до конца, это дар земли Живому Богу, Который этот дар принимает и уже как-то приобщает к тайне будущего века.
Но, кроме того, это шествие значит нечто другое: кровь и тело, жизнь и тело отделены друг от друга. Агнец, лежащий на дискосе, — закланный Агнец; кровь, вернее вино, которое станет Кровью, носимое в чаше, это излитая таинственно, до начала времени, Кровь воплощения. Это шествие говорит нам об Агнце, закланном до сотворения мира, о крестной Господней любви, говорит о смерти Богочеловека, о погребении Христа, говорит о всем том, что в тайне нашего спасения — распятие и смерть.
И потому многообразно это зрение и многообразны понятия, которые с ним связаны. Вы помните наверно тоже, как Христос на пути к Голгофе молился о Иерусалиме, как жены иерусалимские о Нем плакали, и Он говорил: не обо Мне, о себе плачьте (Лк 23:28). В этом смысле это шествие, которое прерывается на полпути молитвами о патриархах, о священстве, о народе, о болящих, о гонимых, о страждущих, — это часть пути на Голгофу. Это молитва Богочеловека, грядущего на то, чтобы совершить спасение мира, и молящегося именно о том, ради чего Он пришел.
А есть еще другой план, тот план, о котором говорит херувимская песнь. Мы — простые люди, как будто несем хлеб и вино, мы священники, которые несем образ умершего Христа — хлеб и вино, Тело и Кровь, но над этим шествием или, вернее, незримо внутри этого шествия, потому что это шествие одновременно говорит о другом, совершается торжественное и очень страшное шествие. Это, незримо, шествие Самого Христа, окруженного ангельскими силами, которое движется внутри и как бы над шествием, которое мы наблюдаем. И эти два шествия будто сливаются в одно, они не расслоены, потому что тот хлеб, который мы несем, — это Христос, идущий на распятие, и мы, которые Его несем, образно, но вместе с тем в каком-то отношении реально являемся живыми образами ангелов, несущих торжествующего Господа. Мы, которые неизреченно являемся образом, иконой херувимов и воспеваем трисвятую песнь Пресвятой Троице, отложим всякое земное попечение житейское. Вот что совершается, и каждый видит то, что способен видеть. Можно видеть одно из многих чисто физических действий Литургии: передвижение, перенос Святых Даров, потому что, приготовленные в одном месте, они теперь будут центром внимания. В начале центром было слово, проповедь, любовь, теперь Сам Христос вступает более реально в центр внимания. Мы можем видеть в закланном Агнце и в излитой Крови образ, священный символ, и мы можем за пределами этого видеть, что все сливается в одно: прошлое, настоящее и вечное, и мгновение и вечность, и что одновременно, свидетельствуя о смерти, мы свидетельствуем и о Воскресении. И этот образ у нас есть еще в Ветхом Завете: тот псалом, слова которого Христос произнес со креста: Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил? Это слово пророческого псалма (21:2), который начинается картиной смерти Христовой и кончается свидетельством и провозглашением воскресения.
И тут то же самое. Только потому возможно нам принимать участие в этой тайне, что Христос воскрес и что все совершающееся теперь совершается в славе, в силе, в торжестве воскресшего Христа.
Вот почему это шествие так многообразно и в каком-то отношении противоречиво. Смерть и воскресение явлены одновременно, друг друга пронизывая, совпадая в одно мгновение, как во всей Литургии, потому что они уже являются тайной будущего века. Здесь совпадают наше время и вечность Господня.
После Великого входа произносятся священником несколько молитв, которые, с одной стороны, характеризуют, а с другой — объясняют то, что происходит. Я вам сказал, что между прочими образами это шествие говорит о положении во гроб, и вот первая молитва: Благообразный Иосиф, с древа снем пречистое тело Твое, плащаницею чистою обвив и благоуханьми во гробе нове закрыв положи. Это — положение во гроб, но, кроме этого положения во гроб, мы уже предвкушаем победу: Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи с разбойником и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй Неописанный (неописанный в смысле «неограниченный»). И затем, думая о гробе Господнем, мы сразу же переходим к знанию о Его победе: Яко живоносец, яко рая краснейший воистину и всякого чертога царского явися светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения. Он — живоносец, он дает жизнь, он прекраснее рая, он светлее всякого царского чертога, Христе, Твой гроб, источник нашего восстания, нашего воскресения.
С этого момента еще яснее, явственнее делается, что Литургия, самая тайна Литургии не развивается просто последовательно исторически, от одного фактического события жизни и смерти Христа к другому, а что они соприсутствуют. На этот престол положили уже закланного Агнца, да, это похоронное шествие. Но в этом похоронном шествии содержится весь смысл самой смерти, то есть восхождение на Голгофу, то есть снисхождение неба на землю, то есть раскрытие закрытой от начала века тайны, самого воплощения, самого заклания Христова, тайна явления Бога в рабском образе, тайна крестной любви, сокрытой в тайне Святой Троицы.
И в момент, когда закланный Агнец положен на престол, мы не можем видеть в Нем только закланного Агнца. Мы видим в Нем закланного Агнца и одновременно видим в Нем победителя смерти: Смертию смерть поправ. Здесь воскресение Христово присутствует, уже готовое прорваться светом, победою, ликованием в самом ужасе этой крестной смерти.
Затем, вы знаете, идет ектенья, в которой мы снова молимся о различных нуждах, о нужде спасения и особенно просим, чтобы нам было дано благодатно, благоговейно, неосужденно принести эту жертву, то есть участвовать в совершающемся не как убийцы Христовы, а как апостолы и как Христова семья. Церковь молится о предложенных честных дарех, то есть о тех дарах, которые положены перед Богом, и о святем храме сем, и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь (в него). И эти два прошения связаны между собой абсолютно, потому что здесь начинается действие постепенно углубляющегося, нарастающего освящения и Даров и народа, которое должно завершиться в момент причащения, когда народ молитвой, верой, отдачей себя Богу — «сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим» — вырастет в новую меру способности принять Бога. И одновременно освящение Даров, которое нарастает до момента, когда этот хлеб и это вино, дары земли и дары человеческой веры, станут веянием и нашествием Святого Духа, Телом и Кровью Господними. Они станут Богоносными, так что народ через них приобщится подлинно, истинно Божественной тайне. Таковы основные два прошения этой довольно длинной ектеньи. Остальное — молитва, чтобы Бог дал нам день совершен, ангела-хранителя, прощение грехов, доброе и полезное для наших душ и мир миру, время покаяния, христианскую кончину, — только оттеняется на фоне этих двух прошений. Это прошения о том, что мы сделаем из той новой жизни, которую нам надлежит получить. Но завязка всей литургической драмы, которая сейчас будет происходить, именно в этих двух прошениях — о предложенных дарах и о собравшемся народе. Причем не только в каждом из этих прошений в отдельности, но в их сочетании, в их совокупности, в том, что здесь связывается в узел, воедино как бы завязывается судьба народа Божия и судьба этих Тайн: Тайн, которые могут стать таковыми только верой и приношением народными, и народа, который может приобщиться божественному только благодаря этим Тайнам.
На грани этого тайносовершения мы призваны снова и снова, но в этот раз явственно и открыто — любить. Я подчеркивал во время всего этого изложения, что Литургия как явление на земле Царства Божия, пришедшего в силе, Царства Божественной любви, изливающейся в открытые верой и доброй волей человеческие сердца, имеет своим средоточием именно любовь. И раньше чем войти, уже не в порядке ожидания и надежды, а в порядке самой реальности, в этот момент тайнодействия, мы призываемся опомниться в последний раз. Перед произношением Символа веры священник призывает нас возлюбить друг друга, потому что иначе мы не можем исповедовать того Бога, Который есть Бог любви Единый во Святой Троице, мы не можем это сделать единодушием и единомыслием: «Возлюбим друг друга да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную». Невозможно исповедовать Бога любви вне любви. Нельзя исповедовать неразделенность и неразделимость Святой Троицы вне единомыслия. И здесь нам дается предупреждение, что тот Символ веры, который мы будем сейчас произносить, это не только свидетельство о вере такой, как она нам открывается в Священном Писании, как бы объективное объявление с нашей стороны о Боге. Это свидетельство о том, что мы Бога таким знаем, и именно такового Бога знаем, Отца, Сына и Святого Духа, Единого Бога, Нераздельную Троицу, любовь явленную нам и вместе с этим остающуюся нам непостижимой. Исповедовать Троицу, Бога любви, вне любви — нельзя. Веровать мертвой верой нельзя на пути к спасению. Помните слова апостола Иакова: и бесы веруют, но трепещут(Иак 2:19). Здесь мы предупреждены, что вне таинства любви нет познания тайны Божией.
После малого входа Церковь уже произнесла первое исповедание веры. На вопрос, который зрительно нам ставится, кто же этот грядущий безмолвно и окруженный молвой, в заповедях блаженства, Церковь отвечает: Приидите поклонимся и припадем ко Христу, спаси нас Сыне Божий, воскресый из мертвых, поющия Ти Аллилуйя; и затем Трисвятая песнь, песнь, которая принадлежит Самому Богу.
Здесь же, после великого входа, когда нам уже раскрылась до конца тайна Сына Божия, пришедшего в мир, посланного Отцом, движимого и движущего нас Духом Святым, мы произносим Символ веры, наше исповедание полной христианской веры. Священник в это время или сразу после целует сначала святой дискос, потом святую чашу, потом престол и говорит: Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя. Господь утверждение мое и прибежище мое… Опять слово о любви. И сказав это, засвидетельствовав любовь свою к Богу, служащие священники целуют друг друга трижды со словами: Христос посреди нас! — И есть и будет! Если мы не в состоянии этого сделать, то мы просто не в состоянии произнести искренне, правдиво Символ веры. Потому что исповедовать, что мы поклоняемся Богу, Который есть любовь, что Он — наш Бог, то есть самое бытие наше, Господь наш, пример, вождь, без того, чтобы следовать единственной заповеди Господней, невозможно. А единственная заповедь, которую мы знаем, — это заповедь о любви к Богу и к человеку.
И я говорю «единственная», зная, разумеется, что в Евангелии и в Ветхом Завете есть две заповеди, но они относятся друг ко другу, как две стороны, скажем, серебряного рубля — они неотделимы друг от друга. Это не обратная сторона в отрицательном смысле, но это вторая сторона, без которой нет первой.
Я сейчас не буду останавливаться на Символе веры как таковом, но это очень важно отметить. И следующий возглас говорит о том же строе мыслей. Когда окончено пение или чтение Символа веры, дьякон провозглашает: Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити, то есть установимся твердо, станем с внутренним трепетом, будем внимательны с тем, чтобы принести святое возношение в мире. Словами: Станем добре… начинается то, что называется «каноном» Литургии, то есть сердцевиной самой Литургии. Без мира невозможно принести Богу это возношение, как и Христос в Евангелии говорит: Если ты принес свой дар в церковь и вспомнил, что брат твой что-либо на тебя имеет, оставь твой дар, пойди, примирись с братом и только тогда принеси свою жертву (Мф 5:23—24).
И дальше: Милость мира, жертву хваления. Какую жертву, какое святое возношение? Милость мира, жертву хваления. Что мы приносим Богу? Вы наверно знаете, что слово «милость» представляет собой некоторую трудность. «Милость», «милосердие», «милый» связаны одним корнем и мыслью о ласковости, о тепле, о любви. И вот «милость мира» — это ласка мира, а «жертва хваления» — это единственная жертва, то есть приношение, которое мы можем принести Богу: хвалу, пение, любовь.
В ответ на нашу волю друг друга любить и на нашу посильную любовь к Богу и к ближнему, в ответ на наше исповедание Божественной любви, в ответ на то, что мы сознаем, что свою жертву мы можем принести только в мире, ласковостью мира и приношением хвалы, Господь нам дает Свое благословение: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа буди со всеми вами. — И со духом твоим. — Горе{'} имеем сердца. «Горе{'}» значит ввысь, к Богу имеем, но «имеем» не в том смысле, что они есть, а это призыв: станем иметь так сердца, мы их имеем ко Господу, они обращены к Господу: Имамы ко Господу. — Благодарим Господа. — Достойно и праведно есть поклонятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной.
За этим следует молитва, которую вы не слышите, которая кончается возгласом: Победную песнь… Эта молитва читается священником так:Достойно и праведно Тя пети, Тя благословити, Тя хвалити, Тя благодарити, Тебе поклонятися на всяком месте владычества Твоего, Ты бо еси Бог неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присно сый (всегда сущий), такожде сый, Ты и единородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Ты от небытия в бытие привел нас еси, и отпадшия восставил еси паки и не отступил еси вся творя дондеже нас на небо возвел еси и царство Твое даровал еси будущее. О сих всех благодарим Тя и единородного Твоего Сына и Духа Твоего Святаго, о всех ихже вемы (которые мы знаем) и ихже не вемы, явленных и неявленных благодеяниях бывших на нас (о всех Твоих благодеяниях, и о тех, которые мы сознаем, и о тех, которые мы не сознаем, о тех, которые явственны и о тех, которые потаенны). Благодарим Тя и о службе сей юже от рук наших прияти изволил еси, аще (хотя) и предстоят Тебе тысячи архангелов и тьмы (десятки тысяч) ангелов, херувими и серафимы шестокрылатые, многоочитые, возвышающиеся пернатые, победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще: Свят, свят свят Господь Саваоф исполнь (исполнивши) небо и земля славы Твоея. Осанна (красуйся) в вышних, благословен грядый во имя Господне. Осанна в вышних.
И дальше снова тайная молитва: С сими и мы блаженными силами, Владыко человеколюбче, вопием и глаголем: свят еси и пресвят Ты и единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый: свят еси и пресвят, и великолепна слава Твоя, иже мир Твой тако возлюбил еси, якоже Сына Твоего единородного дати (Ты так возлюбил мир, даже до такой степени, что Ты отдал единородного Своего Сына) да всяк веруяй в Него не погибнет, но имать живот вечный: иже (Который) пришед и все еже о нас смотрение исполнив (исполнив все предначертание спасения о нас), в нощь в нюже (в которую) предаяшеся, паче же Сам Себе предаяше за мирский живот, прием хлеб во святыя Своя и прочистыя и непорочныя руки, благодарив, и благословив, освятив, преломив, даде святым Своим учеником и апостолом рек: Примите, ядите, сие есть тело Мое еже за вы ломимое во оставление грехов. Подобне и чашу по вечери глаголя: Пиите от нея вси, сия есть кровь Моя Нового Завета еже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов. Поминающе убо спасительную сию заповедь и вся яже о нас бывшая (все, что нас ради случилось), крест, гроб, тридневное воскресенье, на небеса восхождение, одесную седение, второе и славное паки пришествие, — Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся, — Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимтися Боже наш.
Вот одна, можно сказать, единая молитва, которая произносится то тихо священником, то вслух, то перехватывается хором, то перемежается с дьяконским ответом и ответом хора: Аминь. Это молитва, где вспоминается в одной картине все дело Божиего домостроительства о нашем спасении. Мы начинаем с того, что поем Его за то, что Он есть и какой Он есть, затем благодарим Его за то, что Он нас вызвал из небытия, сотворил, не отступил от нас, несмотря на то, что мы от Него отступили, что Он совершил все нужное, чтобы нас оторвать от земли, от вечного земного плена и вернуть к небу, и даровал нам уже на земле будущее Царство вечной жизни. Благодарим мы Его и Сына Его Единородного и Духа Святого о всех Его благодеяниях ведомых и неведомых, потаенных и явных. Благодарим, наконец, о том, что Он нам, людям грешным, слабым, дал совершить эту службу, поистине Божественную, перед которой ангелы трепетно стоят и поют победную песнь, ту песнь, которую можно петь, только потому что в смерти уже победил Христос, победную песнь: Свят, Свят, Свят Господь, и мы с ними, присоединяясь к ангельскому пению, тоже воспеваем Его, потому что Он свят, Он пресвят, Он и Единородный Сын и Дух Святой. Он Свят и Пресвят, и слава Его (то есть сияние Его) великолепно, потому что Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, Который пришел, все сделал, что Ему было поручено, и в ночь, в которую Он был предан — нет, не предан, а Сам Себя предал за жизнь мира, взял хлеб в пречистые, непорочные руки, благодарил, благословил, освятил, преломил и дал святым Своим ученикам.
И вот вспоминая все, что было для нас Богом сделано, крестную Его смерть, положение в тридневный гроб, воскресение в третий день, вознесение, победное Его сидение одесную Бога и ожидаемое нами второе пришествие в славе, мы приносим Ему за всех и за все этот хлеб, это вино, и мы Ему поем, и благодарим, и молимся. Здесь воспоминание о всем, но это воспоминание не является погружением в прошлое, это погружение в настоящее или, вернее, в то вечное, которое вот-вот хлынет через настоящее, сияет в самом содержании настоящего и переходит от видения прошлого, которое сейчас нам соприсутствует. Потому что в Боге нет отжившего прошлого, а есть только прошлое, которое вобрано в каждое мгновение настоящего, составляя Его настоящее, Его ныне.
Вглядевшись в это, мы переходим в самую тайну: то, что было когда-то, одновременно есть и сейчас, и Тайная вечеря, которая была когда-то совершена, для нас не в прошлом. Потому что Бог вечен, потому что все эти вещи истинны вовек, мы в них вступаем, мы в эту Тайную вечерю вступаем, мы в ней находимся, и вот здесь мы можем начать те молитвы, которые приведут к освящению Святых Даров. Мы не только приносим песнь, благодарение и молитву, но мы еще приносим Тебе словесную и бескровную службу, и просим и молим и милися деем (умоляем Тебя),ниспосли нам Духа Твоего Святаго на ны (на нас) и на предлежащия дары сия. Здесь почти доводится до завершения мысль, которая идет через всю Литургию, о том, что освящается и народ, и хлеб, и вино, все, что в этом храме, обновляется освящением Святого Духа. И мы молимся, чтобы Святой Дух нас освятил, и хлеб и вино освятил, дары освятил, потому что если не будут освящены дары, не будет причащения Тайне Христовой, но если мы не будем освящены, то мы не можем принять эти Святые Дары иначе как в суд и в осуждение. И поэтому мы молимся, чтобы эти два потока божественного освящения довели нас до встречи.
И первое — мы молимся о себе: Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящихтися… Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей… Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене… И только тогда мы молимся о том, чтобы хлеб был освящен, потому что теперь — мы верим — есть кому его принять: И сотвори убо хлеб сей честное Тело Христа Твоего, а еже в чаше сей, честную Кровь Христа Твоего; преложив Духом Твоим Святым. Здесь завершается освящение Даров.
Встреча двух освященных, то есть Церкви, в частности причастника, и Даров, совершается дальше, в момент, когда, предупреждая нас об этой тайне, священник произнесет слова: Святая святым, — то, что свято, тем, кто свят, то, что освящено, тем, кто сам освящен, и окончательная встреча уже не верой и подготовленностью, а на самом деле причащением Святых Даров.
Сразу затем священник, перед лицом совершившегося приобщения этого Хлеба и Вина к тайне Христа воплощенного, молится, чтобы те, которые будут приобщаться, приобщились бы во спасение, так, чтобы эти Тайны были приобщающимся в трезвение души, во оставление грехов, в приобщение Святаго Духа, в полноту Царства Небесного, в дерзновение к Тебе, не в суд или во осуждение.
Но если это тайна будущего века, если уже разверзлась вечность перед нами и нас охватила, и нас содержит, как в горсти, то не только мы присутствуем тут, не только мы являемся частью этого совершения и этой тайны, но все мироздание, все, которые когда-то жили: Еще приносим Тебе словесную эту службу за всех тех, которые почили в вере, праотцах, отцах, патриархах, пророках, апостолах, проповедниках, евангелистах, мучениках, воздержниках, о всяком духе праведном в вере скончавшемся. И среди всех в этом Царстве Божием, которое теперь разверзлось перед нами и в которое мы вступили хоть на мгновение, раньше всех (из ряда вон) о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенной, славной Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии. И здесь поется «Достойно есть» или другая церковная песнь в честь Богородицы.
Выделяется имя Божией Матери не только по общей причине, по которой Божия Матерь стоит вне ряда всех тварей, но по особой причине: тело Воплощения — это Ее тело, и эти Дары, хлеб и вино, которые теперь стали Телом и Кровью Христовыми, в каком-то отношении, в каком-то очень реальном смысле — это Ее тело, это Ее кровь, данные Богу для воплощения Его Сына.
И после Нее мы вспоминаем Крестителя, апостолов, святых, вспоминаем всех усопших, вспоминаем всех тех, которые у власти так или иначе, и вслух говорим: Помяни, Господи, во-первых нашего Патриарха, главу нашей Церкви; но еще дальше — всех тех, которые сейчас на земле или в странствии. И молится священник: Помяни, Господи, град сей и всякий град и страну и верою живущих в них. Помяни, Господи… недугующих, страждущих, плененных и спасение их. Помяни, Господи, плодоносящих и добротворящих во святых Твоих церквах, и помнающих убогия, и на всех нас милости Твоя ниспосли. И дай нам едиными устами и единым сердцем славить и воспевать пречестное и великолепое Твое имя, Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и вовеки веков. Аминь.
И завершая эту часть Литургии, священник дает не только благословение, но величайшее обетование: И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами! Здесь эти два ряда освящений — народа, который себя Богу отдает всей верой, всей надеждой, всей доступной ему любовью, и Святых Даров, которые принесены верой и приняты Богом, как бы уже соприкасаются. Они друг для друга освящены, и в этом Царстве, потому что мы верой, и любовью, и даром Духа, и воздействием Христовым стали телом живого Христа, мы можем обратиться к Богу нашему как к Отцу. И вот почему мы снова, как и раньше, в предваряющей ектенье, где мы молились о предложенных Дарах и о народе, молимся о принесенных и освященных уже Дарах и о себе — но по-новому. Помянув всех святых, мы снова миром молимся Богу о принесенных и освященных Святых Дарах, чтобы Господь принял их в пренебесный мысленный Свой жертвенник, в воню благоухания духовного и чтобы Он ниспослал нам дар Святого Духа и благодать Свою. И помолившись так, пока продолжается просительная ектенья, священник читает молитву, которая заканчивается возгласом, призывающим нас Небесного Бога называть своим Отцом: Тебе предлагаем (мы перед Тобой кладем), Господи, жизнь нашу всю и надежду, человеколюбивый Владыко, и просим и молим и умоляем Тебя, сподоби нас причаститься небесных Твоих и страшных Тайн на этой священной и духовной трапезе с чистой совестью, во оставление грехов, в прощение прегрешений, в приобщение Духа Святаго, в наследие Царства Небесного, в дерзновение к Тебе, не в суд или во осуждение. И сподоби нас, Владыко, с дерзновением, неосужденно сметь призывать Тебя, небесного Бога, Отцом и глаголати Отче наш.
Есть место в Послании к филиппийцам (Флп 2:6—7), где апостол Павел говорит, что Христос не счел дерзостью Себя считать равным Богу. Также и мы, потому что мы — Тело Христово, потому что мы — храм Святого Духа, потому что в Единородном Сыне мы стали сынами, детьми Божиими, мы призваны не считать дерзостью называть Бога Отцом, а дерзновенно это делать, однако зная нашу собственную хрупкость, зная, что мы грешны, что мы недостойны той беспредельной милости, которая в этом содержится. Мы просим, чтобы, хотя мы с дерзновением будем это делать, но мы неосужденно взяли на себя смелость призывать Бога Отцом.
И после нескольких коротких молитв совершается приобщение, причащение. Причащение предваряется возгласом священника, который в этот раз по-новому связует народ и Тайны. Я вам говорил, как в самом начале просительная ектенья ставит рядом и уже переплетает два прошения — о предложенных Дарах и о предстоящем народе. Народ предстоит, Дары предлежат, они в том же положении по отношению к Богу, готовые быть освященными с тем, чтобы соединиться. И вот здесь священник возглашает: Святая святым. То, что свято, — тем, кто святы, то, что Божие, — народу Божию, то, что Богу посвящено, — для тех, кто Богу посвящен. И здесь мы свидетельствуем, что Един свят (никто, кроме как Один свят), един Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. И однако мы причащаемся — именно потому, что во Христе мы приобщены той святости, которая делает возможным приобщение.
Священник раздробляет хлеб, говоря: Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и не разделяемый, всегда едомый и никогда же иждиваемый (никогда не истощающийся), но освящающий причащающихся. Одну частицу священник вкладывает в чашу, где Кровь Христова, со словами: полнота Святаго Духа (в греческих служебниках здесь яснее сказано: исполнение чаши полнота Святого Духа). Чаша теперь восполнена, это уже не распятый Христос, это Христос распятый и воскресший. Тело и Кровь, смерть и жизнь воссоединены, и как бы подчеркивая это, вливается небольшое количество горячей воды в чашу, свидетельствуя о присутствии огня Святого Духа в этих Дарах, Божества в этом веществе. Мы причащаемся Христу распятому и умершему, но воскресшему и приобщающему нас Божеству.
Причащается священник, дьякон, затем верующие. Здесь уже совершен полный круг и завершено все действие. Народ, который стал перед лицом Божиим, Дары, которые были положены перед Божиими очами, одной общей молитвой об освящении и народа и Даров были освящены, приобщены, народ — через включение в тайну Христа, Дары — через освящение Духом Святым, оба — через включение в тайну Будущего века. Они могли друг друга принять, они соединились друг со другом, и теперь остается конец Литургии.
Все случилось — чему же еще надлежит случиться? Что касается вещества Святых Тайн, все случилось, что только может случиться с тварью. Сотворенная чистою, она была завлечена в муть и трагедию падшего мира падением человека, но сама она оставалась неприкосновенной злу. Верой она принесена Богу и вырвана из падшего мира, и потому что воплотился Бог, потому что Он победил рознь между человеком и Отцом, потому что Дух Святой был послан в мир, эта тварь может вернуться в ту полноту, которая была дана ей изначально, и, сверх того, войти в ту полноту, к которой призвана в конце времен всякая вещественная тварь. А в наше время, в течение этого времени, эта тварь вносит Божественное присутствие, носителем которого она является, и это Божественное присутствие дается человеку через нее. Тварь достигла в этом освящении Даров полноты тайны будущего века, но человек еще не достиг, и в этом отношении Литургия не закончена никогда до того дня, когда Христос, по Его слову, будет пить вино новое со Своими учениками в Царстве Небесном (Мк 14:25). Человек приобщен, в него канул огонь Божественный, но теперь ему надо вырасти в меру того дара, который он получил.
Человек выйдет из этого храма в Духе Святом, пронизанный присутствием Христовой благодати, приобщенный Телу и Крови, самому бытию Христову, и он должен войти в этот мир, который вне храма все равно еще во зле лежит, в котором все равно еще властвует князь мира сего. В образе Христа и в силе Духа человек должен вырасти в полную свою меру. Дары переносятся со святого престола на жертвенник; они не потребляются (не съедаются) священником у святого престола потому самому, почему Христос не исчез после Своего воскресения, а вознесся. Это перенесение дает нам образ вознесения Господня. Христос не развоплотился, Он вывел учеников Своих из Иерусалима, и пока Он их благословлял, Он вернулся, вошел в славу Божию.
И тут образно показано, как Христос, явленный нам в Святых Тайнах, одновременно делается невидимым, хотя остается и пребывает среди нас. Следующий шаг — это наш выход в мир: С миром изыдем. Выйдем из храма с миром Христовым, который только Христос может дать и который никто от нас не может отнять. В силе Духа, в приобщении Христу Литургия не кончается храмом: Литургия как овладевание Богом этим миром через нас должна продолжаться вне храма. Приобщенные, мы входим в мир в силе Христовой для того, чтобы этот мир вырвать из рук князя мира сего, для того, чтобы этот мир принести в дар и жертву и приношение Христу, для того, чтобы этот мир вышел из категории времени и вошел в категорию вечности. Литургия не заканчивается. Мы выходим из храма с миром для того, чтобы продолжать литургийное таинство вне храма, освящая все, что составляет наш мир, делая его частью Царства Небесного.
Божественная литургия — местопребывание Духа
Перед началом древних соборов Церковь провозглашала: Днесь благодать Святаго Духа нас собра… Помолимся же в сердцах наших, чтобы и эта встреча была действием животворящего Духа Божия. Помолимся о том, чтобы слово, которое мне будет дано, исходило от Него. Помолимся также, чтобы за словами, без сомнения несовершенными, которые я сумею произнести, вы смогли уловить реальность — Бога, слово — Божие, действие — Духа Святого, сходящего к верующим и руководствующего их в познании и разумении всякой истины.
Сегодня я буду говорить с вами главным образом о Евхаристической Литургии. Все действия Церкви — будь то наша частная молитва, которая никогда не индивидуальна, которая всегда — действие Церкви в нас, будь то объединяющая нас общественная молитва, литургическая или пара-литургическая, все действия Церкви, за исключением Евхаристии, — это действия человеческие: вдохновленные, направляемые Богом, но являющиеся именно порывом людей к Богу, их Господу, их Спасителю, порывом, подобным готическим шпилям, устремленным в небо, словно крик в ожидании ответа Всевышнего.
Евхаристическая Литургия не есть действие Церкви, она — сама Церковь в том полном смысле, что превосходит присущее нам видение Церкви эмпирической, то есть такой, какой мы ее видим и переживаем. Евхаристия уже находится в эсхатологическом измерении, она — будущий век, вторгшийся во время; мгновение вечности, в котором мы вполне участвуем, потому что мы сами — люди, принадлежащие вечности. Мы — эсхатологические люди и общества, которые, пребывая во времени, принадлежат будущему веку. Праздники святых, великие церковные праздники, отмечающие поворотные исторические моменты домостроительства спасения; чтение священных текстов, в центре которых — трагические и славные события казни Христа и дарование Святого Духа; благословение и освящение людей и вещества — все это способы, которыми Бог — через нас, посредством нас, при нашем участии — освящает время, присутствует в истории, разверзает ее в меру вечности. Но Евхаристическая Литургия — нечто большее, она — сама вечность, пришедшая и наступившая. Вечность не есть грань времени, вечность — это Сам Бог, присутствующий среди нас, вечность — это уже завершение всего, хотя и под покровом продолжающегося времени, в котором неверующий, слепец не умеет прозревать присутствие Бога Живого.
Я хотел бы указать на некоторые характерные черты Евхаристической Литургии, прежде чем подойти к тому, о чем меня собственно просили говорить — о Божественной литургии как местопребывании Духа.
Евхаристическая Литургия, как показывает ее название, есть акт благодарения, но она и нечто иное. В древнегреческом, в славянском языках слово «евхаристия» означает дар, благодарение делом. Вы, вероятно, помните то место из псалма, где царь Давид восклицает: Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми? — и довольно неожиданным для нас образом отвечает: Чашу спасения прииму, имя Господне призову(Пс 115:4). Единственный способ, как мы можем ответить на Божественную любовь, на эту распятую, жертвенную любовь Бога, на этот дар Божий в Духе и Крови, это — открыться навстречу Господу и принять Его, дав Ему свободно пребывать в нас, быть Хозяином этого храма, Им созданного и беспрестанно нами оскверняемого, хотя в сущности своей остающегося священным. Величайший дар Божий и одновременно самый совершенный ответ человека — вот первая черта Евхаристической Литургии.
Другая ее особенность в том, что она целиком обращена к Отцу. В православной практике и предании это единственная служба, обращенная к Богу Отцу. Не «через Сына» и не просто «в Духе»: Церковь обращается к Отцу не потому только, что единственный Предстатель ее — Сын, но и потому, что она устремлена к Отцу в единстве тела со своей главой. Церковь, по смелому, чудесному определению святого Иринея Лионского, в Единородном Сыне — единородный сын. Сын Единороден по рождению, мы — по усвоению, по действию Божию, которое уподобляет нас Тому, Кто Един и Единствен. Именно такими мы предстаем перед Отцом: не только прося Сына о заступничестве, но будучи уже теперь на земле продолжением, распространением во времени и пространстве, через века и расстояния, воплощения Сына Божия, Его присутствия во плоти. Как определил ее однажды патриарх Алексий, «Церковь — это тело Христово, во все века ломимое за спасение мира». Церковь обращается к Отцу именно как тело Христово, движимое Духом Божиим, Который дарован нам Христом и во Христе. Только Христом можем мы прийти к Отцу, только в Единородном Сыне можем мы достичь сыновства, которое не просто символ, метафора, но сущностная реальность.
Еще одна особенность этого богослужения, вытекающая из уже сказанного, в том, что в качестве постоянного продолжения и распространения присутствия Христа — отдающегося, распятого, униженного в мире Христа — Евхаристическая Литургия раскрывается не только в молитве, но в действии, в акте молитвенного предстательства. Предстательство Сына Божия, ставшего Сыном человеческим, начинается не в тот момент, когда Он в молитве воздевает руки к Отцу; оно начинается в момент, когда Он входит в мир страдания, смерти, греха и берет на Свои мощные и одновременно столь хрупкие плечи тяжесть греха, смерти и страдания мира. Предстательство Христа прежде всего проявляется в акте, действии воплощения, которое ведет Его через целую человеческую жизнь к человеческой смерти в самом ужасном и трагическом смысле этого слова. Потому что умирает Он не Своей смертью, а нашей. Смерть приходит и пожинает нас, потому что мы потеряли Бога, и в ужасающей, потрясающей солидарности с нами Христос на кресте соглашается — будучи Сыном Божиим — как бы потерять Бога, что и выражает самый, может быть, страшный в истории возглас: Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил? (Мк 15:34). Потерять Бога и от этого умереть — акт предельной солидарности, акт предельного единства с нами, который мы в свою очередь должны разделить, в котором должны соучаствовать, став едиными со страдающим творением и всем греховным человечеством, чтобы стать этим ломимым, мучимым телом, из недр которого восходит к Отцу глас: Прости им, Отче, они не знают, что творят! (Лк 23:34).
Но это единство между Христом и нами, эта нерасторжимая связь, благодаря которой мы остаемся Церковью, несмотря на наши личные грехи и наше общее противление Богу, эта солидарность и единство со Христом возможны только действием Божиим. Все, что составляет призвание христианина, превосходит человеческие возможности. Разве не призваны мы — не только по нашему желанию и выбору, но и по христианской обязанности — быть подлинно, всецело телом Христа, живыми членами, ветвями, в которых течет жизнь лозы? Разве не призваны мы быть храмами Духа Святого? Разве не должны мы стать, как я только что говорил, сущностно — хотя бы и по усвоению — сыновьями и дочерьми, детьми Бога Живого? Все это невозможно, не может быть осуществлено человеческими силами. Все это может быть нам дано — если мы согласны это принять. Все, что мы можем сделать, — это открыться Богу и отдаться Ему. Реально осуществиться это может только действием Божиим, один Бог может это совершить. И в Евхаристической Литургии, как и во всех других таинствах, от нас требуется ответить на зов Божий и отдаться Богу, стать прозрачными, стать гибкими, и тогда исполняется и будет исполняться во всех нас до конца веков обещание, данное Павлу: Довольно тебе благодати Моей, сила Моя в немощи совершается (2 Кор 12:9). Не в расслабленности человеческой, не в слабоволии или лености — рабских порождениях зла, но в немощи ребенка, отдающегося без всякого сопротивления в руки матери, дающего действовать ее силе.
И это так явно в православной Евхаристической Литургии. Когда собралась христианская община, когда священнослужители — дьякон, священник, епископ — все подготовили, чтобы начинать совершение Евхаристии, дьякон приближается к предстоятелю и произносит короткую, но очень значительную фразу, которая ставит, так сказать, предстоятеля на место, но не оскорбительным образом, а в восхищении перед тем, чтобудет происходить. Дьякон говорит: Время сотворити Господеви. Все, что по-человечески можно было сделать, сделано: община в сборе, священнослужители здесь, хлеб и вино принесены, но то, чего мы ожидаем, то чудо, которое претворит хлеб в Тело Христово и вино в Кровь Христову, не может быть совершено никаким человеческим усилием и никакой человеческой властью. Единственный Совершитель — Тот, Кто одновременно Первосвященник и Жертва, одновременно Бог дающий и Бог принимающий. И сила, которая может претворить этот земной хлеб и вино в Тело и Кровь вечности — Дух Святой, сила Самого Бога. Поэтому мы и обращаемся к Богу, поэтому в эпиклезе, то есть в призывании Духа Святого, мы обращаемся к Нему, не ища и не ожидая формальных гарантий, в уверенности веры и в уверенности надежды, что Церковь, живое тело Христово, есть место вечного Его присутствия и также место непреложно сбывающихся Божественных обетований, ибо Бог не обманывает.
И это то, что можно назвать эсхатологическим измерением Церкви. Эсхатологичность здесь просто означает, что уже теперь, в этом временном, текущем длении присутствует вечность. Говорить об эсхатологии означает: то, что будет, — уже есть, зачаточным, зарождающимся, но реальным образом. Не только как обетование, которое исполнится, но как обетование, которое уже в действии, самый динамизм которого привносит новый смысл и новую творческую силу в человеческую ситуацию. В Евхаристическом каноне есть фраза, которая грамматически — абсурд, но хорошо выражает этот эсхатологический аспект: Царство Твое даровал еси [нам] будущее. Да, мы хотим быть сегодня участниками славы того события, которое совершится позднее, хотим участвовать в нем пока прикровенно, способом, который определяем в терминах веры, а когда-то в будущем — ослепительно-явно, когда откроется Царство в пришествии Христа и в излиянии, я бы даже сказал — в потоке Духа Святого, Который охватит все творение, чтобы его изменить и преобразить, соделать новым.
Каким же образом можем мы теперь рассчитывать на это грядущее событие? Как возможно, чтобы этот хлеб, это вино, принадлежащие настоящему веку, могли уже сейчас, не разрывая времени, не переставая быть хлебом и вином, достичь этой эсхатологической полноты и стать Христом, через них отдающим Себя нам? Да, отдающим Себя нам — через них. Ибо весь тварный мир, все сущее существует действием Божиим; все, что существует, было призвано к бытию не только действием Божественной воли, но и Божественной любви. Божественная любовь вызвала нас к бытию в восхищенном ожидании встречи, и только человек сумел стать предателем, только человек сумел потерять Бога. Вся тварь доныне стенает под властью врага (Рим 8:22), потому что человек не сохранил верности, потому что человек предал тварь в чуждое, тягостное рабство, которое тварь отвергает всем своим жизненным порывом, но в котором мы ее удерживаем в той мере, в какой сами остаемся рабами противника Божия. И Христос, новый Адам, может дать ей новое бытие.
Когда мы думаем о грядущем, об этом эсхатологическом измерении Церкви, нам мешает недостаточность нашей веры и недостаток глубокого опыта того, что есть Церковь, Бог, таинства. Мы мыслим в терминах будущего. Да, придет время, когда Бог победит, придет время, когда все будет завершено. Но это не христианская перспектива, это мельче, слабее христианского видения, это его умаление. Конец, некоторым образом, уже настал.
Вы, наверное, помните возглас Христа на кресте: Совершилось! (Ин 19:30). Конец уже достиг нас, во-первых, во Христе, а затем в Духе Божием. Те из вас, кто читает по-гречески, могли заметить, что в книге Откровения, написанной безупречным греческим языком, постоянно повторяется одна семантическая ошибка. Автор, святой апостол Иоанн Богослов, употребляет слово «конец» в мужском роде, тогда как оно среднего рода. Почему? Потому что для него конец — не мгновение, не конечная точка, завершающая человеческую историю, не последний час, возвещающий конец греха, смерти, без-божия в глубоком смысле слова (то есть потери и отсутствия Бога) и открывающий дверь в вечность, за пределом страшного огненного суда. Конец для него — это встреча с Богом Живым. Конец должен быть понят в двух значениях, в каких мы употребляем слово «путь» и «цель пути». Когда мы говорим «цель оправдывает средства», то речь идет не о конечном моменте, а о достижении определенной цели. Но в качестве такой цели открылась для нас встреча с Господом Иисусом Христом, Который — путь наш, но и дверь, открывающаяся в вечность. Однако это событие нам уже известно, этот конец уже настал, эта вечность достигла нас. Христос не только должен прийти, мы с надеждой ждем Его Второго пришествия, взывая с Духом и Невестой: Гряди, Господи Иисусе, и гряди скоро (Откр 22:17). Но Он уже приходил, смиренный, беззащитный, уязвимый, как будто побежденный, презираемый и как будто достойный презрения, подобный нам во всем, в нашей человеческой хрупкости, в нашем человеческом ужасе и нашей человеческой смерти и вместе с тем славный в Своем Божестве. Конец не только грядет, конец настал тому уже около двух тысяч лет назад. Мы живем в мире, который уже за пределами своей цели. Сознаем ли мы это когда-нибудь? По-видимому, очень редко. Мы живем в мире, в котором все уже совершено со стороны Бога, но остается еще нечто совершить человеку. К этому я вернусь чуть позже, ибо к этому именно приводит Евхаристия, в этом она открывается как церковное действование и человеческое действие.
Итак, мы живем в эсхатологичном мире, где конец присутствует со всей своей интенсивностью и всей своей реальностью. Если мы — тело Христово, мы являемся им реально во всех его глубинных измерениях. Богочеловек уже теперь сообщает нам Свое Божество и Свое человечество, вне которых мы живем почти всегда из-за греховности, недостаточности веры и надежды на Него. Таким образом, время, в котором мы живем, материальный мир, в котором мы действуем, наше человеческое тело, наша судьба, и личная и общая, которая нас всех охватывает и несет, в то время как мы созидаем и творим, — все это имеет характер того, что на богословском языке можно было бы назвать «халкидонским догматом», одновременным присутствием Божественного и человеческого, которые не только соприкасаются, но и взаимопроникают друг друга так, что Божественное становится полностью человеческим, не переставая превосходить все тварное, а все человеческое оказывается пронизано присутствием Божиим.
В двадцатой главе Евангелия от Иоанна мы встречаемся с тем, что некоторые богословы назвали «Иоанновой Пятидесятницей», — с дарованием Духа Святого, как оно описано апостолом Иоанном в конце его Евангелия (Ин 20:22). О чем говорит нам эта «Пятидесятница», это дарование Духа? В чем здесь отличие от Пятидесятницы книги Деяний (Деян 2:1—4)? Какую надежду приносит нам это событие, что оно открывает о нашем человечестве и о нашем положении по отношению к уже достигшей нас вечности Божией?
Вы, наверное, помните, что произошло. В вечер Своего воскресения Господь Иисус Христос входит «дверем затворенным» в горницу, где в страхе находились Его ученики. Как не понять их страха и отчаяния? Иисус Христос мертв, умер на кресте. Ненависть человеческая, человеческий страх перед божественным и священным победили, казалось, Самого Бога. Тот, Кто был не только их Другом, не только Учителем, но и Богом, их Господом, погиб, и вместе с Ним как будто обречена была и Его проповедь. Они могли продолжать существовать, но они больше не могли жить, потому что жить для них означало жить со Христом и во Христе. Со смертью Христа не осталось жизни, оставалось лишь исполненное отчаяния дление, которое окончится неотвратимым смертным поражением и сошествием в тот ад Ветхого Завета, который не есть место мучения, а нечто еще более ужасное: место, где Бога нет и никогда не будет, место окончательного и непоправимого, вечного Его отсутствия. И вот среди них является живой Христос. Его первые слова: Мир вам! — так естественны, если мы понимаем отчаяние и страх апостолов. И действительно, Он дает им тот мир, которого мир сей не может дать, но и не может отнять у нас: мир уверенности, что Бог победил и что Его победа достигает, охватывает нас, уносит нас, удостоверяет нас в вечной жизни, несмотря на подстерегающую нас смерть, потому что сама смерть была побеждена смертью Христовой. И затем Христос, дунув на Своих апостолов, говорит: Примите Духа Святого. Этот Дух Святой есть отныне Дух Церкви. Разве здесь не очевидна аналогия между крещением Господним и этим событием рождения Церкви, крещенной в Духе, на которую Дух сходит и которая теперь Им носима и проникнута? Выходя из иорданских вод, Христос по Своему человечеству принял сошедшего на Него и почившего на Нем Духа (Мк 1:10). Теперь этот Дух дается всем, кто составляет тело Христово, кто, бывши чуждым, приобщается Ему, то есть соединен с Ним всецело, так что Его жизнь стала их жизнью, они — лишь ветви на живой и живоносной лозе.
Однако здесь Дух, данный Церкви и пребывающий в ней, дается не так, как в день Пятидесятницы, когда Он сходит на каждого из апостолов. В Пятидесятницу каждый получил этот дар лично. В вечер Воскресения Христова Дух сошел на Церковь в ее целостности, в ее единстве: никто не обладает этим даром отдельно от других, но только все в совокупности, каждый — вместе со всеми. Вспомните: Фомы не было с ними в тот вечер, но когда он присоединился к апостолам, когда Христос его встречает через неделю, ему не нужно принимать новое излияние Духа, как будто он Его не получил: принадлежа к этому телу, он получал Духа вместе со всеми. И все, кто из века в век, верой и Крещением, даром Духа Святого, евхаристическим приобщением, священническим рукоположением или епископским посвящением присоединяется к этому кругу апостольскому, — все причастны этому единственному дарованию, которое не личное, а общецерковное.
В тот день родилась Церковь, тело Христово, исполненное Святого Духа, живущее Духом жизни, содержимое Богом и обладающее Им в той мере, в какой она Ему поклоняется, отдается — не в смысле человеческого обладания как присвоения. Тогда Церковь стала местопребыванием Духа Святого. Тогда Церковь стала местом, где может совершиться чудо Евхаристии, потому что она — эсхатологическое общество, потому что она состоит из людей, которые уже в этом временном мире принадлежат миру вечности. Разве не волнующее чудо — думать, что все мы держимы Богом и отданы Ему настолько, что то, что будет истинно в будущем веке славы, уже начинает быть, уже стало истинным для нас!
Но для этой эсхатологической ситуации характерна некая двойственность, незавершенность. Вечность уже настала, и однако мы — люди века сего; мы уже принадлежим веку славы, и однако стыд греха, человеческая слабость и хрупкость падшего мира тяжело давит на наши плечи. И не только внешне, но и как разрушительная сила внутри нас. Не говорит ли апостол Павел, что различает в себе два стремления, две силы — силу духа и силу плоти? Не сказал ли он, что неспособен творить то добро, которое любит и выбирает, что находится в рабстве у греха, который ненавидит и отвергает (Рим 7:18—19)? В этом и состоит эсхатологическая ситуация, реальная как для него, так и для нас. Но эта эсхатологическая ситуация реальна не только в плане человеческом, для душ, обладающих самосознанием и свободой выбора, отдающих жизнь или отказывающихся отдать себя, не только в плане обществ, которые являются солью земли и светом истории или же становятся потемками и подлежат суду Божию. Этот эсхатологический элемент, эсхатологический фактор относится также и веществу этого мира. Задумывались ли вы когда-либо над тем, что мы говорим о двух разных вещах, когда описываем воплощение Сына Божия? С одной стороны, мы говорим, что Сын Божий стал Сыном человеческим, но, с другой, мы говорим о воплощении: Слово стало плотию (Ин 1:14). С одной стороны, Сын Божий, Бог во Христе вступил в историю, и через Него вся история собрана вокруг этого присутствия. Прежде она протекала перед лицом Божиим, она слышала Божий призыв, Бог стучался в двери сердец и умов. Страданием и смертью, трагедией и ужасом, радостью и откровением Он пытался пробудить души, способные отозваться на Его зов. Во Христе Бог стал неотъемлемой частью истории, и наше время, как я уже говорил, разверзлось так, что содержит вечность и одновременно само содержится в необъятности Божией, в Его неизмеримой, беспредельной вечности. Но, с другой стороны, Слово стало плотью, и человеческая плоть Христова, физическое человечество Христа, которое во всем подобно окружающему нас материальному миру, является связью между Божеством и этим материальным миром.
Сын Божий, ставший Сыном человеческим, открывает нам дивный, невероятный факт: человек так велик, что в своем человечестве может вместить присутствие Божие. По слову западного автора, Ангелуса Силезиуса: «Я столь же велик, как Бог; Бог столь же мал, как я». Человеческое величие — в рост Божий, Божественное смирение — в меру человека. И физическая тварь, какой она открывается в воплощении, оказывается способной к необъятности и вечности, она призвана к вечной жизни, и на примере Христа, в этом Его человеческом теле видимый, осязаемый тварный мир и мир невидимый, окружающие нас, связаны с Богом и получают свидетельство, что тварное может быть столь велико, что слова апостола Павла: Бог будет все во всем (1 Кор 15:28) — относятся не только к человеку, его истории, его судьбе, но и к физическому миру, который преобразится и войдет в славу. Как это дивно, как прекрасно! И физический мир также сопричастен халкидонской эсхатологии, этому двойному присутствию Христа, взаимопроникновению тварного и нетварного, времени и вечности, конечного и бесконечного, Бога и того, что человеческое и материальное. Потому-то и возможны таинства, потому-то они — не образы, а реальность, действенная, изменяющая и преображающая. Таинства возможны, потому что в уже пришедшей вечности предметы, так же как и люди, могут участвовать в славе будущего века. И все, весь этот материальный мир, от самой огромной галактики до мельчайшего атома, все без исключения призвано стать Богоносным, просиять славой Божией.
И эти хлеб и вино, которые в нашем линейном времени никоим образом не могут быть ничем иным, кроме как тварными хлебом и вином, входят в тайну вечности и открываются нашему взору или, вернее, открываются нашему внутреннему опыту, непосредственно переживаемому опыту как Христос воплощенный, отдающийся нам. Причащение — не акт каннибализма, верующие вкушают не историческое тело Христа. Хлеб и вино таинственно становятся частью Христовой тайны, «христологической» реальности — без того, чтобы это отразилось на историческом теле Христа, они оказываются проникнуты присутствием Слова Божия через воплощение, в таинстве единения и приобщают нас тому, чем сами стали. По нашему греховному ослеплению — столь жалкому и плачевному, если подумать о том, каковы мы как церковное общество — мы не способны видеть сияние благодати и славы в этом хлебе и вине. И однако они перед нами и посредством твари — безгрешной, но которая стала жертвой нашего падения — делают нас причастниками Божиего схождения на наш уровень, причастниками тому, что они способны воспринять от нового Адама, который не только совершенный Человек, но и Бог Живой. В таком именно положении мы и живем, в сумерках веры, где свет светит, но еще не победил, не уничтожил тьму. И Дух Божий, Дух, носившийся над бездной, когда еще ничего не было, прежде чем что-либо стало, прежде чем что-либо определилось, тот же Дух, Который сошел на Человека-Христа, Который охватил апостольский круг и распространяется все дальше, этот Дух единственным, особым образом являет Себя в таинствах Церкви и наиболее чудесно — в Евхаристической жертве.
Ибо Евхаристическая жертва — есть. Да, мы приносим Богу хлеб и вино. Но если мы не приносим одновременно и себя, если нет одновременного приношения хлеба, вина и наших человеческих личностей, как можем мы принимать эти хлеб и вино, ставшие Самим Христом? Если мы не «рассуждаем» этого Тела и этой Крови (1 Кор 11:29), мы осуждаемся самим своим причащением. Но мы «различаем» их нашей верой, а иначе — что мы такое?
Дух же Святой — это начаток будущего века. Полнота Духа охватит, пронизает, преобразит все в конце времен, то есть в момент, когда все будет завершено и Христос-Победитель будет главой тела — Адама, завершенного человека, единого сына Божия.
Что же происходит теперь? Каково наше место? Какова наша роль? Разве мы не знаем, что мы должны быть там, где Христос, что мы должны действовать там, где Он действует, должны делать то, что творит Он? Один Бог может действовать внутри Церкви, потому что то, что должно быть совершено в Церкви, только Он может совершить, ибо, как я уже говорил, это превосходит всякие человеческие возможности. Но мы — апостолы, посланные Христом в мир. Бог Отец, Творец, почил в седьмой день от дел Своих, но этот седьмой день — день человеческой истории, простирающийся со дня, когда было завершено творение, до дня последнего суда. Венский кардинал Кёниг написал книгу под названием «Час человека», где говорит, что вся история — это время, когда человек продолжает дело Божие во всей его интенсивности и творческой глубине. И человек этот — не какой попало, не грешник-разрушитель, а тот, который во Христе — едином Человеке, единственном истинном и подлинном Человеке — может совершить все в Боге и Богом, несмотря на человеческую немощь и хрупкость, потому что сила Божия проявляется и раскрывается в нашей немощи.
Если мы будем думать о Евхаристической Литургии в таких терминах, если мы увидим в ней самое яркое и совершенное выражение нашей эсхатологической ситуации, личной и коллективной, если будем отдавать себе отчет в том, что мы — эсхатологическое общество, которое есть тело Христово, что мы — место присутствия Духа, которое уже есть Царство Божие, пришедшее в силе, разве не поймем мы тогда, что вместе со Христом и в Духе мы должны взять на себя всю ответственность, какую понес Христос, за тварный мир: за человека и за все неодушевленное, за человеческую мысль и за науку, за деятельность и созерцание. Потому что лишь изнутри созерцания, усердно вслушиваясь, глубоко всматриваясь в пути Божии, можем мы войти в Божественное творчество и быть людьми восьмого дня, уже наставшего, уже действующего в этом седьмом дне, каким является человеческая история.
В романе «Святые идут в ад» Жильбер Сесброн вкладывает в уста священника-рабочего вольный, но достойный того, чтобы его запомнить, перевод выражения: Ite, missa est — «Идите, начинается ваша миссия». Литургия — момент, когда мы находимся на горе Преображения. Мы не просто видим Христа во славе — мы способны Его видеть лишь в той мере, в какой сами причастны этой реальности Христа, во Святом Духе. Апостолы могли видеть Христа таким, каким Он был, лишь потому что сами были в славе. То же происходит и с нами во время евхаристической Литургии, но еще в большей степени. Они — видели, нам же дано участвовать сущностно, телом и душой, духом и волей, всем нашим существом в этой уже победоносной реальности среди нашего сумеречного мира.
Мы должны, подобно апостолам, сойти в долину, принять на себя человеческую историю и, если понадобится, понести ее на своих плечах, путями своей жизни и жизни других людей — личной и общественной — в Гефсиманский сад, где нам придется встретить смертную тоску человечества, принять ее на себя, вознести на крест и, если нужно, умереть, чтобы другие ожили через нашу смерть.
Да подаст нам Господь мужество, великодушие, открытость, которые позволят Ему свободно действовать в нас и привести все к полноте.
Церковь и Евхаристия
Иногда тема евхаристического общения совершенно и полностью сводится к идее общины, собранной на богослужении, центром имеющем евхаристическое причащение. И первое, что я хочу сказать: это страшно узкое представление о том, что значит быть евхаристической общиной. Понятие евхаристичности взято с греческого, то же самое слово мы находим на славянском языке. Слова «благодать», «благодарение», «благой дар» очень близки друг другу, и евхаристическая община это такая община, в которой нам дан самый большой, величайший дар, какой только может тварь получить. Я говорю о твари, потому что этот дар обнимает не только человечество, но все, весь космос. Это дар Божий, то есть Бог,Себя дающий твари: в различном виде, но дающий Себя не только человеку, но и всему тому, что Он создал. Я сейчас разъясню очень коротко. В причащении Святых Тайн под видом хлеба и вина не только мы получаем приобщение Тела и Крови Христовых, но самый хлеб пронизывается Божеством, самое вино пронизывается Божеством Христа, они делаются Телом и Кровью по приобщению к Божественности Самого Христа, Сына Божия воплощенного. И в этом смысле не только мы приобщаемся Божественной жизни, но эта тварь: хлеб, вино (а в других таинствах — вода Крещения, миро Миропомазания и т. д.) уже входят в тайну будущего века. Поэтому мысль о евхаристической общине, мысль о том, что самое великое, что может с тварью случиться, в этом: Бог и тварь соединяются, пронизывают друг друга, делаются неразлучными.
Однако если думать об этом величайшем евхаристическом даре с другой стороны, то какой наш ответ? Если мы хотим не только получать, но и отвечать — то чем? Первым делом — благодарностью. Раньше чем что бы то ни было делать, мы должны сердцем, душой отозваться на этот дар, на Божию любовь. Бог Себя отдает нам — это дар. Мы отвечаем умилением, благодарностью, поклонением Богу — это наш ответ. Но на этом наш ответ не может кончаться, потому что если только мы понимаем, что мы получили, что нам дано, и как то, что мы получаем даром,нужно всей твари, всякому человеку, то из одной благодарности, из одного изумления о том, что нам дано, наша община естественно должна обернуться лицом ко всей твари, ко всему миру, к каждой отдельной человеческой личности и ко всему космическому явлению и давать то, что нами получено. Поэтому есть три элемента в понятии Церкви как евхаристической общины: это место, где «это» совершается (я говорю «это», потому что не знаю, как его назвать), это место, где, получив «это», мы отвечаем любовью, благодарностью, изумлением, поклонением (опять-таки: слов не хватает!); и третье: результатом «этого» должно быть движение наружу. Причем «движение наружу» вовсе не означает, что мы должны ходить и говорить, говорить, говорить об этом. Когда Евангелие призывает: Тако да просветится свет ваш пред человеки, да видят добрая дела ваша и воздадут славу Отцу вашему небесному (Мф 5:16) — речь не идет о том, чтобы получившие от Бога дар ходили и всем говорили: «Бог мне то или другое дал». Люди должны были бы видеть, что случилось. К этому я еще вернусь. Но начнем с первого, с дара Божия.
Евхаристическая община — это община людей, которая приобщена этому непостижимому дару Божию. В какие-то моменты эта община собирается. Она собирается, потому что составляет одно целое: Тело Христово. Каждый из нас является как бы членом, то есть частицей этого Тела. И когда нас соединяет вера, любовь к тому же Богу, опыт той же приобщенности к Нему, конечно, нам естественно встречаться, чтобы пережить вместе то, чего никто внешний не может пережить, как мы это переживаем. Никто этого не знает. Но, с другой стороны, мы должны помнить, что даже евхаристическое причащение, то есть причащение Святых Тайн, не есть вся полнота того, что нам может быть дано. Хомяков еще в прошлом столетии говорил, что единственное таинство вселенной — сама Церковь, потому что она содержит в себе все отдельные таинства. Мы входим, вступаем в Церковь, делаемся частью Церкви через Крещение, не через Евхаристию. Мы получаем дар Святого Духа через Миропомазание, не через Евхаристию. Мы приобщаемся Христу и Его человечеству и Его Божеству — да, причащением Святых Тайн, но есть и другие таинства: брак и т. д., которые тоже содержатся в самой Церкви. Поэтому нельзя, как бы ни было непостижимо велико таинство Евхаристии, сводить Церковь к нему: Церковь многограннее любого своего проявления.
Что же такое Церковь? Если вы возьмете катехизис митрополита Филарета, там сказано, что Церковь — общество людей, которые соединены между собой единством веры, единством иерархии, единством духовности и т. д. Но это меньше, чем Церковь, это внешние какие-то признаки, по которым можно ее узнать, — даже не узнать, догадываться, так же как можно, например, описать храм извне и вы узнаете: да, это православный храм, это мечеть, это католический или протестантский храм. Но это не значит, что вы поняли или из опыта знаете, что в этом храме совершается. Если вы в этот храм вступите и будете только туристами глядеть на стены и на предметы, вы все равно не будете знать: надо приобщиться к тому, что в нем совершается, а не только как бы находиться в скорлупе этого храма.
Вы, наверное, понимаете, что катехизис обращен на внешних, он — учение о том, что человек может познать о Церкви, о Боге, о таинствах, еще не приобщившись к ним. Но если поставить вопрос о том, что такое Церковь не катехизически, а опытно, думаю, можно определить Церковь как Богочеловеческое общество, где ра{'}вно присутствует полнота Божества и полнота человечества. Именно ра{'}вно, потому что образ осуществленной Церкви мы можем видеть во Христе: совершенный человек и совершенный Бог, соединение Божества и человека в полном смысле этого слова. Вот что представляет собой (и то только приблизительно) Церковь. В ней мы видим человечество в двух как бы видах: совершенное человечество в лице Христа, Который — истинный Человек, то есть человек настоящий, человек совершенный, но присутствует в ней тоже наше человечество — грешное, падшее, сломанное, несовершенное. В Церкви мы видим эти два образа человека: себя грешного и однако не разлученного со Христом, и Христа, Который является образом того, чем каждый из нас должен стать и чем мы должны стать все вместе.
Если задуматься над тем, каким образом при нашем падшем состоянии, при нашем несовершенстве, при нашей греховности мы связаны с совершенным человечеством Христа, то, думаю, это можно выразить словами Ефрема Сирина: Церковь — не общество святых (то есть людей, уже достигших своей полноты), а общество кающихся грешников… Грешников — да, но не таких, которые удовлетворяются своим состоянием, пожимая плечами и говоря: «Чего от меня ожидать?», — а именно таких, которые сознают свою греховность — и устремлены к Богу.
Греховность не надо понимать исключительно в нравственном смысле, то есть в виде греховных поступков, мыслей, чувств. Есть греховность более изначальная: это наша отделенность от Бога. Быть грешником (каким бы то ни было образом) значит быть вдали от Бога, не быть как бы включенным в Божественную жизнь. И таково состояние всего человечества. Пока не завершится История, пока не будет совершена вся тайна спасения и не наступит восьмой день прихода Господня и явление новой твари, мы все в состоянии оторванности от Бога. И в результате мы разделены, разбиты и внутри себя, то есть у нас постоянная борьба между одними мыслями и другими, между собственными убеждениями и желаниями, стремлениями нашими, между волей, умом, сердцем, плотью. Мы в постоянном разброде, и только в Боге мы можем получить как бы ключ к гармонии, как хор может петь одним аккордом или вразброд. Так что греховность принадлежит всем, включая святых, потому что, пока они не в Боге так же, как Христос в Боге (Я во Отце и Отец во Мне: Ин 10, 30), есть доля отделенности. Возьмите, например, слова апостола Павла: жизнь для меня Христос, а смерть — приобретение, потому что пока я живу во плоти, я отделен от Христа (Флп 1:21). Вот наше состояние в лучшем случае.
Каким же образом мы соединяемся со Христом? Первое, что бросается в глаза: как бы мы ни стремились к Богу, как ни жаждали, как ни мечтали бы, своими силами мы достичь Его не можем. Совершает это сила Божия, действующая непосредственно либо посредством тех или других действий. Мы должны осознать свою отделенность от Бога, свое сиротство и обратиться к Нему с криком, действительно с криком тоски: «Не могу, Господи, жить без Тебя! Я весь разбит, я разъединен в самом себе, я разъединен с моим ближним, у меня нет единства любви со всеми, кто меня окружает, потому что у меня нет соединения с Тобой!». Это первое, на что Бог отзывается, вернее, Бог это в нас вызывает, потому что если бы Сам Бог первый к нам не подошел, если Сам Бог нам не шепнул бы о Себе, не дал бы нам почувствовать Своеговозможного присутствия, возможной близости, мы не знали бы, куда обратиться. Значит, инициатива всегда Божия. Он говорит: посмотри на себя, посмотри на свои отношения — разве ты не сирота? ищи своего покоя, ищи своей полноты… И Сам на это отвечает Своим приходом. Причем Он всегда отвечает и всегда приходит.
Как же мы с Ним соединяемся? Апостол Павел говорит о нашем соединении с Богом в образах прививки слабого, умирающего растения к стволу или ветке живого, крепкого дерева (Рим 11:17—24). Что случается (если воспользоваться его образом)? Вот садовник посмотрел и увидел, что какой-то росток мог бы жить, вырасти, но хиреет: корни неглубоки, земля неплодородна. Если ему дать доживать свой век, он высохнет и умрет. И первым делом садовник отрезает этот росток от его естественных корней. Если бы этот росток мог думать, как мы можем думать, будучи ростками, в первый момент его охватил бы ужас, потому что мы вдруг сознаем, что теряем связь даже с той хрупкой жизнью, какая у нас была. У нас больше нет корней, мы оторваны даже от той жалкой пищи, которую нам давала эта скудная земля, из нас вытекает жизнь, мы умираем, вымираем еще пуще, чем умирали постепенно, сами того не замечая. А второе действие садовника: чтобы привить этот росток, он должен надрезать живоносное дерево, и наше соединение со Христом, так же как соединение этой веточки с деревом, совершается рана к ране.Смерть Христова исцеляет нашу смертность, и потому что Христос страдает и умирает на кресте, потому что Он приобщается даже нашей богооставленности: Боже Мой! Боже Мой! Почему Ты Меня оставил? (Мк 15:34), Он может нас вобрать в Себя, какими мы есть, а не какими мы могли бы быть или должны бы быть. И вот тут начинается новая жизнь, то есть живые соки, живая жизнь этого животворного ствола начинает пробиваться в росток, постепенно бежит по его сосудам, проникает до последней веточки, последнего листика. И замечательно — и это справедливо можно сказать и о растении, и о нас — то, что жизнь животворного дерева не лишает росток (то есть нас) нашей личности, эта жизнь приводит к полноте то, что привито. Христос не делает нас иными. Он делает нас самими собой в полном смысле этого слова, иначе мы прозябали бы и умирали. Вот первое, что совершается: Христос нас приобщает Себе рана к ране, смерть к смертности нашей, и Его жизнь Воскресения вливается в нашу смертность и превращает нас постепенно в ту тварь, которая должна жить во веки и воскреснуть в последний день.
Но здесь мы на грани. Христианин, приобщившийся через крещение смерти Христовой и Его Воскресению, уже на той грани, где он еще не жив, но больше не мертв. Апостол Павел дает нам в шестой главе Послания к римлянам образ Крещения как погружения в смерть Христову с тем, чтобы восстать в Его жизнь (Рим 6:3—11): именно такое здесь и совершается. Это, конечно, образ, но образ очень определенный, потому что мы погружены с головой в эти воды Крещения, которые для нас — смерть, если мы не выйдем из них. И мы выступаем из них, как бы облеченные в новую жизнь, опять-таки при условии, что останемся верными, а не «просто так», потому что Крещение — как бы зачаток новой жизни, но еще не вся новая жизнь. Это не вечность, это начало, вступление в нее, и когда мы крещаемся, в идеале случается то, о чем опять-таки апостол Павел говорит: мы несем в своей плоти мертвость Христа (2 Кор 4:10); то есть все то, что нас по плоти, по падшему нашему состоянию влекло, должно умереть. Поэтому так важно, чтобы была подготовка к Крещению, а не просто «обряд Крещения», будто можно взять любое существо, погрузить в священные воды — и случится что-то без его участия. Наше участие должно играть абсолютно решающую роль, потому что то, что нам дается, должно быть нами принято, и плод должны мы приносить. Мы умираем, берем на себя мертвость Христа, то есть Его отчуждение от всего того, что есть отлучение от Бога, внутренний разлад и наша разделенность с нашим ближним.
Таким образом, мы можем сказать, что в мире есть как бы три образа человека: падший человек, который не только не знает Христа, но и не стремится Его узнать, о нем в Ветхом Завете говорится, что Бог посмотрел на людей и сказал: они стали плотью, ничего не осталось в них, кроме плоти, только вещества (Быт 6:3). Есть совершенный Человек Христос. А в интервале мы — привитые, но в процессе оживания, а не просто ожившие единичным и односторонним действием Божиим. Таким образом мы познаем новую человечность. Но кроме человечности, через Христа мы познаем, что Он есть не только Человек совершенный, но и совершенный Бог, и вся полнота Божества пребывает в Нем телесно (Кол 2:9). И приобщаясь ко Христу по человечеству, мы приобщаемся неизбежно — я не случайно употребляю слово «неизбежно» — и Его Божеству. Это начинается Крещением и развивается дальше. Таким образом, в Крещении мы уже начинаем новую жизнь как искупленная и обновленная тварь, начинаем новую жизнь как тварь, приобщившаяся Божеству Самого Христа.
Но Божество пребывает в Церкви тоже присутствием Святого Духа. Апостол Павел говорит, что Церковь есть храм Духа Святого, что каждый из нас должен быть храмом Святого Духа. Но опять-таки надо с осторожностью употреблять слова, потому что когда мы говорим о храме, мы говорим о чем-то, что содержит нечто, тогда как Дух Святой не содержится в нас, как влага содержится в чаше: Он пронизывает нас. Опять-таки не со всей полнотой, потому что мы должны открыться Ему, должны дать Ему волю, свободу, — но Он присутствует и постепенно нас как бы согревает, пронизывает. И если мы отвечаем на Его действия, отзываемся на Его зов, Он все больше и больше нас пронизывает, так что в конечном итоге мы можем стать, должны стать подобными Христу или, если хотите другой образ, подобными купине неопалимой, которую Моисей видел в пустыне — куст, который горел Божественным огнем, весь стал огнем, не переставая быть кустом (Исх 3:2—3), потому что Божественный огонь не уничтожает того, что он приобщает своей Божественной природе.
Так, во Христе и Духом Святым мы вступаем в совершенно новые отношения с Богом и Отцом. Образ приемных детей в отличие от Единородного Сына — только начало. Да, мы чужие Богу до момента, когда действием Святого Духа вступаем в эту связь любви, поклонения и послушания Христу. И тогда эта грань, это различие между Единородным Сыном и приобщенностью нашей снимается настолько, что святой Ириней Лионский мог сказать, что придет время в конечном итоге, когда, соединившись в совершенстве со Христом действием Святого Духа, в Единородном Сыне Божием все человечество станет единородным сыном Божиим… Так же как можно сказать, что в тот момент, когда веточка, которую садовник привил к животворному стволу, уже не может быть отлична от других веточек, она стала этим деревом, так и мы призваны стать по отношению к Богу и Отцу тем, что Христос есть по Своей Божественной и человеческой природе.
И вот это — Церковь: Богочеловеческое общество, равно Божественное, равно человеческое, содержащее в себе все таинства, которые мы таковыми называем, и все тайнодействия Божии, которые мы даже назвать не можем. Мы сейчас, уже после многих столетий, привыкли говорить о семи таинствах, потому что в человеческом опыте это самые привычные действия Божии в пределах Церкви в ответ на нужды человеческие. Но было время, когда говорили о Крещении и о Евхаристии, Крещение тогда включало возложение рук и дар Святого Духа. Профессор А. Л. Катанский в свое время перечислял двадцать два действия Божии, которые в раннюю эпоху христианства считались таинствами. Таинства — это действия Божии в ответ на нашу нужду, совершаемые посредством вещества, причем вещество может быть хлебом, вином, водой, маслом — чем угодно, но может быть и животворным словом. Помните, например, как ученики Христовы, слыша слова Спасителя о том, что они должны приобщиться Его плоти, начали уходить, и Он обратился к Двенадцати: и вы меня оставите? И Петр ответил: куда же нам уйти от Тебя? У Тебя глаголы жизни вечной (Ин 6:68). Когда мы читаем Евангелие, совершенно ясно делается, что Христос никогда не описывал вечную жизнь, поэтому «глаголы жизни вечной» — не речи Христовы, где бы Он описывал, как никто, что такое вечная жизнь. Нет, это Его слова, которые так ударяют в сердца, так проникают людей, что приобщают их той вечной жизни, которая есть жизнь Христова. Можно сказать, что действительно есть таинства, в которых действует животворное слово. Скажем, в браке все тайносовершение делается словом, но это словосо властию, оно содержит Божественную власть претворять двух во едино. То же самое в молитве, например, освящения колокола: мы молимся о том, чтобы после освящения звук колокола доходил до человеческих душ и обновлял людей. Речь, конечно, не идет о том, чтобы люди были как бы в музыкальном трансе, чтобы они были взволнованы, нет: чтобы этот колокол стал священным, а его звук — как бы отголоском вечности. Поэтому мы можем говорить о Церкви как о месте, где постоянно совершается чудо Божие, приобщающее нас бесконечно различным образом Божеству. Когда мы молимся и вдруг наше сердце начинает гореть в нас, когда вдруг делается ясно в уме, когда новая сила в нас внедряется — это воздействие Божие того же рода, как любое таинство, это действие Божие.
Таким образом, когда мы говорим о евхаристичности Церкви, мы должны говорить о всей совокупности того, о чем я сейчас говорил: это место, где бесконечным рядом действий Бог нас приобщает к Себе Самому. Евхаристическая приобщенность в таинстве Причащения, быть может, является самым потрясающим, самым дивным моментом, и однако это только один из видов чудотворного события Церкви. И это настолько верно, настолько правда, что Иустин Философ где-то пишет, что если мы раз в жизни стали членами Церкви путем таинства посвящения (то есть Крещения, дара Святого Духа и Приобщения) и сумели бы не потерять данную нам благодать, этого единого Причащения могло бы быть достаточно на всю жизнь. Это не значит, что мы не должны причащаться чаще, это значит, что дары Божии неотъемлемы. Мы их теряем как бы в себе самих субъективно, но они в нас есть. И если мы не были бы с начала приобщены Богу, то, приобщившись незаконно, мы бы сгорели, мы не стали бы купиной неопалимой, мы стали бы кучей дров, которые превращаются в пепел.
А наш ответ начинается с момента, когда мы признаем, узнаем свое сиротство, обращаемся к Богу и говорим: приди, Господи, потому что без Тебя я жить не могу! Но дальше, в течение всей жизни должна продолжаться эта приобщенность. В одном современном французском романе идет рассказ о том, как молодой священник умирает от рака и поэтому не в состоянии изо всех человеческих сил устремляться к Богу, он только тоскует по Нему, он кричит о своей нужде. В разговоре один молодой человек ему говорит: «Нас так поражает в вас сила молитвенного духа». И священник с отчаянием говорит: «Да этого-то во мне и нет! Я ищу молитвы всей душой, всей тоской своей — и не могу достичь ее». И молодой человек отвечает: «Это мы и чувствуем в вас, чего не чувствуем ни в себе, ни в других людях». Поэтому такая устремленность уже есть приобщенность. И, с другой стороны, когда мы сознаем, что нам дано — как не ответить благодарностью, как не ответить изумлением?!
Я хочу сказать еще два слова о причащении с другой точки зрения. На Синайской горе Моисею не было дано видеть Бога лицом к лицу, ему было только дано войти в славу Божию, и Бог как бы прошел мимо, и этого видения было достаточно, чтобы лицо Моисея так воссияло, что люди не могли вынести этого излучения Божественного присутствия: Моисей закрывал лицо покрывалом, потому что люди не могли смотреть на него (Исх 34:33—35). Приобщаясь Святых Тайн, мы получаем больше, чем Моисей, который только увидел как бы проходящего мимо него Бога, — а как редко замечают в нас какое-то сияние! И над этим мы должны задумываться, потому что не Бог виноват в этом, а наша поверхностность, наша неспособность воспринять и удержать это чудо.
Но предположим, свет так мало брезжит в нас, что надо действительно иметь глаза, чтобы видеть. Однако разве мы сами это переживаем? Вот пример из жизни Симеона Нового Богослова. Глубокий старик, он приобщился Святых Тайн, вернулся в келью, сидит на деревянной скамье, которая ему служит и кроватью и сидением, оглядывается на стены своей кельи, смотрит на себя и восклицает: я смотрю на это обветшалое тело и ужасаюсь, потому что эти обветшалые члены мои — Божии члены через причащение. Христос во мне живет, Бог во мне живет, и эта келья — такая малая, ничтожная — шире небес, потому что небеса не могут содержать Божия присутствия, а через мою плоть Бог весь присутствует в этой келье… Разве мы когда-либо что-нибудь подобное переживали или переживаем? Опять-таки искусственно мы не можем этого достичь, но бываем ли мы достаточно внимательны, чтобы заметить, что это случилось с нами, или мы так привыкли, что живем в тайне Божией, что больше не замечаем того? Об этом нам надо задумываться.
У меня есть возражение против структуры евхаристической общины как общины, собранной на богослужение только для причащения Святых Тайн, потому что мне кажется, что это — боюсь употребить такое слово — сужение безграничности того, о чем я сейчас говорил. Это только один частный случай, но это не все. Когда богословы себе представляют Церковь как евхаристическую, богослужебно-евхаристическую структуру, то начинается уже полная беда, потому что получается пирамида власти и подчиненности, подвластности: миряне, духовенство, епископ, патриарх — все это поднимается такой пирамидой, и на каждом уровне у кого-то есть власть, а у кого-то послушание. На самом же деле, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что все наоборот: если ты хочешь быть первым — будь последним, если хочешь быть во главе — будь всем слуга, будь раб всем (Мф 20:27). Так что такая структура, эта пирамида может иметь место, если хотите, но она стоит наоборот (это образ, который мне раз дал отец Софроний): она стоит на точке, но эта точка — не патриарх, эта точка — Спаситель Христос, и вся тяжесть мира лежит на Его плечах. Это тоже мы должны понимать.
Мы не должны думать о Церкви как о такой структуре, где одни учат, другие учатся, одни властвуют, другие подчиняются. В этом заключен соблазн, трагический соблазн для каждого священника, для каждого епископа, в предельном виде — это ересь, будто кто-то единственный, кто стоит на самой высокой точке, представляет собой главу Церкви. Нет главы Церкви, кроме Христа, нет никакой силы в Церкви, кроме Святого Духа, и это причина, почему во всех таинствах священник не является тайносовершителем. В какой-то момент священник призывает Святого Духа совершить то, чего он не может совершить сам. Никакие благодатные дары не могут дать человеку власть над Богом, чтобы Его заставить войти в этот хлеб и превратить его в Тело Христово, войти в вино и превратить его в Кровь Христову; никакое рукоположение или посвящение не может дать человеку власть над тварью, чтобы она пассивно подчинилась его велению и приняла Бога без открытости. Поэтому в Евхаристии, в Крещении, во всех таинствах всегда есть момент, когда священник говорит: Господи, сойди и соверши это! Я буду говорить слова, я буду действовать, но Единственный Первосвященник и Священник всей твари — Христос, единственная сила, совершающая чудо, — Святой Дух.
И в этом смысле евхаристическое богословие, которое думает о Церкви как о структуре, ошибочно, оно обман. Оно превращает Церковь в человеческое общество иерархии, вместо того чтобы было Богочеловеческое общество Божественного простора, Божественной свободы, потому что действие Божие — освобождение наше, а не порабощение. Чудо является не действом Божественной власти, а действием Божественной силы, выпускающей тварь на свободу. И наш ответ должен быть — изумление, благодарность. Немецкое слово Freiheit, английское Freedomпроисходят от готского, предгерманского корня, который значит: тот, перед кем падаешь на колени в поклонении. Это все, что мы можем сделать.
Но сделав это, поняв, что со мной случилось, если я действительно думаю, что любовь вошла в мою жизнь, — как могу я оставаться безразличным к тому, что она не вошла в чужую жизнь? Говоря о вещах гораздо более простых, представим: вот кто-нибудь из вас услышал восхитивший его концерт, видел фильм, который его вдохновил, прочел книгу, которую он нашел откровением: что вы делаете? Идете к самым близким людям, к друзьям, даже к чужим идете и говорите: «Ты читал? ты видел? ты слышал? Пойди!». Или вы встретили человека, который для вас оказался открытием, и делитесь с другом: «Я, знаешь, познакомился с таким человеком, пойдем вместе, я и тебя познакомлю». А с Богом мы этого не делаем, мы Его бережем для себя: это мой Бог, я Его за пазухой буду держать. И поскольку мы не открываемся ближнему, люди не видят никакого сияния в наших глазах, в нашем лице, не улавливают никакой живой силы в наших словах.
Но я вам дам пример того, что бывает. Лет тридцать тому назад ко мне пришла девушка, говорит: «Наступает Великий пост, и я с ужасом думаю о том, что будет, потому что мои родители верующие и требуют, чтобы я причащалась на Пасху. Я не верую ни в Бога, ни в Христа, ни в таинства, ни в Церковь. Что мне делать?». Я говорю: «Ты больше не волнуйся. Если бы даже ты подошла, я тебя не причащу. Но давай разговаривать». И в течение всего поста она по пятницам ко мне приходила, и я, истощив все свое красноречие, ни в чем ее не убедил — как о стену горох. Вернее, нет: она стеной не была, а я, очевидно, был горохом. Я старался ее убедить, но не старался, видимо, что-то передать. Настала Великая пятница, и я знал, что ничего для нее не могу сделать. Когда она пришла, я сказал: «Знаешь, я ничего для тебя не могу сделать, если кто может, то только Бог. Пойдем в церковь, там лежит плащаница, я стану на колени и буду молиться, а ты делай, что хочешь». Я стал на колени, она сначала стояла на метр выше меня, потом ей сделалось неловко, и она тоже стала на колени. А я стоял, говорил: Господи, сделай что-нибудь, потому что я ничего не могу сделать!.. В какой-то момент мне пришла мысль, от которой мне очень страшно стало. Я ее спросил: «Для тебя важно или не важно найти Бога?». Она говорит: «Важно, потому что если Бога нет, то в жизни нет смысла, и я жизнь бессмысленно не могу воспринять». И тут я сказал: «Тогда я тебе от имени Божия обещаю, что если ты сделаешь то, что я тебе скажу, то в течение года ты найдешь Бога». (Это я сказал, я не хочу употребить слово «по вдохновению», потому что оно звучит слишком величественно, — а вспомните рассказ о том, как валаамова ослица увидела ангела на дороге, когда пророк его не видел, и заговорила, вот и я, как ослица, ей это сказал.) Но дальше она говорит: «А что мне делать?» — «Не знаю» — и продолжал молиться: «А теперь, Господи, скажи мне, потому что я-то ей обещал, а что дальше?». И в какой-то момент мне пришла мысль, от которой действительно стало жутко. Я ей сказал: «Я завтра служу Литургию. Ты подойди к причастию, но раньше чем причаститься, остановись и скажи: Господи, Твои священники Тебя предали, моя семья меня предала, Твоя Церковь ничем не помогла, а теперь я обращаюсь к Тебе, и если Ты не ответишь, то я уйду, но Ты за это будешь отвечать». Она говорит: «Если Бог есть, это кощунство!». Я сказал: «Да, но я буду за это отвечать». Она пришла, сказала, причастилась. Я потом уехал и через несколько дней получил от нее письмецо, где говорилось: «Я не знаю, есть ли Бог, но знаю достоверно, что я приобщилась не просто хлебу и вину, это было что-то иное». И это было для нее начало целого процесса обретения веры. Вот что бывает, если мы идем к Богу с болью в душе, с таким чувством, что это вопрос жизни или смерти, а не то что «на пробу»: вдруг да будет легче, или интереснее, или приятнее жить.
Вот это третий признак евхаристической общины: это община людей, которая получила величайший дар приобщенности, сумела отозваться от всей души благодарностью и теперь не может не переливаться чрез край. Не всегда словами, а просто тем, что живет по-иному: в ней есть правда, какой нет вокруг, есть чистота, какой нет вокруг, свет, которого нет вокруг, радость, надежда — все дары Святого Духа, которые перечислены в Послании к галатам (5, 22—23). Вот это наша роль. Апостол Павел говорит: Наше жительство на небесах (Флп 3:20), что один из шотландских переводчиков передал так: «Мы — авангард небесной армии». Но земные армии покоряют страну для того, чтобы ее поработить, а авангард небесной армии — это люди, которые посланы Богом на землю, чтобы ее превратить в рай, освободить от власти сатаны, от всего того, что ее делает плотью, что ее умаляет. Это люди, которые призваны выпустить пленников на свободу, по слову Исаии пророка, повторенному Христом; это евангелие читается в канун Нового года (Ис 61:1; Лк 4:18). Выпустить на свободу — вот наша роль. И в этом наша благодарность Богу, потому что быть только на словах благодарным, сказать: «Спасибо, Господи, я буду всегда помнить, как Ты добр!» — мало, от этого не оживает ни наша, ни чужая душа.
Значит, если говорить о евхаристической общине, то надо думать вот в этих разных планах: Церковь и дар Божий, Бог, Который Себя дает неограниченно, приобщает нас Своей жизни, включает нас в Божественную жизнь, радость и ответная благодарность, которая переливается через край. Вот тогда можно сказать: это евхаристическая община.
Но это не обязательно община людей, собранная видимым образом. Возьмите двенадцать апостолов. Они приобщились Святых Тайн, остались в Иерусалиме до дара Святого Духа и потом разошлись — и они были друг другу ближе, когда находились во всех краях света, чем мы, стоя плечо о плечо с нашим соседом в храме, потому что единственная абсолютная близость может быть тогда, когда мы так глубоко ушли в Бога, что в Нем, в глубинах Божиих встретили друг друга.
Ответы на вопросы
Можно ли нам — и как — использовать богатый запас святоотеческих наставлений и позднейших духовных наставников, применяя их к духовной жизни в семье? Когда христианская семья собирается на молитву, эта молитва может быть более или менее внимательна, более или менее глубока. Здесь проявляется не только грех каждого члена, но некая духовная разделенность…
У меня нет опыта семейной молитвы, поэтому я не могу об этом говорить прямо, но я уверен, что, для того чтобы можно было молиться вместе, надо тоже немножко молиться врозь. У каждого свой ритм: одни люди медленно молятся, другие быстро, если молиться вместе, надо держаться какой-то середины. Если каждый член семьи отдаст пять-десять минут тому, чтобы побыть с Богом и поговорить с Ним или своими словами, или словами святых, но своим темпом, потом можно слиться в одну молитву. Но если люди стараются молиться только вместе, то ритм бывает такой, который никому не принадлежит, и гораздо труднее войти в глубину.
Второе, чему, думаю, надо учиться, — это молчать в Божием присутствии и начинать молиться тогда, когда в тебе уже есть какая-то тишина, потому что молиться можно из глубины тишины, безмолвия; из суеты можно только говорить молитвенные слова. Конечно, Бог может совершить чудо, но речь не об этом. Надо употреблять свой ум и опыт для того, чтобы применять наставления, данные в пустыне, к городской пустыне. Иногда бывает гораздо более пустынно среди людей, чем когда никого нет.
Имеет ли смысл в Церкви перейти на русский язык, отказавшись от церковнославянского? Очень многие, как я замечала в храме, молятся механически, не понимая, кому молятся и что произносят.
Мне приходилось служить на разных языках, поэтому у меня есть какой-то опыт того, что происходит. Скажем, венчание в нашем храме мы совершали — пока! — на девяти языках. Мы всегда стараемся совершить таинство, которое обращено к одному человеку, на том языке, какой он понимает. Иногда приходится выучиться, как произносить тебе непонятные слова, смысл которых ты знаешь на славянском языке. Я думаю, это очень важно, чтобы люди понимали слова.
С другой стороны, не в одних словах дело. Помню, давным-давно, больше пятидесяти лет тому назад, я был руководителем в детском лагере, и мы решили сделать опыт, совершать службы на русском языке. После первой службы я спросил подростков, которыми я занимался: «Ну как, поняли?» — «Да нет, ничего не поняли особенного». — «Так ведь по-русски было!». Они даже не заметили. Тогда мы сделали другой опыт. Я им объяснил Литургию, то есть не только ее порядок, а значение, и потом мы отслужили Литургию на славянском языке,— они все поняли! Поэтому вопрос в том, чтобы иметь ключ к пониманию.
Конечно, есть вещи, которые можно было бы отлично служить на русском языке, и никто не заметил бы ничего, кроме того, что «ах, как понятно!». Скажем, когда я попал в Лондон, я «обрусил» немножко канон Андрея Критского, то есть те слова, которые никому не понятны, заменил русскими («тристаты» — «колесницами» и подобного рода вещи). И прихожане говорили: «Ах, отец Антоний, ты читаешь так ясно, что нам все понятно». Нововведения не заметили, заметили только, что понимают. И я думаю, что есть целый ряд вещей, которые можно было бы делать вот так исподволь, и они остались бы незамеченными.
Существуют совершенно разные подходы к проблеме зла, проблеме сатаны. Как верующий должен относиться к проявлению сатаны и диким зверствам, о которых мы знаем, что они творились и творятся? Зло в какой-то степени и в нас сидит внутри. Помимо молитвы — какой может быть интеллектуальный подход, какое представление?
У меня нет сомнения, что существует дьявол, что это реальная личность, а не просто как бы разлившаяся по миру зараза. Я не верю, что зло может быть иначе как личное, потому что если оно не личное, то оно сотворено Богом, нет другого выхода. Это падшая тварь. Для меня совершенно нет в этом проблемы, просто потому, что я это пережил лично раз или два с такой силой, что никакого сомнения нет.
Когда лет в пятнадцать я впервые обнаружил, что Бог существует, и начал молиться (мне подарили молитвенник, который я с большим трудом читал, потому что по-славянски не умел читать), я стоял на коленях, и был такой ужас: я чувствовал, что надо мной вот так висит присутствие сатаны и что-то мне говорит (знаете, как в гоголевском рассказе о Вие): не оглядывайся, только молись… Это же я переживал, уже став священником, когда ежегодно в течение нескольких лет совершал панихиду по одному определенному человеку, который действительно был погружен в зло. Всякий раз, что я совершал эту панихиду, было чувство, что вот-вот накинется, и что-то мне говорило: молись, не поворачивайся, не думай ни о чем, только совершай панихиду… Поэтому у меня лично, как бы кровно есть убеждение в том, что существует дьявол, а не то что неопределенное зло.
С другой стороны, вы наверно помните у Достоевского слова старца Зосимы: Не говори, что люди злы, — люди хорошие, а нехорошо поступали. И я глубоко убежден, что человек злой или творящий зло является жертвой (так же как человек может заразиться какой-нибудь болезнью) какой-то силы. Мы можем ненавидеть зло, мы можем с ужасом думать о том, что такая мера зла овладела человеком, но не имеем права сказать, что этот человек и зло совпадают, что он зол. Есть высказывание французского писателя Сартра: мы не должны говорить, что Иуда предатель, потому что он предал Христа, — он предал Христа, потому что был предателем… Вот это ужас, этого мы не имеем права говорить, потому что это означает, что человек есть зло, то есть сатана, в конечном итоге. Этого я не видел за довольно-таки долгую теперь жизнь. Я видел людей самого разного рода и в мирное время, и на войне, и я не встречал ни одного человека, о ком можно было сказать: он совпадает с тем злом, которое делает. В результате этого, когда мы встречаемся со злом, мы можем смотреть на творящего зло как на жертву, которая требует сострадания и молитвы.
Как это объяснить человеку? Я думаю, что если человек не знает чего-нибудь вовсе, ему не объяснишь. Как действует зло в нас? Оно пользуется всем, что удобосовратимо в нас, чтобы это совращать. Любая страсть, любое злое чувство может быть вздуто.
С другой стороны, я думаю, не всегда верно упрекать сатану в том неладном, что мы делаем. Есть рассказ в жизни кого-то из Оптинских старцев: он идет по дорожке, видит, что на заборе сидит бес и болтает ногами. Старец спрашивает: что ты делаешь? разве мало тебе работы на земле? А бес ему отвечает: я теперь могу отдохнуть, люди всю работу сами за меня делают. Есть тоже рассказ о том, как монах варил яйцо на свече. Вошел игумен, монах в ужасе уронил яйцо (потому что был пост, значит, не до яйца было), пал на колени перед игуменом: бес меня смутил! А из-за печки чертенок высунулся, отзывается: он врет, батюшка, я никогда не видел, как варят яйцо на свечах, и все смотрел, что дальше будет.
Современное евхаристическое движение породило и новую форму подготовки к принятию Святых Тайн. Очень интересно было бы послушать ваше мнение, ваше суждение на этот счет, потому что традиционные святоотеческие формы, замечательные и глубокие, не всегда исполнимы. Конечно, это может быть по моей немощи…
Вопрос для меня опасный, потому что у меня очень определенные взгляды на это, но вы, может, меня за них осудите, назовете неправославным и чем угодно.
Во-первых, я глубоко убежден, что исповедь и причащение — два различных таинства, которые должны быть употребляемы, если можно так выразиться, как таковые, а не в условие одно другому. Древняя Церковь говорила об исповеди как о бане очищения, о причащении — как о пище. И вот если представить вещи в таком порядке: я работаю в поле, вернулся, весь запачкан. Перед тем как к столу идти, я должен вымыться. Но иногда бывает, что я так устал, что не в состоянии ничего сделать, пока чего-нибудь не перекушу. И вот между этими двумя гранями надо принимать решение. Иногда человеку нужно приобщиться, иногда ему нужно омыться. Результат обязательной исповеди перед причастием тот, что исповедь измельчала. То есть люди приходят, потому что хотят причаститься, и исповедуют, что только могут найти, чтобы удовлетворить священника (знаете, как бросают кость собаке, чтобы она грызла, пока ты пройдешь мимо): «Ты, батя, повозись с моими грехами, а я прошмыгну к причастию». И получается, что взрослый человек исповедуется, будто ему шесть лет, или исповедуется так (когда я в Лондон попал, были такие, потом перестали): «Всем, батюшка, грешен, всем грешна». «То есть как — всем грешна?» — «Да, да, всем». «Вы что, воровка?» — «Батюшка, как вы смеете так думать?!» — «А вы, в вашем возрасте, совершаете прелюбодеяние?» — «Батюшка! Как вы смеете!» — «Я только говорю о десяти заповедях, а есть масса другого». — «Нет, ничего такого не делала». — «Значит, вы лжете, когда говорите, что всем грешны. Идите-ка домой и подумайте». После того как у меня поисповедовались некоторое время, люди перестали говорить «всем грешна».
Исповедь должна быть сугубо личная. Есть грехи, которые тебя могут убить, а меня не убьют, и наоборот. Кроме того, нет грехов больших и малых. Я помню два случая времен войны, которые меня очень поразили. Один из наших офицеров шесть раз выходил за ранеными из укрытия, его прошило пулеметом, казалось бы, ему только умереть осталось. Оказалось, что ни сердце не тронуто, ни главные сосуды, он выжил. И в тот же период — молодой солдатик пошел в кабак, поссорился с кем-то, тот его пырнул маленьким перочинным ножиком, но пырнул-то в шею и разрезал один из главных сосудов. Он чуть не умер, пока его везли в больницу. Казалось бы, тяжелый пулемет — это смертный грех, перочинный ножик — ничто. И вот перочинный ножик мог его убить, пулемет — не убил. Нам надо быть очень осторожными, мы не имеем права говорить: «Это ничтожный грех, сойдет». В тот момент, когда ты говоришь «сойдет», оно уже не сошло, ты глубоко ранен.
Поэтому исповедь должна быть личная, серьезная, не по трафаретке, то есть надо говорить о том, что ты считаешь греховным, а не то, что считает греховным батюшка или кто-то другой. Разумеется, надо учиться чуткости из Евангелия, из общения с людьми и т. д., но исповедь должна быть личная: я себя чувствую виноватым в том или другом. Это очень важно. И если так исповедоваться, тогда грех может сойти с души, тогда действительно мы можем каяться в одном-единственном грехе сегодня, а другой раз — в другом грехе. Но чтобы это было глубоко и искренне.
А причащение, если держаться образа, который я дал раньше, — это пища. Если ты действительно голоден, иди к столу, но не иди лакомкой, не надо идти к столу, потому что «может быть, там что-нибудь найдется приятное». Надо с голоду идти или же с порывом души. Знаете, как бывает: ребенок играет в саду или на улице, и вдруг ему до отчаяния захотелось маму поцеловать. Он бежит, лезет ей на колени, обнимает и целует, потому что у него такой порыв. Если мама дура, она его останавливает: «Не тронь меня, ты же видишь, у меня белое платье, а у тебя грязные руки». Если она умная, она даст ему вылить свою душу в этом поцелуе и переменит платье. Вот, мне кажется, как к причастию надо подходить, но очень серьезно. Потому что, как я раньше говорил, причаститься Святых Тайн значит соединиться со Христом, и дальше твое тело — Христово тело, твои мысли — Христовы мысли, движения твоего сердца — движения Христовы, твоя воля должна быть Христова воля. Разумеется, не в совершенной мере, но мы уже не имеем права считать себя как бы независимыми от Христа. Как говорил апостол Павел: неужели я возьму члены Христовы и сделаю их членами блудницы? (1 Кор 6:15). В широком смысле блуд — все то, что чуждо Христу. Ты приобщился, значит, ты святыня— смотри! Конечно, никто из нас долго не выдерживает, но принципиально мы должны относиться именно так.
Исповедь, как она у нас принята, все-таки нововведение. В Древней Руси исповедовались у своего духовника, который решал, пойдешь ты к причастию или нет. В Англии, где я сам готовил всех священников к рукоположению, мы так поступаем: человек приходит исповедоваться, и после исповеди священник иногда говорит: «Я тебе не могу дать разрешительную молитву, потому что исповедь твоя несерьезна, иди домой, придешь в другой раз». Иногда священник скажет: «Твоя исповедь незрела, но единственное, что тебе может помочь, это причащение; пойди, причащайся сердцем сокрушенным, зная, что ты никакого права на это не имеешь, но идешь, потому что в этом — единственное твое спасение». В другом случае можно сказать: «Да, твоя исповедь очень серьезна, я тебе дам разрешительную молитву, ходи к причастию в течение нескольких недель, но если появится в твоей душе какая-то шероховатость, то перестань». Конечно, это может быть сказано более зрелому человеку, но должна быть некоторая свобода, исповедь — не механический акт. Дать разрешительную молитву человеку, который не кается, бессмысленно, она не распространяется автоматически на грехи, которые ты не сознаешь и не исповедуешь.
А насчет частоты причащения трудно сказать. Есть люди, которые причащаются раз в месяц, есть такие, кто причащается раз в год, есть немногие, кто причащается чаще чем раз в месяц, но под наблюдением духовника, а не потому что «мне вздумалось».
Церковная община
I
Говорить о том, к чему устремлен, но чего еще не достиг, довольно трудно. В этом, мне кажется, одна из больших проблем для нас, когда мы говорим на тему общины, говорим об общине в ее реальности, будь то в христианстве или в любом обществе. То, к чему мы устремлены, к чему идем как бы ощупью, всегда больше уже достигнутого, и мы идем, не основываясь на полном знании цели, а устремляясь к еще не достигнутому. Это относится, мне кажется, к абсолютно любой общине, и с этим следует считаться, в противном случае мы создаем воображаемые образы. Можно идеализировать общину, которую считаешь родной себе, или, наоборот, прийти в полное уныние, глядя на ту общину, которой принадлежишь и которая так далека от наших устремлений или идеалов. Говоря о христианской общине, замечу попутно, что образ ее — Сам Бог, Единый во Святой Троице, для христианской общины нет и не может быть другого образца. И это ясно указывает на то, что как бы близко ни подошла к своей цели группа людей, которые были связаны между собой какое-то время, или весь христианский мир в целом, мы никогда не достигнем цели и всегда недостаточны. Однако если не помнить постоянно, что община считает своим идеальным образцом, какой видит свою конечную цель, нам не на что опереться, у нас нет ни точной цели, ни определенного образца, к которому мы устремлены.
Сейчас я не буду говорить об этом идеальном образце, но хотел бы затронуть этот вопрос (к которому надеюсь вернуться в следующей беседе) в ряде замечаний о конкретной ситуации. И эта конкретная ситуация — не приход, к которому я принадлежу, даже не его узкое окружение: то, о чем я думаю, что наблюдаю, относится к более широкой области.
Несколько лет тому назад на конференции в Боссе, организованной Всемирным Советом Церквей, один из участников прочитал доклад под названием «Церковь, общество целительное — и больное». Начнем с этого определения, потому что мне кажется, что в таком определении Церкви много правды. Сравнение, которое сразу приходит мне на мысль, это общество «Анонимных алкоголиков». И тут следует отметить, что мы во многом уступаем «Анонимным алкоголикам», потому что мы, подобно его членам, несомненно больны, но на человеческом плане — я не говорю о таинствах и их действенности, о Божественном действии как таковом, на уровне нашего человеческого вклада мы уступаем «Анонимным алкоголикам». И тому я вижу две причины.
Первая заключается в том, что каждый член «Анонимных алкоголиков» знает о себе, что он пьяница, надеется сохранить анонимность, но совершенно несомненно знает, что нуждается в исцелении. Беда нас, христиан, в том, что мы очень редко думаем, что нуждаемся в исцелении. Мы нетрезвы, мы опьянены очень многим, что можно назвать, с одной стороны, миром сим, с другой — ложной церковностью. Мы опьянены, мы отравлены нетрезвостью, но не сознаем этого, и потому нам очень трудно действительно исцелиться хоть сколько-то. Правда, есть в христианском мире группы, которые больше, чем другие, приближаются к такому сознанию. Например, во всем мире совершенно исчезла способность и обычай публично признать, что есть недолжного в твоей жизни или что было в ней недолжного в прошлом. Когда человек становится «достойным членом» своего прихода, своего христианского круга, группы, он обычно изо всех сил старается скрыть, что его прошлое, возможно, весьма неприглядно или отвратительно. Существуют лишь редкие группы людей, в которых сохранилось представление, что человек может раскрыть свое прошлое, пусть и очень постыдное, и сказать: «Это свидетельство к славе Божией. Вот чем я был, вот каким я был, я низко пал, увяз, но Бог вытащил меня». Я не хочу сказать, что и в этом направлении не бывает нездоровых крайностей. Мы ухитряемся проявлять признаки нездоровья, поступать нездраво во всем, что бы мы ни делали. Часто публичное признание в своих прошлых грехах становится эксгибиционизмом. И тем не менее неоспоримо: пока мы не готовы признать, что наше прошлое постыдно и что настал момент, когда мы переросли это прошлое, трудно надеяться, что в общине мы будем восприняты как исцеленные и что община будет восприниматься как целительная. Если мы всеми силами стараемся не показать, что наше прошлое было дурно, мы просто собираемся вместе, каждый со своими сокрытыми болезнями, и тратим массу времени на то, чтобы казаться здоровыми и цельными, тогда как мы и нездоровы и не имеем цельности.
А второе наше отличие от «Анонимных алкоголиков»: мы не только не признаемся в том, что больны и нуждаемся в исцелении. Нет, первой заботой общины как таковой не является исцеление ее членов. Я говорю не о принципе, я говорю не о Церкви как таковой. Я говорю о конкретных человеческих группах, будь то приход, или другие малые группы, или большие объединения. Вот что может быть делом Церкви, может быть делом священнослужителей, может быть делом малой группы внутри большей группы: излечить паршивую овцу, учитывая, во-первых, что есть различие между здоровыми овцами и больными, овцами беленькими и черненькими. А во-вторых, не должно быть такого положения, когда небольшая группа специально посвящает себя тому, чтобы перевоспитать паршивых овец. Это должно быть самой жизнью и делом всей группы в целом, именно — жизнью, а не «делом», которым должна заниматься группа, как бы «чистить» друг друга. Знаете, как на картинке в детской книжке можно видеть обезьян, которые стоят в ряд и ищут блох, так что каждая занята обезьяной, стоящей впереди, а ею занимается та, что стоит сзади. Речь не о том, чтобы заниматься такой взаимополезной «деятельностью». Речь о том, чтобы в общине была такая интенсивность, глубина жизни, которая позволит каждому ее члену ожить, приобрести цельность, вырасти в полную свою меру, чего он не мог бы достичь иначе. Так что в этом отношении, хотя каждый из нас болен, хотя вся обстановка нездорова, но поскольку мы не признаемся, что больны и что у нас есть нужда и возможность разделить это состояние с другими, мы далеко не столь эффективны, как «Анонимные алкоголики».
Есть и еще одно, что, как мне кажется, осложняет проблему. Это иллюзия, будто, как только мы вошли в Церковь, находимся в ней, мы в безопасности. Мы представляем Церковь в образе (о чем говорили уже отцы, образ этот вполне законный и сейчас) Ноева ковчега. Мы внутри, дверь закрыта, и нам не угрожает то, что снаружи. На деле все не так спокойно и просто. Да, Ноев ковчег — образ Церкви в том смысле, что снаружи — смерть, внутри — жизнь, внутри — спасающая воля Божия и т. д. Но Церковь отличается от ковчега в том отношении, что невозможно оказаться в нем раз и навсегда, попасть в соответствующую клетку — и я говорю о клетках, потому что совершенно очевидно, что за долгие месяцы дождя и потопа некоторые звери были готовы съесть других ради пищи или от скуки. Все не так просто. Церковь — странное место в том смысле, что в нее не рождаются. Можно родиться в христианской семье, но это еще не делает человека автоматически членом Церкви: членом Церкви становишься после некоего события и решения. Событие состоит в том, что в течение своей жизни ты тем или иным образом обнаруживаешь Бога, отводишь Ему законное место и значение, придаешь Ему высшую ценность и упорядочиваешь свою жизнь в соответствии с этим знанием или вокруг этого знания. И второе событие — что Бог принимает нас и совершает над нами нечто. Здесь, с одной стороны, инициатива Божия, предваряющая нас, идущая нам навстречу, но также и многосложное событие, которое называют таинствами инициации, то есть действиями Божиими, через которые зачинается в нас новая жизнь. Ранняя Церковь говорила об этих таинствах инициации как о Крещении, даровании Святого Духа и первом Причащении Святых Тайн. Это было началом новой жизни в новом взаимоотношении и с Богом, и с каждым, кто также прошел через этот опыт, и с внешним миром, который не прошел через это опыт, но для которого Церковь была как бы центром.
Мы часто — к сожалению, слишком часто — воображаем, будто достаточно того, что произошли некие внешние события, чтобы все совершилось. Из Священного Писания мы видим, что Крещение означает умирание со Христом и восстание с Ним. Это выражалось и до сих пор выражается тем, что оглашенный погружается в крещальные воды и выходит из них. Но если этим все ограничивается, если то, что совершилось, не пронизывает сознание и чувство крещаемого на всех уровнях как опыт умирания и восстания настолько реального, что какие-то вещи становятся чуждыми, а другие становятся реальными, тогда это семя было посеяно, но не дало ростка.
Потому в ранней Церкви можно было говорить о Крещении намерением, то есть о тех людях, которые не смогли принять Крещение de facto, но страстно желали его и пережили весь тот внутренний опыт, который соответствует этому желанию, — опыт любви, веры, надежды, умирания, погружения в Бога, возвращения к новой жизни. Это не просто туманное желание, это целый внутренний процесс в человеке. Так что следует понять, насколько справедливо и истинно древнее изречение блаженного Августина, что не все те принадлежат Церкви, кто видимо является ее членом, и не все те, кто видимо находится вне Церкви, действительно не принадлежат к ней. Членом Церкви не становишься просто через совершение обряда, если ничего не происходит внутри нас. Я употребил слово «обряд» не случайно, потому что если внутри нас ничего не происходит, мы относимся к таинству как к магическому ритуальному действию, а не как к Божественному действию в пределах свободного взаимоотношения и сотрудничества между Богом и человеком.
И кроме того, необязательно остаешься членом Церкви просто потому, что вошел в нее. Да, внешне ты — член видимой общины. Но быть Церковью, принадлежать к ней — подразумевает гораздо больше. Вы наверно помните, что ранняя Церковь, где так живо переживались человеческая общность и единство с Богом, считала, что некоторые грехи отсекали человека от Церкви и от Бога и что только действием как бы двойной реинтеграции в общину и в Бога происходило воссоединение, не просто односторонним действием, обращенным или к общине, или к Богу. Так что в этом отношении Церковь — странное общество: это община, в которую надо войти, но на условиях, которые определяет, утверждает только Сам Бог и от которой при некоторых условиях можно отпасть, стать чуждым ей.
У Церкви, опять же как у общества целительного и больного одновременно, есть еще одна сторона. Она — эмпирическое общество, которое можно наблюдать на земле, в истории, как большое общество или малые группы, и потому она может быть предметом исторического, психологического, социологического и другого рода исследований. И одновременно это общество трансцендентно истории, равно как Христос трансцендентен истории. Этими словами я хочу подчеркнуть, что когда Бог стал человеком в момент Воплощения, в дни земной жизни Христа, то в Лице Сына Божия, ставшего Сыном человеческим, Бог полностью вошел в человеческую историю. Можно сказать, что, становясь человеком, принимая плоть, Слово Божие вошло неотъемлемой частью во всю реальность времени, пространства и становления. Но вместе с тем Этот Сын человеческий не ограничен рамками времени, и пространства, и становления, не только потому что Он одновременно Бог, но потому что и в Своем человечестве Он уже соединен с Богом, и человечество Христа на земле уже принадлежит не только дням Его телесного бытия, но и эсхатологическому времени, то есть времени, когда все достигнет своей полноты, исполнения. Человечество Христово принадлежит определенному историческому моменту и одновременно завершению всего.
И, с другой стороны, можно сказать, что человечество Христово современно всем историческим эпохам, потому что воскресший Христос — все еще Иисус, восставший из мертвых и живой в плоти, преображающийся и воскресающий каждый день, пока не придет последнее исполнение всего. И невозможно отделить Христа от Церкви. В этом отношении Церковь одновременно принадлежит истории, подвержена влиянию всех эмпирических условий века сего, и вместе с тем принадлежит будущему веку, является эсхатологическим присутствием — и не только в Лице Христа. Однако по отношению ко Христу это также следует хорошо осмыслить. Христос — Первенец мертвых. Он — первый член Церкви, первый человек, достигший полноты, единственное подлинное и полное откровение того, чем человек призван быть и чем потенциально является. Во Христе человек действительно, реально стал Человеком. Так что когда мы говорим о Церкви, мы видим внутри Церкви одного Человека, Который уже — Человек будущего века. И невозможно, говоря о Церкви, обойти это измерение, которое за пределами времени, истории и становления переходит в уже исполнившуюся, достигнутую завершенность. Но и в нас тоже, как составных частях грядущего Царства Божия, в нас, при том что мы в становлении, есть аспект, который уже выходит за рамки становления и конечности, времени и пространства. Но это — при условии, что мы действительно, поистине привиты ко Христу, действительно соединены с Ним. Соединены с Ним не только эмоциями, нашей недостаточной верой, несбыточной будто надеждой, любовью, о которой сами понимаем, насколько она слаба, но соединены гораздо более реально — открытостью Богу, на которую Бог отзывается конкретным действием, изменяющим нас глубинно по отношению к Нему и по отношению ко всему миру. Мы часто сами недостаточно сознаем глубину и размах этого события, но оно таково, и это порой можно увидеть, заметить в других людях, а иногда даже в нас самих.
Так что когда мы говорим о Церкви как обществе одновременно целительном и больном, мы можем видеть его в более широком контексте. Оно больное, потому что больны мы: мы все больны болезнью, имя которой — смертность. А смертность означает, что мы, так сказать, обезбожены, оторваны от Бога, не имеем корней в Нем. С другой стороны, в Церкви мы опытно переживаем укорененность в Боге, присутствие Божие и наше присутствие в Нем, в ней есть жизнь, которая не просто более совершенная форма человеческой жизни, если под «человеческой» понимать биологическую, психологическую и другие стороны жизни. Это жизнь, в которой присутствует животворный Дух Божий, Он встречается с духом человека, способного на такую встречу и такую жизнь. Мне кажется, очень важно нам осознавать эти два полюса нашего бытия. С одной стороны, в нас действует смерть, потому что через грех, греховность, означающую рознь, разделение от Бога и от человека, мы все еще чужды Царствию, а с другой стороны, мы укорены в вечной жизни.
А эта вечная жизнь — не предмет, не природная жизнь, а Некто. Если вы возьмете Откровение Иоанна Богослова (мне на это указали, это никак не мое собственное открытие), вы увидите, что слово конец, греческое эсхатон, которое грамматически должно быть среднего рода, там употребляется в мужском роде. Это указывает на то, что конец — не что-то, а Кто-то, Сам Бог. А это в корне меняет наше положение, потому что только изнутри личных отношений и личной взаимосвязи с Богом можем мы начинать думать о какой бы то ни было взаимосвязи с человеком, будь то в группе или в обществе.
Постольку поскольку мы больны, смертны, отделены друг от друга, внутренне разбиты и в нас сталкиваются противоположные воли, желания, стремления и т. д., — в опыте Церкви есть как бы устремленность к общинной жизни, которая присуща всему, что не цельно, разбито и неполно. Это желание сблизиться, дополнить и восполнить друг друга в нашей нищете и убожестве. Можно держаться вместе по страху или одиночеству, по ненависти к окружению, по страданию от внутренней сломленности, по жадности к тому, что может дать такой общий порыв, — это все лишь примеры. Так создается община людей, которые собираются, чтобы, так сказать, облегчить свое одиночество, разделить его с другими. Разбитые кусочки целого стараются поддержать друг друга, и это вполне законно. Это более чем законно, пока кусочки сознают свою разбитость, сознают, что они лишь части, осколки, что они оказались вместе, потому что ищут полноты, которой не могут найти в себе, и нуждаются в исцелении по всем этим причинам. В этом отношении они разделяют общее положение общества, где люди раздроблены внутренне, внешне, разделены между собой, и они подобны «Анонимным алкоголикам», если только понимают, что это означает.
Но в результате создается представление, будто община состоит из людей, которые не могут выжить поодиночке, они недостаточно укоренены в, скажем так, в Боге, в вечной жизни, в полноте завершенности, и не могут расстаться, потому что расставание означает одиночество и страдание от одиночества. Они стремятся держаться вместе по каким-то объединяющим признакам, будь то религиозным, богословским, политическим, эмоциональным, литературным или другим убеждениям и наклонностям. И создав группу близких между собой людей (в случае церковных людей это будет деноминация, приход, община), молодежную группу, любую группу людей чем-то сближенных и которых держит вместе что-то общее, они будут стараться иметь как можно более полноценную общую жизнь. То есть они создадут общество внутри общества, общество, которое не только позволит им совместно поклоняться общему Богу, единому Богу, но и обеспечит всеми формами человеческой деятельности, и этим они как бы обезопасят себя. Такого рода сообщество позволяет осуществлять все, что представляется богатством человеческих взаимоотношений, оградившись от внешнего мира, без риска отколоться один от другого и оказаться в одиночку (в зависимости от нашего опыта, с Богом или без Него) перед лицом того, что есть вне.
Если мы посмотрим на раннюю Церковь, мы увидим, что и ей не было чуждо такое ощущение: стремление, вернее, радость быть вместе, но у ранней Церкви было еще одно свойство, которого нет у нас, по крайней мере, нет в такой степени: открытость. Не в том смысле, что сколько угодно близких людей могли собраться вместе, — открытость эта побуждала членов общины идти вовне и нести все богатство общины, всю полноту жизни, принадлежащую общине, тем людям, у которых этого нет, кто чужд этому, кто порой противится этому.
Первая черта такой общины — та, что ее члены ликуют о том, что они вместе (я не говорю: которым «приятно» быть вместе, потому что ликование ранних христиан, мне кажется, намного превосходит такую «приятность»). Ранние христиане ликовали о том, что они вместе. Если вы подумаете о ситуации, например, ранней Иерусалимской общины, ее составляли люди, у которых был личный опыт Бога, открывшегося во Христе, которые видели все последствия такого откровения, видели, чего стоила Иисусу из Назарета Его полная верность Богу и человеку, полная солидарность и с Богом, и с человеком. Эти люди были готовы следовать тому примеру, какой Бог дал им в Иисусе Христе, показав, что такое человек и каково положение в мире, ставшем безбожным. Они были рассеяны в очень небольшой местности, в Иерусалиме, но принадлежали к семьям, где одни члены входили в Церковь, другие нет, где было напряжение, где был антагонизм, и они также принадлежали более широкому обществу, где их подстерегала ненависть и физическая опасность. Когда они встречались группой, где каждый знал, что любой ее член разделяет его веру, его надежду, опасности, преданность, любовь к Богу и, как следствие, к человеку — да, они могли чувствовать, что нет в мире более близких им людей и что на них как членах этой группы большая взаимная ответственность, потому что по отношению к более широкому обществу вокруг они были изгоями, пусть и в разной степени. Одних приводили на судилище, других прямо били или побивали камнями, некоторым приходилось нести тяготу разделений в семье или в более широком кругу племени или народа. Но они собирались и чувствовали и ответственность, и поддержку. Это видно из книги Деяний апостольских: избрание дьяконов, в котором воплотилась конкретная, вдумчиво-творческая забота общины о самых слабых и бедных и обездоленных ее членах, и то, что все материальное имущество было общим (Деян 6:3—4; 2:44).
Но есть и другая сторона. Эти люди продолжали жить в обычной среде и не старались создать нечто обособленное. Они продолжали ходить на молитву в храм, который в лице первосвященника отвергал их. Они по-прежнему чувствовали, что принадлежат к широкому обществу, которое отвергает их. Когда пришло время гонений, чувство единства малой гонимой общины стало еще глубже и сильнее, но и чувство связи с внешним миром не пропало. Была взаимная забота внутри общины, была и забота о внешних. Мне кажется, ни в какой момент ранняя Церковь не старалась стать самодостаточной. Ранняя Церковь провозглашала, что хочет быть частью общества, и в этом, возможно, состояла главная проблема. Потому что одновременно с ранней христианской общиной существовали другие религиозные организации, мистериальные группы, мистические секты, но они готовы были замкнуться в самих себе, сосредоточиться на собственном культе или инициациях. Церковь же изначально, с периода преследований заявляла через апологетов свое право существовать и утверждала, что хотя в некоторых отношениях она чужда обществу, но по существу она в самой сердцевине общества. Она была чужда обществу тем, что с самого начала объявила, что знает одного только Господа — Иисуса, одного Царя — Иисуса, одно царство — Царство Божие. И возникало напряжение, потому что совершенно очевидно это означало нелояльность земному царству, земному царю, земным господам. И верующие во Христа не могли объяснить — потому что понять это можно, только будучи внутри Церкви, извне это не понятно, — что для того, чтобы быть лояльным земле, надо быть совершенно преданным небу, что лишь если вы признаете одного только Господа — Бога истории, Бога небеси и земли, Спасителя мира, вы остаетесь, вернее, становитесь полностью и истинно верными земному строю, которому принадлежите. Церковь в тот момент требовала права принадлежать обществу, а мир говорил ей: «Занимайся своими молитвами, занимайся ими втайне, пусть они будут потаенными, не пересекаются с внешней жизнью. Почитай наших богов, поклоняйся императору, признай, что обязана ему полной преданностью». А в ответ Церковь говорила: «Нет. Мой Царь — Господь всего. Но я требую права быть лояльным гражданином». В этом смысле эта небольшая община с самого начала отказалась замкнуться на себе, отказывалась существовать ради себя самой и сама по себе, отказывалась стать такой религиозной организацией, какой хотели бы видеть Церковь некоторые тоталитарные правительства: обществом внутри общества, где все было бы организовано так, что можно было бы игнорировать внешний мир.
С другой стороны, с самого начала не только в сердцевине жизни Церкви была вдохновляющая, глубокая, животворная радость общинной жизни ее членов совместно с Богом. Но эта радость была направлена на весь внешний мир, потому что в вечер Своего Воскресения Христос дохнул на Своих учеников со словами: Примите Духа Святого, и следующие Его слова были: Как Меня послал Отец, так Я посылаю вас (Ин 20:21—22). Он не сказал им: «Я теперь составляю из вас тесный круг людей, у которых все Царство внутри и в вашем кругу». Нет, Он сказал: «Разорвите этот круг, откройтесь, выйдите вовне, идите и принесите Царствие везде и всем».
И это, мне кажется, очень существенно, если мы хотим понять, что как бы нам ни была дорога радость быть вместе, общая молитва, чувство, что мы, каждый и все вместе, охвачены одной Божией истиной, одной жизнью — жизнью Божественной в нас, что благодаря нашей общности мы незаметно вырастаем в новую глубину любви, превосходящую отношения земной любви, — что хотя все это так, есть еще нечто. Любовь Божия живет в наших церковных общинах и в наших сердцах и повелевает нам идти, оставить гору Преображения, чтобы сойти в долину, оставить радость божественной и человеческой дружбы, присутствия, идти к тем, кто все еще в той или иной мере остаются вне. И община не дробится тем, что те или другие ее члены отсутствуют, потому что такое единство жизни — это сама жизнь Божия, исполняющая всех, кто тут есть и кто отсутствует. И мне кажется, нам следует задуматься над разницей между стадным чувством, которое заставляет людей держаться вместе, потому что им одиноко, тревожно, страшно, убого и т. д., и самоощущением общины, которая радуется своему единству, даже когда она рассеяна, и видит откровение Царствия, когда она вновь собрана на молитвенное действо, где Первосвященник — Сам Господь Иисус Христос, где действует сила Духа Святого. Такая община собрана на молитву, которая обращена к Отцу в таинстве Церкви, а сама она предстает уже не просто исторической общиной, ограниченной временем и пространством, но общиной, которая вплетена в историю, но выходит за ее пределы как явление Будущего Века.
Вот несколько отрывочное вступление, какое я хотел сделать к получасовому обсуждению, которое мы сейчас можем себе позволить, и к тому, что я хотел бы сказать в следующий раз относительно общины в ее связи с Богом Единым в Троице, подлинным образцом человеческого общества и, в частности, Церкви.
Ответы на вопросы
Поясните вашу мысль о том, что ранняя Церковь была более тесно связана с миром, чем мы сейчас…
Я не хотел сказать, будто мы недостаточно принадлежим миру, как и то, будто мы все, лично, индивидуально или как сообщества, не вовлечены в мирскую жизнь и не испытываем сильного ее влияния. Я имел в виду, что если взять среднего христианина, у него чувство, что он принадлежит к избранному меньшинству, малому стаду Божию, а дальше внешний мир, отношения с которым могут строиться по принципу завоевания или разрушения одного другим. Мне кажется, это взаимоотношение гораздо богаче. Не то что Церковь принимала бы мирские ценности или мир принимал то, что дорого Церкви хотя бы формально, — Церковь могла бы принести в мир ценности, надежду, веру и т. д., которые у нее должны быть, которыми она обладает, чтобы мир загорелся новой жизнью. Это не два враждебных лагеря. На примере апостольской проповеди мне кажется, что апостолы вышли в мир, потому что их сердце было так полно веры Божией в человека, так полно любви Божией к человеку, так полно надежды и убежденности, что их проповедь даст людям жизнь и радость и будет воспринята. Они вышли в мир поделиться тем, что переполняло их самих. И, увы, мне не кажется, что сегодняшние христиане в целом таковы. С одной стороны, я не уверен, что мы так интенсивно переживаем полноту, избыток радости о том, что столько нам дано, что мы можем этим делиться, не опасаясь потерять, потому что перед нами невообразимые глубины жизни. С другой стороны, мы относимся к миру как бы с большой подозрительностью. У нас будто нет веры в человека и радостной готовности делиться, какие были у ранней Церкви. Может быть, я ошибаюсь, но таково мое впечатление. Очень часто, когда читаешь писания миссионеров, в целом они звучат: «У меня истина, я насажу ее среди вас», а не: «У меня такая радость, я хочу вас заразить ею. Я жив с такой интенсивностью, что хочу с вами поделится этим». Возможно, у меня недостает чуткости, но для меня это не очевидно.
Мне все-таки представляется, что у ранних христиан было очень сильно чувство отличия от окружающего мира…
Мне кажется, что у апостолов как иудеев было чувство инаковости по меньшей мере по одной линии: избранный народ и языческий мир. И, как ни невероятно, это было преодолено с самого начала. И если взять напряженные отношения между фарисеями, саддукеями и т. д. — и среди них была разделенность, может быть, не в той мере, в какой мы ухитряемся быть разделенными во Христе, но разделение было. Но я думаю, важно то, что апостолы преодолели эту главную пропасть и признали, что все народы одной крови, все принадлежат Богу, и они вышли в мир ко всем людям, потому что все они принадлежат Богу. И я думаю, что это замечательно для тогдашнего времени. Вспомните, как Петр и Павел разошлись во мнениях относительно язычников (Деян 11; 15), как страшно было тогда идти в языческий мир: правильно ли, так сказать, обращать их сразу в христианство, не делая их сначала прозелитами, иудеями?
Нет ли разницы в этом отношении между священником и мирянином? Священник прямо призван вести людей в иной мир, он должен быть менее, чем мирянин, вовлечен в мир сей. И по поводу радости: радость сам в себе не создашь, она иногда дается, но в целом и сам живешь без радости. Как же делиться тем, чего не имеешь сам?
Я согласен с вами, что священники больше, чем миряне, оторваны в своей повседневной деятельности от не-христиан, именно поэтому я с большим сомнением — чтобы не сказать отрицанием — отношусь к идее, будто христианские общины должны стараться быть самодостаточными и удовлетворять любые нужды своих членов во всех областях: культуры, досуга и т. д. Потому что я думаю, что мы не должны отделяться в том, что не является глубинным различием. Например, богослужение коренным образом отличает нас от тех людей, кому богослужение чуждо. Наша вера во Христа глубинно отличает нас от тех, кто активно отвергает Христа. Вот два примера, где не может быть общей жизни, хотя есть точка соприкосновения. И я думаю, очень важно, чтобы христиане действовали сообща во всем, что составляет именно специфику их жизни, и действовали совместно со всеми другими людьми во всем остальном.
Что касается второго пункта вашего вопроса (как быть с отсутствием у нас радости, она ведь дар свыше и т. д.), я думаю, что, с одной стороны, радость, конечно, дар, но, с другой стороны, мне не кажется, что этот дар сегодня дается скупее, чем в те дни. Но принимаем ли мы его? Как мы с ним обходимся? Это ярко выступает в ранней Церкви или среди людей, которые были язычниками и стали христианами или были неверующими и стали верующими. В какой-то момент в их жизни все преобразилось, все стало новотворением, и из чувства этой новизны родилась радость, непреходящее вдохновение. И в связи с содержанием этой новизны родилась вера в человека, поскольку Бог верит в меня, верит безгранично, родилась безграничная надежда и сколько-то любви — сколько нам доступно.
Трудность наша, мне кажется, заключается в том, что часто мы слишком привыкли к тому, что мы христиане, это не является личным событием в каждый миг нашей жизни, это просто как бы фон жизни. В нашем распоряжении есть все элементы этой ликующей радости и непреходящего переживания, но мы не пользуемся ими. Они есть, Бог столь же действен, как в прежние времена, но мы уже не поражаемся этому. Мы считаем это настолько естественным, что будто нечему и радоваться. Мы как-то заматерели. Дар Божий дается, а мы говорим: ну, так и должно быть… А когда он не дается, мы обращаемся к Богу или, чаще, еще к кому-то и говорим: ну вот, Он не исполнил того, что обязан был сделать… Мне кажется, дары предлагаются теперь так же, как и всегда. Вопрос в том, насколько мы принимаем их, потому что мы не способны поражаться и больше не воспринимаем новизну всего.
II
В конце прошлой беседы я упомянул, что образец любого человеческого общества, тем более такого, как Церковь, — Сам Бог, Каким Он открывается и дает познать Себя во Святой Троице. И сегодня я буду говорить о Боге в связи с нашей темой, проведу некоторые параллели и предоставлю вам самостоятельно продумать некоторые другие линии. Я вполне отдаю себе отчет, что сделать это не просто, и главная трудность такого изложения в том, что мы можем познавать единство в Боге только через человеческое единство. Познание возможно только опытное, невозможно познать то, о чем не имеешь ни малейшего опытного переживания. И в этом смысле, когда мы говорим о Боге в Его единстве, мы можем говорить только образно и приближениями, потому что хотя и Церковь и человечество призваны быть едиными по образу Божию, быть откровением этого сложного единства, на деле мы знаем о нем очень мало.
Это относится, может быть, особенно к ситуации расколотого, разделенного христианского мира. Мне кажется, нет такой христианской общины, обладающей опытом единства настолько совершенным, который позволил бы нам провозгласить убедительно, не на словах, а в явлении силы Божией, что такое единство Церкви. И одновременно это не дает нам представить адекватно богословие единства Божия, Бога Единого в Трех Лицах.
Таким образом, в нашем стремлении к христианскому единству, так же как и в нашем искании богословия, слова о Боге, то есть познания Бога, которое бывает выражено, провозглашено, раскрыто человеку, перед нами двойная задача. Мы должны через молитву, через богослужение, через богословское созерцание познавать все, что Бог открывает нам о Себе, — и вместе с тем достигать всего единения, единства, совместности во всей уже доступной нам многосложности и полноте, потому что никакое подлинное познание Бога невозможно без нравственных предпосылок.
Можно поставить вопрос, насколько оправдана попытка вчитать в тайну Божию тайну человечества или насколько возможно прочесть тайну человечества в свете тайны Божественной. Я бы сказал: это и возможно и невозможно. Любое откровение может быть воспринято. Нет откровения там, где между предметом откровения и тем, кто его получает, нет никакого соответствия. Иначе не было бы никакого понимания, никакого видения, никакого восприятия. С другой стороны, нам следует помнить, что любое откровение дается в уровень человеческих способностей, пусть и на высшем пределе этих способностей, и что за пределом этих способностей человека к познанию Бога лежит вся тайна Живого Бога. Откровение, которое нам дается, это откровение Личности, и дается оно личностям в их целостности. Это не разъяснения или формулировки, которые могли бы выразить невыразимое. Откровение Бога — это встреча лицом к лицу с Живым Богом, Которого каждый из нас должен постигать всеми имеющимися у него силами ума, и сердца, и души, и тела, всеми силами, какие есть у каждого из нас в его неповторимости и у всех нас вместе в нашей общности.
И теперь, после этого короткого вступления, я обращусь к некоторым вопросам о Боге. Если нас спросят: но Кто такое Бог? Кто ваш Бог, основа нашего бытия, образ для человечества и исполнение человека? Можно дать два ответа, которые оба трудно принять вне церковного опыта и предания. Первый ответ парадоксален: наш Бог — Человек по имени Иисус. Второй ответ трудно принять, потому что он кажется антропоморфичным, описывает Бога в понятиях, которые слишком малы даже для человека. Когда говорят, что Бог есть Любовь (1 Ин 4:8—16), многим представляется, что слову «любовь» придается слишком большое значение — ведь человек, кроме любви, состоит из разума, из тела, его природа чрезвычайно многосложна. Как же Бог может быть тем, что составляет только часть человека? Это затруднение возникает из того, что мы думаем о любви в порядке эмоций, ощущений, чувств, а не в ее подлинном смысле — полноты победоносной, торжествующей жизни.
Что мы узнаем из того, что наш Бог — Человек Иисус Христос, как пишет о Нем апостол Павел (Рим 5:15)? Первое, что мне кажется чрезвычайно важным: это Бог личный. Только личный Бог может соединиться с человеческой личностью. Не может быть единения между абстрактным, размытым, безличным богом и человеком, человеческая личность может быть поглощена таким богом, но соединиться с ним не может. И это чрезвычайно важно для понятия откровения, потому что наивысшее откровение, какое нам дается во Христе, это встреча лицом к лицу человека и Одного из Лиц Божества, которая нам дается, предлагается.
В имени Иисус содержится еще нечто. Став Сыном человеческим, Сын Божий вступает в человеческую историю. Принимая плоть, Слово Божие соединяется со всем материальным миром. В Нем все тварное, и то, что принадлежит человеку, видимое, вещественное, или столь малое, что оно невидимо, или столь огромное, что не поддается нашему восприятию, воссоздано, приобретает вождя, становится частью сложного целого, которое уже не инертная материя (да и было ли оно таким?), а стройное Бытие. Благодаря этой связи Бога с историей и с человеком, переплетению божественного и тварного нам открывается возможность говорить о Боге по-новому.
Но что очень важно — повторю то, что уже говорил, — откровение есть откровение Личного Божества человеку как личности, а не раскрытие системы истин, постижимых разумом, и причина тому в самой сердцевине таинства воплощения. Есть разница между истиной и реальностью. Реальность — все сущее, тварное и нетварное, включая Бога. Истина — адекватное выражение, описание реальности, в той мере как она нам постижима и доступна, как она открывает себя нам и как мы способны понимать ее и приобщаться ей. Но в воплощении реальность и истина, выражение и предмет его совпадают. Воплотившийся — и полнота реальности, тварной и нетварной: в этом содержание Воплощения, и вместе с тем совершенное, конечное откровение о всей полноте и Бога и тварного мира.
Но эта истина, воспринятая, явленная, открывшаяся в Лице воплотившегося Господа, не может быть выражена, учуяна, описана просто в умственных категориях, потому что мы стоим перед Истиной, ставшей Личностью. И мы опять сталкиваемся с тем, на что я уже указывал: с откровением Личности, которое может уловить, опытно пережить, о котором может говорить только целостная личность, целостный человек, то есть все человечество в целом, и Церковь. Познание Бога в конечном итоге происходит не путем интеллектуальных или других утверждений, но посредством всего богатства, всей многосложности утверждений в словах, в красках, в линиях, в музыке, в обрядах, в движениях, в величии, в смирении и вместе с тем и в первую очередь через таинственное общение, которое устанавливается благодаря Божественным действиям, которые мы называем таинствами. Они приобщают нас тому, что невозможно нам познать кроме как приобщением, сопричастностью общей жизни.
Я так долго остановился на этом аспекте Воплощения, потому что это имеет непосредственное отношение к проблеме человеческого общества. Человеческое общество — воплощенная реальность, познавать которую можно на разных уровнях: на уровне падшего мира, в котором мы живем и неотъемлемой частью которого являемся, и на уровне мира, явленного в Боге через Христа, Бога воплощенного. И тут есть разрыв. Есть разрыв между видением человека во Христе и видением человека вне Христовой тайны. И есть разрыв между нашим призванием и Церковью, веру в которую мы исповедуем, и между церковью как институцией, видимым явлением. Его можно изучать с точки зрения истории и различных дисциплин, которые приложимы к явлениям, но которые не в состоянии охватить, уловить Божественную динамику этих явлений.
Теперь я хотел бы обратиться к другому имени Божию: Бог есть любовь. И я хотел бы воспользоваться, несколько расширив его, учением Григория Богослова о любви и о Боге. Должен признаться, что я продумывал это его учение так часто, стараясь выразить его по-разному, что потерял грань — где кончается мысль святого Григория и начинается моя, быть может, фантазия. Но я убежден, что то, что я собираюсь сказать, вполне православно, и потому попробую говорить о Боге-Любви Едином во Святой Троице, не стараясь разграничить, где мысль святого Григория, а что принадлежит другим людям, в том числе и мне.
Святой Григорий исходит из того, что Бог есть любовь и Бог — Троица, потому что только тринитарное отношение может быть адекватным и совершенным выражением любви. В начале он кратко указывает, что монада, арифметическая единица не может быть совершенным выражением любви. Это отраженное самолюбование выражается в древнем мифе о Нарциссе, который созерцал отражение собственного лица в глади вод и настолько был потрясен собственной красотой, что застыл, неспособный оторваться от этого видения.
Дальше Григорий говорит о любви двоих и подчеркивает, что если двое останутся в своей взаимной любви лишь вдвоем, эта замкнутость не может быть адекватным выражением любви. В художественной литературе нам часто и с большой силой бывает показано, как велика любовь двух людей. Но так же часто мы видим — это постоянный мотив в литературе, — как трагично бывает вторжение третьего в это взаимоотношение, которое казалось таким крепким, совершенным, самодостаточным. В зависимости от литературного жанра получается либо трагедия, либо комедия, но третий участник этого треугольника всегда разбивает изначальное единство двоих.
В таком замкнутом взаимоотношении есть одно слабое место. В рамках его можно только лишь давать и принимать, хотя и это, как мы сейчас увидим, очень много. В совершенном виде это действие — давать и принимать — означало бы давать другому в первую очередь все, в чем он нуждается и что он способен воспринять. Это означало бы отдавать все, что имеешь. Это означало бы также отдавать всего себя, как бы переливать свое существо в другого человека. И это выражение взято из Писания. Когда нам говорится, что Христос истощил славу Своего Божества ради того, чтобы стать человеком (Флп 2:6—8), то говорится именно о чем-то подобном. Но так часто отдача не состоит в том, чтобы переливать себя, отдавать все, чем обладаешь и чем являешься. Чаще в человеческих взаимоотношениях отдача бывает средством самоутверждения. И потому принимать бывает так трудно, больно и унизительно. Не напрасно Павел, повторяя не записанные слова Христа, говорит, что давать блаженнее, нежели принимать (Деян 20:35). Принимать от всего сердца, с полной открытостью, как плодородная почва способна принимать все, что посылает в нее Бог и человек, можно только тогда, когда уверен, что ты любим и сам несомненно любишь ответно. Принять дар от кого-то, в ком нет любви, оскорбительно, унизительно. Дар от того, кто не любит, приносит боль и страдание.
Но что же с третьим? Третий, как уже говорилось, всегда вторгается в ситуацию, когда двое через взаимное созерцание стремятся к совершенству во взаимоотношении. С появлением третьего обрывается драгоценная связь между двумя людьми. Она часто превращается в два острия, направленные друг против друга. Устанавливается новая, обманно-радужная, прелюбодейная связь между вторгшимся и одним членом четы и кроваво-красная связь ненависти между вторым членом первоначальной четы и тем, кто вторгся. Возникает треугольник, но этот треугольник ничем не напоминает образ Святой Троицы, это область напряжения, в которой три точки разрушения и агрессии.
Решающая роль в разрушении взаимоотношения и выявлении его непрочности принадлежит третьему. Есть ли возможность, способ, чтобы это взаимоотношение из треугольного стало или просто изначала было по образу Троичного взаимоотношения, нерасторжимым, гармоничным, завершенным и совершенным взаимоотношением троих? Святой Григорий говорит, что для этого требуется третье условие: недостаточно просто давать и принимать, пусть и совершенным, полным образом, — требуется еще жертвенная любовь. Пока в таинстве любви отсутствует момент жертвенности, в нем чего-то недостает и любовь обречена на гибель.
Этот момент жертвенности можно сколько-то уловить на одном примере из Писания, на образе Иоанна Крестителя. Он сам назвал себя другом жениха (Ин 3:29). Он был тем другом, который так любит жениха и невесту, что приводит их к встрече, ведет их на брачный пир и дальше, в брачный чертог, и остается сам вне его у двери, чтобы оберечь их созерцательную встречу, встречу двух людей, которые пребудут лицом к лицу во всей многосложности, во всем богатстве своей человеческой личности — духа, души и тела.
В неразрывном и уравновешенном отношении троих каждый должен одновременно давать, принимать и быть готовым как бы таинственно уничтожиться, готовым не быть ради двух других, чтобы позволить им быть вместе полностью и совершенно, под защитой и при поддержке жертвенной любви третьего. В этой одномоментности любви, в этом взаимоотношении вне времени каждое лицо переливается в другое, так что они уже не существуют сами по себе и ради себя самих. Они уже не утверждают себя, а отдаются, забывают о себе и отдают себя: Я во Отце и Отец во Мне (Ин 10:38).
Полная самоотдача позволяет также принимать откровение и быть откровением. Христос сказал о Себе, что Он говорит то, что слышит от Отца (Ин 5:30; 15:15); Христос говорит также, что Дух возьмет от Него и будет говорить слова истины, которая принадлежит Ему, Христу (Ин 16:13—14). И есть также тайна третьего, который не вторгается, который так любит, что готов не быть, отдать жизнь (или, если предпочитаете говорить в терминах истории и становления), готов на таинство жертвы. И я уже говорил, кажется, что жертва значит «освящение», принесение себя как жертву ради того, чтобы двое других достигли совершенства во взаимном созерцании.
Это дает нам поразительно динамичный образ Бога, Бога Живого — не потому что Он таков и не может быть ничем иным, кроме как торжествующей жизнью. Нет, Он — Бог, Который есть Любовь, в Ком жертвенная любовь запечатлена Крестом, в Ком любовь выражается добровольно принятой, выбранной смертью. А победа Воскресения над смертью — неотъемлемая тайна Божия.
Смерть и любовь схожи. Пока мы не полюбили, мы можем самоутверждаться. Мы утверждаем собственную личность по противоположению, противопоставлению любой другой личности. Я есмь, и потому другой есть абсолютно другой. Это то, что мы видим в нашем фрагментарном, раздробленном человечестве, такова наша эмпирическая обыденность в виде индивидов, последнего предела дробления. Когда зарождается любовь, стремление к самоутверждению очень сильно. Мы ведь говорим «Я люблю тебя» — и все ударение лежит на «я». «Ты» — всего лишь объект, а слово «люблю» употребляется не в его животворном смысле, не как глагол, а, если можно выразиться так не-грамматически, просто как союз, который связывает «я» и «ты». Но по мере того как любовь растет, растет и познание другого, восхищение, изумление, благоговейное почитание его. «Я» уменьшается, «ты» приобретает все большее значение, а отношение между ними перестает быть связью, становится действием, динамикой. Оно становится действенной, динамичной ситуацией.
В этом взаимоотношении другой приобретает все возрастающее значение, а значение моего «я» все уменьшается. И постепенно любимый значит все. Я сам уже ничего не значу для себя. Христос о любви сказал, что нет ее большей, чем когда кто-то готов положить жизнь ради любимого, ради ближнего (Ин 15:13). В начале Евангелия от Иоанна мы читаем, что Слово было у Бога (Ин 1:1). По-гречески это «у» не статичное, а динамичное выражение. Слово само — Бог. Слово всем существом направлено к Богу, устремлено к Нему. Бог — в центре, Слово всецело устремлено к Нему. Это означает, что в конечном итоге любовь соответствует умиранию всякого самоутверждения, всякого желания самоутверждаться. Любовь — благоговейное поклонение любимому, он — предмет служения и стал абсолютным центром.
И тогда любовь соответствует полноте жизни. В чем оправдание жизни того, кто отдал свою жизнь? Я уже цитировал некоторым из вас фразу Габриеля Марселя: «Сказать кому-нибудь „Я тебя люблю“ значит сказать „Ты никогда не умрешь“». Разумеется, я не имею в виду легковесные слова, когда мы произносим «я тебя люблю» легкомысленно, без глубины. Но если во взаимоотношении, о котором я говорил, один отдает свою жизнь, самое свое бытие, то его поддержит любовь тех, ради которых он перестал существовать в терминах самоутверждения.
Вот динамичное видение Троицы, где смерть по любви преодолена победой любви, где жертвенная любовь расцветает в воскресение такой жизни, которую невозможно отнять, потому что она отдается. Она не защищается, она не утверждается, ее поддерживает и отстаивает любовь других излитием, истощанием себя, благоговейным принятием того, что дается, отданием жизни и приятием ее обратно. Никто не отнимает у Меня жизнь, говорит Христос, Я Сам ее отдаю (Ин 10:18). И апостол Павел говорит о Его смерти и Воскресении: Бог воскресил Его из мертвых (Рим 4:24). Да, один может отдать жизнь — неумирающую реальность и вечную жизнь ему дает другой.
Очевидно, что динамичное видение Троицы отражается на нашем понимании взаимоотношений. Оно также непосредственно связано с первым именем Бога — Иисус, с тем, что я сказал, что наш Бог — Человек Иисус.
Часто говорят о бесстрастии Бога. Сейчас это слово приобрело значение безразличия, неспособности взволноваться. Но первичное значение латинского слова не таково. Оно просто означает, что на Бога невозможно воздействовать. Он никогда не бывает в пассивном залоге, потому что все в Нем в высшей степени активно. Он есть жизнь торжествующая, жизнь победоносная, жизнь преизбыточествующая, та мера жизни, которую мы называем любовью, настолько полная, избыточная, что ее не страшит предельное истощание себя, чем является Воплощение. При таком видении можно понять, что человек, человечество не привнесло в Бога какую-то прежде неведомую ситуацию, что Воплощение Слова Божия, страдание Воплощенного Бога не было привнесено в Бога человеческой, тварной ситуацией. Все это содержалось в замысле сострадательной Божественной любви, жертвенной солидарности Воплотившегося, все это уже присутствует в Боге и находит, конечно, выражение в событиях Гефсиманского сада и Голгофы. Образ взаимоотношений — Сам Бог наш.
Мы видим, как Он вступает в Историю, делаясь единым с нами, уязвимым и беззащитным, подобно тому как уязвима и беззащитна любовь, как будто побежденным и, однако, Победителем, так же как любовь принимает смерть ради того, чтобы жить вечно. Думаю, это ясно показывает, как это преломляется в отношении Церкви. Если правда, что, по выражению святого Иринея Лионского, мы — Тело Христово, всецелый Христос, Глава и члены, если правда, что все вместе мы составляем это тело и каждый по отдельности, лично являемся храмом Святого Духа, что во Христе и Духе мы подлинно становимся детьми Божиими, тогда нам ясно, что когда мы говорим о Церкви как Теле Христовом, это утверждение разворачивается перед нашим взором Тринитарным видением, потому что Тот, Кто воплотился, — Сын Отчий, Духом Святым принявший плоть от Девы.
Задумаемся, каждый, над этим образом любви как проявлении, как жизни, как реальности Святой Троицы. Но нам следует также помнить нечто, что мне представляется чрезвычайно важным. Как бы это учение о Боге Едином во Святой Троице ни было возвышенно, таинственно, оно принадлежит области откровения, то есть области, где человек еще способен встретить Бога, постичь Его, понять Его в приобщенности и созерцании.
Но Бог не ограничим. Я говорил о Лицах Божиих, но как только речь идет о Святой Троице, Боге Едином в Трех Лицах, мы говорим о жизни, о бытии, которое за пределом всего того, что подразумевается, когда мы говорим о личностях, за пределом любых ограничений. Я во Отце и Отец во Мне. Я и Отец одно (Ин 10:38, 30). Мы можем уловить личностный аспект и можем вырасти через это видение Трех Лиц, Которые сверхличностны, Чья жизнь не вмещается ни в какие ограничения личности. Мы можем вырасти в видение Бога, Который в Трех Лицах и одновременно — Одна Божественная реальность, личный, но не в нашем ограниченном и ограничивающем смысле слова. И далее, за пределом даже и этого — вся глубина и тайна того, Кто есть Бог Сам в Себе, за пределом всякого откровения, хотя и не за пределом некоего рода общения. Откровение это — встреча лицом к лицу этого личного (и, однако, сверхличного) Бога с полнотой человеческой личности, Бога, Которого мы можем познать, воспринять не иначе как Божественный мрак, сияние, которое ослепляет нас. Этот Бог общается с нами излиянием Себя Самого, не только проявлением в Лице Иисуса Христа, но излиянием Себя в том, что мы называем Божественными энергиями, Божественной благодатью. Благодать эта изливается не от Одного из Лиц, но из Единства Бога в Трех Лицах и опытно делает нас причастниками единства, которое за пределом всякого выражения, потому что оно Единство Бога, — причастниками до такой степени, что мы и постичь этого не можем.
Если подумать теперь в терминах Церкви, в терминах человечества, в терминах общества, то вот что должно быть критерием для нас — многосложный, богатый образец, полный динамики. Не может быть другого образца для Церкви. Не может быть другого приемлемого образца для человечества, потому что человечество призвано стать тем, чем должна быть — хотя еще не достигла этого в полноте — Церковь: откровением всей многосложности Божественной жизни, преизливающейся на все Богом сотворенное через причастность и приобщенность.
Думаю, это все, что я могу сказать о Боге, Которому мы поклоняемся, Которого мы любим, Боге, в Котором мы есмы, движемся и живем(Деян 17:28). Мне кажется, нам следует задумываться об этом Боге. И вот каково измерение человечества и всего Богом сотворенного, никак не меньше, на деле же гораздо, гораздо больше, чем то, что я сумел выразить.
«Первенство» и «преимущества чести»
Я выбрал эту тему, поскольку именно об этом говорит третий канон Первого Константинопольского собора. Он определяет положение двух епископских кафедр христианского мира, в Риме и в Константинополе, и гласит, что Риму надлежит занимать первое по чести место в силу того, что это город Императора, а второе место принадлежит Константинополю как второй столице империи. Это определение чрезвычайно важно, потому что ясно подчеркивает, что такой порядок не обоснован никакими богословскими соображениями. Положение кафедр определялось только требованиями момента как политическими, так и практическими.
Но я не собираюсь говорить специально об этом каноне. Я хочу обратить ваше внимание более широко на проблему «первенства и преимуществ» в Церкви в целом.
В середине тридцатых годов Владимир Лосский в своей первой лекции по истории Церкви указал, что три темы проходят через всю церковную историю: поиск и провозглашение истины; устроение Церкви с тем, чтобы ее структуры возможно ближе соответствовали ее природе; и в-третьих, руководство духовной жизнью Церкви. Эти три элемента существенны, если мы хотим понять, что такое Церковь и как она должна строиться, составляться и находить свое выражение в истории.
Перед нами, однако, стоит несколько проблем. Во-первых, на протяжении первых веков Церковь была занята определением самого существа христианской веры: учение о Святой Троице, отношения между Отцом, Сыном и Святым Духом и тому подобное. Но у нас до сих пор нет соборного определения Церкви как таковой, которое было бы приемлемо всем христианам. На протяжение столетий Церковь осознавала свою природу, свою жизнь, динамику этой жизни. Она провозглашала Евангелие и жила им, и тем не менее Церковь остается в большой мере тайной, и не только тогда, когда мы пытаемся говорить о самой ее глубинной природе, но и тогда, когда пытаемся определить ее границы и указать, где Церковь есть и где ее нет. Ни одна деноминация в христианском мире на протяжении вот уже практически двух тысяч лет ее истории не дала такого определения Церкви, которое позволило бы нам не только определить, что такое Церковь в ее сущности, но и где ее границы. Возможно, это не случайно, очень возможно, что должно пройти еще долгое время, пока мы сумеем достаточно прозреть и понять природу Церкви, чтобы такое ее определение совместило богословское ви{'}дение, отражающее Церковь, какова она в Боге, в своей сущности и в исторической ситуации.
В том, что касается Церкви, мы в большой мере пленники истории. Во многих отношениях мы также пленники неких богословских предпосылок, которые постепенно были приняты, хотя не были достаточно продуманны. Мы пленники истории в том смысле, что происходящее стало постепенно приниматься как должное. Этот наш Константинопольский канон о первенстве и преимуществах чести возник в исторической ситуации, которая в свою очередь покоится на политической ситуации и практических соображениях. Но постепенно, потому что в status quo, в глазах многих это стало признаком Церкви. Многим представляется, что так оно и должно быть..
Однако ситуация переменилась, история развивалась, и относительная важность этих городов стала бесконечно иной, чем была. Но формулировка сохраняется, и на ней очень часто основываются иллюзии. Можно даже сказать, что такое использование истории навязало Церкви взгляд, который был порожден не богословием, а случайностью: католическое представление о папстве. Первенство Петра, даже не столько Петра, как его преемников, постепенно развилось в нечто, что мы, православные, считаем большим и разрушительным несчастьем для Церкви. Папы стали не только знаком единства, но и правителями, которые в определенные моменты рассматривались в таком свете, от чего многие католики сегодня содрогнулись бы. В очень интересной книге, выпущенной недавно католическим историком и богословом, который пять лет был членом Ватиканского секретариата по содействию христианскому единству, есть цитаты, показывающие, как исходя из практических соображений определенная поместная церковь пришла в совершенно невероятным заключениям.
Во времена папы Пия IX совершенно ясно утверждалось, что Папа — представитель Бога на земле. Об этом пишет Аугуст Бенгард Хаслер в своей книге «Как Папа стал непогрешимым» с предисловием Ханса Кюнга. Некто восторженно назвал Папу «вице-Богом человечества». Официальная ватиканская газета устами одного из епископов гласит, что «когда Папа размышляет, в нем мыслит Бог». Епископ Берто Тулльский говорит, что Папа — «слово Божие воплотившееся в нашей среде». Викарный епископ Женевы, Гаспар Мермийо, по словам автора, «ничтоже сумняшеся, говорит о трояком воплощении Сына Божия: в утробе Девы, в Евхаристии и в Ватиканском старце».
Я знаю, что сегодня такие выражения были бы отвергнуты, что большинству католиков — хотя, вероятно, не всем — подобные положения были бы неприемлемы. Но совершенно ясно, что эти выражения родились постепенно на основе отношения, которое исказило основоположную связь между Церковью и ее епископами, между Церковью и первосвятительскими кафедрами, возникшими со временем на основе Истории, а не Евангелия.
И здесь мы оказываемся в точке напряжения, которое принадлежит самой природе Церкви. Церковь — эсхатологическое общество, таинственное общество (я немного скажу об этом), и вместе с тем она — общество, которое развивается, действует, растет и проходит через трагедию и славу истории.
В самом существе своей природы Церковь — нечто гораздо более таинственное, чем то, как она описана в катехизисе. Она не просто общество верующих, которых связывают общая вера, одни таинства, одна иерархия, та же духовная жизнь, — Церковь далеко превосходит все это. Эти определения похожи на то, что можно сказать о здании, чтобы его можно было узнать снаружи. Но это описание или даже рассмотрение предмета описания извне не откроет человеку, что же происходит внутри Церкви, в чем внутренняя ее тайна.
Тайна Церкви в том, что это общество, живой организм, который одновременно и равно человеческий и Божественный. Первенец из мертвых(1 Кор 15:20), Господь Иисус Христос распятый и воскресший — Он есть Живой Бог, Сын Божий, ставший Сыном человеческим, и в Нем, через Него Бог присутствует в Церкви с первого мгновения Воплощения. Церковь отныне неотделима от Божества, потому что Христос — Бог.
И затем, после Своего Воскресения, дважды и по-разному (первый случай описан в 20-й главе Евангелия от Иоанна, второй — в книге Деяний) Христос сообщает Церкви дар Святого Духа. Он дает Святой Дух, как описывает то Иоанн, всему сообществу, так что Дух содержится общиной и ни один ее член не владеет Им как бы отдельно. А в книге Деяний мы видим, что, постольку поскольку все общество охвачено, исполнено, изменено и преображено присутствием Святого Духа, отдельные члены могут Его получить и быть исполнены Им, каждый особо, единственным, неповторимым и чудесным образом.
И значит, Бог присутствует в Церкви Святым Духом, и наша жизнь сокрыта со Христом в Боге (Кол 3:3). Церковь обладает Святым Духом или, вернее, охвачена Святым Духом как Тело Христово, как продолжение Его Тела через таинства Крещения и Приобщения, через участие в Его воплощенном присутствии сквозь века и пространство.
Таково видение и такова уже зачаточно реальность. Начало ей положено, эта реальность динамичная, в развитии. И в этом — Божественный аспект Церкви, ее аспект святости, кафоличности, не в смысле ее распространения в пространстве или даже времени, а в том, как это греческое слово означает «во всем» и «через все». В каждом из нас, поскольку мы члены, живые члены Христовы и храмы Святого Духа, поскольку мы все больше становимся тем, чем уже являемся зачаточно, в Церкви есть как бы полнота взаимоотношений, есть в зародыше то, чем Христос был в полноте. Но есть и человеческий аспект, есть аспект греховный: наша неверность, нелояльность, наша греховность. И однако каждый из нас — верой, любовью ко Христу, той верностью, какая в нас есть, пусть слабой, хрупкой, колеблющейся или даже порой исчезающей, уже причастен тайне Церкви в ее полноте.
В Церкви — Господь Иисус Христос, истинный Сын Божий, но и Сын человеческий, подлинный человек, подлинный в обоих смыслах: в том, что Он во всем таков, как мы, кроме греха, и подлинный в том смысле, что Он — единственный подлинный Человек, потому что причастен Божественной природе. Он — то, чем каждый из нас призван быть. Богочеловек, Он по природе Бог и по природе человек. Мы человечны по природе и должны стать по приобщению обоженными, преображенными и соединенными с Божественной природой. В Церкви Он для нас — откровение того, чем призван стать человек. И если Церковь — это, то она несоизмерима ни с какой «структурой», как бы она ни была мудра, разработана, истинна в рамках своих границ и своей природы. Потому что Церковь такая же пространная, как Бог, такая же великая, как Бог, такая же святая и динамично творческая, как Живой Бог, действующий в нас и в нашей среде.
Что бы ни предлагала нам история в качестве структур, как бы «рабочих ситуаций», в рамках которых люди должны исполнять свое призвание, никакая из этих рабочих ситуаций (ученый назвал бы такую ситуацию «моделью») не может быть принята за модель Церкви. Единственная подлинная модель, образец Церкви, по слову русского философа Николая Федорова, это Святая Троица. Церковь должна отображать тринитарную жизнь, как можно ближе соответствовать ей, должна быть откровением на земле отношений единства во множественности, которые мы находим в Боге Едином в Троице.
Это приводит меня к следующему. Мы все испытали влияние «евхаристического» богословия Церкви и до сих пор находимся под этим влиянием. Оно, как мне кажется, верно в известных и довольно ограниченных пределах, но искажает наше видение, если принять это богословие как до конца адекватное. Евхаристическое богословие Церкви в основе своей утверждает, что Церковь есть Евхаристия и Евхаристия есть Церковь, и те структуры, которые необходимы, существенны при совершении Евхаристии, они-то и являют нам, что представляет собой Церковь. То есть должен быть предстоящий священнослужитель и выстроенная вокруг него церковная структура. Мы обязаны этим глубоким видением Церкви русскому богослову, отцу Николаю Афанасьеву, но я не согласен, что это все, что можно сказать о Церкви.
Церковь больше, чем Евхаристия, Церковь шире, чем Евхаристия, Церковь содержит Евхаристию, но Евхаристия не есть итог всего, что есть Церковь. Мне кажется, это надо осознавать. Даже при евхаристическом служении нас легко вводит в заблуждение то, что мы видим. Мы видим священнослужителя — будь то патриарх, епископ или священник — и настолько сосредоточены на нем, он становится настолько центрально-важным, что мы забываем то, что происходит. Например, мы забываем, что когда священнослужитель (каков бы ни был его сан) приготовил дары, хлеб и вино, когда он облачился и все, кто будет принимать участие в службе, готовы, дьякон обращается к нему со словами: «Время сотворити Господеви», то есть настало время Богу действовать. Ты сделал все, что по-человечески возможно, ты молился и приготовился, как мог лучше, к тому, чтобы встать перед лицом Божиим, вступить в то место, которое подобно купине неопалимой, место, куда невозможно вступить, не будучи очищенным божественным огнем; ты облекся в одежды, которые заслоняют твою человеческую личность при этом священнослужении; ты приготовил хлеб и вино и тем самым дал возможность совершаться последующим действиям. Но самая суть происходящего выше твоих сил, потому что никакой человек, пусть и облеченный апостольским преемством и благодатью сана, не может своей силой превратить хлеб в Тело Христово или вино в Кровь Христову. Никакой человек не может ни к чему принудить Бога, и единственный подлинный совершитель Евхаристии, единственный подлинный совершитель любого таинства, то есть тех великих действий Божиих, которые преображают и изменяют мир, — Сам Бог.
Первосвященник всей твари — Господь Иисус Христос, благодаря тому что Он умер и восстал, победил и воссел одесную славы. Единственно Он — Совершитель любого таинства, Он и Святой Дух, Которого мы призываем, чтобы Он сошел и освятил Дары, в уверенности, что ответ сострадания, любви готов для нас, ответ, который может претворить то, что земное, в божественное. Никакой человек, никто земной не может сделать божественным то, что принадлежит земле, и если вообразить, что евхаристическая структура — образ всей Церкви, то мы рискуем забыть, что подлинный Совершитель — не тот, кого мы видим перед собой, а Тот, Кто восседает на Престоле, который мы в православии называем Престолом Божиим.
Так что в этом отношении Церковь шире Евхаристии. Это совершенно ясно явлено в самом совершении Евхаристии, когда, после причащения народа, священник в тайной молитве читает: подавай нам [Господи] истее Тебе причащатися, в невечернем дни царствия Твоего. Есть еще нечто большее, хотя я вовсе не преуменьшаю священность, святость, величие, значение Евхаристии. Но Евхаристия — еще не явление Церкви во всей ее полноте даже на земле.
Евхаристическое богословие неизбежно приводит нас к идее пирамиды власти. Священник совершает Евхаристию и становится главным в данной общине, епископ стоит во главе духовенства — не тела церковного, а клириков; завершает это единство тот, кто всегда стоит на вершине пирамиды.
Так вот, это неверно. Только Господь Иисус Христос, никто иной, стоит на вершине пирамиды, будь то малый приход, кафедральный собор или вселенская Церковь. Как только мы ставим туда человека — прошу прощения, мое выражение, может быть, обидит католиков, но оно точно отражает мое мнение о такой картине — как только мы говорим о ком-то, что он «наместник» Христа, мы подразумеваем, что Христос отсутствует и кто-то должен занять Его место. Вот и все. Разумеется, это неверно, но при нашем абсурдном подходе к вещам такие выражения становятся возможны. В православии также присутствует искушение построить пирамиду с кем-то на вершине. Некогда то был Рим, затем Константинополь, но может оказаться кто угодно. И это будет так же ложно, потому что там стоит только Господь Иисус Христос, только Он вправе стоять там и действительно стоит там.
Так что когда мы говорим о «первенстве» и «преимуществах чести», мы должны четко понимать, что здесь место напряженного скрещения истории и богословия. Это становится ясно, если взглянуть на замечательное утверждение, содержащееся в так называемом 34-м Апостольском правиле. Я говорю «так называемом», потому что совершенно определенно оно не было отчеканено апостолами. Оно названо апостольским, потому что церковное сознание признало, что оно коренится в апостольском подходе и образе действия. Этот Апостольский канон гласит: «Епископам всякого народа подобает знати первого в них, и признавать его как главу, и ничего превышающего их власть не творить без его рассуждения, творить же каждому только то, что касается до его епархии и до мест к ней принадлежащих. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех. Ибо так будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во Святом Духе, Отец и Сын и Святой Дух».
Это чрезвычайно интересный канон, потому что вывод его тот, что Бог бывает прославляем в гармонии частей, во всей их множественности и единстве. И здесь нам следует помнить, что по-гречески «прославлять» означает не то, что мы так часто понимаем под этим словом — хвалить, восхвалять, оно значит, что Божие великолепие, несказанная Его красота делается очевидной. Основа 34-го правила в следующем: цель наша в истории, несмотря на нашу хрупкость и недостаточность, хоть сколько-то явить Единство Бога в Трех Лицах. Его можно явить согласием, единогласием, тем, что во имя Божие многие могут стать едиными в совершенной гармонии воли и действий. А чтобы проявить это — и здесь-то богословие становится историей, ви{'}дение становится действием — должны быть образования, где это единство во множественности проявляется через то, что одна воля действует как отеческая воля, другая — как сыновняя. Сын обращается к отцу с доверием, с любовью, с почитанием, но и отец никогда не станет действовать с позиции силы, по произволу, а лишь в единогласии и гармонии с сыном.
Здесь следует указать разницу между авторитетом и властью. Власть — способность данного человека или определенной группы людей навязать свою волю и свои решения другим. Авторитет — нечто совершенно другое. В каком-то смысле, авторитет безвластен, авторитет принадлежит убедительности истины.
Я хотел бы процитировать здесь отрывок из предисловия Ханса Кюнга о Соборах. Он пишет: Первый Вселенский собор в Никее (325) прекрасно обошелся без всякой претензии на непогрешимость. Новейшие исторические исследования отметили, каким образом глава Собора, Афанасий, наряду со многими греческими отцами, равно как и с Августином, обосновал подлинный, хотя вовсе не непогрешимый, авторитет собора. Собор провозглашает истину не потому что он созван законным и не вызывающим возражений образом, не потому что присутствуют большинство епископов тогдашнего мира, не потому что он утвержден каким-либо человеческим авторитетом, короче говоря, не потому что он изначально не мог ошибаться; а потому что, несмотря на новые выражения, он не говорит ничего нового, потому что он передает прежнее предание новым языком, потому что он свидетельствует о первоначальном учении, он дышит духом Писаний, потому что за ним стоит Евангелие.
Вот где, я бы сказал, разница между авторитетом и властью. Власть означает — как провозгласил Первый ватиканский собор, несмотря на то что многие епископы ушли с него и возражали против непогрешимости, — что дело обстоит так-то, и вы должны либо согласиться с этим, либо быть отвергнуты сами. Но на Первом Вселенском соборе мы не видим действия власти. И все, что мы восприняли на протяжении истории от Вселенских соборов, было голосом, звучащим из глубин Писания, то есть голосом Самого Бога, голосом Духа Святого, провозглашающим истину, то, что Церковь может признать за истину. Церковь признала в этом истину благодаря тому, что уловила совершенную гармонию между первичным, первоначальным словом Божиим и тем, что провозгласили эти Соборы, между словом Духа и словом человеческим. Красота этой гармонии — вот что было убедительной силой провозглашенном ими Истины.
В нашей теперешней ситуации смысл 34-го Апостольского правила может открыться нам по-новому. Исторически первенствующие кафедры, большие конгломерации, созданные историей, распадаются — слава Богу! — и постепенно рассыпаются на части. Мы постепенно теряем формы, которые были созданы по образу политических государств: Рима, Византии и других. Русская Церковь — печальный пример такого образа, потому что Патриархат столь велик, столь тесно спаян и действует настолько по монархическому принципу, что очень трудно при этом вернуться к духу ранней Церкви. И видение Церкви как отражения Бога во Святой Троице — больше, чем отражения: живого, динамичного бытия — не очень-то легко углядеть в Церкви. Его надо проявить. А его можно проявить — но только в небольшом образовании, где все знают друг друга, где люди знают и уважают друг друга, в небольших епархиях, где епископ знает каждого и священники знают епископа. (Это не всегда будет в пользу епископа, потому что его будут знать не только в его сане, но и как то жалкое существо, которым он порой является). Церковь должна существовать в виде небольших образований, которые можно видеть, а не таких больших, которые невозможно охватить мыслью или взглядом. Вот, мне кажется, чем должно стать первенство и преимущество чести в Церкви. В каком-то смысле с этим гораздо лучше справляется методистский суперинтендант, который отвечает за небольшой круг людей, чем огромный Патриархат, где Патриарх может оказаться лишь фотографией в календаре, возглашаемым именем и иллюзией, что он как бы «начальство».
Я предпочел бы кончить не на такой грустной ноте, но мне думается, мы должны молиться о том, чтобы богословское видение Церкви нашло свое реальное, конкретное, глубокое выражение в согласованности, которая существует в рамках образований, где такая согласованность осмысленна. Невозможна согласованность между прихожанином в Иркутске и Патриархом Московским, иначе как на допущении: что бы Патриарх ни сказал, он прав, или на потаенном чувстве, что он, возможно, ошибается, но с этим ничего не поделать. Нам надо обрести вновь такое богословское видение и превратить его в проявление истины. Можно, по соображениям административного или практического порядка, иметь и что-то более обширное, но оно не будет соответствовать 34-му Апостольскому правилу. Не это поможет выправить сначала в сознании людей, а затем и в практике Церкви ужасные результаты неправильного понимания 3-го правила Константинопольского собора относительно двух «первенствующих» кафедр, результаты, которые постепенно, как сорняки, распространились на другие области жизни Церкви.
Я хотел бы сказать в заключение, что ради того, чтобы достичь этого, мы должны стать более христианами, чем мы есть, должны быть более во Христе и в Духе. И мы должны вернуться к подлинному, истинному богословию первенства, потому что невозможно построить видение истинной Церкви на ложных предпосылках.
Собеседование о Церкви и священниках в современном мире
В какой мере верующему человеку нужна конкретная организация для того, чтобы удовлетворить свою потребность общения с Богом?
Если дело было бы только в общении с Богом, не нужна была бы никакая организация, потому что Бог ближе человеку, чем даже его собственное сознание, человек коренится в Боге. Поэтому для общения с Ним нужна живая душа, способная предстоять Живому Богу и с Ним общаться — будь то в молитве, будь то в созерцании. Но есть другая сторона: Бог не есть мой Бог только, Он — Бог всех. Это одно из самых потрясающих открытий, которые я сделал, когда впервые прочел Евангелие. В тот момент люди мне казались враждебными, чуждыми. И вдруг из Евангелия я обнаружил, что всех их создал, привел к бытию Бог, что все люди для Него — дети, свои, родные, даже те, которые казались мне самыми чудовищными и неприемлемыми. Вдруг оказалось, что я не живу в одиночку, даже в одиночку с Богом, Которого только-только открыл. Оказалось: потому что я открыл Бога — открывается передо мной и целый мир людей.
И тут, не говоря сразу об организации, начинается нечто другое. Жизнь с Богом, общение с Ним предполагает и определенное отношение к людям вокруг нас. Один западный проповедник XIX века говорит: христианин — это человек, которому Бог поручил других людей… Обнаруживаешь, что другие люди существуют не только как неприятная необходимость или предмет страха или отвращения, а существуют как объект любви, живого интереса. Сами они оказываются в таком же положении, и общение с Богом неминуемо выливается во встречу с людьми.
Эта встреча может проходить поодиночке, но может быть и собирательная: люди, верующие в одного Бога, могут захотеть молиться вместе, выражая свою общую любовь к Богу, а также и какое-то взаимное отношение перед Богом, вместе с Ним. И здесь почти неминуемо начинается какая-то организованность, какой-то строй, молитвенный строй, какая-то гармония в отличие от просто беспорядка. Какие-то люди выделяются своим знанием Бога, своим чутьем, чуткостью по отношению к другим, и начинается зачаточно то, что потом вылилось в церковную жизнь. Но когда я говорю о церковной жизни, я не обязательно говорю о той форме, в какой мы ее имеем теперь и которая в значительной мере является окаменелостью, сужением этой жизни; я говорю именно о просторной, полноводной жизни, где есть и строй, и структура, где есть люди говорящие и есть люди слушающие — не обязательно пассивно, а отдавая говорящему целый мир своего богатства.
Но очень часто фактически получается, что есть группа верующих, молящихся и есть какой-то человек, «профессионал» религии, правда? (М. А.: Да, правда). Получается так: не мы выдвигаем из рядов верующих кого-то, кто действительно ближе нас к Богу и больше знаком с духовной жизнью, а просто кто-то становится священником, как я стала радиоработником?
Это правда и, я бы сказал, это несчастье наше. Как это случилось — понятно, но думаю, всем очевидно, что это несчастье, даже тем, кого мы зовем профессионалами, чиновниками церковными, потому что мы, «церковные чиновники», представители Церкви как организации, тоже имеем душу и тоже что-то переживаем. И вот здесь, мне кажется, нам надо найти (и это очень нелегко) какой-то путь.
В самом начале было так, как теперь в некоторых странах, например, в Греции: приходы маленькие, разделенные горами, хребтами, и приходится иметь очень большое количество священников на относительно небольшое количество верующих, потому что через горный хребет невозможно пройти человеку, который слишком молод или слишком стар. Тогда выбирают из среды этих же людей человека чистой жизни, умного, верующего, благоговейного, от него не ожидают ничего сверхъестественного, кроме того, чтобы он чистотой жизни, мудростью, которую он приобрел через опыт той же самой жизни, совершением таинств питал народ. И от него не ожидают никакой особенной проповеди. Из центра, из епархиального архиерейского дома каждое воскресенье высылают проповедника, притом делается это очень интересно. В начале недели местный епископ собирает людей, которые способны говорить о Боге — из опыта и с проверенным знанием. Это может быть глава местной полиции, доктор, аптекарь, просто какой-нибудь образованный человек. Им дается задание: продумать евангельское чтение наступающей недели и написать проповедь. Эта проповедь представляется епископу, который, если усматривает какие-то недочеты, дает свои указания. А в воскресенье все уходят по приходам и читают свою проповедь. Для более углубленного духовного руководства опять-таки из центра посылаются люди, духовно опытные, они обходят приходы и деревни, останавливаясь на некоторое время, встречаются с людьми, у которых есть вопросы, проблемы. И в этом есть что-то очень органическое.
У нас другая проблема. В целом мы от священника, кроме чистоты жизни, благоговения и т. д., ожидаем образованности в области богословия и в человеческой области. Потому что в больших городах Западной Европы и во всем восточноевропейском мире верующий должен встречаться с людьми инакомыслящими, обладая достаточным образованием, достаточным пониманием вещей, достаточной духовностью, но вместе с этим и достаточным богословским образованием, чтобы быть в состоянии о своей вере говорить разумно, понятно, с глубиной и убедительно.
В результате у нас все вылилось в систему, при которой молодой человек, стремящийся к священству, получает образование и потом посылается туда, где он нужен. Но там он может оказаться чужим человеком: он не родился в этой среде, он не оттуда вышел. И мне кажется, что нам надо добиваться чего-то иного. В Англии за последние двадцать с небольшим лет, что я нахожусь здесь, я старался осуществить именно какое-то равновесие между образованностью и укорененностью в почву. Скажем, все молодые священники, которые у нас есть, и почти все священники из нашего прихода или из провинции прошли университетский стаж, затем начали чувствовать в себе призвание заботиться во имя Божие о людях, призвание, которое можно выразить уже приведенными словами, что христианин — это человек, которому Бог других людей поручил. Ради этого они под моим руководством и под руководством других людей начали изучать православную веру, Священное Писание, творения святых отцов, вообще все то, что относится к вере. И я никого до сих пор не рукоположил, кого сначала люди сами не захотели бы иметь священником. Я себе положил правилом ждать момента, когда кто-нибудь мне скажет: «Почему вы Сережу (или Мишу, или другого кого) не делаете священником? У нас всех к нему такое доверие, что мы хотели бы у него исповедоваться». В момент, когда я слышу, что у того или другого хотят исповедоваться, я знаю, что он готов и что люди готовы: из него можно сделать священника, то есть человека, который на себя берет других людей.
Но это можно сделать, к сожалению, только в исключительных обстоятельствах нашей жизни. У нас здесь относительно немногочисленная русская эмиграция, у нас довольно высокий культурный уровень, у нас есть молодые люди, желающие стать священниками, и у нас здесь такая обстановка, что невозможно стать пленником каких-то церковных структур, организационной жизни, потому что каждый священник живет в очень не похожей на другие города среде и каждый должен по-своему отвечать на встающие перед ним вопросы.
Но что делать с теми, кто прошел через богословскую школу? Их не всегда можно послать в приход, где они выросли и откуда появились, потому что некоторые приходы дали много кандидатов, другие не могли этого сделать. Тут начинается проблема, которую вы ставите: священника, который в какой-то мере — чужой человек, пока не привьется.
В чем первая роль священника? С одной стороны, священника — духовного руководителя, с другой стороны, все-таки священника — представителя организации. Потому что как ни огорчаться тем, что Церковь в организационном смысле как бы окаменела, как ни радоваться, что есть такие случаи, как в Греции или в Англии, где действительно Церковь и жизнь как-то органически связаны, все-таки священник в большинстве случаев и в большинстве стран является только что не чиновником своей церковной организации. А ведь кроме того, что он исповедует и причащает людей, окормляет их физически церковными таинствами, у него есть и другие задачи, правда? В чем заключаются задачи священника?
Мне кажется, что тут два вопроса. Пока мы будем воображать, что церковная организация, структура играет ту большую роль, которую мы ей придаем, священнику в этой структуре будет тесно и трудно. Надо ставить вопрос об этой структуре. Я сейчас вовсе не говорю, что не должно быть епископов, священников и дьяконов, что не должно быть церковного строя. Но есть канцелярский строй и есть церковный строй, и это разные вещи. И мне кажется, что жизнь — слава Богу! — разбивает канцелярский строй для того, чтобы выпустить на свободу подлинно церковный строй. Это — первое.
Затем: в промежуточной стадии церковного обновления, в которой мы находимся (не в смысле обновленческой церкви, а в смысле новой жизни, то есть притока древней, исконной жизни в современность), нам надо считаться с тем, что структуры эти есть, что хотя все больше и больше и миряне, и священники, и епископы сознают их относительность, их служебное, а не основное значение, надо как-то постепенно в их рамках расти, если можно так выразиться, как цыпленок растет в яйце, пока не вылупится; но разбивать яйцо слишком рано — тоже бессмысленно. Мне кажется, священнику должна быть дана большая свобода при очень глубоком общении его с другими священниками и с его епископом. Должно быть такое равновесие, при котором священник не является только чиновником, выполняющим какие-то задания, а есть общение, где люди могут делиться опытом, где старший может просто свой опыт предоставить другим, не заставляя их принять его, не навязывая его, не делая из него какие-то административно-канцелярское обязательства, а наоборот, вызывая к жизни — не «самодеятельность», потому что это слово несколько легкомысленное, а творческую, вдумчивую деятельность.
В чем я вижу свою задачу сначала как священника, а затем как епископа? Во-первых, я нашел веру не через Церковь, не через организацию церковную, а непосредственно от Бога и от Евангелия. И поэтому я глубоко верю, что первое, о чем священник должен заботиться, это о своей вкорененности в молитву, в общение с Богом. Священник должен постепенно углубляться в понимание евангельского слова, евангельского свидетельства, евангельской проповеди, и это живое слово Самого Бога проповедовать, то есть, во-первых, ознакомлять людей с этим словом, а во-вторых, доводить до сознания людей его жизненность, его глубину, его творческую силу. Начинается все с того, чтобы услышать слово Божие и произнести это слово. Как говорил апостол Павел: Горе мне, если я не проповедую (1 Кор 9:16) и еще: Я послан проповедовать, а не крестить (1 Кор 1:17). В каком-то отношении я мог бы сказать тоже: горе мне, если я не проповедую! Я не могу не говорить о Боге просто потому, что для меня встреча с Богом была такой значительной, это было для меня начало жизни после целого периода внутренней смерти в отчаянии, в бессмыслице. В какой-то мере я чувствую, что моя задача — именно живое слово, что другие формы церковной деятельности для меня менее значительны.
Второе (это, может быть, несколько противоречит тому, что я сейчас сказал): я чувствую, что Божию жизнь нельзя ни передать, ни привить одним словом, только речью. Порой когда говоришь слова Божии, Христовы, они с такой силой бьют в душу, так глубоко пронизывают ее, что, почти несмотря на нас, они действенны, эти слова действительно жизнь. Но кроме этого, жизнь Божия может быть дана, внедрена в человека, который ее хочет, который ее ищет, который ей открывается, через церковные таинства. Потому что таинства — это не какие-то магические действия или просто образные действия. Таинства — это действия Самого Бога, через которые Он (правда, при соучастии людей, посредством тварного вещества этого мира) доносит до нас Свою Божественную жизнь, вкладывает ее в нас, так что мы ее имеем в себе в большей полноте, чем сознаем то, мы уже пронизаны этой жизнью до того, как мы ее сознаем. И центральный момент христианской педагогики, мне кажется, в том, чтобы ребенку, юноше, взрослому человеку, все равно, дать самую Божественную жизнь через животворное слово и животворные таинства и потом ему помочь осознать то, что он получил, то, чем он уже обладает, и раскрыть ему всю глубину и весь объем этого опыта Божественной жизни.
И тут третья задача священника: духовное руководство, просвещение всех, кто ему Богом поручен, причем «духовное руководство» вовсе не означает, что он выше других, умнее других и «куда-то» их ведет. Путь один — это Христос, и нет такого пути, по которому священник может вывести человека за руку, стадия за стадией, «куда-то». Все, что он может сделать, это человеку помочь войти внутрь себя самого и там научиться смотреть, видеть, открывать те глубины Божии, которые в нем есть. Руководство не заключается в том, чтобы навязывать взгляды или что бы то ни было, а — человека научить самостоятельно и творчески осмысливать и осуществлять жизнь, которая в нем есть.
Наряду с этим священник, конечно, встречается с трагедиями жизни, с проблемами жизни: сколько у него есть опыта, он может в этом помочь. Но, может быть, больше чем из своего опыта, он должен научиться помочь своей благоговейной, скромной любовью, благоговейной по отношению к человеку, скромной в том смысле, что он не должен вторгаться в чужую жизнь, а стоять, как слуга, — доверчиво, с почтением, готовый услужить, не навязывая себя. И любовь должна быть, то есть такое чувство, которое позволяет священнику забыть себя, потому что другой человек для него гораздо важнее и значительнее. Вот что мне кажется основным для священника.
Если вы спросите меня, как я себе представляю свою роль как епископа, отвечу: я старше тех священников, которые у меня есть, — возрастом, рукоположением, временем, с какого я вступил на этот путь. До того, как я стал священником, у меня была довольно длинная жизнь в совершенно другой области. Я жил в миру, был врачом, участвовал в войне, у меня есть какой-то кругозор, которого у них, возможно, не хватает по молодости, по обстоятельствам, из-за того, что мы все разные. И вот пришли ко мне однажды мои молодые священники и сказали: «Ты нас приготовил к священству, ты нам дал священство, а теперь поделись с нами твоим опытом». Мы собираемся раз в месяц и делимся всем опытом жизни, какой у нас есть, по поводу конкретных проблем, встающих то у одного, то у другого. И моя роль, мне кажется, — роль человека более опытного, более, может быть, успокоенного (хотя у меня огонь не погас еще), который видел и слышал больше, который может собрать этих молодых людей и их научить вместе думать, вместе жить, вместе творчески углубляться в пути Божии и в пути человеческие. Но ни в каком случае не навязывать им каких-то своих, суживающих их сознание путей.
Вы можете сказать, что административно жизнь от этого, вероятно, страдает. Нет, не страдает, потому что административно жизнь заключается в том, чтобы создавать строй, стройность, гармонию, единодушие, и творческую силу высвобождать, а вовсе не вгонять в какие-то рамки.
Вот все, что я могу сказать об этом. Что касается до внешней, структурной администрации, мне кажется, что при взаимном понимании, при творческом сотрудничестве она сама собой заменяется чем-то гораздо более значительным: силой, действием, веянием Святого Духа и следованием по пути, который есть Сам Христос, а не по какой-то дорожке, которая ведет куда-то, большей частью, в лес.
Владыко, вы говорите о как бы идеале священника, о том, какой бы вам хотелось видеть работу священника, о том, как вы сами работаете, как работают люди, сотрудничающие с вами. Но идеальных священников не так много, и если хороших священников, наверное, большинство, то все-таки есть и плохие. В какой мере и должны ли мы вообще доверяться людям, которые носят священнический сан, даже в тех случаях, когда их поведение — моральное, нравственное, политическое — нам кажется несоответствующим этому сану, когда оно смущает приход?
Это очень трудный вопрос, на который нельзя ответить одной фразой. Во-первых, есть люди, которые умеют разграничить в себе разные области. Есть, например, люди, к кому можно обратиться с вопросом, и хотя у них есть личные убеждения, но они способны сказать: «Вот мои убеждения, однако я думаю, что вы должны поступить иначе». Они способны на это, иногда даже создавая опасность для себя, направляя человека по пути, который только усложнит им самим жизнь. Есть люди достаточно великодушные, достаточно справедливые, достаточно смелые для этого. Такому человеку, если даже у нас есть глубокие расхождения с ним в его путях, можно доверяться.
Есть другой тип: человек, у которого есть нравственные слабости, ставящие под вопрос его священническую личность. Это несчастье, которого не должно бы быть. В древней Церкви люди относились друг к другу с большей любовью и с гораздо большей строгостью, чем теперь. Сейчас у нас любви меньше, чем было в века гонений, — а строгости тоже меньше, как будто притупилось какое-то чутье. В древности были поступки, установки, которые просто сами по себе лишали человека права продолжать быть священником или становиться священником. И мне кажется, что нам надо было бы вернуться к более строгой оценке этого. Трудность возникает такая: для того чтобы произвести строгий суд, церковное общество должно само очень строго к себе относиться. Человеку стыдно бросить камень в другого, потому что он знает, что этот камень попадает в его собственную совесть. И здесь христианское общество должно переродиться, вырасти само в меру Евангелия и тогда начать производить гораздо более разборчивый суд над своими служителями — потому что церковный чиновник или, просто говоря, священник есть служитель и Церкви и Бога, не служитель «культа» как такового.
Дальше, что касается до нашего теперешнего положения: есть установки людей, которые поступают нехорошо, жизнь которых является позором для Церкви, которые кладут охулку на Самого Бога и на Христа своей жизнью, своим поведением. Такие должны были бы исключаться судом церковным и судом своей совести. Я знаю людей, которые один раз совершили преступление против того или другого основного внутреннего закона и никогда больше не служили, отказавшись от своего священства, потому что знали, что перед Богом они не могут больше предстоять в священном сане.
Есть, однако, еще один тип человека, к которому, по-моему, русский верующий относится с гораздо большим пониманием. Это человек, который, правда, по слабости, по сломленности живет не в уровень своего призвания или, скажем просто, не достойно своего призвания, но который несет в себе такое чувство покаяния, такое совмещение ужаса перед собой и трепета перед Богом, что можно к нему пойти. Это встретилось в моем опыте. Какое-то время я ходил на исповедь к священнику, который отчаянно пил. Я тогда не знал, почему это с ним случилось, но у меня выбора не было. Позже я узнал, почему он начал пить, и стал относиться к нему с еще большим уважением, несмотря на его поведение. У этого человека на глазах погибли его жена и дети, он ничего не мог сделать, чтобы их спасти, и запил. Конечно, можно сказать, что если бы он был достоин своего призвания, он никогда бы этого не сделал и, как Иов, сказал бы: «Господь их дал, Господь и взял обратно». Но этого нельзя требовать так легко от каждого. И я испытал при встрече с ним, что этот человек, потому что он перед Богом предстоял в ужасе о себе и с изумительным благоговением перед Богом, мог слушать мою исповедь, плакать надо мной — не пьяными слезами, а слезами истинного сострадания, и мог мне сказать: «Ты знаешь, какой я человек, ты же понимаешь, что я не имею права тебе давать совет; и однако, слово Божие остается истинным даже в моих устах, и вот что говорит Христос, вот что говорит церковное предание…» Это сочетание падения человека с изумительным смирением, из которого у него вырастало никогда, ни прежде, ни после, не встреченное мною сострадание, мне дало возможность у него исповедоваться и с благоговением целовать благословляющую руку. Это другого рода проблема.
Но конечно, основная, центральная проблема в наше время — это священники, которые, забывая, что их призвание — строить Царство Божие, то есть строить внутреннюю жизнь людей, открывать им Бога, разверзать перед ними новое, Божие видение мира, углубляются в современный мир и, вместо того чтобы вносить в него Божию правду и провозглашать в нем Божий суд, так с этим миром переплетаются, что уже принадлежат миру, а не Царству. Есть люди, которые в своей общественной деятельности заняли такое одностороннее положение, что их стояние в том, что, по их мнению, является правдой, делает невозможным для многих подойти к ним, потому что их суждение не из Евангелия, не от Бога, а от предвзятых, уже земных предпосылок.
Еще хуже, когда человек оказывается в плену политической деятельности, когда человек не уверен, что, подойдя к священнику, найдет в нем понимание, потому что они стоят на двух полюсах какого-то политического мировоззрения или исторического видения вещей. Вот тут, мне кажется, мы должны относиться с большой зоркостью и не давать человеку, призвание которого — нас вести от земли на небо, в глубины бытия, стать на нашем пути и нам закрыть этот путь. Христос говорил, когда Ему поставили этот вопрос: На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; по делам их не творите, потому что они запирают путь в Царство Божие (Мф 23:2—3). Тем не менее Христос призывает Своих современников прислушиваться к их словам, когда они говорят от Бога. Но личное доверие, конечно, подрывается, и иногда чувствуешь, чтонельзя с открытой душой пойти к тому или другому, потому что он закрыл путь верующему — и это преступление перед Богом.
А если другого священника нет, если не к кому пойти?
Тогда, думаю, надо относиться к священнику, обращаясь к той его стороне, которую земля никаким образом не может запятнать. Священник, совершающий Литургию, совершает ее не своей силой, не своей личностью: единственный совершитель таинств — Сам Христос, единственная сила, сотворяющая таинство, — Святой Дух. Священник стоит от имени Церкви, от имени всей земли и подносит Богу хлеб, вино и говорит: «Возьми, освяти и верни их нам». И эти руки, этот голос и этот человек играют такую второстепенную роль, что можно пройти мимо его личности.
Труднее с исповедью, где могут возникать вопросы нравственные и где может встать вопрос доверия к человеку: честен ли он? Могу ли я открыться ему без страха — скажем прямо — предательства? Несколько раз мне пришлось встречаться с этим вопросом, и мой ответ был тогда: «Исповедуйся, но пожалей и его, и твою совесть. Не ставь его перед проблемой, которую он бессилен понести, говори о том, что не может его вовлечь в грех. В остальном — стань перед Богом и скажи: Господи! Я не мог иначе поступить… И верь, что Бог, Который слушает исповедь, прощает, разрешает, исцеляет не только то, что ты сказал, а все то, что ты Ему в душе принес, и не только то, что ты сам сумел осознать, но и то, что ты осознать сам не можешь и о чем говоришь Богу: Вглядись, Сам прозри то, чего я не могу видеть, и Сам воздействуй там, где ни человеческая мудрость, ни опытность ничего не могут сделать».
Когда видишь в священнике карьеризм, довольно легко принять решение, что этому человеку доверять трудно. Когда видишь в священнике почти прямой компромисс, тоже более или менее ясно, что, как вы говорите, нельзя возлагать на него чрезмерно большого бремени. Но иногда священник, действуя как представитель организации, к которой он принадлежит, идет на сделку, чтобы защитить, сохранить свой приход. В какой мере оправдана сделка во имя сохранения этой организационной единицы, которая одновременно и церковная единица?
Это страшно трудный вопрос и для совести самого священника, и для оценки извне. Нельзя идти на сделки, которые поставят под вопрос веру, верность Христу, думаю, что нельзя идти на сделки, которые ставят под вопрос нравственность. Об остальном я просто боюсь судить, но мне кажется, что нельзя рассматривать священника в отдельности от его прихода, так же как нельзя рассматривать офицера в отдельности от той части, которой он командует. Если за священником стоит сознательный, смелый, твердый приход, который готов идти до предела возможного и, может быть, за пределы возможного, священник имеет право вместе с ним идти на страдание. Но я не думаю, чтобы он имел право накладывать на людей хрупких, нерешительных, которые еще сами себя не определили до конца, бремя, которое их сломает, так и не сделав их свидетелями истины или мучениками за веру. Я знаю, что мой ответ может показаться уклончивым, но я не решаюсь до конца произнести суждение.
Можно взять пример более простой, из семейной жизни. Если все члены семьи согласны ради чего-то, что они считают важным, значительным, нравственно обязующим, идти на голод, на измор, на страдание — можно идти на это. Но если члены семьи говорят тому, кто является их вдохновителем или старшим в семье: «Это нам не под силу, нам страшно, пожалей!» — он должен пожалеть. Он может уйти и сам идти на подвиг, но не имеет права заставить других идти на то, что им не под силу. Не излияние крови делает мученика, а верность — сознательная, выбранная человеком. И вот здесь проблема семьи, прихода, проблема, например, народа в моменты войны: если бы какое-нибудь общество было до конца, всецело христианским обществом, оно могло бы дать себя взорвать и уничтожить, лишь бы не проливать кровь. Но нет такого общества. Всякое общество состоит из людей верующих и неверующих, где-то в промежутке — полуверки, есть люди, которые не в состоянии принять такую смерть. И ради них христианину приходится избирать какой-то средний путь, который можно назвать компромиссным, но который не является, с моей точки зрения, просто компромиссом, потому что не является компромиссом жалость во имя чего-то высокого, иначе вся жизнь была бы компромиссом. Мы считаемся с обстановкой, с условиями и с возможностями. Тут такие возможности, условия, обстановка — страх, неполноценная вера, какое-то колебание, мольба: пожалей!.. И тот, кто на это идет, берет на себя иногда страдание нравственное и подвиг, перед которыми я готов преклониться больше, чем перед смелым, мгновенным подвигом мученичества внезапного, блестящего. Здесь вопрос героизма и подвижничества.
Мне кажется, что гораздо страшнее быть ненавидимым и начальством, и подчиненными, чем пойти на подвиг, даже на жертву своей жизни. Но в какой мере можно, жалея свою семью, свой приход, подчиненных, идти на духовное свое падение, на духовное свое отречение от того, что кажется необходимым?
Я не думаю, что на это можно идти. Никогда нельзя идти на свое духовное падение и на отречение от того, что тебе кажется единственным истинным путем. Я говорю о другом. Человек отказывается от одного пути, который есть путь любви, пламенной любви к Богу и к людям, для того чтобы идти другим путем, где та же любовь осуществляется в той же мере, с тем же благоговением, но где род страданий уже не тот, где есть боль, а не физическая мука. Я не думаю, чтобы кто-нибудь имел право выбрать путь внутренней погибели ради чего бы то ни было. Но если оно так стоит, человек должен задать вопрос другим: вы готовы идти на это? Если они ответят: «Пожалей!», он может им сказать: «Да, но тогда я должен уйти и идти своим путем, непримиримым».
А если он идет на путь компромисса, сделки, сговора с чем-то враждебным, не спросив членов своей семьи или своего прихода?
Видите, я думаю, что есть разные способы спрашивать. Я сейчас конечно думаю не о том, чтобы на приходском собрании или во время богослужения поставить вопрос в такой форме, потому что по большей части в такой обстановке его нельзя ставить и ответа на него можно и не получить. Но есть способы, зная людей, с которыми живешь, прислушиваясь к их надеждам и страхам, измеряя их способность встать перед горем или страданием, произвести такую оценку и их повести за собой.
А если не имеешь непосредственного контакта с верующими через исповедь и глубокие личные разговоры со многими подопечными, если ты фактически — администратор, а не духовный отец вверенной тебе паствы, как тогда можно принять решение?
Тогда, думаю, можно принять решение двояко: либо на уровне человеческих оценок и измерений — и это может быть ошибкой или может быть справедливым суждением. Либо, если ты оторван от людей, которых ты вовлечешь в тот или иной путь, единственное, что можно сделать, это уйти в такую молитвенную жизнь, в такую отрешенность от земли, где бы Бог тебе сказал: Вот Мой путь… И тогда, не прислушиваясь ни к чему другому, кроме как к голосу — не своей совести, а именно Живого Бога, вещающего и требующего, ты можешь поступить так или иначе. Но тут, конечно, человек должен идти на духовный подвиг до самозабвения, действительно искать воли Божией, чего бы это ни стоило, — перед глазами людей и перед глазами Божиими.
В чем заключается роль Церкви для рядового верующего — не для священника, а для простого мирянина?
Мне кажется, что Церковь — это место, где люди могут выразить свою связь с Богом вместе, в порядке общей веры, общей молитвы, сознания, что они едины, что они составляют один живой организм, как бы одну личность во множестве лиц. Это первое. Сознание, что мы можем говорить с Богом не «Ты и я», а вместе сказать: «Отче наш», охватив и других людей чувством любви, чувством уважения, и еще, может быть, очень сильным и очень важным чувством взаимной ответственности. Ведь если бы мы все были людьми замечательными, выдающимися, не представляющими никогда проблемы друг для друга, такая совместность была бы просто гармонией, радостью, чем-то вроде музыкальной симфонии. Но в нашей совместности есть трагический момент, потому что мы все друг для друга трудны. Трудны, потому что мы не одного уровня духовного, трудны, потому что мы в состоянии борения и борьбы, которую несем ради того, чтобы вырасти в полную меру своей личности, то есть стать самими собой до предела, какими Бог нас возмечтал и какими мы хотим стать. В этом процессе мы переходим не только от победы к победе, но часто от поражения к поражению, у нас бывают взлеты, у нас бывают провалы, у нас бывают моменты, когда мы себе и другим делаемся невыносимы.
В этой церковной совместности есть очень ценный для меня момент — это принятие другого, не тогда когда все хорошо, а когда все плохо. Апостол Павел это определял: Друг друга тяготы носите, и прибавил: и так вы исполните закон Христов (Гал 6:2). Вот эта готовность не только дорогого, любимого, знаемого, но всякого, кто вдруг тут окажется, воспринять, принять как своего брата, готовность понести всю тяжесть его личности, всю его неустойчивость, всю трагедию его становления, все его житейские и духовные трудности, мне кажется, представляет сердцевину церковной жизни.
В этом смысле церковная жизнь — не праздник. Она является праздником, только если понять, что два человека, или сто, или тысяча человек, которые берут на свои плечи взаимные тяжести, взаимные трагедии, действительно вступают в пир любви, в чудо любви, в такое взаимное отношение, что самое мучительное вдруг оказывается осмысленным, значительным, таким, что можно это нести, потому что оно делается вместе и с вдохновением. В этом отношении Церковь для каждого из нас может иметь двоякое значение. С одной стороны, она меня несет, как поток несет щепку, с другой стороны, я сознаю, что я не только щепка, которую уносит поток, но что я тоже кого-то несу на плечах, даже человека, о котором я мало что знаю или ничего не знаю. Все мы знаем, какое значение имеет, например, взгляд, который на нас как будто случайно бросил другой человек: он меня увидел, он в моих глазах прочел горе или смятение и улыбнулся, — это уже много.
Вот в этом чуде, которое, конечно, не является только церковным, но которое в Церкви совершается не стихийно, а сознательно, в силу целостного мировоззрения, мне кажется, и есть сердцевина значения Церкви для всякого человека.
Кроме этого, конечно, есть и другое. Во-первых, Церковь меня учит, и Церковь должна учить. Причем, когда я говорю «Церковь», я говорю о совокупности верующих, и если говорить об учительстве и об учителях, то в меру их собственного опыта и знания Бога, а не в меру их продвижения в каких-то церковных чинах. В этом смысле мирянин может оказаться духовным руководителем священника, простой монах может оказаться вождем и наставником епископа. Можно вспомнить, например, отношения Сергия Радонежского и святителя Алексия Московского, который к нему обращался за советом, хотя иерархически был над ним, но признавал, видел в Сергии глубины духовные. В этом смысле Церковь должна учить, причем, повторяю: тот должен учить — примером, иногда молчанием, сиянием своей личности, словом часто скупым, точным — кто знает, о чем речь идет. Конечно, знает не только из своего личного опыта, но и из церковной сокровищницы, то есть из опыта тысячелетий церковной жизни, из писаний тех, кто познал Бога и чей опыт можно другим рассказать. Так что Церковь должна учить истине, то есть тому, что на самом деле есть: о Боге, о человеке, о человеческом обществе, о жизни, о мире, обо всем Церковь должна иметь свое благоговейное, опытное слово.
Во-вторых, и в связи, конечно, с первым, Церковь должна нас учить ответственности, то есть именно тому, что христианин — это человек, которому Бог поручил заботу о мире, о материальном мире, общественном мире, о каждом отдельном человеке — верующем, неверующем — без разбора. Бог поделился с ним в какой-то мере Своим отношением к миру и Своим видением вещей, и в этом смысле христианин должен ответственно стоять в жизни: жизненной правдой, прежде всего просто своим поведением, тем, какой он есть и что он делает; а затем, когда нужно, и словом, причем зная, что и слово, и поступок, и стояние в истине и в правде могут дорого ему обойтись.
И третье, чему Церковь должна нас учить: такой заботливости о другом, такому сознанию своей ответственности, которое выражалось бы в самозабвенном, самоотверженном служении. Самоотверженность в этом отношении, конечно, не значит самоуничтожение, это значит, что у человека есть какая-то шкала ценностей, что есть ценности, которые для него дороже свободы, дороже жизни, дороже добрых отношений с окружающими — просто дороже всего. И человек — потому что другой в глазах Бога и, следовательно, и в его собственных глазах имеет абсолютную ценность — может стать его служителем: не рабом, не слугой, а тем, который способен так полюбить, так уважать другого, такое значение придавать его временной и вечной судьбе, что он оказывается готовым жизнь свою положить за него, умереть, если нужно. А порой жить бывает труднее, чем умирать. Минутами, в мгновения предельного напряжения кажется легче фейерверком сгореть — только бы кончилось! А жить, продолжать жить, продолжать служить, продолжать стоять порой бывает труднее. И вот христианин должен научиться этому.
Здесь можно было бы много сказать о связи, которая есть между любовью и смертью. Любовь и смерть страшно друг на друга похожи. Мы употребляем слово «любовь» очень легкомысленно, но, в конечном итоге, полюбить кого-нибудь значит ему придать такое абсолютное, всеконечное значение, что ты готов и жить, и умереть ради него. И это очень много! Этому Церковь учит из тысячелетия в тысячелетие, мы это видим и в лице мучеников, и в лице всех подвижников, самых скромных и незаметных. Церковь нас учит этому на всем нашем пути, не требуя от нас вот сейчас чего-то несоразмерного с нашими силами, учит изо дня в день.
Возьмите для примера молитву. Когда Церковь нам предлагает молитвы, написанные святыми, она нам говорит: читай их утром, читай их вечером, употребляй их в разные моменты своей жизни… О чем нас просит Церковь? О том, чтобы мы встали на молитву и были готовы забыть о себе, готовы были себя перерасти и соединиться с опытом других людей, которые больше нас, глубже нас, чище нас; чтобы мы готовы были приобщиться их опыту, сделав своими их слова, а через слова — их взгляды, их чувства.
И особенно ярко это сказывается в богослужении, когда мы не поодиночке, как лишь частица организма, а как целостный организм, который собрался, присутствует, явлен, когда мы вместе молимся. Мы приходим в храм. Ведь часто люди приходят со своими заботами. Да, каждойзаботе есть место, если вообще имеет какой-то смысл то, что я в начале сказал: что мы друг друга берем на руки, что мы друг для друга делаемся предельно значительными. Но когда ходишь в церковь, речь идет вовсе не о том, чтобы, воспользовавшись собранностью всех, общей молитвой, свои заботы, свои тревоги представить Богу, а о том, чтобы влиться в этот поток любви к Богу и к людям, поток поклонения Живому Богу, Который тут, живет и действует — и ради Него забыть себя, ради других забыть себя и влиться в те скупые, строгие молитвы, которые нам дают возможность в нескольких словах выразить всю свою нужду и всю свою заботу о всех, обо всех нуждах и обо всех людях.
И опять-таки Церковь нам дает еще другое. Я сказал, что Живой Бог тут. Недавно у нас в храме крестился взрослый человек. Я его спросил: «Почему вы выбираете нашу Церковь? Почему вы, англичанин, хотите стать членом Русской Православной Церкви?». И он мне ответил: «Я пришел сюда неверующим; я стоял, приглядывался, прислушивался; и я почувствовал, что в этом храме — Бог Живой и действенный, Бог, Который присутствует и творит, Который претворяет людей. И к этой Церкви я хочу присоединиться».
В этом смысле мы не просто собраны во имя какого-то отсутствующего Бога, — мы собраны во имя Бога Живого, Который и среди нас, и внутри нас. Эта жизнь Церкви нам прививается, дается не только животворным словом. Христос говорит, что Его слово — жизнь и истина. Оно — жизнь, не потому что Он, будучи Богом, мог требовать, чтобы мы Его слова воспринимали без колебаний, а потому, что в Его словах такая Божественная и человеческая правда, что они убедительны сами по себе. Таково слово Христа, слово Священного Писания.
И кроме того, жизнь нам дают таинства, то есть те непостижимые, необъяснимые непосредственные действия Самого Бога, которые в нас внедряют, прививают нам самую Божественную жизнь так, что нам уже не нужно спрашивать других: «А что это за жизнь?», а достаточно обратиться внутрь себя и почувствовать, что в нас ликующе, торжествующе пробивается жизнь Самого Живого Бога, сродняющая нас с Ним и со всяким человеком, раскрывающая перед нами новое понимание, новое представление, новый опыт жизни.
В этом отношении Церковь имеет что дать — если только мы готовы это принять. Потому что для того, чтобы это принять, есть еще одно необходимое, неизбежное условие: это открытость и готовность самоотверженно войти в область веры, готовность дерзновенно и смело любить, даже если в конечном итоге подлинная, истинная любовь значит, что в нас что-то должно умереть для того, чтобы родилось что-то большее, вечное, божественное, подлинно человеческое.
Владыко, вы говорили о роли Церкви для мирянина и дали как бы идеальную картину того, чего верующий может ожидать от Церкви. Но по опыту участия в церковной жизни мне, слушая вас, было, откровенно говоря, больно, потому что такой любви в Боге, такого душевного внимания к другим, да и готовности других откликнуться на душевное внимание я почти не встречала…
К сожалению, вы правы. Я действительно сделал попытку дать картину того, чего верующий должен ожидать от Церкви, на что он имеет право, что он должен требовать от Церкви — но я прибавлю и еще одно: картину того, что он должен созидать сам, своими руками. У нас отчасти пропало сознание того, что Церковь — это не духовенство, что Церковь — не какие-то люди, представляющие церковную организацию. Церковь — это все те, кто верует во Христа, кто вместе молится, это люди, которые через это связались одной общей как временной, так и вечной судьбой.
В этом отношении, конечно, мы имеем право требовать от цельной организации, чтобы были созданы условия, при которых идеал, о котором я говорил, мог быть осуществлен. Мы имеем право требовать, чтобы священник был на высоте своего призвания, чтобы его проповедь была чиста, чтобы его жизнь была достойна, чтобы его облик, его слово, его действия были доказательством того, что он искренне и серьезно верит в то, о чем говорит сам и во что веруют — причем иногда жертвенно, вплоть до готовности быть гонимыми за веру, — его прихожане.
Но, с другой стороны, мы имеем право требовать этого и от самих себя, и от окружающих нас людей, которые вместе с нами — подобно вам, подобно мне — горюют и плачутся над действительностью. Это очень важно, мне кажется. В православном сознании Церковь — это весь народ, все. И нельзя, будучи членом Церкви, говорить, что Церковь плоха, как бы подразумевая, что она — одно, а я — другое. Мы только можем сказать, что мы удивительно плохи, что мы очень неудачливы в попытках жить согласно своему призванию или тем убеждениям, которые мы высказываем.
И тут, я думаю, можно кое-что сделать. Когда ездишь по Англии, видишь на каждой церкви плакаты, где говорится: «Бог тебе предлагает то-то и то-то»: любовь, радость, жизнь… Нигде я до сих пор не встречал плаката, который ставил бы нас под вопрос и говорил: «Бог от тебя ожидает того-то. Что ты можешь дать Богу и непосредственно, и через твоего ближнего, через человека — косвенно?».
Итак, когда человек приходит в церковь, он должен ставить себе вопрос о том, что он сам в церковь приносит. Он должен был бы остановиться у дверей и подумать: с чем я пришел? С опустошенной душой, которая жаждет помощи, можно войти. А с мелкой мерзостью в душе, с непрощенной обидой, унизив кого-то на пути, оставив дома оскорбленного человека, проведя всю неделю как тиран своей семьи или угнетатель сотрудников на работе — войти нельзя. Евангелие нам совершено ясно говорит, что если придешь в храм и вспомнишь, что кто-то на тебя имеет обиду, оставь свой дар и иди мириться (Мф 5:23—24).
Потому что с этого все начинается, и начало нашего богослужения: Миром Господу помолимся… не значит: умиренным сердцем, с таким сознанием, будто все, что вне церкви — неважно, я пришел и хочу все забыть. Нет, это значит: приди, приобретя мир, примирившись с Богом, с собственной совестью, с окружающими тебя людьми, с обстоятельствами твоей жизни, и тогда начни молиться. И это требование неумолимое. Именно потому так часто молитва бывает пустая и души — опустошенные, что эти условия не соблюдены.
А кроме того, можно сделать две вещи, которые, мне кажется, имеют колоссальную важность. Если принять определение Хомякова о том, что Церковь — это организм любви, то каждый из нас является по меньшей мере маленькой клеточкой, и вопрос ставится о том, что большой любви мы не можем ни достичь, ни выразить, если не начнем с малой. Мы все время говорим: «Ах, любить бы так, чтобы жизнь отдать!». Или: «Я бы умер за вас!». Помню, я однажды это сказал кому-то, тот посмотрел и отозвался: «Вы не спешите умереть, а поживите немножко так, чтобы мне лучше стало». Меня прямо в жар бросило: я вдруг сообразил, что был готов на смерть, которая никому не нужна, а вот жить — нет, это трудно, потому что это реально, это сейчас надо, а не когда-то.
И вот первая задача христианина, который хочет что-то внести в церковную общину, это научиться любить лучше, любить по-Христову, а до этого — любить просто по-человечески, немного более достойно, чем мы это делаем. Мы часто употребляем слово «любовь» очень неопределенно: мы любим вареники, и мы любим своих детей, и мы любим природу — одно слово выражает слишком много понятий. И к сожалению, мы часто своего ближнего, своих родных любим так же, как вареники: мы их поедом едим во имя нашей «любви». Мы знаем, чтодля них хорошо, мы знаем, где их счастье, и — хотят они того или нет — мы в это счастье будем их вгонять всеми способами и всеми силами. Это мы знаем из опыта многих семей.
С этого все начинается. Ты жалуешься, что Церковь не есть организм любви, а ты сам — какая клеточка: раковая или живая? Раковая, то есть такая, которая поедает другие, или живая — которую можно уничтожить, но которая также может сама дать жизнь? Вот первый вопрос: вокруг меня есть какие-то люди — как я их люблю? Кто в центре — я, любовь или они? Какую роль они играют? Является ли моя любовь живым, творческим чувством, которое направлено на то, чтобы они могли быть самими собой, достичь предельной свободы, самобытности, или моя любовь совсем другого качества?
Начать можно, начать надо с того, чтобы наша любовь была вдохновением, радостью, крепостью для других людей, чтобы она была основана на моей вере в человека, на моей ликующей надежде, на убеждении, что все возможно этому человеку (разумеется, в пределах физических, естественных возможностей), и так расширять свою любовь. Я бы сказал: начни с тех, кого ты естественно любишь, не задавайся вопросом: как полюбить тех людей, кого я еще не люблю? Полюбив немножко лучше тех, кто мне дорог, менее себялюбиво, не ставя постоянно в центр вещей себя, оказывается, можно еще кого-то полюбить, потому что я стал менее эгоистичен, у меня глаза открылись, сердце стало более чуткое, понимание расширилось, доброй воли стало больше. И вот так, расширяя круг людей, которых я люблю, научаясь каждого любить по-новому, более совершенно, немного более похоже на то, как Христос нас любит, как Бог нас любит во Христе, можно что-то внести в церковное общение.
А второе: в каждой церковной общине есть несколько человек, которые думают и чувствуют одно и то же. Один в поле не воин, а два или три — уже сила. Христос сказал, что если двое или трое согласятся просить о всякой вещи, то их молитвы исполнятся (Мф 18:19). Речь совершенно не идет о том, чтобы люди согласились бороться за что-то одно, оставаясь друг другу чуждыми в прочем, нет! Речь идет о том, чтобы они достигли такого единства, такой сплоченности, при которой могли бы обо всем заботиться вместе, даже если не во всем будут согласны друг с другом.
Вот соберите двух, трех, пятерых — и пусть это станет общиной любви: эта община может еще одного человека охватить. Потом разбейте эту общину надвое, чтобы обе частицы собрали вокруг себя еще нескольких. И так, от одного к другому, можно увеличить это сознание, укрепить эту планомерную борьбу за человечность, за любовь, за все то, о чем мы мечтаем и чего мы не находим в Церкви, потому что сами за это не боремся, а ожидаем, что это сделает или Бог, или священник, или кто-то другой.
Владыко, но откуда взять силы? Не только для того, чтобы утвердиться именно в созидающей, высвобождающей другого человека любви, но и для того, чтобы распознать, где кончается творческая любовь, в которой вы даете человеку действовать от себя, и где начинается та «любовь», где вы чужими руками делаете свое дело?
Я думаю, что все начинается с момента, когда вы изверились в насилии, когда вы перестали верить, будто что бы то ни было достойное имени человека может быть достигнуто насилием над человеком. Я не говорю, что человек должен быть просто предоставлен своим настроениям, — есть какие-то границы, должна существовать некая направленность. Насилие всегда определяется тем, что угнетатель считает дело, задание, которое он перед собой поставил, более важным, чем отдельный человек. «Лес рубят — щепки летят»: человек — только щепка, а задача — лес рубить.
Конечно, есть какое-то равновесие между совершением дела и уважением к человеку, но нельзя просто игнорировать человека ради дела. В конечном итоге бывает, что человек сам себя игнорирует, он убивает в себе человечность, убивает в себе мотивы, достойные человека. Но никакое материальное дело, достигнутое путем разрушения человеческих личностей, включая и человечность того, кто повелевает и угнетает, не стоит того.
Вот где все начинается. В каком-то отношении это отрицательный момент: извериться в одном еще не значит поверить в другое. Но очень многое на земле, в нашем человеческом опыте делается на этом основании: человек пытается добиться своей цели и так, и сяк, и этак, приходит к заключению, что эти различные попытки никуда не ведут, и ставит перед собой вопрос: какой же путь куда-то ведет? Тут выбор между абсолютным приматом дела над человеком или абсолютным приматом человека над делом невозможен. Должно существовать, как я уже сказал, равновесие, которое делало бы человека живым сотрудником, открывало ему творческие пути.
На первых порах это иногда замедляет дело, но это всегда дает гораздо более богатый результат, потому что дело, в конечном итоге, будет сделано, причем так, что все участники будут спаяны между собой взаимным уважением, а не страхом (который разделяет, а не соединяет). В каждом из них разовьется сознание и чувство ответственности — причем не перед законом, не перед наказанием, а перед товариществом; разовьется способность думать самостоятельно и делать свой вклад в общее дело, ставить критически под вопрос себя и других, творчески подходить к задуманному делу.
Конечно, каждый будет это делать в меру своих нравственных, умственных и волевых способностей, но если человек, который себе в начале поставил вопрос, будет наблюдателен, он очень скоро обнаружит, что этот путь действительно может быть путем вдохновения. Когда видишь, как из рабов, разрозненных особей постепенно складывается артель товарищества, группа людей, связанных между собой идеалом, ради которого они готовы собой жертвовать (но не только жертвовать!), людей, которые достаточно друг друга любят и уважают, чтобы собой жертвовать ради других, тогда начинает появляться и вдохновение, и силы: силы терпеть, может быть, некоторую замедленность в достижении целей, терпеть те трудности, которые рождаются от сложного, устанавливающегося равновесия между людьми, терпеть друг друга, терпеть себя. И тогда силы можно найти, потому что их дает вдохновение.
Но начать, думаю, надо с того, чтобы посмотреть серьезно и поставить перед собой вопрос: вот я старался достигнуть тех или иных целей насилием — и что? Каков результат? Цель редко достигнута в совершенстве, потому что из-под палки никто не работает идеально, а человеческие отношения стали уродливые, страшные. И от такого пути человек, коллектив, человечество постепенно отказываются, всякий культурный, сколько-то тонкий душой человек и сколько-то ответственный за своих членов коллектив должен от этого отказаться. Иначе это просто отсталый коллектив, который живет еще временами египетских пирамид.
Отвечая на вопрос об участии мирян в жизни Церкви, вы говорили, в частности, о работе созидания любви. Что делать, если человек не согласен с действиями церковного руководства или отдельного священнослужителя?
Тут, я думаю, можно вкратце указать две вещи. Во-первых, за целый ряд столетий получилась трагическая разобщенность между иерархией и церковным народом. Культурная разобщенность, разобщенность, которая коренится и в том, что в Православной Церкви иерархи берутся из монашества, поэтому установка очень многих иерархов чисто монашеская и монастырская, подвижническая установка ухода, а не участия, и когда эта иерархия решает участвовать, за ней нет опыта столетий, имеющегося часто у мирян, которые никогда не отрывались от земных проблем. И я думаю, что одна из задач нашего времени состоит в том, чтобы трудом, взаимным усилием просто восстанавливать общение между иерархией и церковным народом — хотя бы в лице тех его представителей, которые могут вступить в диалог со своей иерархией так, чтобы и иерархия их поняла, и они поняли ее.
А второе (и это, мне кажется, тоже очень важно): иерархия не имеет права определять нормы действия для верующих во всех областях жизни. Иерархия поставлена для того, чтобы строить церковное тело — проповедью евангельской истины и евангельской правды, строительством таинств, строительством того организма любви, о котором я говорил. Но в области жизни, где человеческая и Божественная правда должна руководить поступками людей, иерархия может только говорить о правде и давать основные принципы этой правды, а то, как эта правда найдет себе выражение в отдельных, конкретных ситуациях, должно быть оставлено на совесть верующего. Не может быть трафаретного указания о том, что такая-то политическая система, такой-то политический строй, такие-то поступки в профессиональной области являются правильными или неправильными. Конечно, в пределах разума: убийство, даже совершенное профессионально врачом, который по законодательству данной страны имеет право лишить жизни безнадежного пациента, с христианской точки зрения недопустимо. Но я говорю об общих принципах.
Итак, есть область священная, которая принадлежит церковной иерархии, и другая область, где иерархия должна дать верующему свободно, творчески, с пониманием своего христианского призвания искать пути, потому что Евангелие не является учебником политики, социологии и справочником о том, как поступить в каждом отдельном случае. Поэтому священник или епископ, который поступает иначе, делая хотя бы и допустимые выводы, выходит за пределы своих прав.
Должна ли иерархия прислушиваться к голосу мирян-специалистов в какой-либо области, даже, например, нравственной?
Я думаю, что иерархия должна прислушиваться к голосу всех, не только специалистов. Сейчас есть области, которые действительно настолько сложны, что надо обращаться к мнению специалистов. И можно (а часто и надо) прислушаться также к голосу простого, честного, добротного человека и найти какое-то равновесие между тем, что говорят специалисты, тем, как реагирует нормальный, простой, здоровый духом человек, и тем, что ты чувствуешь и как сам понимаешь Священное Писание. Высказаться можно, потому что священник или епископ в каком-то смысле является тоже и человеком-христианином, и гражданином мира, в котором мы находимся, и членом того более узкого общества, в котором он рожден и живет. Но, высказываясь, он должен знать, где границы Евангелия и где границы его собственного мнения или убеждения. Он может иметь пламенные убеждения, но не имеет права их выдавать за голос Церкви. Иначе было бы совершенно невозможным, скажем, наше положение как Экзархата Московского Патриархата в Западной Европе, где большинство людей — или русские эмигранты, или иностранцы, ничем не связанные с современной Россией. Наше существование основано на том, что мы принимаем от церковной иерархии каждое слово церковной истины, но оставляем каждому члену нашей иерархии и нашего народа церковного, как в России, так и за границей, право себя определять политически, научно, общественно. Мы вправе иметь друг о друге мнение, мы можем в каком-то отношении отрицать то положение, какое тот или другой занимает, и одновременно оставаться в пределах одной, единой, неразделенной и неразделимой Церкви, поскольку Церковь говорит о церковном, то есть о Боге, о человеке, о человеческих отношениях, не определяя ни политически, ни социально каких-то правил, единственно допустимых для ее членов.
При этом я глубоко убежден, что и мы, и Патриархия должны друг ко другу очень внимательно прислушиваться — вдумчиво, творчески и помнить, что, с одной стороны, мы составляем сложное человеческое тело, что именно эта сложность дает нам возможность одновременно принадлежать жизни и не быть порабощенными временностью, а с другой стороны, что наша церковность нам дана из недр Московской Патриархии. От нее мы получаем таинства, через нее мы общаемся с церковным русским народом, этот русский народ, к которому мы принадлежим, является продолжателем жизни Православия на нашей русской земле, и одновременно, через наше участие, присутствием в Православии всемирном. В этом отношении мы должны найти равновесие между творчеством и традицией, между уважением друг к другу и свободой друг от друга. И мне кажется, это процесс исторический, порой мучительный, но далеко не завершенный, сейчас в продвижении, и завершится тем, что Церковь приобретет новую глубину, новую значительность, найдет новые пути для того, чтобы все человеческое было ей близко к сердцу, но чтобы в это человеческое она могла внести действительно подлинно Божественное начало.
Владыко, вы говорили о месте Церкви в жизни верующего человека, о задачах мирянина в Церкви, о задачах священника, и постоянно напоминали, что роль Церковь и роль священника — это, в первую очередь, вводить людей в Царство Божие, помогать людям строить свою внутреннюю жизнь. Но наряду с этим мы видим, что Церковь как организованное объединение единомышленников и отдельные работники и иерархи Церкви занимаются деятельностью чисто мирской, сотрудничают с правительством своей страны, даже богоборческим, в конкретных мероприятиях, не только общественных, но и политических. Возникает вопрос: должна ли Церковь активно сотрудничать с государством? С другой стороны, Церковь сейчас активно сотрудничает с некоторыми неправительственными группировками, например, помогает освободительному революционному движению в Южной Америке и в Африке. Оправданы ли такие конкретные действия?
Я должен сказать прежде всего, что у меня нет определенного ответа на ваши вопросы. И не столько потому, что я недостаточно над ними задумывался — эта тема настолько жгуча в наше время, что всякий мыслящий человек должен себе эти вопросы ставить, — сколько потому, что мне кажется: христианин, вернее, Церковь может отвечать на вопросы с совершенной уверенностью только тогда, когда ее ответы укоренены в Евангелии, в учении Христа или Его примере. По отношению к политическим, даже к общественным темам, мне кажется, в Евангелии нет ясного политически-общественного учения, нет Евангелия общественно-политической правды, которая определяла бы только одну возможную линию. И в этом отношении изнутри Евангелия, от имени Христа, действием Святого Духа Церковь не в состоянии выразить одно только мнение, которое было бы мнением Церкви или волей Самого Бога.
И поэтому Церковь, я думаю, не в состоянии, просто не имеет права себя до конца отождествлять ни с одной политической линией, ни с одной партией, ни с одной организацией, ни с одним движением. Евангелие нас учит любви, самопожертвованию, учит, что у человека есть право на то, чтобы на него обратили внимание и ради него даже жизнь свою положили. Но о том, в каких формах это выразится, ничего не сказано. «Отдай свою жизнь» — понятие очень широкое, и форма этой отдачи может быть очень различная.
Поэтому я глубоко убежден, что изнутри Евангелия невозможно дать ответ на ваш вопрос. Можно только (и это относится к каждому человеку в отдельности и к группам людей, которые вместе думают, вместе действуют, могут вслух делиться своими соображениями) единственное нечто попробовать сделать. Вы ставит вопрос так: Церковь учит нас, призывает нас, ведет нас к тому, чтобы строить свою внутреннюю жизнь; и действительно, основная задача Церкви — это закладка и развитие внутренней жизни. Христос нам говорит, что Царство Божие внутри нас (Лк 17:21), это тоже правда. Но вместе с этим внутренняя жизнь непременно выражается вовне. Царство Божие, водворившееся внутри человека, непременно найдет себе выражение в его словах, в его действиях, в его целостном отношении к миру, к событиям, к людям. В момент, когда эта внутренняя закладка проявляется вовне, человек делается общественным лицом, причем всякий человек — во все времена, но в наши времена крайней осложненности политической и общественной обстановки особенно — принадлежит к целому ряду миров одновременно. У него есть свой, глубокий, потаенный мир молитвы, дум глубоких, у него есть отношения со своим ближайшим окружением, он есть член Церкви. Одновременно и как частное лицо, и как член Церкви он является членом того очень сложного общества, в котором живет, которое состоит из верующих и неверующих, из людей агрессивно неверующих или безразлично, теплохладно неверующих, из людей тех или других общественных или политических установок. И он не может избежать того, чтобы постоянно не занимать какую-то позицию по отношению к встающим вопросам. Это может быть семейный вопрос — но и семейные вопросы оттеняются на фоне общества и определяются в значительной мере обществом. Он — гражданин своей страны: что это значит? Это значит, что он чувствует, что народ, которому он принадлежит, его народ, что судьбы этого народа ему дороги, что физическая жизнь его сограждан, их культурное развитие, их убеждения, то, как они действуют в мире — все это не может быть ему безразлично. Это значит, что в целом он не только интересуется, но глубоко переживает историческую судьбу своего клочка земли, своего народа. Где же начинается политическая тема? Если речь идет о том, чтобы организовывать здравоохранение, это относительно просто. Но есть целый ряд тем, которые в одном месте являются политическими, а в другом нет. Я могу дать несколько примеров.
В определенной обстановке человек, который борется против правительства, называется революционером. В другой стране, где революция является законом жизни, он называется контрреволюционером. В том и в другом случае он преследуется. Определяется его незаконность тем, что он сталкивается с существующим строем — и только. В стране, которая вся увлечена или одержима какой-либо идеей, поддерживать эту идею является чисто гражданским долгом, в другой стране, где эта идея ставится под вопрос, поддерживать ее — злостная политика. Можно дать примером этому отношение к борьбе за человеческие права. В одной стране это является наступлением на линию той или другой партии, наступлением на линию определенного государства, тогда как в другой стране это является насущным хлебом, деятельностью всех граждан данной страны, которые стараются осуществить ту или другую линию действия. В одной стране это преступление, в другой это естественная деятельность всякого гражданина.
В различной обстановке так же ставится вопрос о насилии или его отсутствии. Вы указали, что Церковь сейчас активно сотрудничает с некоторыми неправительственными группировками, помогает освободительным движениям революционеров Южной Америки или Африки. Может ли Церковь как целое это делать? Тут встает вопрос немножко иначе. Отдельный человек стоит перед судом совести и Божиим, но может ли Церковь в целом это делать? Она же проповедует любовь, она проповедует, что мы должны друг за друга жизнь положить, она проповедует словами Христа: кто возьмет меч, тот погибнет от меча (Мф 26:52). Может ли она как таковая проповедовать и поддерживать насилие? Я думаю — нет, как таковая не может. Но вместе с тем отдельные ее члены по сугубому суду своей совести иногда могут быть вовлечены и в революционную борьбу, потому что сердце не выдерживает неправды, несправедливости, а правда и справедливость — тоже закон Евангелия, форма любви. Бороться за свои права, может быть, и неблагородно: такая борьба может выражать и жадность, и желание власти. Но бороться за права других — долг человека, и вот здесь наше представление постоянно двоится.
Кроме того, христианин как член человеческого общества не может считать, что какая бы то ни было человеческая тема для него безразлична, не имеет значения, но вместе с тем у него оглядка в двух направлениях, которая делает его непонятным вне Церкви. Во-первых, христианин не может считать себя гражданином своей страны, не считая себя одновременно гражданином мира, то есть он должен рассматривать свою страну с такой позиции, при которой другие страны, другие люди не перестают иметь для него одинаковое значение. Для него всякий человек — человек,всякое общество — общество, все люди сотворены и любимы Богом одинаково. Бог не различает — не имеет права различать и он. И тут первый источник конфликта с собственной страной: как быть гражданином страны с односторонне направленной политикой, зная, что эта политика может быть агрессивной, хищнической?
А во-вторых, у него оглядка на Царство Божие вот в каком смысле (этот вопрос поднимался еще в древности, с этого начались гонения на Церковь в Римской империи). Христианин хочет самым убежденным образом быть лояльным, зрелым, сознательным гражданином своей страны и всего мира, и наряду с этим ясно утверждает, что его гражданство — на небесах, что он — законопослушный член своего общества, но что надзаконом этого общества есть закон Божий, и там, где закон Божий столкнется с законом человеческим, должен прахом лететь человеческий закон и должна быть утверждаема правда Божия. Из-за этого упрекали христиан еще в древности (и теперь упрекают) в нелояльности. Это неправда! Христианин лоялен историческому видению, которое больше того общества, где он живет. Так же его могут упрекнуть в нелояльности узкому, хищническому обществу, потому что он — всечеловек, а не только один из хищников малой разбойничьей шайки. И вот почему эта тема так трудна: Русская Церковь, все Церкви мира так или иначе сотрудничают с государствами, с обществами, в которых живут, и они должны заниматься строительством земли. Но они должны вносить в это строительство корректив: провозглашать евангельскую правду; утверждать Божий закон, предупреждать людей о том, что они идут ложным путем.
Иногда мы оказываемся в невозможном положении, потому что выбора нет. Есть страны единственной идеологии, где только один путь указан: можно либо быть вместе, либо оказаться изменником. Тут встает вопрос личной совести, который иногда может дойти до распинающей остроты: должен ли я участвовать в тех или других мероприятиях? Тут очень многое будет зависеть от информированности человека, от его ума, от его понимания: чего, по его мнению, можно достичь участием или неучастием в политической и общественной жизни. Но мне кажется, что христианин в наше время не может отвернуться от этой темы хотя бы просто потому, что наш Бог не есть Бог на небе, что наш Бог — Богочеловек, что это Бог, Который вошел в историю и осмыслил ее. Он — Господь истории, Он вошел в наш мир с тем, чтобы никогда из него не выйти. И строя человеческое общество, хотя мы и знаем, что никогда человеческое общество не станет Царствием Божиим, мы должны приближаться, сколько возможно, к Божиему Царству. Но мы всецело принадлежим этой сложной обстановке, и поэтому Церковь, я думаю, не может принимать решений за всех, не имеет права действовать от имени Христа, хотя отдельные ее члены не могут уклониться ни от чего, что определяет временную и вечную судьбу людей их времени.
Вы ответили, Владыко, по-моему, не совсем в плане вопроса. Вы ответили, что делать отдельному члену Церкви, но не сказали, в какой мере Церковь как общество, организованное иерархически, как часть если не государственного, то во всяком случае общественного строя имеет право говорить и действовать организованно в недуховной, нерелигиозной области. Слишком часто организованные церковные единицы в мире высказываются ex cathedra, с позиций организованной силы в обществе по злободневным вопросам, имеющим отношение либо к жизни общества, либо к жизни государства в целом…
Я думаю, что Церковь как целое, Церковь как организованная единица не имеет на это права или большей частью делает ошибку, когда так поступает. Опыт прошлого нам это показал. В Византии, например, императором Юстинианом была сделана попытка превратить Евангелие в кодекс законов. В результате получился интересный кодекс законов, а от Евангелия ничего не осталось, потому что в тот момент, когда Евангелие было превращено в закон, из него были изъяты свобода и личное отношение. Рим сделал попытку стать государством и иметь возможность, таким образом, действовать со всей силой государственности в области государственной, но вместе с этим и со всем авторитетом церковности, который связан с идеей Рима, папства и т. д. — и что получилось? Компромисс и двусмысленность, потому что (я глубоко в этом убежден) у Церкви нет ответов на все вопросы, и Церковь не имеет права делать вид, будто у нее на все есть ответ, и эти ответы провозглашать. Есть в истории мира очень большая таинственность, есть искание, есть становление, и общим трудом верующие и неверующие (потому что у неверующих могут быть прозрения в таких областях, в которых верующий ничего еще не заметил и не дочувствовался) вместе должны искать, ставить вопросы, подходить к ним с различных точек зрения и давать пробные, неокончательные ответы, нащупывать ответ, искать его. Церкви не смеют говорить: «Мы не знаем ответа, но вот что мы говорим…» — это нонсенс, это абсурд, лучше бы молчали.
Значит, организованные Церкви должны не столько действовать и высказываться ex cathedra, сколько воспитывать в своих членах достаточную гражданственность, достаточное мужество и ответственность?
Вот именно. Я думаю, что задача Церкви именно воспитывать людей, которые могли бы со всей ответственностью и перед Богом, и перед людьми взять в свои руки вместе с другими людьми судьбы мира. Но у Церкви не может быть конкретного ответа, прописи: «Поступай так!».
Проповеди
Проповеди о чтении Священного Писания О Священном Писании
26 ноября 1967 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Евангелие читается в церкви почти на каждом богослужении, на каждой службе мы предстоим слову Божию и думаем, что этим мы становимся народом Божиим. Но от нас требуется гораздо большее, если мы хотим быть таким народом Божиим, — тем народом, который может сказать, что Божественное слово принадлежит ему.
Библия родилась в человеческой общине, Евангелие родилось в Церкви. И израильская община, и Церковь Божия существовали раньше, чем возникло Священное Писание. Именно изнутри этой общины родилось познание Бога, любовь к Богу, видение Его невыразимой красоты, а также состояния и судьбы, становления и призвания человека. Народ Божий — это такая община, которая свидетельствует о чем-то, что ей достоверно известно, что является ее жизнью, предметом ее любви, ее радостью. Библейский народ — это не народ, который читает Библию, верно хранит ее и возвещает ее. Подлинный народ Божий, подлинный народ библейский, подлинный народ евангельский должен быть такой общиной, которая могла бы сама написать Священное Писание, проповедовать его из собственного опыта, дать ему начало, родить его. Если мы не такая община — мы не принадлежим поистине ни Евангелию, ни народу Божию.
Часто мы себя утешаем тем, что мы — молитвенная община, где слово Божие возвещается, где оно проповедуется, община, которая так или иначе стремится жить словом. И однако, если мы взглянем вокруг, то все, что мы видим, свидетельствует как раз об обратном. Если бы мы были общиной, изнутри которой, из глубины опыта которой родилось Божественное слово, то для тех, кто слышит, как мы повторяем его, возвещаем и проповедуем, оно было бы двояким откровением: откровением того, что возвещается, и откровением о том, что возвещаемое стало плотью и кровью, стало реальностью человеческой жизни. Община, которая проповедует Божественное слово, была бы доказательством истинности этого Божественного слова.
Это ли мы видим? Можем ли мы сказать, что община, которой мы являемся, большая она или малая, есть воплощенное подтверждение вести, которую мы несем, благой вести, принесенной Христом в мир? Не продолжает ли оставаться верным — и теперь, может быть, больше, чем в ранние времена, — что слово Божие хулится и подвергается насмешкам из-за нас (Рим 2:24)?
Вот возрождение, к которому мы призваны. У нас есть книга, родившаяся из самых глубин человеческого опыта Бога, книга, где Бог действительно говорит через общину, которая была способна свидетельствовать об истинности слова. Мы должны снова стать такой общиной, мы должны научиться жить согласно слову Самого Бога, откровению Его воли; мы должны научиться быть таким народом, жизнь которого со-гласна со словом Евангелия.
Пока Евангелие остается для нас внешним законом, пока Евангелие остается Божественной волей, отличной от нашей воли или противной ей, мыне евангельская община. Может быть, мы, в лучшем случае, стремимся быть ею, но мы еще не община, способная дать миру откровение Благой вести. Христос сказал, что слово, которое Он проповедал, — не просто произвольное веление Бога, а откровение о подлинном человеке, откровение, данное нам и другим, о том, как настоящий человек чувствует, думает, желает и живет. Пока наши чувства не таковы, пока наши мысли не таковы и наша жизнь не такова, мы не то что «не послушны» Божиему закону, мы не то что изменяем самим себе, — мы просто не «человечны» в подлинном смысле, в смысле призвания, заключенного в этом слове.
Так, обновление Церкви начинается с каждого из нас. Преобразования в Церкви, когда они касаются форм молитвы, когда они касаются внешних структур — это еще не возврат к истокам, к первоисточникам. Есть один источник света, из которого бьет вода вечной жизни: само Евангелие, которое является откровением (для каждого из нас и для всех нас) того, что есть Человек и человеческие отношения.
Поспешим же принять это свидетельство Евангелия, осознав, что когда придет на нас суд, то судить нас будут не Бог и закон, отличный от нас и чуждый нам. Но мы увидим, чем мы должны были стать, чем мы могли быть и чем мы не захотели стать. Тогда будет горе, тогда действительно будет плач, не потому что Бог проклянет нас и отвергнет, а потому что, видя красоту нашего призвания, мы увидим, как далеко мы от него отпали.
Давайте же сейчас, пока еще есть время — и на это не нужны годы: на то, чтобы преобразить жизнь, нужно одно мгновение, — давайте обратимся к самому Евангелию, давайте научимся от Самого Христа, что мы собой представляем, чем мы можем быть. И если мы сомневаемся, действительно ли это возможно, вспомним слова Христа, когда Петр сказал: Кто же может спастись? и Христос ему ответил:Человекам это невозможно, Богу же все возможно (Мк 10:27). Давайте же идти вперед в этой надежде, в этой радости и в этой уверенности. Аминь.
О слышании и делании
1971 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Есть два изречения в Священном Писании, на которые я хотел бы обратить ваше внимание, одно относится к говорящему, другое — к слушающему. Первое — это слово Христа: От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься (Мф 12:37). Оно относится не только к тому человеку, который проповедует слово Божие и будет отвечать сугубо за то, что знал и говорил — и часто сам остался бесплодным, но это относится к каждому из наших слов. Бывает, что произносимые нами слова приносят жизнь человеку, его сердце вновь делается от них живым, ум озаряется, воля подвигается к добру, все естество его делается новым — это слова жизни. Дай Бог нам говорить их друг другу. А есть мертвые, жесткие, бесчувственные слова, в которых нет гнева, а есть только тусклость и мертвость. За эти слова мы дадим ответ перед Богом. И поэтому так значительна молитва, которую постоянно повторял святитель Тихон Задонский: «Господи, дай мне молчаливость, рассуждающую словеса». То есть дай мне такую молчаливость, благодаря которой я бы мог из глубины молчания выбрать слова животворные, чистые, глубокие, за которые мне не будет стыдно перед судом Божиим… Дай мне, Господи, молчаливость, рассуждающую словеса!
Но не только тот, кто говорит, но и тот, кто слышит, ответствен за произносимое слово: Блюдите убо, како слышите, — говорится в Евангелии (Лк 8:18). Можно слушать сердцем глубоко открытым, можно слушать закрытым, замкнутым сердцем и душой. Можно слушать для того, чтобы от слышанного, даже глубокого, божественного, получить мгновенное наслаждение, но без всякого намерения жить по слову, которое тронет душу. Можно слушать насмешливым, горьким умом; можно пройти мимо Самого Христа говорящего и остаться бесплодным. В течение всей нашей жизни мы слышим Божественные, Христовы евангельские слова — и как мало они меняют нашу жизнь. И когда-нибудь мы услышим от Христа слово, сказанное еще в Евангелии: Я вас не сужу; судить вас будет слово, которое Я говорил (Ин 12:47—48). Потому что это слово живое; от этих слов Христовых хоть на мгновение содрогается, оживает у нас сердце, но эти слова не уходят в глубины нашего естества, не делаются вдохновением нашей жизни, и мы проходим мимо, изумившись и оставшись бесплодными. Почему? Потому что у нас нет глубины и потому что у нас нет смелости, нет той решимости, которая нас заставила бы сказать: если это правда, то я буду жить так, уже без пощады к себе, без всякой жалости к себе. Ради жизни я буду поступать наперекор всем стремлениям, всей лжи, и неправде, и мертвости, которые во мне есть.
Подумаем над этими двумя изречениями; научимся молчать так, чтобы наше слово было избранное, чистое, животворящее, и научимся так слышать, чтобы ни одно слово жизни не прозвучало напрасно и не стало в день судный нашим осуждением. Аминь.
Наблюдайте, как вы слушаете…
1971 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодняшнее Евангелие содержит очень строгое предупреждение нам. Христос несколько раз повторяет: У кого есть слух, пусть слушает!Берегитесь, внимайте тому, как вы слушаете (Лк 8:15, 18). И в другом месте Евангелия Он напоминает, что мы дадим ответ за то, что слышали, как мы слушали, что мы восприняли и что мы из этого сделали в жизни.
Миллионы людей сегодня, миллионы людей в течение истории много бы дали, чтобы услышать малую крошку того, что мы слышим так постоянно, что все время повторяется в церкви. За каждой службой мы слышим Евангелие, слово Самого Христа, слова Его учеников; и перед нами встает вопрос: как мы слушаем и как мы слышим? Мы можем слушать со вниманием, даже дрогнув сердцем, можем вдохновиться на мгновение, а потом, полюбовавшись красотой, мудростью слов Христовых, уйти из храма и не принести никакого плода. Мы можем, наоборот, удержать эти слова в памяти и повторять их другим, и любоваться их смыслом, но одновременно оставаться бесплодными. Наши слова, вернее, слова Христовы через нас, может быть, и достигнут своей цели, коснутся чужого сердца, но нашего сердца они могут не коснуться, нашей воли они могут не привести в движение, нашей жизни они могут не изменить. А бывает так, что слово ударит в сердце, и возгорится там огонь, и горит, и светит не только нам самим, но и другим. Христос говорит: Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме (Мф 5:15). Умеем ли мы так слышать Христовы слова? Способны ли мы услышать слухом, осознать умом, воспринять сердцем, подвигнуться волей, сделать слышанное жизнью — или нет?
И вот Христос нам говорит: Наблюдайте, как вы слушаете и как вы слышите… Потому что придет время, когда слово, нами слышанное, будет нас судить — не потому что мы слышали, и не потому только, что это слово правды, слово Божие, а потому что это слово отозвалось в нас истиной, красотой, вдохновением, а мы, полюбовавшись, отложили его в сторону с тем, чтобы когда-нибудь на досуге вспомнить. Такие слова делаются именно теми пустыми, бездейственными словами, которыми полна наша жизнь, и мы дадим за них ответ.
Будем же слушать Евангельские слова, даже слова проповеди так, чтобы они доходили не только до ума и сердца, но до всей жизни, чтобы все слышанное стало жизнью, чтобы кому-нибудь стало светло от света Христова, тепло от Христовой любви, чтобы жизнь стала новой вокруг нас, потому что до нас дошла новизна этой жизни Христовой. Аминь.
О Евангелии
Ноябрь 1975 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Многим Евангелие почти что кощунственно представляется как книга грозного Божиего суда, требований Господних, но как далек этот образ от живого чувства, которое Евангелие вызывает в том, кто читает его впервые!
Когда из глубины растерянности, греха или горя приступаешь к Евангелию, оно раскрывается как книга радости и надежды: радости о том, что среди нас Господь, не далекий, не грозный, а родной, свой, облеченный в человеческую плоть, знающий из личного Своего опыта, что значит быть человеком. Радость и надежда — в том, что на каждой странице Господь требует от нас, чтобы мы были достойны величия своей человечности, требует, чтобы мы не смели быть ниже своего достоинства и уровня, не дает нам стать меньше, чем человек — хотя мы и грешим так часто, и недостойны бываем и себя, и Его. Какая надежда звучит в том, что Христос пришел грешных спасти и призвать к покаянию (Мк 2:17 и др.), что Он для грешных жил и умер, что к ним обращена Его проповедь. И какое откровение о Боге в этом образе Христа, воплотившегося Сына Божия!
Бог Ветхого Завета, Бог древних религий был Богом непостижимым, Богом страшным и, в Его святости, Богом недоступным. И вот в Евангелии раскрывается Бог доступный и простой — но какой ценой! Он стал человеком и через это отдал Себя во власть всей злобы и неправды земной. Он дал Себя на растерзание и на погубление, по любви к нам Он захотел быть таким же уязвимым, как мы, таким же беспомощно-беззащитным, как мы, таким же презренным, как мы бываем в глазах тех, кто верит только в силу и успех.
Вот каким раскрылся перед нами Бог. И Он нам открыл, что нет такой глубины падения, растерянности и страха, и ужаса, в которую Он до нас не сошел, с тем, чтобы если и мы в нее падем, мы не оказались бы одни. В Гефсиманском саду Он, в борении и ужасе, встречал не Свою, а нашу смерть. И в течение всей Своей жизни Он был именно с теми людьми, которые нуждались, чтобы к ним пришел Бог, потому что они потеряли к Нему дорогу. Вот Бог, в Которого мы верим, вот Бог, Который крестной любовью и ликующей, торжественной любовью Воскресения нас возлюбил, искупил и открыл нам величие человека и нашего призвания. Поэтому станем жить достойно того звания, к которому мы призваны, радуясь о том, что с нами Бог! Аминь.
О слышании и проповеди Слова Божия
22 ноября 1987 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Я хотел бы сегодня обратить ваше внимание на два отрывка из апостола Павла. В одном месте (Рим 10:17,14) он говорит, что вера приходит от слышания, а слышание — от проповеди слова Божия. И кто мог бы услышать без проповедующего?
А в другом месте он говорит, что вера, которую мы провозглашаем, не от людей, а от Бога и что сам он, Павел, принял ее и научился ей не от людей, но через откровение Самого Бога (Гал 1:12).
Каким же образом эти слова относятся к нам? Не противоречат ли эти изречения одно другому? Может быть, первое — слышание —случается в жизни каждого из нас, а второе — откровение Божие — должно бы осуществиться в жизни всех нас?
Мы не находим Спасителя и не обнаруживаем Евангелия, если оно не возвещается, не проповедуется, если весть о нем не дойдет до нас. Но провозглашения как такового недостаточно, — недостаточно нам услышать слово, в котором больше смысла и мудрости, чем в прежнем нашем неверии или неведении. Слово дошло до нас тогда, когда оно проникло в наши тайники, когда оно стало светом для нашего ума, когда сердце загорелось этим словом и мы вдохновились жить согласно с этим словом, от кого-то услышанным.
В этом смысле наша вера во Христа, в Евангелие — не мировоззрение, это жизнь, открывшаяся перед нами, это новая интенсивность, новая глубина жизни. И если это не так, то мы не ученики, мы только слышатели. Потому что быть учеником значит услышать весть, воспринять ее и жить согласно этому благовестию — не как по указке и по приказу извне, а как если бы нам открылось новое понимание. И вот исходя из этого понимания, ставшего теперь личным, опытным убеждением, мы должны жить.
И тогда сказанное Павлом о вере — что он научился ей не от людей, а от Бога — можно отнести и к нам, потому что слово, прозвучавшее и достигшее до нас через посредство людей, стало для нас полнотой жизни, которая только в Боге и от Бога.
Павел говорил о своей проповеди и проповеди других Апостолов именно в этом смысле: что они благовествуют Евангелие не от человеческого разума, не от философских мудрствований, но откровением силы Божией, могущей обновить человека.
Прямое отношение к нам этих отрывков кажется мне очевидным. Прежде всего, если мы собрались здесь, значит, мы услышали это слово, прочитали его и оно достигло нас в какую-то меру; но вот — в какую меру? Сделало ли оно нас такими людьми, которых можно назвать христовыми? Можем ли мы сказать, что мы — ученики, то есть люди, которые всей энергией, всем умом и сердцем, всей волей стараются подражать своему Наставнику? Он сказал нам: Образ, пример Я даю вам, чтобы вы ему следовали (Ин 13:15). Пример Он дал — следуем ли мы за Ним? Или же, идя, останавливаемся, когда находим следование Христу слишком требовательным, когда оно становится проблемой, когда жизнь Христа, личность Христа, учение Христа ставят под вопрос, осуждают наш образ жизни?
Только если мы сами превратились в благую весть, мы можем сказать, что слово дошло до нас. Оно дошло до нас, если мы стали такими учениками Христа, что, глядя на нас, люди бывают озадачены, встрепенутся и начнут ставить под вопрос самих себя, обнаружив: тут какие-то люди, мужчины и женщины, которые ни на кого другого не похожи — не потому, что они мыслят по-иному, а потому, что они стали иными.
Нам надо задуматься: где мы стоим по отношению к этим двум изречениям? Может, слово, возвещенное нашему слуху, не достигло нас даже умственно, и мы отмахнулись от него как от бессмыслицы, или же нашли, что оно слишком жестоко или перечит нашим желаниям? Но даже если мы можем сказать: да, я хочу быть учеником, — как далеко мы пошли в стремлении сообразовать свою жизнь с жизнью Христа, отбросить то, что с Ним несовместимо, стать людьми, в которых наш ближний может узнать икону Христову?
Сегодня мы вспоминаем Седьмой Вселенский собор, который провозгласил почитание икон. Но недостаточно почитать рукописный образ. Недостаточно даже перенести почитание и поклонение на Того, на Ту, на тех, кто изображен на иконе. Мы сами должны стать живыми образами Воплощенного Бога, со всей непостижимой глубиной и широтой того, что это означает.
Будем же молиться изо дня в день, чтобы Бог нам дал мужество стать тем, чем мы призваны быть: христианами, народом Христовым! И да будет благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!
Благая весть
18 ноября 1990 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Каждую неделю мы слышим в церкви чтение Евангелия — и так из года в год, в течение всей нашей жизни; и кроме того, люди верующие вчитываются в Евангелие изо дня в день.
И как страшно, как грустно думать, что мы так привыкаем к чтению Евангельскому и к святым, возрождающим словам, которые Бог произносит для нас, как страшно и грустно, что мы так привыкаем, и слово «Евангелие» означает для нас только название книги, но не возбуждает в нас того восторга, того умиления, которые это слово, произносимое Иоанном Крестителем, повторяемое учениками Спасителя Христа, возбуждало в душах людей.
Ибо слово «Евангелие» на русском языке действительно означает только книгу, в которой содержится рассказ о жизни, о чудесах Спасителя и Его учение. Но на греческом языке это слово значит «благая весть», нечто совершенно заново провозглашаемое, новизна чего настолько дивна, что можно сказать об этой вести, что она благая. А слово «благой» употребляется в Евангелии так трепетно! Ведь вы помните, как человек подошел ко Христу и Ему сказал: Учитель благий, что сотворю, чтобы иметь вечную жизнь? И Спаситель ему ответил: Почему ты называешь Меня благим? Благ только Бог (Мк 10:17).
Если мы говорим об этой вести Евангельской, что она действительно благая весть, то она должна обозначать для нас совершенную новизну жизни, ту новизну, которую только Бог может нам сообщить.
О чем же эта весть, что в ней такое не только новое, но дивное? Весть о том, что Бог, Который для всех народов земли и даже для еврейского народа был Тем, Кого Пророк называет Бог вдали (Иер 23:23), то есть Бог страшный, Бог такой великий, что к Нему подойти нельзя, Бог, о Котором пророки и подвижники говорили: Горе мне! Я видел Бога, мне остается только умереть (Ис 6:5 и др.) — что этот Бог перестал быть Богом издалека и стал нам так неописуемо, так неизмеримо близок: Он стал человеком. Во всем Он уподобился нам: Он носил плоть нашу, Его душа была подобна всякой человеческой душе, Он имел человеческий ум и человеческое сердце, и волю человеческую. Но сверх того, Он был Живой Бог, ставший человеком.
И этим Он открыл перед нами две тайны, такие, о которых никто подумать не мог бы. Никто не посмел бы подумать, что Бог непостижимый, святой, Бог, Который является Самой Тайной бытия, может стать человеком, подобным нам. Этот Бог, Который вызывал трепет в людях, теперь вызывает в нас ласковую благодарность: Он Сын человеческий, не переставая быть Сыном Божиим.
И второе, что открывается нам в воплощении Слова Божия, это то, что человек настолько велик, настолько глубок, что способен соединиться с Богом и не быть уничтожен сам Божественным огнем, и способен соединиться с Богом без того, чтобы Божество было в чем бы то ни было умалено.
Образ этого соединения мы находим в Ветхом Завете в образе неопалимой купины (Исх 3:2), того куста, который горел Божественным огнем — но не сгорал, потому что Божественный огонь превращает все, к чему касается, в пламя, но не испепеляет. Божественный огонь уничтожает только зло, грех, то, чего на самом деле нет. А все, что только может иметь бытие, он возводит в такое величие, которое описывает нам апостол Петр, когда говорит, что мы призваны стать причастниками Божественной природы (2 Пет 1:4).
И еще одно нам раскрывается в Евангелии, еще одна благая, непостижимо благая, непостижимо великая весть: Бог так нас возлюбил, что Он стал Одним из нас для того, чтобы с нами вместе понести всю человеческую тварную судьбу и все страшные последствия человеческого греха, происшедшие через отпадение от Него, Творца нашего. Это Бог, Которого мы можем не только любить, не только трепетать перед Ним, но Бог, Которого мы можем почитать и, говоря человеческим языком, «уважать», потому что Он на Себя взял всю ответственность за Свой первичный акт сотворения человека и за страшный, поистине страшный, но тоже дивный дар свободы.
Без свободы была бы невозможна любовь, потому что любовь — это совершенство свободы, без любви мы были бы только предметами, но не могли бы ответить на Божию любовь любовью, которую мы можем Ему дать или в которой можем отказать.
Как дивно думать, что таков Бог: Он все на Себя берет, что произошло от Его решения нас создать, все последствия нашего греха Он берет на Себя и в Себе все побеждает, и нам дает свободу быть чадами Божиими, приобщиться Его Божественной природе, стать Его детьми.
Вот в чем благовестие, вот то новое, никогда не слыханное, никогда не грезившееся, что является не мировоззрением, не мечтой, а дивной, спасительной, преображающей реальностью. Когда будем читать Евангелие, вспомним слова Христа Спасителя: Я делаю все новым (Откр 21:5). И действительно, весь мир стал новым, потому что нет ничего созданного, что в Нем не может узнать себя преображенным и обоженным. Аминь.
Как читать Евангелие
12 мая 1991 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Меня часто спрашивают: как нам читать Евангелие, чтобы оно достигало не только до ума, но и до сердца, и чтобы оно не стояло всегда перед нашим умственным взором как осуждение, когда каждое действие Христово, каждое слово Христово, каждая Его заповедь осуждают нас в том, что мы не такие люди, которые поступают, как Он, думают и чувствуют, как Он, или выполняют то, что Он заповедал нам?
Из страха, из обескураженности мы ничего не достигнем. Мы должны читать Евангелие так, как если бы Господь Иисус Христос пришел к нам как самый близкий друг, то есть как кто-то, кто заботится о нас больше всех других, кто не только вообще желает нам добра, но готов сделать все, именно все для нас, что возможно не только по-человечески, но и по-Божьи.
По человечеству мы знаем, что Христос отдал за нас Свою жизнь и Свою смерть. Как Бог — Он открывает нам врата вечности: Я есмь дверь; кто войдет Мною, войдет в жизнь вечную (Ин 10:9).
Первое, что мы должны сделать, когда приближаемся к Евангелию, — это взять его с благоговением, с чувством, что мы держим не только книгу и что мы будем читать не просто слова, но что книга и слова, которые мы читаем, — это Слово, Бог говорящий: говорящий через действие, говорящий человеческими словами. И очень важно, что человеческие слова являются для этого средством, потому что мы не можем проникнуть в таинственный ум Божий. Не сказал ли Бог через Исаию пророка: Мысли Мои выше мыслей ваших, и пути Мои выше путей ваших (Ис 55:9)? Но во Христе Он обращается к нам на человеческом языке.
И затем мы должны прислушиваться к тому, что Он говорит, и вглядываться в то, что Он творит, всматриваясь во все ситуации, которые описаны в том или другом евангельском отрывке, с благоговением, с интересом, с трепетом, потому что это Он говорит нам, Его мы видим движущимся, действующим, спасающим. И мы должны постараться найти свое место в толпе, Его окружающей, слушать, как если бы мы присутствовали действительно, когда Он произносил эти слова, слушать, как если бы мы стояли в толпе, когда Он целил, спасал, звал к покаянию людей, пришедших к Нему. И слушать, будто слова, которые Он произносил, как говорит в Евангелии апостол Петр — слова жизни (Ин 6:68), не слова смерти: слова, способные пробудить в нас все, что есть живого и по-человечески, и по-Божиему, по вечности. Слова жизни, а не слова смерти в том смысле, что они должны привести нас к жизни, а не осудить нас даже прежде нашей смерти.
И это очень важно, потому что из страха, из чувства осужденности мы никогда ничего не достигнем. Итак, будем читать Евангелие, выбирая все те отрывки, которые доходят до нас, — не те отрывки, которые проходят мимо; отрывки, которые бьют нас в сердце или, словами эммаусских путников, заставляют гореть наши сердца, когда Он говорит нам (Лк 24:32). Будем читать эти отрывки, которые, воспламенив наши сердца, могут также привести — или приводят — к жизни наш ум, подвигают нашу волю, побуждают нас к новой жизни.
И вспомните — или поймите впервые, — что эти отрывки показывают нам, что вэтом (и это может быть что-то очень малое) Бог и мы едины умом, едины сердцем, что мы коснулись чего-то, в чем мы уже, пусть потенциально, подобны Богу. Это — откровение Божие нам, когда мы обнаруживаем, что Он подобен нам, а мы — Ему. Это и откровение о нас самих: в этой точке Бог и я — сродни, мы подобны, это уже отблеск Божественного образа, который я могу уловить в себе. И обнаружив это, мы можем прибавить: Дай мне быть верным этому, потому что сохранив верность этому, я буду также верен себе и верен Богу.
И если мы храним как сокровище, как священное сокровище эти отблески нашего самого дивного Божественного «я» и дивного человеческого «Я» Бога, тогда мы можем идти вперед с радостью, с вдохновением; мы можем идти вперед к тому, чтобы стать тем, что мы на самом деле есть. Конечно, на этом пути мы будем чувствовать внутреннее сопротивление, мы не всегда будем хотеть быть тем лучшим, чем мы можем быть. И на это нам ответят другие евангельские отрывки: берегись, если ты склонишься на то или другое искушение, если ты последуешь иному течению жизни, мысли, — ты разрушаешь себя… Потому что заповеди Христовы — не приказы, которые Он нам дает, не муштровка, — это, действительно в форме заповедей, описание того, что мы должны чувствовать, чего желать и чем быть, если мы подлинно становимся людьми, достойными человеческой природы и нашего человеческого призвания, которое состоит в том, чтобы стать подобными Христу.
И если мы это сделаем, если мы начнем вглядываться и искать всего, что в нас есть красота, что уже образ Божий в нас, раскрывающийся, как солнечный свет всходит на заре (это может еще не быть яркий полуденный свет, но это всегда свет, может быть, за горизонтом — но свет!) — тогда мы найдем вдохновение и мужество встать лицом к лицу с потемками и тьмой в нас. Но встать творчески с тем, чтобы строить, а не с тем, чтобы разрушать. Зло не разрушают, не уничтожают — но строят добро, так же как мрак рассеивается не иначе как внесением в него света.
Попробуем поэтому в будущем читать Евангелие, слушать его с благоговением, с радостью: Бог пришел ко мне, Он говорит мне лично. Он открывает мне красоту, которая есть во мне, и предостерегает меня о том, что может убить эту красоту. Но Он на моей стороне, Он мой Друг, мой Брат по человечеству, и также мой Бог и мой Спаситель. Аминь.
Как я слышу
22 сентября 1991 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Из года в год в определенные воскресные дни, в праздники мы слышим те же самые отрывки из святого Евангелия — и из года в год священник посильно обращается к слушающим его, а в первую очередь к самому себе с вопросом: что говорит мне этот отрывок? К чему он меня обязывает, если я заявляю себя верующим? Как я слышу? И если я слышу — что скажу?
Глубины Евангельские бездонны, и из года в год, в течение лет священник находит в них новые, разверзающиеся перед ним смыслы. Но егоглубина ограничена, хотя Евангельская глубина бездонна. И приходит момент, когда нового он сказать ничего не может. И тогда — как делается больно и грустно, что Христос вновь говорит слова, которые зажигают душу, но на которые я не умею отозваться.
И, с другой стороны, охватывает сознание, что и слушающий слышит эти слова и говорит, как мне часто говорили: «Зачем повторять все одно и то же?». Нам не нужна вся глубина Евангельская для того, чтобы спастись, но нам нужно до глубины своей души довести хотя бы то, что нам стало понятно.
Вспоминается один из пустынников Фиваиды, который от Антония Великого услышал первые слова первого псалма: Блажен человек, который никогда не идет на совет нечестивых (Пс 1:1). Он другого не захотел даже слышать, ушел. И когда через много лет Антоний его встретил в пустыне и спросил — неужели он не захотел большего услышать? — тот со слезами ему ответил: вот уже сорок лет я стараюсь стать таким человеком, который никогда не ходит на совет нечестивых… Одно слово Священного Писания определило всю его жизнь, потому что это слово он воспринял всем своим существом; и поскольку мысль могла постичь, поскольку сердце могло отозваться, поскольку воля могла осуществить эти слова, он этими словами жил.
И поэтому когда мы слышим вновь те же самые отрывки, хуже того — когда мы услышим вновь и вновь те же самые слова священника по поводу прочитанного, поставим перед собой вопрос: да, Христос много раз это говорил; много раз мне разъясняли в церкви то, что было сказано; но что я сам сделал? Неужели эти слова запали в мою душу так, что они переменили мою жизнь, мой образ мыслей, мои чувства, мою волю, все мое существо? И если нет, то будем вновь и вновь слушать эти слова — жалкие слова проповедника, бездонно-мудрые слова Христа, будем их слушать и ставить перед собой вопрос: живу ли я этим?
А если нет — то будем к этим словам вновь и вновь возвращаться, оттого что, пока они не станут жизнью, они напрасны. Больше того, ведь Спаситель говорит: наблюдайте, как вы слышите (Лк 8:18). Неужели это только звук, который проходит мимо вас? Или же это слово — как зерно, которое падает на добрую почву с тем, чтобы принести плод?
Будем задумываться вновь и вновь над каждым из этих обычных, привычных нам слов Христовых. Будем слушать и слова проповедника, даже если они повторны, потому что пока мы не исполним того, что слышали, мы должны это слышать вновь и вновь и каяться в том, что, слышав столько раз, принесли так мало плода.
И это я говорю не вам, а себе, потому что говорящий большую ответственность несет, нежели тот, который слышит. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься, говорит Господь (Мф 12:37). Будем молиться друг о друге, чтобы каждое Евангельское слово ожило в наших душах, и когда мы слышим его, выберем одну крупицу, которой мы умеем или способны уже жить, и станем ею жить, то есть действенно, творчески ее выполнять. Аминь.
Проповеди церковного года
Слово на новогоднем молебне
31 декабря 1981 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Перед началом нашей общей молитвы я хотел бы сказать несколько слов, чтобы затем нам молиться вместе более убежденно, единым сердцем и единой мыслью.
Из года в год я говорил о наступающем новом годе, как о ничем не запятнанной, чистой снежной равнине. И особое внимание я обращал на то, что вступать на эту еще не запятнанную белизну мы должны со всей ответственностью, потому что в зависимости от того, как мы будем по ней ступать, мы либо проложим на этой равнине дорогу, согласную с волей Божией, либо оставим на ней блуждающие следы, которые только запятнают снежную белизну.
В наступающем году, может быть, больше, чем когда-либо, мы не должны забывать одного: эту белизну, эту неизведанность окружает мрак, нависая над ней как бы сводом, мрак с малым — а, может быть, и большим — количеством звезд, но все же мрак густой и непрозрачный, угрожающий и страшный. Мы сейчас расстаемся с годом, когда мы все этот мрак могли чувствовать, и насилие и жестокость его все продолжаются. Как мы отзовемся на это?
Было бы наивно и очень не по-христиански просить Бога защитить нас от всякого зла и сделать Церковь мирным пристанищем, когда вокруг мира нет. Вокруг — раздоры, вокруг — напряженность, обескураженность и страх, вокруг — насилие и убийства. Мы не можем просить мирной жизни для себя, если этот мир не распространяется за пределы Церкви, если он не рассеивает эту тьму, как лучи света.
Один западный писатель сказал, что христианин — это тот, кому Бог поручил ответственность за других людей. И мы должны быть готовы эту ответственность понести. Через несколько минут мы будем призывать и на грядущую неизвестность, и на этот мрак величайшее из благословений, которые произносятся в наших богослужениях: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа…» — благословен Бог Царствующий… Эти слова произносятся редко: в начале Литургии, в благословение Нового года и в такие моменты, когда время и вечность соединяются, когда глазами веры мы можем видеть, как вечность переплетается со временем и побеждает его.
Христианин — это тот, кто должен быть способен видеть Историю так, как ее видит Бог: как тайну спасения, но также и как трагедию человеческого падения и греха. И перед лицом того и другого мы должны найти свое место. Христос говорит в Евангелии: Когда вы услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, поднимите головы ваши (Мк 13:7; Лк 21:28). В сердце и в жизни христианина нет места для трусости, малодушия и страха: они все рождаются от себялюбия, заботы о себе — даже если это страх за любимых.
Бог есть Господь истории, но мы должны быть со-трудниками Богу, и мы посланы Им в мир для того, чтобы привести этот нестройный град человеческий в гармонию, которая назовется Градом Божиим. И мы должны помнить слова Апостола о том, что всякого, кто захочет работать Господу, поведут на судилище (ср. 2 Тим 3:12); и еще другие слова: не бойтесь суда огненного (ср. 1 Пет 4:13). В нашем мире мы должны быть готовы, что нас могут привести на суд, и мы должны быть готовы на этом суде устоять: может быть, со страхом в душе по слабости нашей веры, но устоять непоколебимо в служении Богу и в служении людям.
Когда мы оглядываемся назад, на прошедший год, то слова ектеньи бьют и осуждают нас. Мы просим Бога простить нам все, что мы сделали — или чего, наоборот, не сделали в прошедшем году. Мы говорим, что мы — православные. Быть православным не значит только исповедовать Евангелие в его целостности и провозглашать его во всей его чистоте, но означает нечто гораздо большее: это значит жить в соответствии с Евангелием. И мы знаем, что Христу нельзя принести ничего меньше, чем все величие человека в благовестии любви и поклонения.
И нам есть, в чем каяться, потому что кто, глядя на нас, скажет, как люди говорили о ранних христианах: как они друг друга любят!.. Кто скажет, глядя на нас, хотя бы что мы обладаем пониманием жизни, любвью, которая делает нас непохожими на других, которая заставляет других удивляться: откуда такая любовь, кто дал ее этим людям, как могут они выстоять испытание суда? И если мы хотим, чтобы этот год был достоин Бога и нашего христианского призвания, святого имени православия, мы должны, каждый из нас и все сообща, быть для всех, для каждого человека, у которого может оказаться нужда в нас, образом того, чем человек может стать и чем община может стать под водительством Бога.
Станем же молиться о прощении того, что мы так далеки от нашего призвания, станем молиться о силе духа, о мужестве, о решимости идти мимо себя, ставить себя ни во что, взять на себя крест свой и последовать по стопам Христа, куда бы Он нас ни позвал.
В начале войны король Георг VI обратился к своему народу со словами, которые мы можем повторять из года в год. Он прочел цитату: «Спросил я стража, который стоял у дверей нового года: дай мне свет, чтобы я с уверенностью мог вступить безопасно в неизвестное… И он мне сказал: вступи во тьму, и вложи руку твою в руку Божию — это будет для тебя лучше, нежели свет, и вернее известного пути».
И мы призваны поступить так же, и, быть может, мы должны сегодня принять решение быть верными своему призванию и начать Новый год с мужеством. Аминь!
Перед Рождеством Христовым
31 декабря 1981 г. Мф 1:1—25.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В это воскресенье и в наступающие дни все говорит нам о вере, как ее определяет Апостол в 11-й главе Послания к евреям: вера — это уверенность в вещах невидимых (Евр 11:1), внутренняя уверенность, твердая уверенность, которая позволяет жить согласно с тем, на что надеешься и чего ожидаешь, и жить для того, что грядет.
Родословная Христа говорит именно об этом. Бесчисленные имена, которые сейчас читались, имена тех, которые даже и не вошли в летопись, — это имена тех людей, которые из тысячелетия в тысячелетие, из столетия в столетие ожидали прихода Христа. Ожидали в уверенности, что слово Божие, обещание Божие неложно, что оно исполнится, и придет время, когда с нами будет Бог. Когда Бог Небесный, Таинственный, Непостижимый, Невидимый вдруг, чудом, станет видимым, близким, родным, своим, оставаясь одновременно тем, кем Он изначально был: Богом, Которого нельзя никаким именем назвать, Которого даже познать нельзя иначе, как поклоняясь Ему и раскрываясь Его Откровению.
Вера — это уверенность в вещах невидимых. Мы это слово употребляем по отношению к Богу, к вещам духовным; но оно относится также ко многому в обычной жизни. Мы говорим о любви, мы говорим о красоте. Когда мы говорим, что любим человека, мы тем самым говорим, что непостижимым, невыразимым образом мы в нем прозрели нечто, чего другие не видели. И когда мы, охваченные восторгом, восклицаем: «Как это прекрасно!», — мы говорим о чем-то, что до нас дошло, но чего мы не можем просто истолковать. Мы только можем сказать: приди и посмотри, как апостолы говорили своим друзьям: приди, взгляни на Христа, и ты узнаешь, что я в Нем увидел (Ин 1:46).
И вот наша вера в вещи невидимые, с одной стороны, является личной нашей верой, то есть тем, что мы сами познали, тем, как мы когда-то, хоть один раз в жизни, прикоснулись края ризы Христовой (Лк 8:44) — и почуяли Его Божественную силу, хоть раз взглянули в Его очи — и увидели бесконечное Его милосердие, сострадание, любовь. Это может случиться непосредственно, таинственным путем встречи живой души с Живым Богом, но это бывает тоже посредством других людей. Мой духовный отец мне раз сказал: никто не может отрешиться от земли и обратить весь свой взор на небо, если в глазах хоть одного человека, на лице хоть одного человека не увидит сияние вечной жизни… В этом отношении мы все ответственны друг за друга, все ответственны за ту веру, которую имеем или по которой тоскуем и которая нам может даться не только чудом непосредственной встречи лицом к лицу с Богом, но и через посредство человека.
Вера поэтому складывается из многих элементов. С одной стороны, это наш личный опыт: вот, я увидел в этих очах, на этом лице сияние вечности, Бог просиял через этот лик… Но бывает: я как-то чую, что есть нечто — но не могу это уловить! Я улавливаю только немногое. И тогда могу обратиться взором, слухом, общением души к другим людям, которые тоже нечто познали — и то жалкое, может быть, но драгоценное, святое знание веры, которое мне было дано, расширяется опытом, верой, то есть уверенностью, знанием других людей. И тогда моя вера делается шире и шире, глубже и глубже, и тогда я могу провозглашать истины, которыми обладаю не лично, но соборно, вместе с другими людьми. Так мы провозглашаем Символ веры, который нам дан издревле опытом других людей, но который мы постепенно познаем, приобщаясь этому опыту.
И наконец, есть другая вера, о которой говорит Евангелие от Иоанна: Бога никто не видел, кроме Единородного Его Сына, пришедшего в мир — спасти мир (Ин 1:18; 3:17). Есть истины веры, которые мы принимаем от Христа, потому что Он знает все глубины Божественные и всю глубину человека, и может приобщить нас и к человеческой глубине, и к Божественным глубинам.
Слушая сегодняшний перечень имен, подумаем об этих людях. Некоторые из них были святыми, людьми чистой жизни, людьми, через которых сияла вечность, в которых сиял Бог. Но среди этих мужчин и женщин есть и грешники: как же они вошли в эту родословную? Они вошли, потому что жили ожиданием Христа. Вся их слабость, вся их немощь, вся их греховность не помешали им жить только этой мечтой и этой уверенностью.
Поэтому, взирая на себя, когда будем думать о нашей греховности, мы должны поставить вопрос: мешает ли она нам? Не препятствует ли она нам жить этим ожиданием встречи, встречи с Живым Богом, ставшим Человеком? И если наша греховность стоит между Богом и нами, мы должны с ужасом от нее отвернуться, оторваться, чего бы это нам ни стоило. Но если она нам «не мешает», мы должны от нее оторваться, мы должны с ней бороться так же сурово, так же страстно, как я только что сказал, зная, что наша тоска по Боге нам открывает путь веры.
Будем поэтому идти этим путем, но будем помнить, что вера не заключается только в том, чтобы верить в истину, а в том, чтобы быть верными этой истине, верными той правде, той истине, той чистоте, той святости, которые нам явил Господь и к которым Он нас призывает. Итак — уверенность в вещах невидимых, верность этому Живому Богу жизнью и, если нужно, смертью, как святые это показали и в Ветхом Завете, и после Рождества Христова. Аминь!
Рождество Христово
7 января 1994 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Рождество Христово нам говорит и о Боге, и о человеке: по отношению к Тому и другому оно раскрывает перед нами громадную надежду, но надежду, которую мы должны оправдать.
Что же нам говорит Рождество Христово о Боге? Оно нам говорит о том, что Бог, Который в Ветхом Завете представлялся непостижимым, великим, святым и страшным, перестает быть страшным. Он делается нам родным, потому что вдруг мы обнаруживаем, что любовь Его к человеку такова, что Он готов стать одним из нас. А это значит, что Он берет на Себя все последствия Своего творческого действия, что Он нас не создает просто с тем, чтобы мы потом перед Ним отвечали за то, что не сумели жить так, как Он возмечтал о нас. Рождество Христово нам говорит о том, что Бог нас принимает, какими мы есть, со всей любовью и со всей ответственностью. Он берет на Себя лично ответственность за Свой творческий акт и за человеческое отпадение и грех. Он становится человеком, не делаясь грешником, но принимая на Себя все последствия человеческого отпадения, то есть греха. Он один из нас, и в Нем мы можем видеть идеал человека, полноту того, к чему мы призваны.
Но кроме того, Рождество Христово говорит нам также и о значении человека. Ведь подумайте: для того, чтобы Бог мог стать человеком, человек должен быть так глубок, обладать такой бесконечной емкостью, что он может стать местом селения Божества. Об этом говорит святой Максим Исповедник. На вопрос о том, каким образом Бог может стать человеком — и человек не сгорает в этом пламени, и пламя не гаснет в холоде человечества, он отвечает: воплощение похоже на то, будто мы вложили в жаровню меч. Когда мы его вкладываем, он холодный, темный, когда мы его вынимаем, он весь горит, он сияет и — чудо из чудес! — теперь можно резать огнем и жечь железом. Вот это и случилось в рождении Христовом.
Но Христос не для того только родился, чтобы нас спасать. Он нам доверил тайну спасения мира. Он нас призвал не к тому только, чтобы мы стали Его наследниками в Царстве Божием, но чтобы мы взяли на себя труд преображения этого мира.
И вот теперь, когда над Россией повисла новая трагедия, когда страх берет за ее судьбу, когда перед нами открываются новые возможные бездны, но также и возможные чудеса — мы все призваны помнить, что Бог вошел в грешный мир для того, чтобы его преобразить. А нам Он сказал: Я вас посылаю в мир, как овец среди волков (Мф 10:16). Он нас послал для того, чтобы мы своей жизнью и смертью, своим примером и словом, своей верой и любовью этот мир преобразили, сделали из него Царство Божие.
А Царство Божие вовсе не означает место, где Бог властвует: это место полной свободы, полной взаимной любви между Богом и человеком и между человеком и человеком. Вступая в новый год, который начинается с Рождества Христова, давайте все приложим усилия к тому, чтобы победить всякую рознь, всякую подозрительность, открыться друг другу, но открыться в правде, в решимости стоять за все то, что является истиной и правдой, и достоинством, и святостью мира и человека — и тогда победит добро. И на этот подвиг — да благословит нас Господь, чтобы мы его совершали Его силой и Его любовью.
Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь!
Рождество Христово
7 января 2001 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня для всей Вселенной, знают об этом люди или не знают, для всей природы мы поем чудо прихода на землю Живого Бога. Как говорит один из отцов Церкви, Феофан Затворник, до Воплощения Божие присутствие было подобно волнам морским, которые бьют о берег морской, теперь же, с приходом Господа Иисуса Христа на землю, Божественное присутствие пронизывает все. Принимая Крещение, получая Миропомазание, причащаясь Святых Тайн, мы делаемся, как говорит опять-таки один из больших наставников Православной Церкви, присутствием на земле воплощенного Христа. И какая радость думать, что Бог наш стал теперь как бы живой частью нашего, сотворенного Им мира. Поэтому, празднуя сегодня Рождество Христово, будем радоваться, будем ликовать о том, что Бог стал одним из нас, человеком навсегда, и что мы стали Его братьями, Его сестрами по человечеству, но также и по благодати, потому что Он нам дал Духа Своего Святого, Который нас пронизывает и делает родными Ему, родными Воплощенному Богу.
Но одно мы должны помнить — какой это случилось ценой. Мы всегда думаем о воплощении Христа как о радости: родился Ребенок у Пречистой Девы Богородицы, но мы не помним о том, что родился Он для того, чтобы нас спасти от греха, и что это Ему стоило жизни. Есть древняя икона Рождества Христова, где Спаситель не лежит в яслях, а на жертвеннике, потому что Он родился для того, чтобы умереть за нас, чтобы Свою жизнь нам дать, чтобы мы приобщились вечной жизни и, поистине, Божественной жизни через Его смерть и Воскресение.
Поэтому с какой благодарностью должны мы сегодня праздновать этот день Рождества Христова, но также с каким чувством глубокой ответственности! Мы не можем легко к этому отнестись. Если Бог стал человеком ценой Своей жизни и смерти, потому что так Он нас возлюбил,так поверил в нас, мы должны ответить на Его веру в нас творческой верностью. Поэтому начнем сегодня, еще раз, еще раз новую жизнь, достойную той любви, которую Бог явил нам Своим воплощением, Своей жизнью. Своей смертью, Своим воскресением, тем, что Он стал одним из нас, чтобы мы стали детьми Божиими. Аминь.
Перед Крещением Господним
16 января 1983 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Проповедь святого Иоанна Крестителя вся заключается в слове: покайтесь! Отвернитесь от себя и своих себялюбивых желаний, отвернитесь от всего того, что гнетет душу и тело к земле, отвращает сердце от Бога. Покайтесь! И сделайте путь Господень прямым, доступ до вашего сердца — прямым; и ждите, призывая имя Господне (Мф 3:2—3). И эта проповедь обращена к каждому из нас и ко всей Церкви в ее совокупности: каждый из нас должен обратить свой взор и свое сердце к Богу и сделать доступ к собственному сердцу легким для Господа. Он стоит у двери каждого сердца, каждого ума, каждой жизни, каждой судьбы — и стучит: не откроют ли Ему? И наше дело — быть готовыми. И как только мы почуем Его приближение или услышим звук этого стука, мы должны спешить, спешить открыть эту дверь, пока не поздно.
Но это относится не только к нам лично. Каждый из нас, кто назван именем Христовым, кто является как бы Христовым присутствием на земле, каждый из нас должен быть таким провозвестником, таким проповедником прихода Господня, каждый из нас должен делать легкими и прямыми пути Господни в жизнь других людей, к сознанию, к воле и к сердцу других людей. И для этого нам надо научиться от святого Иоанна Крестителя тому, чем он был: он назван самым святым, может быть, именем, каким можно назвать человека, — другом жениха (Ин 3:29). Друг это такой человек, для которого его друг — все на земле, чьи интересы, чье сердце, чувства, желания, мысли являются самым святым, самым драгоценным, что только есть. Друг это тот, кто может все забыть, включая себя самого, ради того, кого он избрал другом и кто его другом избрал. И потому Иоанн Креститель мог сказать о себе, что надлежит ему, Иоанну, сходить на нет, чтобы в сознании, в опыте, в жизни людей вырос в полную меру Спаситель, Господь наш Иисус Христос.
И каждый из нас должен бы быть таким гласом, вопиющим в пустыне, не заслонять собой, своей личностью, добрыми или злыми своими качествами образ Христа, а быть таким прозрачным, чтобы насквозь, через него можно было видеть грядущего Христа, живущего в нем или в ней Христа, и чтобы наш голос был голосом Божиим, зовущим в вечную жизнь. Глас вопиющего в пустыне должен бы быть нашим голосом, и мы должны быть готовы к тому, к чему был готов Креститель Иоанна — и что случилось с ним: отойти совершенно, отойти так, чтобы остался только Христос перед глазами людей, только Он один. В каком-то смысле быть готовыми, что мы будем забыты — как самаряне говорили женщине-самарянке: теперь мы верим в Него не по твоему слову, а потому что мы сами Его видели и слышали и дознались Его правды (Ин 4:42). И какая радость быть тем, кто открывает дверь, провозглашает Христа, кто, как привратник, как дверник, стоит в стороне, как друг жениха, который приводит невесту к жениху и сам остается вне брачной комнаты, сторожить: как бы какая-нибудь сила не ворвалась туда и не прервала тайну общения, тайну приобщенности невесты к жениху.
Вдумаемся в этот образ, вдумаемся в эти слова, сказанные о том, кого Христос называет самым великим из рожденных женами (Мф 11:11), и вступим в его путь во славу Божию, во спасение других, во спасение собственной души. Аминь!
После Крещения Господня
24 января 1993 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Первые слова Спасителя, когда Он вышел на проповедь, были: Покайтесь, приблизилось Царствие Божие (Мк 1:15). Покайтесь это значит — обернитесь лицом, обратитесь в сторону пришедшего теперь Царства Божия. И этот призыв обращен к каждому из нас: Царство Божие приблизилось, Царство Божие в сердцах наших, но в тех глубинах, куда мы редко сходим. Царство Божие среди нас, если мы соединены друг со другом искренней, нелицемерной и жертвенной любовью.
Царство Божие уже вошло в жизнь сего мира воплощением Христа, потому что Он вошел в историю мира как Господь, как Царь. И поэтому нам надо обратиться всем нашим вниманием в те глубины нашего сердца, нашего сознания, нашего бытия, где мы можем встретить Бога, оставив в стороне то поверхностное, ту рябь, которая не дает нам видеть глубины. Нам надо обратить внимание на те отношения, которые нас связывают, чтобы не осталось в них ничего, что не было бы достойно этого Царства жертвенной, щедрой, всецело себя отдающей любви. И мы должны помнить, что мы посланы в этот мир, чтобы быть провозгласителями прихода Господня, что Господь пришел на землю принести мир — мир между Богом и человеком, мир между раздваивающимися силами человеческого сознания и мир между людьми. Если мы так поймем этот приход, это приближение Царства Божия, и если мы так ответственно к нему отнесемся, то мы действительно будем Христовыми, христианами, и тогда мы будем как соль земли, которая не дает гнить тому, что способно на растление, а наоборот, может дать жизнь, и дух, и свет. Аминь.
Об искушении
26 января 1986 г. Лк 4:1—13.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В одном из своих посланий апостол Павел говорит, что Христос, претерпев испытание и искушение во всем, может помочь тем, которые проходят через искушения и испытания (Евр 2:18).
Мы сейчас еще находимся в свете праздника Богоявления. В Крещении Своем Христос исполнился Духа Святого в Своем человечестве и был взят в пустыню, чтобы пройти через испытание и подвергнуться искушению. Три испытания, которым Он подвергся, были искушениями властью и силой. Думая, что в посте и одиночестве Христос истощил все Свои человеческие силы, сатана предстал перед Ним и сказал: если Ты поистине Сын Божий, повели, чтобы эти камни обратились в хлебы… И затем: если Ты поистине Сын Божий, свергнись вниз с крыши Храма… И, посрамленный Христом, сатана говорит снова: если поклонишься мне, я отдам в Твою власть все царства (Лк 4:1—13).
Эти три испытания встают также и перед каждым из нас. После нашего Крещения, когда, сделав выбор, мы встали на сторону Бога и Его путей, отвергнув то, что чуждо Ему, эти искушения встают перед нами, и не раз, когда по той или иной причине сила и энергия нарастают в нас, мы чувствуем, что мы полны творческой энергии и могли бы сделать так много! В зависимости от того положения, которое мы занимаем в жизни, искушения проявляются по-разному, но все они сводятся к тому, что сатана сказал Христу: не довольно ли Тебе, для удовлетворения Твоих творческих порывов и Твоих сил, обратить в хлеб все, что перед Тобой? Все, что Тебя окружает, сделай пищей, насыщайся и не нуждайся ни в чем. Всю Свою силу отдай на это, и будешь удовлетворен.
И враг обращается к нам дальше и говорит: ты силен, полон жизни, ты чувствуешь себя непобедимым, — давай, докажи не только себе, но и всем, на что ты способен… Он не берет нас на крышу храма, но он говорит: кинься в пучину жизни! Кинься во всякую пропасть, разверзающуюся перед тобой, и люди увидят: то, что другие не способны сделать — ты способен.
А когда мы отвергнем и это, он говорит: разве ты не власти ищешь? Стань на мою сторону, и я отдам в твои руки всех моих рабов, всех, над кем я имею господство, и будь их царем… Враг имеет господство над многими: над всеми, кто поддался двум первым соблазнам, над всеми, кто поддался жадности, страху, ненависти — всех их враг обещает отдать нам в рабство.
И эти три соблазна Христос отвергает. Он отказывается от них в Себе Самом, за Себя, но и за нас: чтобы мы не соблазнялись обращать в пищу себе все, что вокруг нас, и не искали насыщения на земле; чтобы мы не кичились своей властью и силой, и величием, которые есть иллюзия и пустота; и чтобы не стремились поработить себе никого, ибо закон, принесенный Богом, — закон любви. Отпусти пленников на свободу, напитай голодного, будь кротким, будь слугой, каким был Христос.
Но это было первое испытание — соблазн силы. Позже Христос претерпит иное искушение. В конце Своего служения, когда Он уже восходит в Иерусалим навстречу Своей смерти на кресте, Он говорит Своим ученикам, к чему они должны быть готовы, что их ожидает. И Петр, который за мгновение до того, по дару Божию, сказал, что он и другие ученики узнали в Нем воплощенного Сына Божия, говорит Ему: будь милосерд к Себе! Не навлекай на Себя такого страдания. Здесь — искушение слабостью, боязнью поражения. С этим соблазном мы встречаемся так часто, когда чувствуем, что силы наши истощаются, что цель слишком велика, что мы в такой мере призваны уподобиться Христу — и мы не можем, и никогда не сможем: не отступиться ли? Зачем стараться достичь невозможного? В этот момент Господь обернулся к Петру и сказал: отойди от Меня, сатана! Прочь с Моего пути, — ты стал на сторону противника (ср. Мк 8:29—33).
Так должны и мы сказать, помня, что Бог во Христе победил и обещал нам дать не нашу силу, чтобы совершить невероятное, а Свою силу, когда Он сказал Павлу: Достаточно тебе благодати Моей, сила Моя совершается, пролагает себе путь в слабости (2 Кор 12:9). Не будем поэтому бояться своей слабости и хрупкости — мы можем полагаться на Божию помощь, если только обратимся к Нему.
Первые слова Христа, когда Он вышел на служение, были: покайтесь, Царство Божие близко! «Покайся» не значит «плачься о своей греховности»; это значит: измени свой строй мыслей, поверни лицо свое к Богу, смотри в направлении жизни и не бойся проходить через мрак долины смерти, потому что Я с тобой. Обернись к Богу и иди. Царство Божие близко, потому что достаточно открыть врата своего сердца, открыть Ему наш ум, дать Ему войти в нашу жизнь, и тогда Его сила, Его могущество польются в нас, сильнее сатаны, сильнее мира, сильнее всякого уныния, сильнее нашей собственной слабости.
Поэтому примем, услышим эту весть Христа, Который, будучи испытан во всем, может помочь и нам во всем. И пойдем с новым мужеством, новой решимостью, снова и снова отдавая себя со всей преданностью в руки Божии, пойдем к жизни, той жизни, которую Бог обещал нам с избытком, если только мы изберем путь жизни, а не путь смерти. Аминь.
Сретение Господне — Неделя о мытаре и фарисее
15 февраля 1981 г. Лк 2:22—38; Лк 18:9—14.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
На славянских языках слово «сретенье» имеет два значения: встреча и радость. И мы празднуем сегодня день, когда Спаситель Христос, придя на землю безответным, хрупким младенцем, был встречен ветхозаветной праведностью, ветхозаветной святостью и прозрением — как Господь, пришедший на землю, как Спаситель мира.
Встречей было чудо сотворения мира, когда Господь каждую тварь вызывал к бытию, и каждая тварь из небытия подымалась в бытие, и первое, что случалось, это была встреча с Живым Богом и со всеми другими, уже созданными тварями. Встреча и радость, зрение Божественной славы и еще незапятнанной, совершенной красоты мироздания. Потом эта красота померкла, мироздание было изуродовано, и в этот страшный мир Бог вошел плотью через Рождество Христово. И снова те твари, которые были способны чистотой сердца или глубокой мудростью, или подвижнической святостью узнать Его — Его узнали и поклонились Ему в радости, что спасение пришло. Таковы были простые, чистосердечные пастухи, которым ангелы возвестили Рождество Христово в рождественскую ночь, мудрые волхвы, и теперь — Симеон и Анна, подвигом святости ставшие прозрачными и зрячими.
И все мы призваны к этой дивной встрече, и всем нам дано искать чистоту сердца, глубокую мудрость, которая открывается нам в Священном Писании, и ту чистоту и святость, которая дается только духовным подвигом.
Всем нам открыта встреча как радость, но не все в эту радость вступают. Сегодня мы вспоминаем притчу Христову о мытаре и фарисее. Фарисей делами был праведен, он все творил, что должен был творить праведный человек, жил так, как человеку следовало жить. Но все было в нем отемнено гордыней и самодовольством, чувством, что он своей житейской праведностью получает какие-то права перед Богом. Как сказано в Евангелии, фарисей вошел в церковь, крепко стал на своем месте, оглянулся и, озираясь, осудил всех вокруг себя: благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как другие люди, что я праведен перед Тобой, что, конечно, я не такой, как этот мытарь!
А мытарь, который жил скверно, был в презрении у людей, потерял уважение к самому себе, не смел войти в храм, остановился у притолоки церковной, не смел даже поднять глаз своих на небо, а только стоял, сознавая, что храм — удел Божий, освященный, исполненный присутствием Живого Бога, и что туда ему войти нельзя, и бил себя в грудь, и говорил: Господи! Будь милостив ко мне грешному… Он знал, что прав у него нет, что пути перед ним нет, но он знал, что может сделать сострадание, милость, любовь. Верно, он в своей жизни испытал, как его каменное сердце иногда на минуту могло вздрогнуть жалостью, и тогда, как бы наперекор земной правде, он поступал с милосердием и видел радость, и перед ним открывалась надежда других людей. И теперь он сам стоял перед Богом с этой надеждой, что невозможное будет.
Все мы призваны к встрече, все мы призваны, чтобы эта встреча была радостью — только бы мы стали у притолоки церковной, только бы мы сознали, что прав на Бога у нас нет, прав нет у нас на милосердие Божие или на жалость, на любовь людей. Божия милость и человеческая милость и любовь — это бесценный дар, который нельзя заслужить, но который может быть дан и который надо принять благоговейно, на коленях, с изумлением, с благодарностью. И тогда невозможное делается возможным: мытарь вернулся к себе оправданным в большей мере, нежели фарисей, чья праведность несравнима с сокрушенным сердцем грешника.
Вот перед нами путь, вот наша надежда, вот наше призвание. Пойдем же к Господу с этой надеждой, с сердцем сокрушенным, смиренным, ожидающим ласки, прощения и милости, но не в награду, а только как неоплатный дар. Аминь.
Неделя о блудном сыне
2 февраля 1981 г. Лк 15:11—32.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мне пришлось недавно прочесть следующие слова: «Дети чисты сердцем и праведны, и поэтому они ищут правды; взрослые осквернены, и они ищут милости».
В сегодняшнем Евангелии мы находим почву и для того, и для другого отношения к жизни. Но обращаем мы особенно внимание на то, как отец принял своего сына, простил его, сделал его вновь членом своего дома, своей семьи в ликующей радости. И мало обращаем внимание на то, как этот младший сын, подобно нам, изменил своему призванию сына, ушел из отчего дома, растратил все, что ему было дано от отца, и только тогда вернулся в отчий дом, когда его измучил голод, оставленность, одиночество.
Вспомним рассказ, который мы только что слышали, но не мягкими, не ласковыми, жалостливыми словами Спасителя, а с той резкостью, грубостью, с которыми когда-то происходило то, о чем говорил Христос. Юноша вырос, из ребенка он стал молодым человеком. Простая, чистая, светлая, трудолюбивая, строгая жизнь отчего дома ему стала тягостью. И он обратился к отцу с самым, может быть, жестоким словом, которое можно сказать человеку: отец! Дай мне сейчас то, что мне достанется, когда ты будешь мертв. Иначе сказать: отец — твоя любовь, твой кров, наша общая жизнь мне нипочем, ты мне не нужен. Мне нужно только то, чем я могу воспользоваться: плоды твоей жизни, а не жизнь твоя, плоды твоей любви, а не твоя любовь, твоя готовность все отдать нам, твоим сыновьям, но не ты, отдающий все. Отдай мне теперь то, чем я воспользуюсь, когда ты умрешь, когда тебя больше не будет на моем пути.
И отец ни словом не упрекнул своего сына, ни слова ему не напомнил о ласке, которой было окружено его детство, о любви, о тепле отчего дома. Он склонил голову и принял как бы преждевременную смерть, он принял смерть из уст своего сына: пусть буду я для него трупом, мертвым, раз он хочет только того, чем он может воспользоваться из моей жизни. И сын, сбросив одежду отчего дома, грубую, простую, ношенную, нарядился в городскую одежду и ушел.
Разве мы не поступаем так все, в той или другой мере? Но не будем прятаться за слова «в той или другой мере», думая: ну да, может быть, кто-то и поступает так же бессердечно, жестоко, но я только в малой мере подобен блудному сыну, похож на него… Нет, мы все поступаем до страшности подобно ему. Господь нам дает бытие. Он нам дает жизнь, Он дает нам все, чем эта жизнь полна: живое тело, живой ум, живое сердце, свободу определять свою жизнь. Дает любовь, дружбу, родство, красоту окружающего мира, закон правды в наших сердцах — сколько еще другого Он нам дает! И все это нам дано для того, чтобы этот мир снова стал тем раем любви, единства, гармонии, красоты, каким он был замышлен Богом и каким он был, когда Господь всякую тварь вызывал державным словом к бытию.
А что мы из этого мира сделали? Что мы сделали из своей жизни, из жизни каждого человека вокруг нас? Беспечностью, бессердечием, себялюбием, жестокостью мы превратили и превращаем этот мир в ужас. И не только в широком смысле слова, но в самом простом: рушатся дружбы, крушатся семьи, человек в нужде не находит отклика, ум наш не устремлен к высокому, сердце не открыто только ко всему прекрасному, воля наша не направлена к тому, чтобы этот мир стал Божиим миром. Мы, подобно блудному сыну, все берем у Отца, у Бога и, отвернувшись от Него, повернувшись к Нему спиной, идем творить свою волю и строить уродливый мир и уродливое общество и в Церкви, и вне ее. Потому что и среди нас качествует безразличие, себялюбие, а не любовь, та крестная любовь, о которой говорит Христос, о которой Павел сказал: принимайте друг друга, как вас принял Христос (Рим 15:7).
Неужели нам надо ждать того момента, когда истощатся все эти дары, когда ничего не останется у нас, кроме нищенства, когда старость, болезнь, обездоленность, хищничество других у нас отнимут все, и останется только сознание: как мы были богаты, как мы были счастливы под кровом Божиим! — и теперь, когда нам нечего другим давать и с нас ближний ничего не может обманом или насилием сорвать, мы оставлены всеми. Неужели нам ждать момента, когда вдруг мы увидим себя на краю пропасти, когда пропадет в нас и сила, и надежда, когда останется только горькое, упрекающее нас воспоминание о той любви, которая нас взрастила, создав нас, и от которой мы отвернулись, которую мы отвергли, которой мы стали чужие?
Вот о чем говорит нам на пути к Великому посту это Евангелие. И не станем утешаться, что ждет нас Отец с надеждой, с любовью. Он ждет тех, которые покаются. Он ждет тех, которые опомнятся, встанут и в сокрушении сердца, покаянно пойдут к Отцу, признавая, что мы, все мы, но каждый из нас за себя — недостоин быть назван сыном нашего Отца небесного, братом нашего Спасителя Христа. Пока мы не опомнимся, пока мы не встанем и не пойдем к Нему — не станем тешиться надеждой, иллюзией о том, что прощение дается даром. Да, даром, как подарок любви, но в ответ на искренний крик души: каюсь, Господи, прости, прими! Аминь.
О Страшном суде
2 февраля 1981 г. Мф 25:31—46.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В одном из апостольских посланий говорится, что каждому человеку надлежит умереть и после смерти — суд (Евр 9:27). И сегодня мы вспоминаем день, который Церковь посвящает Страшному суду. Суд этот страшен не грозностью Бога-Судии, не тем, что мы должны в течение нашей жизни исполнить закон, а тем, что весь суд над нами — это суд о любви: сумели ли мы на земле любить, сумели ли мы на земле быть человечными? Если мы сумели любить и быть достойными имени человека, тогда, как говорит апостол Иоанн, мы прейдем от смерти в жизнь и суд нас минет (Ин 5:24). Но каждый из нас должен испытывать свою совесть и свою душу — как он живет, как он прожил дни своей жизни, многие ли они или малочисленные? Сумели ли мы в эти дни, в эти годы воплотить тайну любви? И в любви так страшно то, что никто не может сказать: я долюбил любимых, я сделал все, что нужно было, мое сердце было до самых глубин открыто и отдано...
В сегодняшнем Евангелии нам говорится, что эта любовь может проявляться так просто: посетил ли я больного, не постыдился ли я заключенного в тюрьме, пожалел ли я по-человечески того, кому нужна была моя жалость? Если я сумел с такой простотой и такой человеческой естественностью любить, тогда я встану с открытым лицом перед Господом, но если я на земле и человеком не сумел быть — как же мне войти в Царство Божие?
И вот почему отцы Церкви нам постоянно говорят: имейте память смертную… Не в том смысле, что мы должны жить как бы под тучей, под страхом, что вот-вот нас или кого-либо настигает смерть, и что будет тогда? — а помнить, что каждое мгновение нашей жизни, каждый миг жизни другого человека может быть последним, что слово, которое я сейчас говорю, должно быть чисто и истинно, должно быть духом и силой, что то, что я сейчас совершаю, должно быть выражением всей глубины правды и любви, которая во мне есть.
Когда человек живет несколько лет с умирающим, так ясно делается, что каждое слово, каждое самое обыкновенное действие может и должно стать выражением всей глубины, всей красоты и правды, которые есть между двумя людьми. Тогда нет вещей значительных и незначительных, самое простое слово может быть словом жизни — и может быть убийственным, холодным словом. И то, как мы принесем человеку его еду, и как мы поправим больному подушку, и как мы прикоснемся его телу, и какими глазами на него глядим, и как звучит наш голос — все это имеет окончательное и порой последнее значение. И это так страшно, и это так дивно!
Но когда умрет человек, у каждого в душе ужас: сколько я пропустил случаев проявить любовь, сколько слов не сказанных или сказанных не так, сколько поступков могло бы быть не совершено, и сколько могло бы быть сделано! И тогда мы с болью в сердце думаем: а теперь поздно!.. И это ложь, это неправда! Поздно не бывает никогда, никогда — потому что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых (Мк 12:27), потому что все, и усопшие, и на земле живущие, живы для Него, потому что любовь никогда не бывает в прошлом. Никогда нельзя сказать «мы друг друга любили», а только «мы любим друг друга вечной, заветной любовью». И если это так — о, тогда действительно, как говорится в пасхальной службе: пожерта смерть победою. Унесена, как мощным потоком, победой любви, победой Воскресения Христова всякая смерть, всякая разлука, нет прошлого времени, а есть только ныне и во веки веков — даже не будущее, а вечное перед нами. И это так дивно, и такая в этом лежит надежда.
Но опять бывает, что на душе так тяжело. Просишь Бога простить то, что не сделано было, или то, что сделано или сказано было наперекор любви — а как-то не успокаивается душа. Помнится мне человек, который во время Гражданской войны нечаянно в бою застрелил дорогого ему друга. Он молился, исповедовался, каялся, предавался отчаянию и надежде и все-таки не находил покоя. И после пятидесяти лет мы с ним встретились, и он мне рассказал об этом, и я сказал ему то, во что я глубоко верю: что Бог может тогда простить, когда два человека примирились, но не без того, чтобы совершилось это примирение. И он мне с ужасом сказал: «Но как же быть, тот человек умер!». — «Стань на молитву, помолись Господу, а потом обратись к другу, которого ты застрелил, и скажи ему все, что у тебя на душе: и твой ужас перед нежеланной и нечаянной его смертью, и твое отчаяние о непоправимости совершенного поступка, и твои молитвы, которые, казалось бы, остались без ответа перед Богом — все ему скажи, и скажи: „а теперь ты меня прости, и ты за меня помолись“. И пошлет тебе Господь мир и покой и прощение». Он так сделал, и это совершилось.
Любовь не в прошлом, а в настоящем, и во веки веков. Поэтому будем жить этой надеждой, но не будем ждать момента, когда вдруг охватит нас ужас: не поздно ли? — а будем помнить час смертный. Будем помнить, что в нашей власти только теперешнее мгновение, что сейчас я могу сказать истинное, чистое, доброе, одухотворенное слово, или солгать против Бога и моего человеческого достоинства, или смолчать по недостойному страху. Будем помнить, что только сейчас я могу совершить поступок, который может быть воплощением всей моей любви, всего смысла моей жизни, всей глубины моих отношений с другим человеком. Будем жить так, будто каждый из нас может вот теперь перейти в вечность, и помнить, что мы стоим на грани, где каждое слово и действие могут быть завершением, вечной славой нашего общения с человеком. Подумайте о том, как прекрасен может стать мир через это и как глубоки отношения, и как свята жизнь. Аминь.
Вечерня Прощеного воскресенья
12 марта 2000 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Служба прощения — не время, когда священник проповедует другим о том, как они должны прощать друг друга. Это момент, когда он сам становится перед людьми, которых Господь вверил ему доверчиво, надеясь на все от него, для того чтобы он их обдавал светом Божиим и указывал им путь в Царство Небесное. И мне вспоминаются слова одного священника, который служил в Париже, в Трехсвятительском подворье. Незаметный он был человек, но в его завещании есть слова, которые у меня остались в сердце на всю жизнь. Он говорит: «Что такое недостойный священник? Богу он — в омерзение, прихожанам, пасомым он — соблазн, себе он — погибель души».
И каждый священник стоит перед Богом с этим чувством и сознанием, и с этим чувством и сознанием и я теперь стою перед Богом и перед вами. Прощение не заключается в том, чтобы сказать: «Не важно, прошлое прошло». Потому что прошлое не проходит, прошлое остается в нас, пока оно не изжито. А изживается оно подвигом покаяния со стороны грешника и подвигом прощения со стороны его жертв.
И вот с этим я стою теперь перед вами, прося прощения. Прося о том, чтобы вы с великодушием, милосердием, состраданием обратились к Богу и сказали: да, Господи, он не оказался достоин того величайшего священнического призвания, которое Ты возложил на него, но мы готовы понести последствия его недостоинства и простить... Простить не значит забыть. Простить — значит с состраданием, с болью в душе сказать: когда придет Страшный суд, я встану и скажу: не осуди его, Господи! Лучшего он сделать не мог, но меня он научил евангельскому слову, молитве, может быть, жизни, а главным образом он меня научил состраданию, научил жалеть его в его греховности, жалеть каждого человека, который рядом со мной стоит, не несмотря на его грехи, а именно потому что он грешен и потому что ему нужно, чтобы каждый из нас друг друга тяготы носил, потому что в этом мы исполним закон Христов.
Мы будем подходить к иконе Спасителя. Его смерть — плод человеческой греховности и в каком-то смысле моего греха, моей греховности. Будем подходить к иконе Божией Матери и просить Ее молитв, прощения, помилования. Как один подвижник сказал: если Она тебе может простить смерть Своего Божественного Сына, то никто тебя осудить не сможет… Но так же примем друг друга, не на мгновение, а на жизнь, по-новому, вот сейчас, когда будем просить прощения у Бога за себя и друг за друга. Примем, если нужно, как крест, а если нужно, как радость и вдохновение, и пойдем вместе с верой, с надеждой, с радостью, с доступной нам любовью в Царство Божие, которое не когда-то придет, которое приходит в душу каждого человека, когда эта душа откроется Богу и примет Духа Святого молитвами Богородицы, силой Креста. Аминь.
Торжество Православия
19 марта 2000 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы празднуем сегодня день Торжества Православия над неправдой, над ересями, над лжеучениями. Но мы не празднуем торжество православных над другими людьми, а ликуем о том, что Бог из столетия в столетие нашел в нашей среде людей, так глубоко Ему преданных, так способных Ему приобщаться, Его познавать, что Он открыл нам, порой непросвещенным, порой с затуманенным сердцем и умом, истину о Себе.
И сегодня мы ликуем о том, что Господь так милостив, столько в Нем любви и снисхождения, что Он стал открываться из столетия в столетие каждому человеку, который свое сердце Богу откроет и очистит свое сердце и свою жизнь ради того, чтобы быть достойным Христовой любви, Его крестной смерти, Его Воскресения. Это дивный день, когда мы говорим и торжествуем о победе Бога над ложью, которая, как туман, распространилась по всей земле через человеческую неправду и греховность.
И сегодня мы должны вспоминать с особенной любовью и благоговением тех святых, которые так глубоко вросли в тайну Божию, которые так подвижнически открылись Ему, что Он мог через них приобщить нас истине. Поэтому будем сегодня с благодарностью относиться к ним — к святым, подвижникам, к простым людям, которые Бога познали и разделили с нами знание о Нем. Будем их благословлять и благоговеть перед ними. Но этого недостаточно, если мы хотим быть их последователями, наследниками, их учениками. Мы должны научиться тому, как открыть свое сердце, свой ум Богу, чтобы Он в нас влил свет, чтобы и мы познали Бога со всей глубиной, с которой Он хочет нам открыться. Поэтому будем ликовать о торжестве Православия над нами, православными, о победе Божией над нами. И из благодарности все знание о Боге, которое Церковь собрала за тысячелетия, будем щедро давать тем людям, которым Бог нужен, потому что тысячи и тысячи людей нуждаются в познании истины о Боге, о человеке, о жизни.
Давайте примем этот дар Божий и будем его широко раздавать, не кичась тем, что мы православные и что мы участники в торжестве Православия, а смиренно помня, что это — дар Божий, который мы в глиняных сосудах несем и можем дать, как животворную воду, тем людям, которые жаждут и жаждою умирают. Аминь.
Всеправославная вечерня в праздник Торжества Православия
16 марта 1997 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Каждый год в первую неделю Великого поста мы отмечаем праздник Торжества Православия. И каждый год мы должны задумываться о его значении — не только как исторического события, но и о том, что оно значит лично в нашей жизни.
Прежде всего мы должны помнить, что торжество Православия не означает торжества православных над другими, что это — Торжество Божественной Истины в сердцах тех, кто принадлежит Православной Церкви и кто свидетельствует об открытой Богом Истине во всей ее целостности и прямоте.
И поэтому мы должны сегодня от всего сердца поблагодарить Господа за то, что Он разогнал тьму в умах и сердцах тысяч и тысяч людей, что Он, Который есть Истина, дал нам возможность этой совершенной Божественной Истине причаститься.
Установление этого праздника явилось законным признанием иконопочитания. Почитая святые иконы, мы исповедуем, что Бог — невидимый, невыразимый, Бог, Которого мы не можем постичь, — действительно стал человеком, принял человеческую плоть, жил среди нас в смирении, простоте, но также и во славе. И исповедуя это, мы поклоняемся иконам не как идолам, но как свидетельствам Истины Воплощения.
Почитая иконы, мы не должны забывать, что мы поклоняемся не нарисованным на дереве изображениям, а Самому явившемуся в мир Богу. Каждый из нас, все мы были созданы по образу Божию. Все мы — ожившие иконы, и это на нас налагает огромную ответственность, потому что иконы могут быть повреждены, превращены в карикатуры, поруганы. И мы должны задуматься над собой и задаться вопросом: достойны ли, способны ли мы называться «иконами», образами Божиими?
Один западный писатель сказал, что окружающие люди, встречая христианина, должны видеть в нем прообраз, отражение чего-то, с чем они никогда раньше не сталкивались, что разница между христианином и нехристианином настолько велика, разительна, насколько велика разница между статуей и живым человеком. Статуя может быть красивой, но она сделана из камня или из дерева, и она мертвая. Живой человек может сразу показаться не таким прекрасным, но окружающие должны (подобно тем, кто почитает святые, освященные Церковью иконы) увидеть в нем сияющее присутствие Святого Духа, Бога, открывающего Себя в смиренном виде человеческого существа.
До тех пор, пока мы не сможем быть для окружающих такими, мы не справились со своей задачей, наша жизнь не является свидетельством Торжества Православия, мы лжесвидетельствуем. И таким образом, все мы и каждый из нас в отдельности несем на себе ответственность за то, что несмотря на существование миллионов христиан в мире, мир не видит в этих воистину глиняных горшках (2 Кор 4:7) Божиего присутствия — святого, славного, способного преобразить этот мир.
Эта правда о нас, правда и о наших церквах. Наши церкви были призваны Христом как братские общества христиан стать единым телом, все члены которого объединены друг с другом всеобъемлющей, жертвенной любовью, которая есть Божия любовь к нам. И Церковь была призвана и до сих пор призывается быть общностью людей, чья отличительная черта — быть воплощением Божественной любви.
Увы, то, что мы видим в наших церквах — это не чудо Божественной любви, которая должна была бы выливаться из наших сердец и изменять мир. К несчастью, с самого начала храмы строились по образу государства, то есть иерархически, строго, формально, и из-за этого мы в действительности не смогли стать похожими на общества первых христиан. И мы должны научиться воссоздавать то, что Господь заложил в нас и что когда-то существовало: воссоздать общины, церкви, приходы, епархии, патриархаты, всю Церковь таким образом, чтобы вся жизнь, вся реальная жизнь была пронизана любовью.
Но увы, мы этому еще не научились. Так что когда мы празднуем Торжество Православия, мы должны помнить, что Господь победил, что мы являемся свидетелями Истины, Божией Истины, Его Самого, воплощенного и явившегося. Да, есть большая награда для всех нас и для каждого в отдельности, но мы своею жизнью не должны давать тому ложного свидетельства.
Какой-то западный богослов сказал, что даже если мы изложим всю суть Православия, но в то же самое время исказим ее, живя по-иному, то наша жизнь засвидетельствует обратное: все это были слова, а не действительность. Мы должны в этом каяться, мы должны измениться так, чтобы при встрече с нами люди видели Божественную Истину, Божий Свет, Божию Любовь — во всех и в каждом из нас. И до тех пор, пока это не совершится, нельзя говорить, что мы принимаем участие в Торжестве Православия. Господь восторжествовал, но Он нас поставил, чтобы через нас мир узнал об истинной жизни.
Так давайте научимся жить по Евангелию, которое является Истиной и Жизнью, не в одиночку, а вместе строить общества христиан, которые будут свидетельством этой евангельской Истины, так, чтобы мир, глядя на нас, мог сказать: «Давайте обновим все устаревшее и станем новым обществом, в котором Божии заповеди, жизнь по Богу смогли бы стать реальностью и восторжествовать!». Аминь.
Неделя 2-я Великого поста. Исцеление расслабленного
26 марта 1978 г. Мк 2:1—12.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В одной из древних рукописей Евангелия говорится, что спросили Спасителя Христа: когда же придет Царство Небесное? И Он ответил: Царство Небесное уже пришло там, где двое — не двое, а одно.
В сегодняшнем Евангелии мы читаем, как по вере четырех его друзей был исцелен человек, парализованный уже много лет. И часто ставится вопрос: каким образом вера одних совершила исцеление, спасение другого? Это стало возможно именно потому, что соединить людей в одно может только любовь, а когда любовь соединила двух, трех, множество людей, то уже настало Царство Божие, те условия, в которых Господь может свободно действовать, потому что Он свободно принят Своей тварью.
Как просто могло бы быть, чтобы и в нашей среде милость Божия сходила на каждого из нас, если между нами есть такая крепкая и такая ответственная любовь, какую проявили эти четыре друга парализованного человека. Они не взмолились Богу, они не пошли ко Христу с просьбой прийти и исцелить больного. Они принесли больного, всячески старались этого больного человека поставить перед Христом, Богом, и когда это оказалось невозможным из-за толпы, они прокопали крышу дома, чтобы спасти своего друга.
Часто ли кто-либо из нас такую заботливость проявляет о своем ближнем, даже о друзьях? Разве не разбивается наша готовность, даже там, где мы верим, уверены, что может быть помощь, о то, что мы называем «непреодолимыми препятствиями»? Таких нет. Если бы только мы любили друг друга, то все было бы возможно, потому что сила Божия совершается в немощи, и потому что, по слову апостола Павла, вернее, по слову Духа Святого в нем, все нам возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе (Флп 4:13).
Подумаем же теперь о том, какова наша община, каковы наши семьи, каковы наши дружбы. Так ли они скреплены любовью, чтобы можно было сказать: Царство Божие уже пришло среди этих людей — в семье, среди друзей, в приходе, вокруг нас, потому что они уже не множество, аодно, то Царство, где совершается чудо Божественной гармонии. Аминь.
Неделя 2-я Великого поста. Память святителя Григория Паламы
1975 г. или ранее.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы празднуем сегодня день святого Григория Паламы. Он кончил свою жизнь Фессалоникийским архиепископом, но до того он был учеником монашеской традиции Афонской горы. Его богословие всеми своими корнями уходит в опыт подвижников и святых. Сердцевина его учения такая для нас важная, такая для нас значительная — свидетельство об опыте всей Православной Церкви о том, что Бог не замкнут в Себе Самом, не пленник Своей Божественном природы. Будучи любовью, то есть торжеством и полнотой жизни, Он и в Себе живет, и, как бы переливаясь через край собственного Своего бытия, достигает нас, приобщая нас и в таинствах, и через молитву, и через непосредственное, непостижимое Свое действие Себе Самому, тому, что мы называем животворящей благодатью. Мы живы этой благодатью, но живы мы не земной и естественной жизнью: благодатью мы делаемся уже людьми, принадлежащими будущему веку. Святой Григорий нас учит тому, что благодать нам дается не за подвиг, но дается в ответ на человеческий крик, на человеческую мольбу, на человеческую тоску по Боге, Который открывает наши души глубоко и делает их богоприимными, способными принять Бога как желанного гостя, как царя, как жизнь.
Такая открытость души не достигается, однако, одной тоской по Боге. Христос говорит: Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят (Мф 5:8). Эта чистота сердечная достигается подвигом. И хоть не за подвиг нам дается благодать, но без труда и подвига мы неспособны ее принять. Бог Духа Своего дает без меры, но мы принимаем Его в меру нашей открытости Ему. Мы должны бороться строго, трезво, без пощады к себе против всего того, что затемняет ум, что омрачает сердце, что искривляет волю, что дает власть над нами чему бы то ни было, кроме Самого Бога. И это требует раньше всего решимости — решимости свою жизнь сделать такой, чтобы она могла вместить сначала послушливость Богу, затем какую-то приобщенность Ему в мысли, в сердце, и затем — чудо Боговселения, когда Бог соединяется с нами так, как огонь пронизывает собой железо.
Но огонь не вдруг охватывает дерево и не вдруг проходит до самого сердца железа, это делается постепенно. И мы должны содействовать — отдачей себя Богу все больше и больше — этому покорению нас самих Божественной благодатью и Божественным присутствием. В одном из своих сочинений святой Григорий говорит о том, что мы призваны стать совершенно прозрачными, как хрусталь, через который может свободно литься Божественный нетварный свет. И, увы (говорит он), мы непрозрачны, мы потемнены, есть в нас густота, непроницаемость. И поэтому благодатный свет, Божественный огонь касается нас только на поверхности нашей, обжигает порой, а порой обогревает, Своим светом делает очевидными изъяны, недостатки, порчу, но вместе этим же светом являет и блестки золота и серебра, и самоцветных камней, которые эта почва нашей личности, и души и тела, в себе содержит.
И вот подвиг всей жизни в том, чтобы стать прозрачными, настолько прозрачными, чтобы свет Божий лился через нас, пронизывал нас до самой сердцевины, насквозь и изливался на все твари Божии. Научимся призыву святого Григория к подвигу, поймем, в чем заключается задача нашей жизненной борьбы: стать такими чистыми сердцем и умом, чтобы, как через хрусталь, лился свет, пронизывало тепло. Вдохновимся и тем тоже, что Бог нас зовет к такому глубокому, глубинному общению с Собой, что мы призваны, через приобщенность благодати, стать участниками самой Божественной природы (2 Пет 1:4). Разве не стоит для этого жить? Разве это не призвание, стоящее того, чтобы отложить всякое земное попечение ради того, чтобы земля стала небом и чтобы мы стали гражданами вечного Царства? Но не рабами, не слугами, а детьми Живого Бога, братьями Христовыми, детьми Отца. Аминь.
Неделя Крестопоклонная
29 марта 1981 г. Мк 8:34—9:1.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В течение подготовительных седмиц к Великому посту Церковь призывает нас к углубленному самоиспытанию, к внутренней, глубокой скорби о наших грехах и к твердому решению начать новую жизнь. В течение же самого поста Церковь представляет перед нами, неделя за неделей, дела Божии. Сила Божия раскрывается перед нами, победа Божия провозглашается, чтобы нас утешить от той тьмы и того полумрака, которые мы в себе увидели, и подбодрить нас, и возвестить нам, что все возможно Богу, что сила Божия в немощи совершается, что все нам возможно в укрепляющем нас Иисусе Христе, как это явлено во святых.
И сегодня, когда мы поклоняемся Кресту, это поклонение совершается во свете торжества и победы. Через короткое время — о, как скоро! — мы станем перед лицом Креста Господня и будем вглядываться в то, чего стоит Богу эта Его спасающая крестная любовь. Но сегодня Крест обращен к нам как обещание жизни, как победа над смертью, как поражение диавола и зла, как надежда, как радость. Действительно, мы можем сказать сегодня, что Крест — венец чудес Христовых. Мы можем с радостью думать, что потому можем надеяться на спасение, потому спасены, что мы так Богом любимы: мы любимы так, что цена каждого из нас в глазах Божиих — вся жизнь, вся страсть, вся смерть Господа Иисуса Христа.
И если так нас любит Бог, то разве можем мы не надеяться? Как можем мы колебаться, и как можем мы не ответить на такую любовь всей жизнью, всей душой, всем разумом и сердцем, всей волей и крепостью своей?
Сегодня, на полпути до конца поста, Крест нам говорит, что те обетования, которые нам даны, те победы, которые одержаны Богом во святых, тот путь, который святые нам указывают жизнью и словом, — все это зиждется на Божественной, крестной любви к нам. Спаситель говорил Своим ученикам незадолго перед Своим страданием: Никто Моей жизни у Меня не отнимает — Я даю, отдаю ее свободно (Ин 10:18). Так отдать жизнь можно только по предельной любви.
И эта любовь коренится в самой тайне Троичного бытия. В начале всенощной мы восклицаем: «Слава Святей Единосущней Животворящей Нераздельней Троице!», — провозглашая тайну Божию, и одновременно священник кадилом творит крест, как бы вписывает Крест в тайну Божественной любви: потому что от века, извечно Сын Божий является Агнцем, закланным до создания мира во спасение этого мира.
Как это дивно! С какой благоговейной благодарностью должны мы поклониться этому Кресту, который есть Крест Божий — и спасение наше! Аминь.
Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля 1978 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Праздники бывают разные. Иногда душа бывает так исполнена радостью, восторгом, умилением, что человек остается праздным, потому что слишком переполнено сердце, слишком велика радость. Иногда человек остается праздным, потому что горе так глубоко, скорбь так глубока, что не поднимется рука на труд, на работу. И в празднике Благовещения Божией Матери переплетаются таинственно и страшно, страшно и дивно эти два настроения. С одной стороны — как не ликовать, как не изумляться и не трепетать при мысли, что глас Господень достиг Пречистой Девы Богородицы, и ангел возвестил Ей, что Сам Бог через Нее станет человеком, войдет в этот мир, и что приходом Божиим весь мир будет преображен. Мир уже не будет стоять лицом к лицу со своим Творцом только в трепете и благоговении, но будет ликовать, что в нем, в его сердцевине — Сам Бог. Мир будет ликовать не только о том, что человек так велик, что Бог мог с ним соединиться, но вся вещественная, видимая тварь таинственно соединена с Ним.
Но в Благовещении радость не только о том, что к нам обратился Господь всей Своей любовью, отдает Себя нам безграничной лаской. Радость наша о том, что нашелся человек, Дева из народа Израильского, Которая так возлюбила Бога всем сердцем, всей мыслью, всей крепостью, всей плотью Своей, что Она могла сказать Архангелу в ответ на его страшное и дивное благовестие: Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему (Лк 1:38). В Ее лице все человечество отдало себя Богу, все человечество открылось Богу и сказало: прииди! И да будет мне по воле Твоей!
Но что случилось по воле Господней? Как позже возвестил Симеон Богоприимец, меч прошел Ее сердце, когда Ее Сына распинали на Кресте (Лк 2:35). Позже пришло время, когда Сын Божий, ставший Сыном человеческим, жизнь Свою по любви к нам отдал за нас.
И это сочетание дивной Божественной любви в такой простой ласке и отдаче Себя Божией Матери и в таком страшном подвиге крестной, самозабвенной любви на Кресте вызывает в нас ужас и трепет, которые переплетаются с нашим ликованием.
Мы сейчас в Великом Посту. Весь Пост устремлен к Воскресению Христову. В течение первых недель Церковь обращает наше внимании на те грехи, которые отдаляют нас от Бога, а потом вдруг раскрывается перед нами, неделя за неделей, что Бог делает, что Он творит, чтобы нас спасти: Торжество Православия, Торжество Бога в человеческих сердцах, которые Его воспринимают, любят, отдаются Ему и познают глубины Божии. Праздник святителя Григория Паламы, который провозвестил нам, что благодать Божия — это не только дар, это — Сам Бог, отдающий Себя безгранично нам. А теперь праздник Благовещения: приход Самого Христа, отдача Богом Самого Себя нам.
И вот мы на пути к Воскресению Христову. Приближается праздников Праздник, Торжество из торжеств, когда весь ужас, весь трепет и страх и Благовещения, и выноса Креста, и Распятия вдруг воссияют торжеством. Воскрес Христос, уже смерть над Ним не имеет власти, уже Он победил грех, смерть. Уже нет между Богом и человеком непроходимой бездны, уже в Нем человек вошел не только в вечную жизнь, но в глубины Таинственной Божественной Троицы, на престоле Божием, Воскресением и Вознесением Его, воссел в плоти человеческой Сын Божий. Вся трагедия сейчас разрешилась победой и торжеством, мы ликуем об этой победе, мы поем, что воскрес Христос, что уже мертвых ни един во гробе, что весь ужас — в прошлом. А вместе с этим в каком страшном и ужасном мире мы живем! Любовь Божия нам дается — но принимаем ли мы ее? Бог стал человеком, чтобы мы стали Его братьями и сестрами и стали Божественными людьми на земле, осиянными, пронизанными вечной Божественной жизнью, — а мы?
И вот мы все продолжаем выносить Крест, и все еще, празднуя Благовещение, помним, что Божией Матери меч прошел, пронзил сердце. Разве этого недостаточно, чтобы нас побудить жить той новой, Божественной жизнью, которую нам Господь дает в Своем Воскресении? Разве мы напрасно поем: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробах живот, жизнь даровав? Нет, это — правда! Поэтому будем устремляться не только к празднику Воскресения Христова, но к самой его реальности в приобщении Божественной, вечной жизни. А потом, охваченные, как пожаром, жизнью Христовой, жизнью Божией, выйдем в жизнь земли, в мир, который сейчас все еще в потемках, во мраке, в страдании. Выйдем в эту жизнь, как Христос в нее вошел, чтобы жизнь нашу всю, без остатка, отдать ради веры в человека, ради веры в Бога, ради победы любви, ради вечной жизни и торжества. Аминь.
Перед Страстной седмицей
Воскресенье, 1 апреля 1979 г. Мк 10:32—45.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Чем ближе мы становимся к страшным и дивным дням святой Страстной седмицы, тем все меньше хочется говорить и все больше хочется молчаливо, трепетно восходить во Иерусалим вместе со Христом, чтобы в пестрой, неопределенной толпе окружающих Его людей найти свое место, моля, чтобы это место было среди Христовых учеников.
Сегодня мы впервые слышали, как Христос, восходя к последней Своей Пасхе в Иерусалиме, говорил Своим апостолам, что Сын человеческий — Он Сам — будет предан в человеческие руки и что руки эти окажутся жестокими руками врагов, что этими руками Он будет бит по щекам, что этими руками Он будет распят на кресте, но что в третий день победит Бог и Он воскреснет (Мк 10:32—45). И хотелось бы призвать каждого из вас — как самому хотелось бы — изо дня в день идти к Страстной седмице, а затем и к Святой Пасхе, следуя за Христом, ни в какой день не забывая, что, пока я занят своими делами, Христос шаг за шагом идет к страстной Своей смерти ради меня.
За последние полстолетия миллионы людей так жили: думая о том, что кто-то очень им близкий — муж, отец, брат, жених, сестра, мать, невеста, подруга — находится в тисках смерти, в руках мучителей и постепенно восходит к конечному, предельному испытанию человеческой верности и человеческой любви, к поистине мученической смерти. Эти миллионы друзей и родных и любящих никогда, в течение порой многих лет не могли забыть о том, где любимый и куда его влекут.
Неужели мы не можем в своем сердце найти подобной любви, подобной заботы о Христе, какую мы проявили бы молитвой, слезами, мукой сердечной, трепетным ожиданием, борьбой надежды и отчаяния, если бы кто-либо из наших близких и родных восходил к страшной смерти? Христос нас так возлюбил, что Он Свою жизнь отдал за нас, — отдал свободно, никто ее у Него не вырывал, никто Его не понуждал. Он вошел в жизнь земную для того, чтобы умереть смертью каждого из нас, чтобы мы поверили, могли поверить в бесконечность, в непобедимость Божией Любви. Чтобы мы могли поверить в свое человеческое достоинство, чтобы мы поняли, как мы Богу дороги, как много значим для Него (и, следовательно, должны бы значить друг для друга) и что цена каждого из нас — вся жизнь, все страдание, вся смерть Сына Божия.
Если бы только мы помнили об этом своем достоинстве и выросли в меру этого достоинства своего! Если бы только мы помнили, как мы любимы и какой ценой, то наступающие дни и недели стали бы глубокими, и жили бы мы собранно, вдумчиво, не под мраком грядущей смерти Христа, а во свете этой крестной божественной любви, не в отчаянии о том, что мы — причина смерти Христовой, а в изумлении, что Бог так умеет любить и что мы так значимы, так велики в Его глазах. Тогда, может быть, и начали бы мы жить достойно Божией любви, достойно нашего человеческого величия.
Вступим же теперь в эти наступающие, в наступившие уже дни восхождения Христова во Иерусалим к последней Его Пасхе. И когда наступит Страстная, когда будем мы перед лицом — больше, чем перед лицом: когда мы будем вовлечены во все события этих страшных и дивных дней, может быть, мы тогда, воедино со Христом, воедино с Материю Божией, заодно с учениками, вместе с грешниками, возлюбившими Его благодарной, трепетной, ликующей любовью, которая изменила всю их жизнь, пройдем через эти дни и встанем перед славой Воскресения. Аминь!
Вход Господень в Иерусалим
30 марта 1980 г. Мф 21:1—11.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня, с нынешнего дня, Христос вступает не только в Свои страдания, но в то страшное одиночество, которое Его окутывает в течение всех дней Страстной седмицы. Оно начинается с недоразумения. Люди ожидают, что вход Господень в Иерусалим будет торжественным шествием политического, народного вождя, который освободит свой народ от гнета, от рабства, от того, что они считали безбожием, потому что всякое язычество, идолопоклонство есть отрицание Живого Бога.
Это одиночество разовьется дальше в страшном непонимании даже со стороны Его учеников. На Тайной вечери, когда в последний раз Спаситель будет с ними говорить, они все время будут недоумевать о смысле Его слов. И дальше, когда Он войдет в Гефсиманский сад, чтобы стоять перед грядущей на Него страшной смертью, ученики, которых Он избрал, Петр, Иоанн и Иаков, самые Ему близкие — заснут от уныния, и от усталости, и от отчаяния...
И, наконец, последним шагом в это одиночество будет крик Христов со креста: Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты меня оставил? (Мк 15:34). Оставленный людьми, отверженный израильским народом, Он вступает в предельную оставленность и умирает без Бога, без людей, один, только со Своей любовью к Богу и со Своей любовью к людям, умирая ради одних, умирая во славу Другого.
Начало страстей Господних — сегодняшнее торжественное Его шествие. Люди ждали царя, вождя — они нашли Спасителя душ их. Ничто так не ожесточает человека, как потерянная надежда, как разочарованная надежда. И этим объясняется, что люди, которые так Его встречали, которые были свидетелями воскрешения Лазаря, чудес Его над людьми, слышали Его учение, восхищались каждым Его словом, были готовы стать Его учениками, лишь бы с этим шла победа, — эти люди от Него оторвались, отвернулись и стали через несколько дней кричать: Распни, распни Его! (Мк 15:13). И Христос провел все эти дни в одиночестве, зная, куда Он идет, и оставленный всеми, кроме Божией Матери, Которая молчаливо стояла поодаль, как в течение всей Своей жизни, соучаствовала в Его трагическом восхождении ко Кресту. Божия Матерь, Которая приняла Благовестие, но также безмолвно приняла пророческое слово Симеона о том, что и Ей пройдет меч через сердце (Лк 2:35).
В течение этих дней мы будем присутствовать — не только вспоминать их, но присутствовать! — при Страстях Господних. Мы будем частью толпы, которая окружала Христа, Его учеников и Божию Матерь. И когда мы будем слушать евангельское чтение, слышать молитвы Церкви, когда, образ за образом, пройдут картины этих страстных дней — станем каждый день себе ставить вопрос: а где я, кто я в этой толпе? фарисей? книжник? изменник? трус? кто?.. Или стою я среди апостолов — но и они были побеждены страхом! Петр трижды отрекся, Иуда предал, Иоанн, Иаков и Петр заснули, когда Христу больше всего нужна была человеческая любовь, другие ученики бежали — никто не остался, кроме Иоанна и Матери Божией, тех, кто связан был со Христом такой любовью, которая не боится, такой любовью, которая готова все разделить.
И снова поставим перед собой вопрос: кто мы, где мы? Где находимся мы в этой толпе? Стоим ли мы с надеждой или с отчаянием? А если мы стоим с бесчувствием, то мы тоже — часть той страшной толпы, которая окружала Христа, которая перемещалась, слушала — и уходила, как мы будем уходить из храма. Будет стоять Крест здесь в четверг, мы будем читать Евангелие о Кресте, о распятии, о смерти — и что потом будет? Крест останется стоять — а мы пойдем на отдых, пойдем домой, пойдем ужинать, спать, отдыхать, готовиться к утомлению следующего дня. А Христос в это время на Кресте, Христос во гробе. Какой это ужас, что мы не можем, как и ученики в свое время, единого часа, одной ночи с Ним провести… Подумаем над этим; и если мы не способны сделать ничего, то хоть поймем, кто мы, где мы, и обернемся ко Христу хоть в последний час с возгласом, с молитвой разбойника: Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем! (Лк 23:42). Аминь.
Пасха
24 апреля 2003 г.
В Пасхальную ночь Владыка Антоний возглавил Крестный ход, совершил в сослужении архиепископа Керченского Анатолия и епископа Сергиевского Василия и духовенства собора заутреню и после чтения Слова святителя Иоанна Златоуста сказал несколько слов от себя.
Мы читали, слушали замечательные слова, которые должны служить как бы программой для всего времени впереди: Воскресения день и просветимся торжеством… «Воскресения день» не только потому что Христос воскрес, но потому что если Он воскрес, если мы действительно ликуем о том, что смерть не сумела победить Бога, сокрушить любовь, то и мы можем жить, и жить не холодной, не безразличной друг ко другу жизнью, но жизнью ликующей, жизнью Божией, которую Он отдавал для каждого из нас.
И дальше сказано: Друг друга обымем… Кто бы ни был около нас, кто бы ни был частью нашей жизни, примем его как человека, которого Христос так возлюбил, что умер за него и воскрес для того, чтобы с ним поделиться Своей вечной жизнью.
Скажем друг другу: братия! И все простим друг другу Воскресением. Все простим друг другу… Мы все друг друга унижаем, обижаем, мы страдаем друг от друга, но если мы действительно понимаем, что Христос умер, чтобы мы жили, что Он воскрес, чтобы мы разделили с Ним Его вечную жизнь, мы можем друг друга простить, мы можем друг друга принять. И тогда мы сможем сказать действительно, что Христос воскрес из мертвых, что Он попрал смертью Своей смерть и что Он нам дал жизнь. Пусть это будет нам заповедь Божия на наступающий год: обымем друг друга, простим друг друга, примем от Христа Его прощение и разделим его с другими. Аминь!
По окончании заутрени Владыка Антоний прибавил: Сейчас священники выйдут приветствовать вас этими самыми ликующими, самыми радостными словами человеческой истории — что Христос воскрес, что человеческий грех, человеческое зло не смогло обречь Его на окончательную смерть. У меня не достанет сил выйти и приветствовать вас, но от всего сердца я приветствую каждого из вас и благодарю вас за ваше бесконечное терпение ко мне.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Неделя апостола Фомы
29 апреля 1979 г. Ин 20:19—31.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В первый раз мы слышим в Евангелии исповедание Христа Господом из уст Нафанаила, который стал апостолом Христовым. Его привел к Спасителю его друг, и Христос засвидетельствовал перед всеми: «Вот израильтянин, в котором нет лицемерия и неправды». На эти слова Нафанаил отозвался удивлением: «Откуда Ты меня знаешь?». И последовал ответ Христов, такой таинственный по отклику, который он имел в сердце Нафанаила: «Когда ты был под смоковницей, Я видел тебя» (Ин 1:43—51).
Что же в этом могло быть удивительного? Христос мог естественно видеть человека, находящегося под сенью дерева. Но в рассказе о жизни апостола Нафанаила мы читаем, что, по его собственным словам, в то время, когда позвал его Филипп, Нафанаил как раз размышлял о приходе Спасителя Миссии и молился, чтобы это случилось. И когда он услышал слова Спасителя, что Господь его видел, он не подумал, что Спаситель человеческим Своим взором его обнаружил под смоковницей, а всем своим внутренним существом ощутил и понял, что Он — Тот, к Кому была обращена его молитва, и он преклонился перед Христом и засвидетельствовал, что Он — Мессия и Сын Божий. Это первое свидетельство говорит нам о том, что Нафанаил Его узнал Богом и Господом своим, потому что как бы прозрачно, несмотря на тяготу плоти, он узнал в Нем Бога, Духа Животворящего, как называет Спасителя апостол Павел (1 Кор 15:45).
И второй раз мы слышим подобные слова: Господь мой и Бог мой. Их произносит Фома (Ин 20:28). Христос ему явился во плоти, но на этот раз Фома Его видит уже прошедшим через смерть и воскресшим, и теперь не ощущение Духа Животворящего, а познание, что Находящийся перед ним жив, хотя и прошел через ужас смерти, заставляет его свидетельствовать о Христе. Здесь как бы плоть Христова, таинственно живая, несмотря на то, что она легла во гроб, оставшаяся нетленной, ибо была пронизана Божеством, — эта плоть свидетельствует о Божестве Иисуса Христа, о силе Божией, о том, что Он — поистине Дух Животворящий, ставший человеком, победивший смерть, воскресший из гроба, начаток мертвых, воскреситель всех, Тот, Который придет в конце времен и даст жизнь вечную всему миру.
Примем же эти оба свидетельства — и Нафанаила, и Фомы. Один познал Его Духом Животворящим, другой узрел воскресшую, нетленную плоть Сына Божия, ставшего Сыном человеческим. Неужели нам мало этого свидетельства тех, кто мог сказать, что они свидетельствуют о том, что их очи видели, уши слышали, руки осязали (1 Ин 1:1)? Тех, которые всем опытом своего человечества и Духа, живущего в них, познали Христа Богом и Господом своим? Какое дивное нам свидетельство, какая радость, что мы можем на его основании веровать и ликовать о том, что воскрес Христос, что мертвый ни один во гробе, что жизнь торжествует. Верить, что нам дан мир, который мир сей не может ни дать, ни отнять, что над нами благодать Господа нашего Иисуса Христа, что с нами любовь Бога и Отца, что среди нас и в нас Дух Святой! Слава Богу за все! Аминь!
Неделя жен-мироносиц
10 мая 1992 г. Мк 15:43—16:8.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы сегодня молитвенно и благоговейно вспоминаем святых жен-мироносиц.
Жены-Мироносицы одни остались у креста Господня вместе с Божией Матерью и святым Иоанном, юнейшим учеником Христа, которого Евангелие называет любимым и любящим (Ин 13:23). Апостолы бежали, остались одни женщины. Почему это могло случиться?
Не потому ли, что апостолы собрались вокруг Христа, пораженные Его личностью, убежденные умственно Его учением и видя в Нем того, который пришел и освободит израильский народ от римского плена и восстановит царство Израиля. Они переживали Его как своего наставника, учителя, но вместе с этим они до конца не поняли, Кто Он. Жены-мироносицы и многие женщины, которые были вокруг них, не ожидали от Спасителя Христа никакой политической деятельности, никакого государственного переворота: для них, в их сердце, которое сумело отозваться на личность и на учение Спасителя, было достаточно того, кем и чем Он был. Они через тонкий покров Его плоти прозревали сияние Божества. Для них было достаточно того, что Он Своим словом, Своим взором, Своими действиями вырвал их из гнета временной жизни, из плена греха, из плена и порабощения человеческого и сделал их достойными Царствия Божия. Для них было достаточно, что Он открыл перед ними вечность и что эта вечность разорвала как бы границы времени и пространства, и теперь через Него, благодаря Ему они принадлежали Божественному миру.
Этого было для их сердец достаточно, они не искали земной победы. И поэтому когда ученики Христовы, сломленные Его будто поражением, бежали, укрылись от гнева еврейского, женщины не ушли никуда. Для учеников Он был пораженный вождь, для жен-мироносиц Он был тот же самый: Господь Иисус Христос, Спаситель, начаток жизни вечной для них.
И среди них одна выделяется особенно, которую мы также сегодня вспоминали: это Мария Магдалина. Она была грешница, и ее Христос извлек из глуби греха и поставил в область чистоты, целомудрия, веры и любви. Христос в Евангелии говорит: кому много прощается, тот много любит (Лк 7:47). Ей простилось много, больше, чем другим праведным по-человечески женщинам и мужчинам. Ей простилось то, что ее влекло в вечную погибель, она восстала из мертвых еще до Воскресения Христова. Она стала живым, другим человеком раньше чем стать человеком Божиим во Христе и Духе Святом.
И поэтому мы ее видим у гроба, одну, единственную, плачущую среди ночи, плачущую о том, что ушел от них — и не только от нее, а от них всех — Господь жизни. И когда она услышала слова Христа воскресшего, слова Христа, говорящего: О ком ты плачешь, кого ищешь? — то среди слез своих, закрывавших ее взор, из глубины и тьмы своего горя и отчаяния она не узнала Его голоса: У меня отняли Господа моего, и я не знаю даже, куда Его положили! И Христос одним словом рассеивает весь мрак и открывает новую жизнь: Мария! — говорит Он ей. Он говорит ей это слово, которое все вокруг произносят, но Он говорит так, что это слово, ее имя дошло до глубины ее существа, и не было в ней сомнения, кто это слово произнес. И она наклонилась перед Ним: Господь мой! Бог мой! Учитель! — и хотела прикоснуться, хотела взять в свои объятия Его ноги, облобызать их. Но Христос знал, что она как бы еще привязана к Его телесному существованию, тогда как перед ней предстоял тот мир, где все телесное станет духовным; не переставая быть телесным, но уже принадлежа к миру вечности: Не прикасайся Мне, Я еще не взошел ко Отцу Моему, — но иди к братии Моей и скажи им (Ин 20:11—18).
И она поспешила с этой вестью. Она не сразу сумела это сказать, ученики не смогли поверить, потому что они другого ожидали. Она не ожидала другого — она ожидала живого Христа, жизнь, ворвавшуюся в область смерти, вечность, ворвавшуюся в область времени и пространства, Бога, вступившего в Свои права в мире, откуда Он был извержен человеческим грехом, человеческой неверностью, человеческим предательством. И она пришла к ним с вестью, которая из недели в неделю теперь до дня Святой Троицы будет греметь в нашем храме о том, что воскрес Христос: Христос воскресе! — Воистину воскресе! И понесем эту весть в жизни и в сердцах, не потому что она это сказала, а потому что в Нем наша жизнь вечная. Аминь.
Неделя о расслабленном
21 мая 1978 г. Ин 5:1—15.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы снова слышим так нам хорошо известное Евангелие об исцелении расслабленного; и хочется снова и снова обратить и свое, и ваше внимание на вопрос, поставленный Христом: «Хочешь ли ты быть здрав?». Казалось бы, нет другого ответа, кроме того, который был дан расслабленным: «Конечно, Господи, хочу!».
Но так ли это? Не так давно пришел ко мне больной человек, который плакался над своей болезнью, над тяжестью жизни, плакался над ответственностью, которую жизнь накладывает на каждого своими требованиями. И в течение этого разговора я этого человека спросил: «А хотели бы вы избыть вашу болезнь, так чтобы не осталось никакой телесной немощи, и у вас была бы возможность изо всех сил, со всей ответственностью войти, вступить в жизнь?». И этот человек не только не задумался, но как бы даже криком мне ответил: «Нет!», — и потом сам удивился: как мог вырваться такой нелепый, безумный ответ прямо из души? И когда я поставил этот вопрос, и мы над ним задумались, ответ был таков: болезнь, немощь, бессилие, которые так явны всем, являются для меня единственным спасением от ответственности, от необходимости жить твердо, смело, действенно.
Поэтому вопрос Христов, обращенный к расслабленному, не так просто и не так легко каждому из нас решить. В каждом из нас есть некоторая доля слепоты, расслабленности, мы хромаем, как говорит Пророк, на оба колена (3 Цар 18:21) — сколько у нас есть такого, что подходит под общее заглавие немощи, что значит: «не могу», бессилия, что значит: «нет у меня сил на это», и что нас спасает от жизни ответственной, жизни творческой. Каждый из нас пусть задумается над этим вопросом.
Расслабленный долго лежал в этих притворах, все надеялся, что с ним совершится какое-то чудо извне. Мы тоже на это надеемся так часто, но чуда мы ожидаем всегда двоякого: не только чтобы нам дано было исцеление, но чтобы вместе с исцелением ушли из нашей жизни все трудности, все страхи, все задачи, чтобы жизнь стала легкой и чтобы по этой легкой жизни мы могли ступать без страха, без забот. Нам кажется порой, что человек мог бы нас от всего освободить, все нам дать — и этого не бывает. И остается нам только обратиться ко Христу, к Нему лично, ни к кому другому — и сказать: «Господи! Я хочу взять жизнь на плечи, как берут крест, как берут трудную и ответственную задачу. Я готов жизнью поплатиться за то, чтобы жить от всего сердца, от всего ума, всей крепостью и всей немощью своей». И тогда Христос на нас возложит, как дар, эту тяжесть жизни и нам даст силу этой жизнью жить.
Поэтому каждый из нас да задумается: не прячусь ли я лично за немощью, за бессилием, за тем, что «не могу» и «невозможно», и «нет сил», тогда как нет мужества, нет вдохновения, нет веры в жизнь? И обратимся мы тогда к Богу не за чудом, чтобы все стало хорошо, а за тем, чтобы крепость влилась в наши члены, в нашу душу, в наш ум, в нашу волю, во все наше естество, и чтобы мы могли вместе со Христом поднять тяжесть земной жизни и пронести ее, то есть все, что составляет нашу жизнь, каждого человека, каждое событие, до Царства Божия. Аминь.
Неделя о самарянке
20 мая 1979 г. Ин 4:5—42.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Святой Тихон Задонский призывает нас извлекать из всех событий жизни не только мучающее или озаряющее нас радостью воспоминание, но и глубокий смысл. Он нас зовет относиться ко всем событиям жизни, ко всякому человеку, как пчела, которая собирает мед со всех растений. И потому, хотя встреча Спасителя Христа с самарянкой — реальное событие, хотя в Самарии реально была женщина, которой было дано встретить Спасителя лицом к лицу, слышать Его голос, видеть Его образ, хотя эта женщина — реальная до конца, и разговор их — до конца реален, ибо содержал в себе вечное для нее спасение, понимание того, чего она никогда до того не уразумевала, а для всех жителей города, по ее свидетельству, — начало совершенно новой жизни; несмотря на все это, я сейчас хочу некоторые из слов Спасителя употребить, как их употребляет один из древних отцов Церкви.
«Призови твоего мужа», — говорит Христос. «У меня нет мужа». И Спаситель отвечает: да, это правда — с пятью мужьями ты жила, но ни один тебе мужем не был.
Этот писатель церковный (имени его я сейчас не припомню) говорит: разве это не похоже на то, как человеческая душа живет как бы в брачном союзе, в самом тесном союзе с чувственностью нашей? Как будто душа в нас живет и знает только то, что она видит, то, что слышит, то, что может ощутить руками, то, к чему может приобщиться вкусом — пятью чувствами нашими. И ни с одним из этих чувств или с совокупностью этих чувств она не может так сродниться, чтобы вырасти в полную меру своего достоинства, потому что через них она прикасается только к поверхности, только к видимому, и никогда, никогда не может коснуться глубины. Душа наша, как говорят многие наши молитвы, имеет только одного жениха — Бога Живого, с Которым она может войти в неразрывный, вечный союз любви и поклонения, и в этом союзе узреть глубину события, смысл жизни, понять глубинное значение всего, что сотворил Господь.
И вот каждый из нас в том же положении, как эта самарянка: мы живем чувствами. Мы видим — и отзываемся на то, что поражает наш взор. Мы слышим — и отзываемся на то, что коснулось нашего слуха. Мы приобщаемся всей жизни, как бы касаясь ее, общаясь с ней на самой ее поверхности. А вместе с этим мы призваны уйти в те глубины Божии, где мы будем в общении с Живым Богом.
В этой встрече самарянки со Христом случилось дивное чудо. Она встретила Живого Бога, и прочее стало уже для нее чуждым: для нее дальше жить только тем, чем она жила, и тем, кем она жила, стало как бы блудом, хотя до того было самой ее жизнью. И это она и провозгласила всем жителям, и это они услышали от нее, и это они познали от встречи со Христом.
Познавать вещи в их глубине — не значит не видеть их внешнюю красоту, гармонию, дивный строй, который им дал Господь, но это значит не обмануться блеском, не обмануться тем отсветом, который дают предметы, который дают люди, который дает общение с людьми, забыв те глубины приобщенности к каждому человеку и родства со всем миром, которые мы обретаем во Христе.
Поэтому войдем в эту глубину, обратимся ко Христу, войдем с Ним в этот нерушимый союз, и только Его глазами, только Его опытом, божественным опытом твари будем общаться с миром. И тогда мы увидим мир в нетленной красоте, в такой красоте, с таким смыслом, с такой глубиной, которых чувства нам дать не могут. Аминь!
Перед Вознесением Господним
4 июня 1978 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Приходит к концу пасхальная пора, через несколько дней, в среду, мы в последний раз совершим пасхальную службу, последний раз в этом году будут звучать торжествующе, ликующе пасхальные песнопения. Но Пасха, чудо Воскресения Христова остается с нами. То, с чем мы оказались лицом к лицу в Пасхальную ночь: диво опустевшего гроба, телесного восстания Христова, Его явления ученикам — и нам! — в славе, победе и торжестве, остается с нами, несмотря на то, что теперь возносится Господь на небо.
После этого мы будем праздновать Вознесение Христово. Вознесение — таинственный праздник; это праздник, когда мы радуемся о разлуке. Христос, беседуя со Своими учениками в последний вечер перед Своей смертью на кресте, им говорил: лучше вам, чтобы Я отошел, потому что когда Я отойду от вас, Я пошлю вам Духа, Утешителя, Который наставит вас на всякую правду (Ин 16:7,13). Радость разлуки… Радость о Христе, о том, что теперь Он возносится к Отцу и восседает одесную славы Божией. Радость о нас, потому что Христос, воскресший плотью, плотью же возносится, и теперь, как говорит святой Иоанн Златоустый, если мы хотим познать величие человека и его возможную славу, нам надо возвести взор к престолу Божию, и там мы увидим сидящего одесную Бога и Отца, Человека Иисуса Христа, воплощенного Сына Божия. Воскресением и Вознесением Господними человечество как бы вошло внутрь самой тайны Святой Троицы. Человек Иисус Христос — Бог наш.
И вот мы ликуем об этой победе Господней, об этом прославлении человека, и вместе с этим, как и ученики в ранние дни, как и ученики в течение всех столетий, мы остаемся на земле сиротами. Когда Христос был среди нас, как сегодняшнее Евангелие нам говорит, Он был светом. Мы оказываемся в полутьме или в потемках нашей личной жизни и в потемках судьбы человечества на земле. Но Христос опять-таки нам обещал, что Он не оставит нас сиротами, что Он пошлет нам Святого Духа, Утешителя, Который возьмет от того, что принадлежит Ему, Христу, и научит нас всякой правде. Утешитель — Тот, Который приходит и опытно нас удостоверяет в том, что воскресший и вознесшийся Христос действительно — Господь и Бог наш, что действительно Он восседает одесную Бога и Отца. Но одновременно, по Своему дивному обещанию, Он среди нас до скончания века, ощутимо для одних, невидимо, непознаваемо для других. Он в истории мира действует, спасает, преображает, ведет все к последнему торжеству, к последней победе. А победа Божия — это наше спасение. Слава Божия — это явление человека во всей славе его.
Но для того чтобы Дух Божий к нам пришел Утешителем, надо нам быть в горе и в сиротстве от отшествия Господня. Потому мы так редко, так несильно, неглубоко ощущаем это дивное присутствие Духа, что мы неглубоко ощущаем отсутствие Христово. Апостол Павел говорит: Жизнь для меня — Христос, а смерть — приобретение, потому что, живя на земле, я вдали от Господа (Флп 1:21). Так должны были бы и мы чувствовать; и ликовать о том, что придет время и нашей разлуки от земли, и входа нашего в вечность, где все наши любимые и где любимый, поклоняемый, дивный Спаситель Христос. И в таком случае уже теперь присутствие Святого Духа было бы для нас таким утешением, такой радостью, такой надеждой, такой победой вечности, которая грядет победоносно и дивно к нам. Аминь!
Воскресенье после Вознесения
14 июня 1964 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Праздник Вознесения Господня, в сиянии которого мы еще находимся, является одним из решающих звеньев нашей вечной человеческой судьбы.
Судьба эта начинается в тот день, когда державным творческим словом мир из небытия вызывается в бытие. Этот мир не только ставится перед Божиим лицом, этот мир призывается творческим Божиим словом не только ко временному бытию, но к тому, чтобы вовеки пребывать в радости и славе Господа своего. Судьба всего мира и человека начинается тем, что Божественная любовь нам предлагает на веки вечные блаженство дружбы с Собой. И когда человек отпал, когда весь мир человеческим предательством был отдан на страдание, любовь Божия нас не оставила. Никогда, ни в райские часы, ни в темные дни и годы и столетия отпадения, Бог не был чуждым миру, Он постоянно в нем действовал, возбуждая в сердцах людей все живое, все истинное. Посылал Он ангелов Своих хранителей, посылал пророков, вещателей Своей правды, и когда исполнилось время, Сам Господь вошел в жизнь мира. Воплощение Христово — это день, когда Бог вступает в историческую судьбу человека так, что уже этой исторической судьбы нельзя отделить от вечной Божией истины.
Но не только в историческую судьбу вошел Господь — воплощением Своим Он Божественной Своей природе соединил все Им сотворенное. Он облекся в эту человеческую плоть не на время, а навсегда и явил этим дивную славу и дивные свойства сотворенного Им мира — этой земли нашей, этого нашего неба, всего, что Он создал. Все, Им сотворенное, способно не только к богообщению, но и к тому, чтобы быть духовным, богоносным. Не погибла тварь от огненного соединения с вечным, а оживилась, преобразилась, вошла в свои истинные права, в свою истинную тварную судьбу.
Но этого как будто было мало. Когда Христос смертью победил смерть, крестом победил рознь между Богом и человеком, Он вознесся от нас на небо в день блаженного, дивного расставания, которое не оказалось разлукой, потому что Господь, вознесясь на небо, не удалился от нас. Ведь небо, в которое Он вошел, это не небосвод, это не мнимая даль, а это тайна вездесущия Божия, это слава, которую Он имел прежде даже мир стал (Ин 17:5). И вознес Он на небо, уходя в глубины непостижимости Божественной, нашу человеческую природу, плоть, полученную от Девы, ткань этого тварного мира унес с Собой в Троические глубины. Святой Иоанн Златоуст, стараясь объяснить, как высок, как велик человек, говорит: если хочешь познать величие человеческое, не взирай в палаты царские, а поверни взор свой к престолу Божию и увидишь одесную Бога и Отца Сына Человеческого, облеченного нашей плотью... Здесь явлено в предельной глубине и в предельной славе своей величие человека и дивность нового призвания.
Когда Христос нам говорит: Отвергни себя, возьми крест свой и последуй за Мной (Мк 8:34), Он не только говорит о том, что во временном нашем бывании мы должны оторваться от всякого себялюбия, взять на себя всю тяжесть жизни своей земной и последовать за Ним, сначала в толпу народную, а оттуда на суд, а оттуда в Гефсиманию, а оттуда на крест. Он даже не о том говорит, что тот, кто за Ним последует, воскреснет в последний день, — Он нам открывает еще большие просторы. Мы призваны следовать за Ним и, по Его собственному слову, быть там, где Он есть, в славе вечной жизни Божественной (Ин 17:24).
Вот что Господь совершает нас ради. Теперь между днем Вознесения и днем Пятидесятницы осталась всего одна неделя. Мы ждем того, что, став через Крещение хоть в какой-то мере живым телом Христовым, приобщаясь Ему из года в год, мы теперь получим дар Святого Духа. Это дар, который может зажечь огнем вечной жизни наше обновленное человечество. Будем эту неделю благоговейно, вдумчиво готовиться к тому, чтобы обновилось в нас животворное, преображающее присутствие Святого Духа. Придем в этот храм через неделю, очистившись покаянием, готовые начать новую истинную жизнь во Христе и Духе, и стать истинно, реально, не только мечтательно, но и самым делом тем, чем нас называет Игнатий Богоносец: живым Христовым телом, всецелым Христом, в котором обитает полнота духа Христова, духа сыновства. Да будет благодать Господня с нами и милость Его! Аминь.
Воскресенье перед Пятидесятницей
11 июня 2000 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Через неделю мы будем после Литургии коленопреклоненно молить Господа о том, чтобы на нас сошел Дух Святой так, как Он сошел на святых апостолов. И готовясь к этому, хочется подумать о Его присутствии и Его действии в нас.
Мир сотворен Словом Божиим. В начале было Слово (Ин 1:1), выражение Божественной мысли и Божественной любви, которая прозвучала и призвала, вызвала к бытию все, что существует. Вызвала к бытию актом любви: придите — Я вас люблю! Ответьте на Мою любовь любовью вашей… И по всей твари, как говорит нам начало Священного Писания, разлилось дыхание Святого Духа. Дыхание Святого Духа, которое все, что было сотворено, делало живым, которое помогало всему творчески расти, раскрываться, как цветок, доходить, сколько возможно было, до совершенства. И Дух Святой действовал во всем мире, во всем, что было создано, и во всех людях, которые были созданы и родились. Как это дивно, какое счастье!
Но пришло время еще большего, более глубинного откровения Святого Духа. Спаситель нам сказал: Дух дышит, где хочет, и вы не знаете, откуда Он идет и куда Он устремлен (Ин 3:8). И вот Дух Святой по всему миру действует, весь мир оживляет и делает способным в свое время, может быть, узнать полноту Божественной жизни во Христе.
Но есть слово в Евангелии, о котором нам надо помнить, которое нас предупреждает о том, как значительно пришествие Святого Духа и как мы должны к Нему относиться. Христос сказал, что всякая хула на Сына Божия может быть прощенной, но хула на Духа Святого не простится (Мф 12:31). Как это понять?
Это можно понять, только если подумать о тех образах, которые отцы Церкви давали нам для посильного уразумения тайн Святой Троицы и действия Божия в твари. Отец им думался как непостижимая глубина Божественной мысли, недостижимая для нас в прямом смысле, но которая выражается Словом, Словом воплощенным, словом, достигающим до нас во Христе. Но Христос говорил о том, что не все люди могут понять,что Он говорит, люди не всегда могут взглянуть на Него и узнать, Кто Он, но это им не вменится в грех, потому что им надо вырасти дальше в ту меру, в которой они смогут уразуметь то, что сегодня они еще не могут понять.
О Христе и о Духе Святом отцы говорили так: Христос подобен свету, который озаряет все. Свет мы не видим, но только благодаря свету мы видим все, что вокруг нас. И мы видим только в ту меру, в которую нам это возможно увидеть: мы можем глядеть на то, что озарено этим светом, и не уразуметь, потому что нам рано, потому что мы не созрели. И это нам в наказание не вменится, а к этому только будет прибавлен призыв: растите! Растите, углубляйтесь, расширяйте сердце и ум, и тогда вы уразумеете.
Но Дух Святой представляется отцам Церкви как огонь, как тепло, — как огонь, который все может зажечь Божественной жизнью, и как тепло, которое может проникнуть в нас до самых глубин.
Если подумать об этих образах, вы поймете, почему можно сказать, что не все, что озарено светом, нам делается понятным. И поэтому, если мы не понимаем и даже отвергаем что-то, мы не будем за это осуждены до времени, когда поймем. Но если мы пронизаны теплом, если мы внутренне познали истину и ее отрицаем, тогда ничто нас не может спасти, потому что мы отрекаемся от собственного знания и от собственного опыта о Боге, о твари, о жизни, о себе.
И вот тут нам надо задуматься. Мы будем молиться о том, чтобы благодать Святого Духа была в нас обновлена. Дух Святой был нам дан в таинстве Миропомазания, но мы сколько-то умеем сохранить благодать и, увы, столько ее теряем. И вот из года в год мы молимся: Господи,обнови в нас эту благодать! Умножь ее! Пусть вновь возгорится в нас то, что Ты нам дал изначально… И поэтому, готовясь к принятию Святого Духа в день Святой Пятидесятницы и в день Святого Духа в понедельник за этим, нам надо вдуматься в то, как мы отнеслись к тем дарам Святого Духа, которые нам были даны изначально. Что мы презрели, что мы восприняли? до какого понимания мы дошли? в какой мере мы верны Святому Духу, Который в нас живет и действует, или в какой мере мы Ему как бы говорим: «Молчи, я не хочу Тебя слышать»? Подумаем о том, как мы отнеслись к тому познанию о Боге, о себе самих, о наших ближних, о сотворенном мире, как мы отнеслись к тому пониманию, которое нам дает Дух Святой. И в той мере, в которой мы презрели, — покаемся, а в той мере, в которой мы еще не открылись, откроемсядействию Святого Духа, и Он сойдет в нас, и нас озарит, освятит, обновит, даст новое начало для новой жизни. Аминь.
День Святой Троицы
18 июня 2000 г. Перед Великой вечерней.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Через несколько мгновений мы будем молиться о том, чтобы Дух Святой сошел на нас, как однажды Он сошел на святых апостолов Христовых. Мы ничего не можем сделать для того, чтобы Его привлечь к нам, как бы заставить прийти к нам. Все, что мы можем сделать, — это стоять безмолвно, благоговейно, трепетно, с полной открытостью ума и сердца, с полной отдачей нашей воли Ему и молиться Ему: приди, Господи, вселись в нас; очисти нас от всякой скверны, и спаси, Блаже, души наши. Это все, с чем мы должны стоять.
Но как велико такое молчание, если мы сумеем его в себе осуществить, и как велико чудо прихода Святого Духа, Который из простых рыбаков, трепетных, испуганных порой, непонимающих учеников Христовых сделал апостолов, которые обратили весь тогдашний мир! Откроемся Ему и дадим Ему простор. И дадим Ему возможность через нас действовать, нас освящать и открывать другим видение Господа Иисуса Христа.
Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков!
Память всех святых
25 июня 2000 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
День всех святых, который мы празднуем после сошествия Святого Духа на апостолов и на всю Церковь, — это как бы день, когда каждый из нас и каждый храм, созданный во имя Божие, празднует свои именины. Каждый храм посвящен или событию из жизни Христа или какому-нибудь святому; и каждый из нас носит имя одного из святых.
И вот перед нами встает вопрос: задумывались ли мы когда-нибудь серьезно над тем, чье имя мы носим? Тот святой, которому мы посвящены, во-первых, о нас молится, молимся ли мы ему с доверием, зная, что он особенно озабочен нашей вечной судьбой? И задумываемся ли мы над тем, какой он для нас пример? Конечно, мы не можем следовать внешне примеру жизни святых, имена которых носим. Но мы можем задуматься над тем, чем они жили внутренне, глубинной своей жизнью, и постараться от них научиться, как жить на земле после прихода Христова и после того, как мы посланы Самим Господом в мир для того, чтобы принести благую, радостную весть о том, что ничто больше нас не может разлучить от Христа и через Него — от Бога и Отца, от Того Бога и Отца, Которого мы называем Отцом нашим, потому что Он Отец не только каждого из нас, но и Христа Спасителя.
Задумаемся, каждый из нас, когда мы вернемся домой, над тем, какое имя нам дано. Что мы знаем о святом, кому мы посвящены, как посвящается храм? Чему он нас может научить своей жизнью, своим учением, своим образом? И как мы ему должны быть благодарны за то, что он нас любит, и о нас молится, и предстоит перед Богом за нас.
Если мы так будем относиться к названию нашего храма и к имени, которое нам дано, тогда мы действительно сможем праздновать день всех святых или день нашего святого, как храмовой праздник, как праздник, когда жизнь новая вселяется в нас молитвой и силой святых. Аминь.
Память всех святых в земле Российской просиявших
21 июня 1987 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы празднуем день всех святых в земле Российской просиявших, то есть тех людей, которые сумели всем своим существом отозваться на Божию любовь. Каждый народ отзывается по-своему. Летописец Нестор говорит, что каждый народ вносит как бы свою неповторимую ноту в ту симфонию мира, которая в конечном итоге будет песнью перед Лицом Божиим. И наши святые тоже вносят нечто свое в эту симфонию.
Если задуматься над историей Русской Церкви, то первое, что поражает в русской святости, это охваченность сердец, умов, жизней — красотой. Когда наши предки впервые встретили Православие, им показалось, что они уже не на земле, а на небе, их поразило сознание красоты. И не случайно духовные писатели часто говорят о Боге не только как об Истине, о Вечности, о Творце, но и как о Красоте. Почему так? — Не все мы можем познать, что такое величие, что такое святость, а красоту мы все знаем. Мы не все одни и те же предметы называем прекрасными, но мы все отзываемся восхищением на то или другое: Как это прекрасно! Как это красиво!.. Это может быть зрелище, это может быть картина, это может быть закат, это может быть человек, это может быть слово правды — все может быть прекрасным (хотя может быть и уродливым). И наши предки отозвались именно на красоту, которая была выражена в византийском богослужении, красоту храма, красоту икон, красоту пения. Но за этим была красота духа, такая красота, какой они не знали, будучи до того язычниками; красота людей, которые познали все величие, к какому призван человек, и которые всеми силами стремятся к тому, чтобы быть достойными себя, достойными Бога. Вот первое, что поразило русских людей, когда они впервые встретились лицом к лицу с богослужением, с поклонением Богу, с тем местом, где Бог является центром жизни и где Его любовь отдается и принимается людьми.
А из этого истекает другое: сознание, которое есть в русской святости о том, что все должно быть безмерно, абсолютно, что все должно быть так же велико, так же прекрасно, как Бог, как любовь, как красота. И это в результате подвело к тому, что в русской святости ярким образом сияет аскетический момент, то есть отношение человека к самому себе беспощадное, строгое и, одновременно, ликующее, потому что человек-аскет, святой любит в себе, почитает в себе образ Божий и всеми силами старается его очистить, обновить в себе, и сделать достойным той любви, которую Бог нам отдает. Эта глубина вызывает в человеке решимость беспощадно бороться за то, чтобы быть достойным себя самого. Это второе свойство, которое меня поражает в русской святости.
А дальше — бесконечное терпение и бесконечное сострадание, сострадание ко всякой твари, ко всякому человеку. Ведь преступников у нас в России называли несчастными, не потому что они была наказаны, а потому что они себя изуродовали, потому что вместо того, чтобы быть красотой, они стали страшными и уродливыми.
Задумаемся хотя бы над этими тремя чертами русской святости, потому что они не только нам дают пример — они нас призывают к тому, чтобы последовать этому примеру, как апостол Павел говорил: будьте мне последователями, так же как я — последователь Христов(1 Кор 4:16). Аминь.
Память новомучеников и исповедников Российских
7 февраля 1999 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодняя один из самых славных и вместе с этим страшных, трагических праздников Русской Церкви. Мы празднуем день новомучеников и исповедников Церкви Российской, тех миллионов людей, которые за последние восемьдесят лет остались верными Христу, остались верными Церкви и через это остались больше, чем кто-либо, верными нашей многострадальной великой Родине.
Мученик — это не просто человек, который страдает, это человек, который своим страданием свидетельствует о том, что его вера больше всего, что она дороже, драгоценнее всего на свете, и что ради этой веры, ради Бога, в Которого он верит, Кого исповедует, стоит не только жить достойно, но и умереть.
Не все, которые умирали, были героями в течение своей жизни. Некоторые из них были слабые, греховные, но когда пришло время исповедовать свою веру во Христа или отречься от Него, они не отреклись. Тогда вдруг с их плеч спала всякая слабость и осталась только благоговейная верность, любовь не только сердца, но жизни.
И вот, празднуя их день, мы должны задуматься и над собой. Ничто нам не грозит как будто, так же как ничто не грозило членам Русской Церкви до революции. И вдруг разразилась буря. В нашей жизни тоже может разразиться подобная буря. Я сейчас говорю не об общественных трагедиях, а о трагедиях частной, личной жизни, когда перед нами встает вопрос: верую ли я во Христа и Бога больше, чем во что бы то ни было? готов ли я пострадать, то есть пожертвовать всем, что только у меня есть, ради своей веры? или я верую в Бога, во Христа, в Церковь, в истину, в правду, в жизнь, только поскольку это ничего мне не стоит или поскольку охраняет и радует меня?
Вот над чем нам надо задуматься. И с какой благодарностью нам надо думать о тех людях, которые были немощны, порой немощнее даже нас, и которые, когда встал вопрос: «А ты верен своему Богу? Ты любишь Его? Он действительно твой Господь?», — ответили: «Да, чего бы это ни стоило».
Некоторые пострадали до крови, измученные, а некоторые отдали самую жизнь и умерли ради своей веры. Мне сейчас вспоминается рассказ отца Всеволода Шпиллера, одного из самых значительных священников нашего времени в России, который мне говорил о том, как в его приходе маленький мальчик десяти лет пришел к своим родителям и сказал: «Господь хочет, чтобы я молился о спасении нашей Родины. Я уйду в лес и буду молиться». И родители нашли в себе мужество, веру, любовь к Родине и любовь к Богу, достаточные для того, чтобы его отпустить в лес. Долгое время о нем ничего не было известно. Но в какой-то день в лес зашел крестьянин за дровами и нашел стоящего во снегу маленького мальчика в лохмотьях и босиком, который ему сказал: «Дядя, когда ты в следующий раз в лес придешь, принеси мне какую-нибудь обувь. Так больно стоять всю зиму на снегу босиком!». Этот мужик пошел домой и вернулся, но живым он мальчика больше не застал.
И вот такие мученики, такие исповедники миллионами украшали и украшают сейчас на небесах Русскую Церковь. Будем поэтому не только благоговейно, благодарно, трепетно к ним относиться, но поставим перед собой вопрос: на что мы готовы? Неужели мы только будем все от Бога принимать? Или когда встанет перед нами вопрос совести — не то что мученичества, но исповедничества, как бы открытого исповедничества нашей веры самой жизнью, готовы ли мы пострадать, чего бы это нам ни стоило?.. И возблагодарим Бога за то, что на нашей Родине столько тысяч и тысяч людей, мужчин, женщин, стариков, детей оказались верными Ему и что по их молитвам простерся покров благодати над нашей Родиной и обещает нам в свое время возрождение для всего нашего народа. Аминь.
День святых апостолов Петра и Павла
12 июля 1987 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня мы празднуем память святых апостолов Петра и Павла. Разница между ними колоссальная в том, что апостол Петр был с самого начала верным учеником Христовым, был свидетелем всего, что случалось вокруг Христа с первого момента Его выхода на проповедь.
Наоборот, апостол Павел был Христовым врагом, Его противником, он не верил в Него как в Мессию, он считал Его лжепророком. Павел вышел на проповедь не с тем, чтобы возвещать Евангелие, а с тем, чтобы быть гонителем христиан. Что же случилось в том и другом?
Апостолы, все двенадцать первых апостолов, были люди, которые знали Христа с самого начала, и я бы сказал, вероятно, не только с самого начала Его проповеднической деятельности, Его служения миру, а еще раньше. Мы знаем, например, что Нафанаил жил в Кане Галилейской, в немногих километрах от того места, где родился Христос, и другие апостолы все свое детство, всю молодость жили неподалеку. Апостол Петр выделен тем, что он первый провозгласил Христа как Сына Божия, как Бога, пришедшего плотью на землю для того, чтобы быть воплощением Божественной любви и отдать Свою жизнь на спасение мира.
Апостол Павел был гонителем, но он тоже свидетель о Христе, и свидетель чего-то чрезвычайно важного: того, что человек, который раньше не верил во Христа, Его ненавидел, преследовал, вдруг оказался лицом к лицу с Христом воскресшим. Все апостолы были свидетелями жизни, распятия, смерти Христовых, но они встретили Христа сразу после воскресения. Апостол Павел Его встретил уже спустя и стал совершенно иным человеком после этой встречи. Всю свою жизнь он отдал на то, чтобы провозглашать, как он говорил, Христа распятого и воскресшего (1 Кор 15:3—4). Воскресение Христово он воспринял событием не только своей жизни, но и всей жизни мира. Он говорил, что если не воскрес Христос, то наша вера тщетна и мы самые несчастные из людей (1 Кор 15:14). Понять это можно легко: ведь если бы Христос не воскрес, то вышло бы, что мы живем ложью, фантазией, мы в мире нереальности, в мире какого-то бреда.
Вот два апостола, которых мы вспоминаем. Апостол Петр не был безукоризненным во всех отношениях, так же как и апостол Павел. Все апостолы были настоящими, подлинными людьми, и когда Христос был взят в саду Гефсиманском, когда Его судили, страх их объял, и они бежали. Петр даже отказался от Него (Ин 18:25—27). Но потом они оказались бесстрашными проповедниками: ни муки, ни крест, ни распятие, ни тюрьма — ничто не могло их отлучить от любви Христовой, и они проповедали, и эта проповедь действительно явилась тем, чем ее называет Апостол: вера наша — победившая мир (1 Ин 5:4). Вот мы и празднуем их день, ликуя о том, что радикальный гонитель и верующий от начала встретились в одной, единой вере о победе Христовой — Крестом и Воскресением. Аминь.
Возлюбим друг друга
18 августа 2002 г. 1 Кор 1:10—18.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы сегодня читали отрывок из Послания, где апостол Павел говорит о том, что он не был послан крестить, но благовествовать, то есть принести миру благую весть, сказать слово такое чудное, дивное, которое будет радостью, жизнью и смыслом для всего мира. Павел и его последователи были нищие, изгнанники, презренные, и они приносили миру благую весть о том, что весь мир — тот самый мир, который их отрицает, который их преследует, — что этот мир, даже их гонители, Богом любим, что Бог его создал по любви для того, чтобы рано или поздно этот мир нашел тайну единства с Ним Самим и единства людей между собой. Это наше призвание, как это было призванием апостола Павла: не только провозглашать это, но явить это миру тем, что мы, обыкновенные, ничтожные люди, умеем друг друга любить.
Полюбить — это не значит переживать какие-то особые чувства, это значит посмотреть на другого человека и подумать: он — человек, как я, он Богом был создан по любви, он Богу так дорог, что Христос Свою жизнь отдал для него. Посмотреть так — и отдать свою жизнь этому человеку, не в каком-то величественном, героическом смысле, а в простом смысле: буду делать изо дня в день для каждого человека, который вокруг меня, все, что я только могу, и все, в чем он нуждается. И тогда любовь Божия через нас изольется на каждого человека и на всех людей. И тогда благовествование, о котором говорит апостол Павел, не будет только словесной болтовней или богословскими трактатами, а жизнью — жизнью, которая спасает людей от отчаяния, от страха, от одиночества, от горя.
Возлюбим друг друга так, как нас возлюбил Бог. Сразу этого мы сделать не можем; но мы можем начать с того, чтобы любить близких нам, людей, которые нас понимают и которых мы понимаем. Любить их творческой любовью, которая открывала бы тайну Божией любви: если я, такой человек, каким вы меня знаете, могу любить хоть сколько-то, то как нас любит Бог! Попробуем друг друга любить для того, чтобы люди поверили в Божию любовь. Аминь.
Исцеление Гергесинских бесноватых
23 июля 1978 г. Мф 8:28—9:1.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Как ярко отражает нашу жизнь сегодняшнее чтение Евангелия хотя бы в одном: как мы бываем озабочены, что человек болен, в горе, не верует, что нечем ему жить. Как мы об этом тревожимся, как мы об этом говорим друг со другом! Но случись этому человеку выздороветь, прийти в себя и, придя в себя, причинить нам какое-либо затруднение, мы начинаем жалеть, что прошло время болезни, время забот и настало время трудностей и неприятностей для нас.
Посмотрите, что случилось: человек был охвачен безумием, бился о камни, среди людей больше жить не мог, ушел в пустыню. О нем Христу повествуют и говорят о его несчастье, о его горе, сочувствуют. И Христос этого человека исцеляет, человек делается нормальным, его проблемы, его вопросы решены. Но это случилось какой-то ценой, которая пала на тех самых людей, которые как будто ему и сочувствовали, соболезновали, имели о нем заботу, надеялись на его выздоровление: часть их имущества погибла. И теперь человек уже не тот для них, это не несчастный, о котором была вся их забота, это человек, который лишил их имущества. И они от него отвернулись, и не только от него, но от Христа, Который оказался в этом — страшно сказать — «виноватым».
Разве мы не так поступаем друг со другом? Когда кто в горе, в нужде, в болезни, в духовной пустоте и отчаянии, на него мы умеем обратить внимание. Но случись, что он пришел в себя, вошел в наше человеческое общество и чего-то нас лишил: покоя, порядка, радости — и вдруг он нам делается чужим; и мы думаем — о, мы так не говорим, но так поступаем: зачем он пришел в себя для того только, чтобы быть нам помехой!
Подумаем каждый о тех людях, которые вокруг нас, о которых мы имели заботу и которые вдруг вошли в нашу жизнь и чем-нибудь ее взорвали или чего-нибудь нас лишили своим вступлением в жизнь: как мы к ним относимся? И опомнимся, потому что нам жутко делается, что люди Гергесинской страны, видя исцеление бесноватого, не нашли других слов для Христа, кроме просьбы: уйди от нас!.. Подумаем, как мы поступаем и что мы чувствуем, и станем людьми по отношению к другим людям, братьями, сестрами жалостливыми, способными, по слову Апостола, друг друга тяготы носить (Гал 6:2), и тогда исполним мы закон Христов на радость Ему, во спасение людям. Аминь.
О прощении
5 июля 1976 г. Мф 9:1—8.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В конце сегодняшнего евангельского чтения мы слышали о том изумлении, которое испытывали окружающие люди, присутствовавшие при прощении грешника и исцелении больного. И на слова, которыми выражено изумление, стоит обратить внимание. Люди дивились тому, какую власть дал Господь человекам. Правда, они не знали еще, что Христос — Сам Бог, пришедший плотью, пришедший в мир как человек, призвать грешников к покаянию и спасти их.
Но за этим есть еще и другая глубина. Действительно, человеку дана изумительная власть. Мы живем в мире, который порой очень страшен, в мире, где столько неправды, ненависти, жадности, страха. И в этот мир воплощением Своим пришел Господь — именно потому, что этот мир так страшен, потому что этот мир никто не может понести на своих плечах в одиночку без Бога. Всякая человеческая сила рано или поздно разбивается об эту злобу, жадность, ненависть и страх. И вот в этот мир, как человек, вошел Господь, чтобы понести на Своих могучих плечах всю его тяготу, весь его ужас. И несет Он эту тяготу тем, что, не сопротивляясь, бесстрашно, без единого слова протеста принимает все последствия человеческой злобы и неправды и отвечает на них крестом, то есть той смертью, к которой присудили Его люди и которую Он принял свободно, крестом, которым Он перед Отцом приносит Свою первосвященническую молитву: Прости им, Отче, они не знают, что творят (Лк 23:34)! Они Тебя потеряли, они потеряли познание о Тебе и любовь, они потеряли путь — прости!
Нам порой кажется не под силу жить в тисках ненависти и страха, и злобы. И тогда нам надо вспомнить, что потому именно, что так страшен мир, плотью в него вошел Господь, и что мы, христиане, посланы в этот именно мир Христом Спасителем. Как Меня послал Отец, — говорит Он, — так и Я вас посылаю, и в другом месте: как овец посреди волков (Ин 20:21; Мф 10:16) — чтобы мы были тихи и кротки, чтобы мы были полны любви и были готовы даже на растерзание. Потому что через эту растерзанность нашу душевную, а порой и телесную, если только мы ее принимаем до конца, если не ждем, чтобы у нас вырвали счастье или жизнь, а отдаем все вольной волей, свободно — мы получаем ту изумительную и страшную власть, о которой сегодняшнее Евангелие говорит: власть на земле прощать грехи, власть отпустить на свободу человека, связанного злом: Отче, прости! Они не знают, что творят.
Один из западных подвижников говорил, что христианин — это человек, на которого Бог возложил заботу и ответственность за всех людей. Но это значит, что Он нам поручил нести всю тяжесть этой жизни, весь крест и весь ужас, и делать это без отчаяния, без страха, а в совершенном спокойствии. Будем ли мы видимо победителями или очевидно пораженными — никто не может отнять у нас эту власть прощать и целить. Но только при условии, что мы все свободно принимаем, как Христос свободно принял всю трагедию и всю судьбу земную. И если мы свободно, вольной волей отдадим всего себя — растерзанность нашего сердца, порой отчаяние нашего ума, порой колебание нашей веры, если нужно, и тело наше, то получим право сказать: Отче, они не знают, что творят, — прости!
И на это слово Отец отвечает, как он ответил на молитву Христову, — прощением. Аминь.
Воздвижение Креста Господня
27 сентября 1959 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы сегодня поклоняемся с трепетом и благодарностью Кресту Господню. Как две тысячи лет тому назад, Крест Господень остается для одних соблазном, для других — безумием (1 Кор 1:23), но для нас, верующих и спасаемых Крестом Господним, он является силой, он является славой Господней.
Трепетен Крест Господень, это орудие жестокой, мучительной смерти. Самый ужас, который нас охватывает, когда мы взираем на орудие ее, должен нас научить мере любви Господней. Так возлюбил Господь мир, что Он Сына Своего Единородного отдал, для того чтобы спасти мир (Ин 3:16). И этот мир после воплощения Слова Божия, после жизни Христовой на земле, после того как Он провозгласил Божественное учение в слышание всех народов и Свою проповедь любви подтвердил, доказал смертью без злобы, смертью, к которой не примешалось ни одно мгновение противления, мести, горечи, — после всего этого наш мир уже не прежний мир. Его судьба не проходит трагически страшно и мучительно перед Божиим судом, потому что Сам Бог вошел в эту судьбу мира, потому что эта судьба наша теперешняя связала вместе Бога и человека. И Крест нам говорит о том, как дорог человек Богу и как дорого стоит эта любовь. На любовь можно ответить только любовью — ничем другим нельзя откупиться за любовь.
И вот перед нами стоит вопрос, вопрос совести пока, но в свое время он станет вопросом, который Господь на Страшном суде нам поставит, когда Он встанет перед нами не только в славе Своей, но встанет перед нами, изъязвленный за грехи наши. Ибо Судья, Который будет стоять перед нами, это Тот же Самый Господь, Который жизнь Свою отдал за каждого из нас. Что мы ответим? Неужели нам придется ответить Господу, что Его смерть была напрасна, что Крест Его не нужен, что когда мы увидели, как много нас любит Господь, у нас не хватило никакой ответной любви, и мы ответили Ему, что предпочитаем ходить во тьме, что мы предпочитаем руководиться страстями, похотьми нашими, что для нас дороже широкая дорога мира, чем узкий путь Господень?
Пока мы живем на земле, мы можем себя обмануть, что есть еще время. Но это неправда, времени страшно мало: жизнь наша может оборваться в одно мгновение, и тогда начнется наше стояние перед судом Господним, тогда будет поздно. А теперь время есть: время есть, только если мы каждое мгновение нашей жизни превратим в любовь. Если мы каждое мгновение жизни превратим в любовь к Богу и любовь к каждому человеку, нравится он нам или нет, близок он нам или нет — только тогда наша душа успеет созреть к встрече Господней.
Всмотримся в Крест. Если бы близкий нам человек умер за нас и из-за нас, разве наша душа не была бы до самых глубин потрясена? Разве бы мы не изменились? И вот Господь умер — неужели останемся мы безучастны? Поклонимся Кресту, но поклонимся не только на мгновение. Поклонимся, склонимся под этот Крест, возьмем по мере наших сил этот Крест на свои плечи и пойдем за Христом, Который нам дал пример, как Он Сам говорит, чтобы мы за Ним последовали (Ин 13:15). И тогда мы соединимся с Ним в любви, тогда мы станем живыми — страшным Крестом Господним, и тогда Он не будет стоять перед нами, осуждая нас, но спасая и вводя в бесконечную, торжествующую, победную радость вечной жизни. Аминь.
Воскресенье после Воздвижения
1 октября 1972 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы сегодня празднуем Воскресение Христово, как празднуем его из недели в неделю, еще осиянные праздником Воздвижения Креста. Праздник Воздвижения Креста Господня — это память о дне, когда крест, на котором был распят наш Господь, был найден, когда человеческие очи его созерцали, человеческие руки осязали его. Это день, когда распятие Сына Божия, ставшего Сыном человеческим, каким-то непостижимым образом стало осязаемым для тех немногих свидетелей этого события, которые в нем принимали участие.
И вот в свете Воскресения крест, который иначе являлся бы только орудием позорной и мучительной смерти, делается знаменем победы, знаком победы, больше, чем знаком, — самой победой, потому что смертью побеждена смерть, и Воскресение Христово, осияваемое этим Крестом, делается таким ощутимым, осязаемым. Это победа жизни, одержанная смертью. Не просто победа жизни, которая не подвергалась бы испытанию или противоборству, а победа жизни над самой смертью.
И сегодняшнее Евангелие говорит нам, что и наш путь в том же, что и путь Христов. Если мы хотим жить, хотим жить не колеблющейся, неуверенной в себе жизнью земли, а непоколебимой, торжествующей, победно-пламенеющей жизнью вечности, жизнью Бога, нам надлежит не только устоять в жизни, но победить смерть, как Христос ее победил, последовать за Ним шаг за шагом, возлюбить Бога сердцем неделящимся, умом неколеблющимся, твердой волей, побеждающей в нас все противное Богу, жизни и любви. Если мы пройдем таким путем, то мы пройдем через умирание, многое в нас должно вымереть, что нам кажется живым, для того, чтобы водворилась Жизнь. Многое в нас должно обветшать и отпасть для того, чтобы родилась неумирающая, неветшающая Жизнь. Если мы этого не сделаем, если мы будем стараться жить временной жизнью, не приобретая через нее жизни вечной, то случится с нами то, о чем говорит Евангелие: мы можем приобрести весь мир, мы можем все видеть и все слышать и всем насладиться, и вместе с этим жизнь наша, сам факт, что мы жили, будет тщетным, напрасным, потому что все это пройдет, как сон, и мы проснемся в потемках не живыми, а мертвыми.
И вот нас Христос зовет к подвижнической, смелой, глубокой жизни. Если мы хотим быть Христовыми, то есть вместе с Ним, Им, в Нем, через Него войти в вечную жизнь, то мы должны, как Он, — взять крест, то есть согласиться на то, чтобы в нас мучительным образом многое умерло. Мы должны взять этот крест без того, чтобы кто-нибудь насильственно нас к нему пригвождал, взять его, как Христос отдал Свою жизнь и взял Свой крест, — и последовать за Ним. Когда-то следовать за Христом значило физически быть рядом с Ним, ходить по тем же дорогам, исполнять Его поручения, слушать Его учение. Теперь следовать за Христом значит научиться из святого, животворного Евангелия, как живут, как жить. Он — путь, а слова Его, наставления, заповеди, завет Его — указание, как этим путем жизни идти, как пройти вратами смерти в вечность. Поэтому и мы — возьмем наш крест, последуем за Ним, пойдем туда, куда Он идет, куда бы Он ни шел. И окажется, что вратами крестными мы войдем в жизнь вечную, потому что Он есть и Дверь, и Истина, и сама Жизнь. Аминь.
Чудесный улов рыб. Неделя 18-я по Пятидесятнице
7 октября 1990 г. Лк 5:1—11.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Какое дивное евангельское чтение выпало сегодня нашему старому другу, прихожанину, брату во Христе Иоанну: рассказ о том, как Христос выбрал Петра для того, чтобы он был вестником и чтобы он вместе с другими множество людей привел ко Христу. Если мы прочтем внимательно это Евангелие, мы видим, что Христос был окружен целой толпой, что на море Геннисаретском было множество ладей, и Он выбрал одну — петрову. И Он вступил в нее и приказал Петру поступить во глубь, удалиться от берега, от того места, где нет ни опасности, ни труда, но нет также и возможности совершить большое плавание во имя Господне. Петр Ему сказал, что они всю ночь трудились напрасно, Спаситель же его побудил исполнить Его волю. Петр согласился: по слову Твоему я брошу мрежи… И вдруг оказалось, что эти мрежи полны рыб.
Бывает так и с человеком, когда он всю ночь трудится над каким-нибудь делом. Он делает добро, он старается других людей привлечь к пути Господню — и все остается как бы бесплодным. И вдруг Сам Господь подходит к одному из тех, кто трудится, и говорит ему: «Сделай теперь, при Мне, со Мной то, что ты делал раньше все время своими силами». И как часто бывает, что и мы, когда Господь нам говорит: «Сделай вновьто, что тебе не удалось раньше», готовы Ему ответить: «Зачем, Господи? Я уже старался напрасно». Но Петр этого не сказал. По Твоему слову, — сказал он, — я пущусь в дальнее плавание, я брошу мрежи, сеть мою в море. И вдруг открылось ему, что Господь может в одно мгновение эту сеть исполнить.
Так бывает с нами. Мы живем, действуем и не замечаем того, что Бог вокруг нас делает, как Он творит над одной, над другой, над третьей, над тысячами душ Свои чудеса. И вдруг Господь нам откроет глаза, и мы видим. Но что тогда сделал Петр? Петр пал к Его ногам в ужасе о том, что он находится перед Живым Богом, творящим чудеса, и сказал: я человек грешный! Я недостоин того, чтобы Ты был рядом со мной в этом корабле — выйди, оставь меня!.. Ему страшно стало этой близости чудотворящего Бога.
Но Христос, Который его избрал, Который определил его на это служение, ему ответил: Не бойся! Отныне будешь ты ловцом людей, то есть отныне ты раскинешь сеть свою не в море, а раскинешь сеть по земле для того, чтобы привлечь в Небесное Царство множество людей. Ты не видел Моих дел — теперь ты будешь соучастником этого Моего дела.
Вот о чем говорит сегодняшнее евангелие — всем нам, потому что мы все Христовы, потому что рядом с каждым из нас идет Спаситель Христос, как Он шел в Эммаус со Своими учениками, которые и тогда Его не узнали, — узнали Его только в преломлении хлеба, но слышали Его слова, и сердце в них горело от того, что они слышали (Лк 24:32)! Все мы в этом положении: мы все идем через нашу жизнь, и Христос рядом с нами идет, и с нами беседует, и нам открывает тайны Царства Божия, и нам объясняет то, чего мы не понимали раньше. Но в какой-то момент Он может одного или другого из нас избрать — не обязательно на священное служение, а для определенного служения, и сказать: теперь иди! Я тебя посылаю.
Но это мы можем сделать, только если мы до того, встретившись лицом к лицу со Христом, исполнились ужасом о том, что мы встретили Живого Бога, что мы недостойны даже быть в Его присутствии. Только тогда скажет Он нам: иди вместе со Мной, иди в Мое имя и твори дело Божие на земле.
Дай Бог, чтобы то, что мы сегодня слышали в Евангелии, исполнилось в жизни нашего друга Иоанна, дьякона, которого мы ставили около года тому назад и который теперь становится священником и будет послан вестником Христовым, но не один. С каждым вестником идет Сам Господь, над каждым вестником, если он сознает свою предельную, всеконечную немощь, идет благодать Божия и совершает Божественной силой то, что ни одному человеку своими силами не исполнить. Аминь!
Неделя 19-я по Пятидесятнице
9 октября 1977 г. Лк 6:1—36.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодняшнее Евангелие говорит о любви, и нам так часто кажется из опыта наших земных отношений, что между справедливостью и любовью лежит почти непроходимая пропасть. Мы то и дело попадаем в ловушку: стараемся быть милостивыми — и бываем несправедливы, стараемся быть справедливыми — и оказываемся жесткими. Недаром один великий писатель прошлого сказал, что судья одновременно и больше человеческого уровня, и меньше его. Больше — потому что у него превосходящая человека власть судить и осудить, меньше — потому что ему не дано проявлять милосердие.
И однако Священное Писание говорит нам, что в Боге сошлись милость и правда (Пс 84:11 и др). Но правда, справедливость, которую мы находим в Боге, настолько отличается от той справедливости, которую стараемся проявлять мы! Проявить справедливость для нас означает, что мы выносим справедливое суждение и затем либо отзываем его, либо даем прощение, но при этом не способны внутри самих себя примирить сострадание и строгость. Так часто, когда мы хотим быть справедливо-суровыми и тем самым помочь человеку, нам приходится приказать сердцу умолкнуть. Бог так не поступает. Христос говорит в Евангелии, что наша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев, тех людей, которые стараются быть праведными перед Богом, быть в Его глазах беспорочными (Мф 5:20).
Но в чем правда Божия? Из Ветхого и Нового Заветов можно видеть, что правда Божия — и мера этой правды порой устрашает нас до ужаса — в первую очередь состоит в том, чтобы признать за другим его право быть самим собой, даже если он неправ, даже если идет дурным путем. Разумеется, это не означает, что мы можем примиряться со злом, принять злые пути. Но мы должны научиться различать — как это делает Бог — между злым поступком и человеком, его совершающим, между смертной болезнью человека, раненого грехом, охваченного злом, и самим человеком, которого Бог возжелал и возлюбил в жизнь, за которого Он готов был воплотиться и отдать жизнь. Бог умеет делать это различие. Один из самых страшных, самых впечатляющих примеров этого мы находим в самом начале истории человечества, когда Каин убивает Авеля и после этого чувствует, что его будет преследовать не только отвержение Богом, но и человеческая ненависть. И Господь говорит ему: Я сделаю тебе знамение, и никто не убьет тебя (Быт 4:15). Тем самым Бог как бы признает, что Он даровал человеку свободу, страшную свободу, и что Он выступает защитником этой свободы, даже если человек ею злоупотребит, — но не только. Если бы на этом все кончалось, то Бог был бы ответствен за все зло в мире и мы могли бы осудить Его за все наше страдание, за весь ужас человеческой истории.
Но Бог совершает еще нечто. Он принимает на Себя все последствия выборов, которые человек делает вольной волей или по безумию. Он принимает на Себя все эти последствия и несет на Своих плечах. Воплощение Христа, Сына Божия, жизнь, страдания, смерть, богооставленность на Кресте, сошествие во ад Христа, Сына Бога Живого, ставшего Сыном человеческим, — все это выражает, свидетельствует, что Бог покрывает, берет на Себя последствия человеческого зла и всего зла в мире. Его правда состоит в том, чтобы признать другого таким, какой он есть, на его собственных условиях, и Самому заплатить за человеческое безумие и человеческое зло.
И здесь-то и встречаются милосердие, жертвенная любовь — и правда, встречаются таким образом, как мы не способны ни понять, ни осуществить, встречаются так, что страшно делается. Признать другого человека, даже тогда, когда он представляет собой опасность для нашей цельности, нашей жизни, человека, которого мы призваны взять на себя и понести, и спасти — на это мало кто способен. Я уже рассказывал некоторым из вас о женщине, нашей прихожанке, которая сейчас постепенно приближается к смерти. В молодости она жила в России и во время революции была взята в тюрьму. Допросы шли за допросами, и как-то ночью после многочасового допроса она почувствовала, что силы ее истощились, она должна разорвать эту цепь, даже если поплатится за это, будет наказана. Она повернулась к следователю, готовая бросить ему вызов, оскорбить его, лишь бы положить конец этой бесконечной муке. И вдруг она увидела по ту сторону стола человека с лицом серым от усталости, бледного от истощения. И тут она внезапно увидела в нем человека, не врага, а того, который жестокой волей обстоятельств истории оказался по другую от нее сторону стола. И увидев в нем человека, она улыбнулась ему. Допрос не кончился на этом. Он улыбнулся в ответ, но продолжал свои вопросы. Но она уже была недоступна разрушительным силам ненависти. Она увидела человека, она могла терпеливо отвечать человеку и постепенно принимать свое умирание без ненависти, без горечи, актом принятия.
Этот величественный пример взят не из Писания, примеры откуда часто кажутся нам далекими, и не из житий святых, которые как будто превосходят нашу меру, а из жизни женщины, которая в нашей среде. Неужели мы не поймем, что первое проявление правды, которое может повести к спасению того, кто творит зло, это — признание за ним права быть, ненависть к злу, которое обладает им, ненависть к разрушительному началу в человеке и готовность послужить человеку, отнестись к нему благоговейно, послужить ему, как мы служили бы Богу нашему, послужить ему во спасение. Расстояние между правдой и милостью в нашей жизни кажется бесконечно большим. Мы должны научиться понимать, чтозначит любить во спасение, и проявлять правду по образу распятой любви Живого Бога, которую Он оставил нам как самый драгоценный и святой дар — Церковь Свою. Аминь.
Неделя 24-я по Пятидесятнице
29 ноября 1981 г. Еф 2:14—22.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Какие дивные и вместе с тем страшные слова слышали мы сегодня в Послании апостольском, что мы Богу уже больше не чужие, а свои, родные, что Он для нас, как говорит Священное Писание, не Бог издали, но Бог близкий (Иер 23:23), Его любовь несомненна. Но если мы хотим быть своими Богу, то мы должны относиться к Нему так, как относимся к самым близким, самым родным, к тем, кого мы действительно сердцем любим, любим душой.
И в этом контексте так сильно, так выпукло выступают слова Евангелия, что мы должны Бога любить всем сердцем, всей жизнью, всей мыслью, всей крепостью нашей (Мк 12:30). Любить не каким-то причудливым образом, а так, как мы всем сердцем любим тех, кто нам дорог: всей жизнью готовы их любить, заботясь о них, думая о них, строя жизнь так, чтобы быть для них опорой, радостью, вдохновеньем; всем помышлением нашим, всей силой воображения, всей тонкостью и чуткостью ума, и, наконец, изо всех сил, которые только в нас есть. Только если мы так научимся любить Бога, станут для нас жизненной реальностью слова апостола Павла о том, что Богу мы не чужие, а свои, родные. Как я уже сказал, Он нас любит, как Своих детей, Он нас любит всем замыслом Своей премудрости, всей крестной любовью, отдачей Единородного Своего Сына на смерть, и всей любовью Сына, жизнь Свою отдавшего за нас, чужих, так часто — чуждых и порой враждебных Ему.
Крепостью Он любит нас, жизнью Он любит нас — всем, и разве мы не можем найти вдохновение в этих словах. Когда кто-нибудь нам скажет: «Мать, сын, брат, жених или невеста — ты для меня все значишь!» — разве не разгорается в нас чувство такой благодарности, из которой может родиться новая жизнь, жизненный подвиг может родиться и сделать нас новыми людьми. И это нам говорит Господь. Разве на такую любовь мы можем не ответить любовью, радостью, благодарностью и целой жизнью, которая была бы достойна и этой любви, и Того, Кто так нас умеет любить. Аминь!
О молитве
12 августа 2001 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Меня часто спрашивают люди, каким образом им научиться молиться с простотой, не повторяя чужих слов, не борясь даже с собственными колеблющимися мыслями, а молиться прямо, как мы разговариваем с дорогим, близким человеком. И мне хочется вспомнить с вами урок, который я получил много-много лет тому назад. Я тогда старался молиться уставными молитвами, молился много, молился усердно. Но вместе с этим иногда не хватало сосредоточенности, еще чаще бывало, что слова молитвы были сверх меня; они были так велики, опыт, который в них покоился, был таков, что я не мог их повторять от себя самого. А иногда бывали молитвы, которые я никак не мог сам сказать, потому что эти слова противоречили тому, что во мне тогда было, я к ним еще не созрел.
Я спросил своего духовного отца об этом, и он мне дал совет, который я хочу вам передать, потому что думаю, что многие из вас находятся в том же положении, в котором я тогда находился. Он мне сказал: «На год я тебе запрещаю молиться уставными молитвами. Перед тем как лечь спать, перекрестись, положи земной поклон и скажи: „Господи, молитвами тех, кто меня любит, спаси меня!“ И когда ты ляжешь, поставь перед собой вопрос — кто же вокруг тебя есть, и живые и усопшие, и святые и грешники, которые тебя так любят, что они перед Богом стоят твоими заступниками, молясь о тебе, о том, чтобы тебе когда-нибудь научиться истинному покаянию, научиться быть поистине учеником Христовым». Я стал так делать, и тогда начали передо мной подыматься образы, имена тех людей, которые меня несомненно любили: моя мать, мой отец, моя бабушка, мои друзья. И затем все шире и шире раскрывался горизонт тех людей, которые прошли через мою жизнь и мне доказали свою любовь ко мне. Все больше имен, все больше лиц подымалось. И каждый раз, когда подымалось лицо или имя, я останавливался и говорил: «Господи, благослови этого человека за его любовь ко мне! О, благослови его, благослови ее!». И затем в этой молитве я засыпал.
Я и вам хочу это посоветовать: научитесь так молиться. Научитесь лечь спать и поставить перед собой вопрос о том, что не ваши уставные молитвы вас защитят от зла в течение ночи, а любовь тех многих, многих людей, о которых мы, может быть, даже забыли, но которые нас помнят и на земле, и в вечности. И тогда сердце ваше растает, тогда вы сможете начать молиться, обращаясь к Богу с такой же искренностью, потому что в какой-то момент вы обнаружите, что вы любимы не только теми людьми, которые вокруг вас были, но Матерью Божьей, Христом Спасителем, Отцом нашим Небесным, ангелом нашим хранителем — и мир так расширится, так углубится.
Но на этом все не кончается, потому что если мы так можем надеяться на любовь других людей, то неужели они не могут надеяться на нашу любовь? И тогда живите так, собирая в своем сердце, в своей памяти всех людей, кому нужна любовь: людей брошенных, людей одиноких, людей, которые считаются злыми, чуждыми — вспоминайте их, потому что они тоже, может быть, в это время молятся Богу и говорят: молитвами тех, кто меня любит… — и останавливаются: а может быть, никто, никто меня не любит за то, что я таков? Будьте, может быть, единственным человеком, который и этого человека вспомнит перед Богом и скажет: «Господи! Ему нужна Твоя любовь. Мою я не умею дать, у меня ее слишком мало — дай ему Твою любовь».
И если вы начнете так молиться о себе и молиться о других, то молитва станет чем-то не только живым, но живительным, сильным, творческим. Аминь.
О единстве в смерти
5 ноября 2000 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сколько раз, сколько раз приходилось встречаться со смертью дорогих, близких, родных, людей, с которыми хотелось бы никогда, никогда не разлучиться. Это бывало и в мирное время, и в страшные годы войн и революций. Это бывает на каждом шагу, и так часто, когда мы стоим у гроба, мы могли бы произнести слова английского поэта, который говорит: «О, если бы можно было прикоснуться к руке, которая уже недвижима, услышать голос, который больше не звучит». Да, на земле мы слухом уха не можем больше его услышать, но если мы прислушаемся к сердцу, которое бьется любовью, которое открыто любовью к вечности, мы можем понять, что Христос победил смерть, что Его воскресением мы все живы. И тогда уже Церковь — не храм, а та тайна встречи между Богом и человеком, которая является сущностью Церкви, — делается местом преображения самого горя в торжество, в сознание: то, что было, было только началом, было, как зернышко, брошенное в землю, но теперь оно растет в вечность.
Один человек, который глубоко любил свою жену, который был верен ей и которому она была верна до конца, мне как-то сказал после ее смерти: «Когда мы были живы, мы были воедино, все делали воедино, вместе. Теперь что она умерла, мы стали едиными». Это уже не два человека, творящие жизнь, это одна неразделимая чета, которая живет одной жизнью, которая победила смерть. Когда перед нами будет вставать вопрос о смерти, о временной разлуке, будем помнить, что не в разлуке дело. Да, телесно мы разлучаемся, телесно мы уже не прикоснемся друг ко другу, не услышим голос любимого, но единство во Христе, единство любви непобедимо возрастает в новую меру совершенства: уже не двое, а один человек. И когда мы будем хоронить любимых нам людей, будем помнить, что мы не разлучаемся, что смерть этому человеку открыла врата вечной жизни, но что этим человеком и нам открыты эти врата. Аминь.
По поводу гибели детей в шотландской начальной школе
Март 1996 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Есть древний рассказ о восточном полководце, который победил соседнего короля и взял в плен его самого, его жену и детей, и в акте жестокой мстительности победитель заставил перед лицом плененного короля убить всех его родных, всех его близких. И король плакал горькими слезами. Но напоследок привели на мучения его собственного сына, и он стоял, как камень, без единой слезы. И победитель обратился тогда к окружавшим его вельможам и сказал: «Как глубоко должно быть горе, которое даже и слезы не находит для своего облегчения!».
И вот сейчас мы находимся перед трагедией, совершившейся на севере Англии. Множество детей было убито, и остались за ними осиротелые родители, братья, сестры, ученики тех же классов и той же школы. И бесчисленное число детей по всему миру вдруг поняли, что и они могут в какой-то момент погибнуть напрасно, бессмысленно в глазах человеческих, от природного бедствия или от безумия какого-то человека.
Есть случаи, когда слез нет, есть дни, когда слов нет. Я сейчас не буду говорить проповедь о том, как мы можем осмыслить эту трагедию. Можно только вспомнить слова, повторенные в Евангелии, из Ветхого Завета: Плачет Рахиль о детях своих и не хочет утешиться, потому что их нет (Иер 31:15; Мф 2:18). Это было сказано о тысячах мучеников-детей, которых Ирод велел избить в надежде, что среди них будет родившийся Царь, Господь Иисус Христос.
Сейчас мы должны бы отозваться всей болью, всем состраданием нашего сердца на горе оставшихся в живых. Ушедшие дети находятся в Царстве Божием; они сейчас не только упокоились — они ликуют вечной жизнью. Но за ними остается целожизненная скорбь, боль на всю жизнь, и мы не должны никогда эту скорбь забыть. В конце моих слов мы пропоем усопшим детям Вечную память. Но будем вспоминать и их родителей, их близких, потому что на всю жизнь на них наложена печать креста, не того спасительного креста, о котором мы говорим, когда думаем о Спасителе нашем, о Его смерти на Голгофе, о нашем спасении, но того тяжелого креста, который человек может нести всю жизнь, не понимая, почему он так раздавлен судьбой. Мученики это понимали, но миллионы людей прошли через это страдание без понимания, и это еще страшнее, чем самая смерть.
Когда Христа вели на Голгофу, Он падал под тяжестью несомого Им креста, и из толпы призвали человека помочь Ему нести крест (Мк 15:21). И когда нет слов, чтобы объяснить страдание, нет слов, потому что трагедия так велика, то мы можем, должны бы быть способны подставить свое плечо под тот же крест, не объясняя необъяснимого, а только давая сокрушению своего сердца слиться с сердечным сокрушением другого.
Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим, и сотвори им вечную память!
Слово по поводу террористических актов в Америке 11 сентября 2001 г.
16 сентября 2001 г.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мне хочется сказать всего несколько слов перед тем, как отслужить в середине храма панихиду по всем тем, которые так трагически умерли от ненависти других людей. Отец Михаил сказал глубоко, искренне о жертвах. Я хочу сказать вдобавок: будем молиться о том, что Бог даст — потому что мы не можем судить об этом — тем, которые были виновниками этой трагедии. Не обернемся к ним и подобным им с ненавистью, с гневом, а с ужасом. Священное Писание нам говорит: гнев человеческий не творит правды Божией (Иак 1:20).
Пусть этот ужас, который пережит целым народом и который распространился по всей земле, нас побудит с большой убежденностью, с большой чуткостью не только молиться о мире всего мира, но работать над тем, чтобы нигде — ни в семье, ни в окружении нашем — нигде не восторжествовали ненависть, гнев и злоба. Подумайте, как страшно тем, которые совершили это ужасное преступление, встать перед лицом Божиим плечом к плечу с теми, кого они убили. Как страшно!
Мы ничего не можем сделать, кроме того, чтобы молиться о том, чтобы им, хоть посмертно, опомниться, покаяться, примириться с бесчисленными жертвами, которые стоят рядом с ними. Будем молиться о мире всего мира, о том, чтобы случившийся ужас побудил миллионы людей к борьбе за мир, и за любовь, и за жалость, и за сострадание.
Иллюстрации
Часть III. Евангелие в жизни
Молитвенная Жизнь [127]
I
Очень часто, едва ли не всегда проповедник начинает свою проповедь (или докладчик, если он выступает в рамках христианских понятий, свой доклад) со слов: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но достаточно ли мы сознаем, как ответственно он должен произносить эти слова и какая ответственность на тех, кто эти слова воспринимает слухом? Говорить во имя Святой Троицы, говорить во Христе означает говорить изнутри Истины, которая есть Христос (Ин 14:6), — не теоретической истины, не «с точки зрения», пусть и вероучительной, а изнутри такого взаимоотношения с Господом, со Христом, Который есть Истина, чтобы слова доносили до тех, кто их воспринимает, не только семантическое значение, но жизнь. Говорить во имя Святого Духа означает произносить слова, превосходящие тебя самого, вдохновенные, полные смысла слова, слова Самого Бога, которые доверены нам. Эти слова должны гореть и воспламенять сердца и умы. Говорить во имя Отца означает говорить из глубин того неисследимого покоя и тишины, из которых только может родиться Слово, соответствующее тайне Бога и ничем не возмутимому Божественному молчанию.
Но это значит, что и слушать мы должны так же. Мы должны научиться, слушая, быть настолько глубоко молчаливыми, настолько открытыми, должны научиться слушать всем своим существом, чтобы слышать не слова, а общаться сквозь слова с Богом, а иногда слышать за пределом очевидности прозвучавших слов — слова истины, превосходящей всякое слово, пламенные слова, которые за пределом всяких эмоций. Мы сегодня встретились, давайте постараемся прислушаться друг к другу, открыться друг другу и за пределом несовершенных слов и образов встретиться в вере, в благоговейном поклонении Господу истины в Духе истины.
Меня просили говорить о молитвенной жизни, и я хотел бы поставить ряд вопросов, чтобы, когда у нас будут периоды собранного молчания, мы могли бы, каждый из нас, поставить эти вопросы себе лично и дать на них ответ, и, найдя ответ, постараться жить дальше в соответствии с ответом, который мы нашли.
Я начну с замечания, может быть, неожиданного, но оно родилось из того, что я вижу и слышу вокруг себя: для того, чтобы молиться, надо, чтобы у тебя был Бог, к Которому ты обращаешь свою молитву. Очень часто ко мне приходят люди с просьбой научить их первым шагам молитвенной жизни, и когда я их спрашиваю: «Верите ли вы в Бога, есть ли в вашем опыте Живой Бог, к Которому вы можете обратиться со словами молитвы, к Которому вы можете повернуться сердцем, Которого вы можете призвать, то есть пригласить, чтобы Он пребывал в вас?» — ответ часто бывает: «Нет, такого Бога у меня нет. Я верю в первопричину вселенной, я верю, что в корне или за пределом всего сущего, должно быть, есть сила, которая дает всему бытие и форму, я со страхом ожидаю, что в какой-то день должен буду дать отчет за свою жизнь Кому-то, Кого я вовсе не знаю пока». И тут я всегда говорю: «Не пытайтесь молиться, ставьте себе еще вопросы, потому что молиться — все равно что разговаривать с другом». Бесполезно разговаривать с воображаемым другом, можно содержательно говорить с реальным другом, с кем-то, с кем можно стоять лицом к лицу, кому можно открыть сердце, кто слушает, перед чьим суждением мы стоим и кто будет стоять за нас, независимо от того, правы мы или неправы.
Вот первый вопрос, который снова и снова я ставил бы себе самому, а теперь и вам. В моменты молчания или когда вы молитесь, ставьте себе вопрос: есть ли в моем опыте Живой Бог, такой же определенный, такой же реальный, как мои друзья, мои родные, Бог, Который — Некто, а не нечто, не «сила», а реальная Личность? Слово Бог происходит от древнего готского слова, которое значит «Тот, перед Которым падаешь ниц в поклонении». Вот первичный опыт человечества о Боге: это не Кто-то, о Ком ты что-то слышал. Бог изначально представлялся как Присутствие, реальность, такая реальность, которая в какой-то момент поразила людей своей славой. Почему мы собрались сегодня здесь? Потому что каждый из нас в большей или меньшей степени пережил какой-то опыт, может быть, лишь зачаточный, реального Бога. Мы должны вновь обрести этот опыт — и это второе, о чем я хочу сказать.
Один старый священник как-то старался разъяснить мне место в конце Евангелия от Матфея, где Христос повелевает Своим ученикам идти в Галилею. Я ставил вопрос: почему Он посылает их в Галилею (Мф 28:10) — когда Он уже среди них, они в Его присутствии? К чему посылать учеников на другой конец Святой земли, когда они уже вместе? И мне был дан такой ответ: Галилея означает их первую встречу со Христом. Там они узнали Его сначала как товарища детства, друга юности, мужающего человека, в котором они постепенно прозревали святость, красоту, такое измерение, какого не было ни в ком другом, — почему Он и стал их наставником, их совестью, их учителем, в Ком они позднее узнали Бога, воплотившегося ради спасения мира. Позднее их накрыла трагедия, Иудея означает трагедию. И слова Христа к ним означали: идите в то место, где все было — покой и радость и взаимная открытость. И тот священник еще сказал мне: у каждого из нас есть внутри своя Галилея. Каждый из нас в какой-то момент своей жизни, может быть, в детстве, может, в другое время, пережил момент, когда Христос, Бог стал реальным, момент, когда в его жизнь вошла вечность. Впоследствии мы обычно теряем это, но этот пережитый опыт подобен реке, которая течет в пустыне, потом исчезает в песке и снова выходит на поверхность, порой через большое расстояние. Мы должны вновь обрести свою Галилею, тот миг, может быть, совсем мимолетный, когда Бог стал реальным и мы стали другими людьми.
Так что вот второй вопрос, который мы должны ставить себе: нахожусь ли я все еще в Галилее? Сохранил ли я это переживание Живого Бога? Превратилось ли оно в воспоминание, пусть приятное, или все еще является реальностью настоящего времени? Мы говорим о Боге как о Личности. Слово «личность» в современном словоупотреблении имеет ограничительный смысл, но греческое слово prosopon, которое употреблялось изначально, когда говорилось о Трех Лицах Святой Троицы, не означало личность в современном смысле слова, еще менее persona, что на латинском языке значило «маска». Это слово значило лицо человека, и смысл был тот, что Живого Бога можно встретить лицом к лицу, что Он не безличное существо, которому невозможно посмотреть в глаза. Мы видим прекрасный образ этого в Евангелии от Иоанна, в рассказе о слепорожденном (Ин 9:1—38). Человек родился слепым, он никогда ничего не видел. И когда Христос даровал ему зрение, первое, что он увидел, был лик Бога, ставшего человеком, и его взор встретился со взором Божественной любви и сострадания. Вот это мы имеем в виду, когда говорим о Боге как о личностном Боге.
Так что задумаемся снова: каков Бог? Имеет ли наш Бог личность? Пережили ли мы когда-либо опыт, уверенность, которую дает вера, что мы стоим лицом к лицу с Богом, Живым Богом, Который слушает, Который видит, Который понимает, Который открыт нам и говорит с нами? Вот еще момент, над которым следует задуматься.
Очень часто нам оказывается трудно молиться, потому что когда приходит время стать на молитву, мы стараемся найти в себе мысли, чувства, отношение, которые мы могли бы принести Богу как бы изнутри себя. И так часто оказывается, что мы пусты, что мы можем лишь повторять все те же слова, те же речи, те же образы, но сами мы — словно бесплодная земля. Почему бы нам не вспоминать почаще, что инициатива принадлежит Богу, что Он первый обращается к нам со Своим словом, не в каком-то мистическом смысле, не каким-то разительным явлением каждому из нас в тот момент, когда мы решаем поставить себя в Его присутствие, — нет! Он говорит с нами в Евангелии — почему бы нам не отозваться? Если мы берем в руки Евангелие, будь то для систематического, постоянного чтения, или открываем его случайно, изредка, мы встречаемся с Богом во Христе, с Живым Богом, ставшим живым Человеком, Который обращается к нам, иногда непосредственно с заповедью, с советом, или объясняет что-то, или просто предстает перед нами в полной Своей славе. И мы можем посмотреть на Него и отозваться: отозваться или на Его слова, или на то, Каким мы Его видим лично. Это мы всегда можем сделать, и если мы честны — а честность не всегда легко найти в себе, потому что мы привыкли быть осторожными, — но если мы честны в строгом, беспощадном смысле, то спросим себя: а как я отвечаю? как я отзываюсь? Вот Христос идет к грешникам, открывает им объятия, говорит с ними уважительно, нежно, вызывая в них к жизни всю таящуюся в их глубинах красоту: как я на это отзываюсь? Как на вдохновение? Или как на вызов? Или я говорю: времена переменились, да и я не Христос? Слышу ли я Его или отстраняю то, что Он говорит, со своего пути? То же самое относится к словам Христовым: горит ли от них мое сердце? Просветляется ли мой ум? Вдохновляют ли они меня или я остаюсь безразличным: о, я уже столько раз все это слышал, да, я все это уже знаю… Или я отшатываюсь от тех или других слов?
И в зависимости от того, какова моя реакция, я могу отозваться. Я могу ответить Господу: спасибо! Ты коснулся во мне какой-то струны, и она запела, и теперь никогда не замолкнет во мне это ее звучание… Или: какой ужас! Ты, мой Бог, говоришь, а мне нечего ответить, я лишь пожимаю плечами… Или даже: какой ужас! Я отвечаю Тебе отрицанием — сердцем, умом, поступками я говорю «нет!» Твоим словам или Твоему откровению… Если мы так отзываемся на слова или образы, которые встают перед нами, мы всегда сможем извлечь из себя нечто в качестве молитвы — может быть, всего лишь вздох, стон, слезу или одно слово стыда или благодарности, радости или печали. Это может оказаться совсем кратким, но к чему длинные речи? Когда мы разговариваем с другом и полны ликования, или стыда, или горя, или радости — не важно, долго ли мы говорим, важно, насколько правдивы наши сердца и наши слова.
И еще одно. Я уже говорил о том, что надо вглядеться в Христа, Каким Он открывает Себя нам в Евангелии. Во-первых, очень важно нам читать внимательно и не позволить себе сказать в уме или в сердце: о, я это уже читал, я знаю все это рассказы… — дело не в рассказе о событиях, а в Личности. Нас снова и снова поражает Тот, Кто перед нами: Человек и Бог. И если мы внимательны, если мы глубоко вглядимся в эту Личность, Которая открывается в слове и в действиях, мы можем многому научиться относительно молитвы.
Возможно, некоторые из вас читали рассказ Натаниела Готорна
[128]. Я не помню его название, но речь идет приблизительно вот о чем. Высоко в Андах на берегу глубокого озера стоит деревушка, на другом берегу с незапамятных времен в скале высечен образ местного бога: лик необычайной красоты, в котором есть величие и покой, любовь и сила. И в деревне сохраняется предание, что наступит день, когда их бог явится и будет жить в их среде. Столетия шли, ничего не происходило. Жители деревни поклонялись этому каменному богу, но он оставался камнем, далеким и безжизненным изображением. В какой-то день в деревне родился ребенок, который с младенчества был пленен красотой этого лика, высеченного в скале. Он подползал к берегу и все глядел и глядел на лик. Потом он встал на ноги и стал ходить туда, подростком он все еще часами вглядывался в это изображение. По мере того как он вглядывался в этот лик и впитывал красоту его, величие, благородство, покой, который он излучал, его собственное лицо постепенно менялось. И в какой-то день, когда юноша шел по единственной улице деревни, ее жители увидели все то, что выражало изображение их бога и что они так почитали, на лице этого молодого человека и поняли, что случилось чудо: их бог — среди них.
Вот путь, каким мы можем воспринять — через заповеди, в которых открывается нам сердце и ум Христовы, через Его поступки и просто через созерцание того, что доходит до нас из Евангелия, — красоту и величие Бога во Христе и уподобиться Ему, оживить в себе Его образ, так чтобы наши искаженные черты пришли в гармонию внутренней силой красоты, которая достигнет до нас. Тогда молитва станет для нас созерцанием, общением, радостной причастностью, радостью такого единства, когда, по слову Христа, Он будет жить в нас, мы будем живы в Нем, и наша жизнь будет сокрыта со Христом в Боге (Кол 3:3).
Но это не случается все время, конечно. Мы не можем беспрерывно быть настолько чуткими, наша способность воспринимать чувствами ограничена, есть предел тому, что мы можем вместить умом, есть предел просто нашей способности вместить больше, чем то, что переполняет нас в данный момент. И мы должны быть готовыми к тому, что временами мы будем чувствовать, что нам нечего сказать, мы только можем быть с Богом, но не способны ни на какое чувство, ни на какую мысль, может быть, только жестом мы могли бы выразить то, что чувствуем, больше никак. А моментами внезапно — хотя это, конечно, заблуждение — покажется, что Бога нет с нами.
Первое я могу проиллюстрировать двумя образами. В жизни одного французского католического святого по имени Жан-Батист Вианне, приходского священника в небольшой деревне Арс недалеко от Лиона, есть рассказ. В его приходе был старик, который приходил в церковь, садился и просто сидел там часами, ничего не делая. И как-то священник спросил его: «Что ты делаешь в церкви? Губы твои как будто не шевелятся в молитве, пальцы не бегают по четкам — что ты делаешь тут часами?». И тот ответил: «Я гляжу на Него, Он глядит на меня — и нам так хорошо вместе»
[129]. Вот это — совершенная молитва. Для нее не требуется речей или жестов, нужно лишь присутствие, совершенное присутствие: я предстою Живому Богу.
А что касается жестов, то порой просто одно движение, один вздох может выразить больше, чем все наши многословные и порой искусственные молитвы. Я помню мальчика, маленького племянника, который одно время жил у нас. Он очень устал за день, без конца изводя всех нас. На это ушли все его силы, и когда пришел вечер и настало время помолиться, он почувствовал, что у него осталось сил только на то, чтобы свалиться и заснуть. Но последним его делом было — послать воздушный поцелуй иконе в углу комнаты. И в этот жест он вложил все свое сердце, этот жест означал: «Господи, я так устал! Я маленький, мне хочется спать, но я Тебя люблю. Спокойной ночи!». Способны ли мы поступить с такой же простотой? Я говорю именно о простоте — не о лени. Это не уловка, чтобы сказать: «Ладно, с Бога хватит и этого». Нет, для Бога этого, может быть, и хватит, но для нас — нет.
Есть еще рассказ об одном арабе, мусульманине. Он много часов ехал, чтобы поспеть к молитве в мечеть, но опоздал: все уже разошлись, кроме муллы. Путник увидел пустую мечеть, остановился и вздохнул, и он вложил в этот вздох всю печаль своего сердца о том, что пропустил время общей молитвы. И мулла сказал ему: «Хотел бы я раз в жизни вздохнуть так, как сейчас вздохнул ты!». Но опять-таки не достаточно просто вздохнуть — надо, чтобы этот вздох выразил все содержание нашего сердца. Так что вот еще один вопрос: каковы мы по сравнению с этими примерами?
Но есть и другая сторона: то, что мы называем «отсутствием Бога». Разумеется, Бог никогда не отсутствует, иногда
мы не способны чувствовать Его присутствие, но Бог всегда здесь. Есть два случая, которые меня до глубины трогают. Один относится к святому Антонию Египетскому. После долгого периода искушений, соблазна и борьбы, когда натиск зла отступил от него, он лежал без сил на голой земле, и ему явился Христос. И не в силах даже встать, поклониться Ему, Антоний сказал: «Где же Ты был, Господи, когда я был в таком борении?». И Христос ответил: «Я невидимо стоял рядом с тобой, готовый вступить, если бы ты ослабел»
[130]. Это мы должны помнить: Господь рядом, но мы посланы в мир творить Его дело. Поэтому временами
нам надлежит бороться,
мы бываем ранены,
мы изнемогаем. И слишком легко мы готовы бываем сказать: «Тебе, Господи, — крест, мне — спасение и слава». Мы так не говорим, мы слишком «благочестивы», но мы так себя ведем: мы ожидаем, чтобы Господь нас спас, а нам достались плоды спасения. Нет! Мы
посланы в этот мир.
Другая картина тоже взята из житий святых, но я не помню, откуда именно. Христос обещал кому-то из святых, что будет рядом с ним всю его жизнь. И действительно, этот человек, оглядываясь, постоянно видел сзади на песке следы двух пар ног. В какой-то день он оказался в затруднении, на него напали искушения, смятение охватило его, ему пришлось отчаянно бороться. И когда испытание окончилось, он оглянулся и с горечью заметил на песке следы только двух ног. Он обратился ко Христу и сказал: «Где же Ты был, Господи, во время моего искушения?». И Христос ответил: «Я нес тебя на руках, вот почему на песке следы только двух ног». И это мы забываем: забываем, как часто мы носимы, и забываем, что мы — Христовы посланники, Христовы вестники и свидетели, и нам надлежит бороться изо всех сил.
Но бывают моменты, когда мы испытываем чувство, что Бога нет. Какое право мы имеем ожидать Его постоянного присутствия? Если мы поставим себе этот вопрос, не почувствуем ли мы, что должны ответить так: мы могли бы радоваться Его постоянному, непрестанному присутствию, явному и ободряющему, если бы были совершенно открыты Ему, но мы не таковы. Наш ум, наше сердце заполнены всевозможными вещами, которые не имеют ничего общего с Царством Божиим, с построением этого Царства, с тем, чтобы быть частью этого Царства, быть гражданами Града Божия. Так что мы не можем претендовать, будто имеем такое право, — такое право нам не дано. Но кроме того, очень важно нам временами, а порой на долгий срок сознавать, что Бог свободен прийти к нам и свободен дать нам искать Его, что Его отсутствие (я имею в виду субъективное чувство Его отсутствия) не означает, что Его нет с нами, но Он дает нам почуять, какова была бы жизнь без Него. И Его отсутствие — это как бы голод. Голод, который заставляет нас добиваться с большей решимостью и временами с более отчаянным усилием искать Его. Мы слишком легко довольствуемся и удовлетворены тем, что имеем, мы привыкаем иметь: у нас есть дружбы, есть родные, есть столько всего, и только когда что-то у нас отнято, мы начинаем это ценить.
Так что если когда-то вы почувствуете или если уже чувствуете, что Бога нет с вами, задайтесь вопросом, насколько вы нуждаетесь в Нем. Бог — роскошь в вашей жизни или самое существо вашей жизни? Помню, много лет назад ко мне пришел человек, он был богат, у него была власть в его ограниченной сфере деятельности, и он сказал мне: «Отец Антоний, хочу Бога!». Я его спросил: «Для чего?». И он ответил: «Потому что Он увенчает все, чем я уже обладаю». Я тогда сказал ему: «Вы хотите иметь Бога, как другие — центральное отопление в доме, для большего комфорта». Он сказал: «Да, а что тут не так?». «Не так» было все, потому что драгоценную жемчужину не прибавляют ко всему прочему богатству — все прочее продают, чтобы приобрести ее (Мф 13:45—46). И отсутствие Бога — очень важный аспект нашего опыта, потому что оно позволяет нам измерить, значит ли Бог в нашей жизни очень много, или немного, или вовсе ничего не значит, просто ли мы привыкли к Нему или суеверно держимся за Него, Он для нас — гость, или друг, или наивысшая ценность в нашей жизни.
Теперь я кончу эту вводную беседу, и думаю, я поставил вам достаточно вопросов, способных растревожить вас и испортить вам прекрасное утро.
Ответы на вопросы
Как можем мы идти в Галилею? Не у каждого есть опыт такой светлой ранней встречи. Чаще люди приходят к Богу из тьмы, от скорби, из ада, мне кажется…
Я думаю, мы встречаем Христа очень по-разному. Я упомянул Галилею, потому что очень часто мы пережили, опытно встретили Христа в детстве или в юные годы, когда еще не было трагичности в нашей жизни, когда мы воспринимали богатство и красоту веры в семье, или богослужения, или красоту окружающего мира и как бы чуяли Бога. Разумеется, помимо этого мы встречаем Христа в Иерусалиме, мы встречаем Его на всех путях жизни, как встречали многие.
Но я хотел бы добавить еще одно: мы встречаем Его и в аду. Знаете, одна из самых значительных вещей относительно Христа — это слова Апостольского Символа веры
[131]: «Он сошел во ад». Очень многие люди встречают Бога в глубинах своего отчаяния или в сердцевине зла, когда они в его тисках. Это я знаю на опыте, и это бесконечно ценно для меня. Ведь у нас такой Бог: Он не стоит как бы внешним наблюдателем, не смотрит просто, что с нами случается, Он не протягивает нам как бы два пальца, чтобы вытащить нас из болота. Нет, наш Бог готов сойти в самые глубины уродства нашей жизни, нашей личности, нашего сердца, нашей судьбы — и это замечательно. Так что я не имел в виду ограничить возможности встречи Галилеей. Но временами полезно вернуться вспять к нашим первым открытиям с новым опытом. Невозможно вновь пережить прошлый опыт, но можно посмотреть на него с новым богатством, которое нам дала жизнь, и сказать: да,
это было истинно, и значит, я могу начать все снова с этого места или включить это в мою сознательную жизнь, а не просто как бы оставить это в основе моей жизни, как корень дерева, который не видно.
Часто общественная молитва кажется слишком «организованной», в ней нет спонтанности. Мы к ней или просто привыкаем, или теряем смысл ее содержания, или нам мешают ее формы…
Знаете, если оглянуться на раннюю Церковь, замечательно в общественном богослужении не то, что оно было организовано — этого как раз не было. Замечательно, что в мире, который активно ненавидел Христа, активно ненавидел его учеников, люди, которые были как бы обречены, собирались и знали, что любой человек в этой комнате, или в этой катакомбе, или в этом потайном месте — им брат, сестра во Христе, они выбрали Христа против всего, несмотря на опасность тюремного заключения, преследования, пыток, смерти. Они знали, что могли посмотреть на того, на ту, кто стоит рядом, и сказать: «Мы едины». И вероятно, это чувство общности (в лучшем смысле слова) еще усиливалось тем, что в целом у этих людей не было ничего общего, кроме Христа.
Видите ли, мы — местные приходы, мы все принадлежим более или менее одному обществу, одной культуре, у нас одно происхождение, одно воспитание, одни привычки, в этом отношении мы друг друга не коробим; если мы чем-то задеваем друг друга, то лишь потому, что мы неприглядны сами по себе. Но в те ранние времена рабы стояли рядом с господами, рядом же стояли жители, как сказали бы теперь, «колоний», люди разных рас, люди ничего не значащие рядом с богатыми, известными людьми (возьмите Закхея мытаря, это же был местный управляющий банком, а он влез на дерево), и единственное, что их объединяло, — Христос. И это связывало их в одну общину теснее, чем нас связывают всякие общественные узы. Напротив, чем больше у нас общего в человеческом плане, тем меньше мы сознаем, что по-настоящему нас связывает только вера во Христа. И та ранняя община сознавала себя единым телом, так что общинная молитва — это молитва одного тела. В результате то, что она собиралась вместе, было первым шагом к богослужению.
Знаете, меня так часто поражает, что люди приходят в храм и как будто остаются праздными. В православном храме нет скамеек, так что там это еще более заметно, но я бы сказал, что в неправославном храме, где вы зажаты рядом скамеек, даже это не мешает вам парить мыслями или смотреть по сторонам в ожидании, как будто богослужение начнется в тот момент, когда священнослужитель что-то совершит, как будто первый жест или первое слово служащего или даже его торжественный вход — вот тот момент, когда Бог вступает в общину: а, начинается, Бог появился!.. Нет, появился не Бог, а священнослужитель. А первое чудо в том, что собрались вместе люди, которые едины во Христе, которые по отношению к внешнему миру являются Его воплощенным присутствием. То, что совершится дальше, будет более или менее, в зависимости от обстоятельств, полно вдохновения.
Но мы же понимаем или должны бы понимать — а это не всегда легко дается современной христианской общине, — что мы собраны вместе как собственный Христов народ и что мы будем молиться вместе как одно тело. Один из признаков христианской молитвы: это должна быть такая молитва, которую мог бы принести Христос, если был бы среди нас, сидел на скамье рядом с нами или стоял там же, где стою я. И эти люди стремятся так выразить вместе, выражают все вместе молитву Христа в мире, который стал трагичным, то есть находится в процессе спасения или гибели. И потому что там, где двое или трое собраны во имя Христово, Сам Христос посреди них. Христос сказал, что где двое или трое соберутся в Его имя (Мф 18:20), их молитва может быть услышана, потому что она свидетельствует, что Бог победил разъединение, отделенность, отчуждение, и это уже частица Царствия.
Дерзну сказать, что очень часто общая, общественная молитва бывает очень скучной. Это зависит от способности отозваться на то богослужение, которое предлагается, это зависит от личных вкусов, личного умонастроения, от того, каким путем вы пришли в церковь. Если вы пришли через Евангелие, а не через церковь, то очень вероятно, что вы отнесетесь более критично к тому или другому роду богослужения, которое стало неестественным или избитым, вас не будет удовлетворять простое повторение того, что было живым два столетия или двадцать столетий назад. Но тогда дело в том, чтобы оживить это богослужение для себя, сказать себе: я постараюсь вникнуть в то, что все это означает; А первое значение общественного богослужения — то, что мы составляем единое целое как христиане.
И еще, чтобы влиться в богослужение, существенна цельность сердца и радость. Мне кажется, общественное богослужение потому так часто бесплодно, что в него не вложено все сердце и в нем очень мало радости и очень много чувства долга: «Сегодня воскресный день. Что же, пойду в церковь, помолюсь, потерплю даже проповедь отца Антония». Но ведь нам заповедана радость! Когда Христос говорит: Радуйтесь и веселитесь! (Мф 5:12) — это завершение заповедей блаженства, где говорится о гонениях, испытаниях и трудностях жизни. И по существу Христос нам говорит: что бы ни было с вами в жизни, об одном вы можете радоваться — радуйтесь и перерастайте себя, будьте выше себя самих, не сводите жизнь к масштабу собственного восприятия: вы — дети Божии.
С чем надо приходить в храм? Или мы приходим в храм только «за» чем-то?
Я думаю, вы правы, очень часто мы идем в церковь или на молитвенное собрание в надежде напитаться, мы приходим получать и не сознаем, что наше присутствие в первую очередь — уже дар другим, разве что мы очень уж досаждаем тем, кто рядом с нами (скажем, если я начну подпевать хору со своего места, это будет мало способствовать молитве).
Но мы должны также приносить две вещи: молитвенный дух, который должны развивать в течение всей недели, мы должны быть молитвенными людьми и приносить на эту встречу собственную молитву. Мы не можем прийти пустыми и надеяться, что кто-то другой обеспечит нас молитвой. Да, слова будут произноситься, но отклик может быть только наш личный. И мы должны быть, словно хорошо возделанная, вспаханная почва, которая может принять семя в свою глубину и принести плод (Мф 13:3—8). Если мы просто пусты или ожестели, как бетон, то мы такими и будем во время богослужения.
И еще мы должны принести открытость. Очень часто мы неспособны воспринять то, что предлагается, потому что ожидаем другого. Это случается в любых взаимоотношениях. Мы ожидаем от человека чего-то — но сегодня у него для нас припасено нечто другое, и мы непринимаем то, что он нам дает, потому что ждем момента, когда он даст нам то, чего мы ожидали. Так и в церковь можно прийти в ожидании того или другого — и не получить ожидаемого: Бог решил дать нам что-то другое. Так что должна быть гибкость, открытость, прозрачность, которая позволит нам просто принять то, что мы встретим. Это может быть благодатное слово, или может оказаться суровый упрек, что угодно, но всегда что-то будет, если мы вслушиваемся всем умом и всем сердцем, а не стараемся отчаянно услышать то, что не говорится, если мы готовы просто слушать. Мы, может быть, услышим вовсе не то, чего ожидали, потому что мы ожидали от священника молитвы, которая вознесет нас, или проповеди, которая нам «нужна», и вместо этого получим улыбку ребенка в храме или что-то совершенно неожиданное, никак не связанное с ходом богослужения, но исходящее от людей в церкви.
Вы подняли бередящие душу вопросы, в частности о том, зачем нам нужен Бог. Думается, мотивы могут быть самые разные и неоднородные…
Это тоже очень важно. Никогда не следует ожидать, что мы сумеем отозваться идеально. Желание совершенства — одна из самых разрушительных вещей, какую можно вообразить, мне думается, его придумал дьявол. Потому что стремление к совершенству не заставляет нас вкладывать все силы в то, что мы способны осуществить: обычно оно ведет к тому, что мы не делаем того, что могли бы, ради того, чтобы сделать когда-то позднее то, чего еще не можем сделать сегодня.
Был случай с американским миссионером, доктором Моуди, который в семидесятых годах XIX столетия приехал «обращать» Великобританию. Добродетельная дама спросила его, почему он ничего не делает в совершенстве. И он ответил: «Сударыня, я предпочитаю свое несовершенное делание вашему совершенному неделанию». И я думаю, что очень важно сказать себе: да, мои мотивы смешаны, я делаю вещи несовершенным образом, но если я сегодня буду делать то, что могу, несовершенным образом, но изо всех сил, завтра я смогу делать чуть лучше то, что у меня получится сегодня.
Знаете, это все равно что учиться читать, писать, считать или учить иностранный язык. Если каждый день не делать того, что уже умеешь, то никогда не наступит тот момент, когда ты сможешь делать то, чего пока не умеешь. Или, если предпочитаете более библейское выражение, если вы не верны в малом, вам не будет доверено большее (Лк 16:10—11), потому что вы неспособны на это большее — не потому что Бог не доверяет вам, а потому что Он прекрасно знает, что это большее не будет выполнено. Так что важно сказать себе: Бог любит меня таким, какой я есть, Его любовь не уменьшается, потому что я несовершенен. Он не любит меня как бы зачаточно, ввиду того, чем я стану когда-то позднее, Он просто любит меня, так же как разумные родители любят своих детей, даже если они несовершенны, и не говорят ребенку: «Если ты не станешь лучше, я не буду тебя любить». Это неверно, ребенка надо любить, какой он есть. Есть русская поговорка: «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». Бог нас любит, даже если мы в грязи с ног до головы, и Он приложит все усилия, чтобы мы отмылись. Так что пусть у вас мотивы смешанные — то же самое у меня, то же самое у всех нас. Но когда вы обнаружили в куче смешанных побуждений одну чистую искорку, ухватитесь за нее, пусть она разгорится поярче, пусть этот огонек устоит напору прочих мотивов — это уже что-то, и постепенно это разовьется.
Деятельность человека и действие Божие, молитва и деятельность: можете ли сказать что-то о соотношении того и другого?
Я думаю, что мы делаем две ошибки. Во-первых, воображаем, будто деятельность исключает Божие присутствие; разумеется, не полностью, но нам кажется, что когда мы погружены во что-то, мы как бы не с Богом. У меня много оснований думать, что это не так. Бог с нами в нашем делании — если то, что мы делаем, не греховно или дурно: если оно греховно или дурно, Бог борется за то, чтобы мы опомнились. С другой стороны, если мы совершенно законно озабочены чем-то, мы можем быть уверены, что Бог озабочен тем же самым. Знаете, если мы неспособны молиться с полной собранностью, помня только Одного Бога, потому что кто-то, кого мы любим, умирает, или болеет, или в смятении, мы можем сказать: Господи, вот что меня очень заботит! — и Господь ответит: Меня тоже, давай вместе скорбеть об этом или вместе нести эту заботу!.. Так что на самом деле всегда возможно, чтобы Бог был с нами в любой ситуации.
Конечно, бывают моменты, когда мы должны думать только о том, что делаем, потому что дело не может быть сделано рассеянным умом. Я имею в виду, например, то время, когда во время войны я занимался хирургией. Когда ты должен оперировать раненого солдата, невозможно оперировать руками и одновременно пребывать в состоянии созерцания, потому что в какой-то момент ты очнешься и увидишь перед собой труп. Но мы можем сделать то, что сделал перед битвой, где он командовал, один английский военачальник. Перед началом сражения он сказал: «Господи, сегодня я буду слишком занят, чтобы вспомнить о Тебе, но Ты меня не забудь!» — и с этим пустился в битву. И Бог как бы вступил туда вместе с ним.
Во-вторых, мы слишком часто воображаем, будто молитва состоит в том, чтобы сосредоточиться умом на Боге. Это так, это верно тогда, когда мы имеем возможность не думать ни о чем другом. Но что еще важнее: вы все знаете, как, получив утром письмо с замечательной новостью или убийственным известием, вы весь день живете под впечатлением того, что сообщило письмо. Весь день полон сияния, потому что новость такая замечательная, или весь день омрачен полученным печальным известием. И вам совершенно не нужно напоминать себе о письме, которое принесло вам мрачную или светлую весть: ваше сердце и так или сжалось, или открыто и поет, мы все это знаем на опыте. Или очень верный образ дает один русский духовный писатель XIX века: он говорит, что ощущение Бога должно жить в нас, словно зубная боль
[132]. Вам нет надобности напоминать себе, что у вас болит зуб: он
болит! И если бы сердце наше так болело, если был бы в нас этот голод, желание быть с Богом: «О, как было бы замечательно, если бы у меня была минутка!» — тогда, что бы вы ни делали, вы всегда будете ощущать как бы фоном это Божие присутствие. Хотя ум ваш будет занят чем-то другим, но в сердце будет жить это сознание.
Что касается периодов покоя: поразительно, что мы не находим спокойной минутки просто немного побыть с Богом; но мы находим время принять ванну, мы успеваем вымыть посуду, одеться, находим время поболтать с кем-то, прочитать газету, мы находим время на множество дел, в течение которых или вместо которых мы могли бы дать Богу возможность побыть с нами несколько минут. Знаете, Ему бы это доставило такое удовольствие! Это выглядит странно: зная себя, я не вижу, почему бы Богу хотеть быть со мной! Но дайте Ему такую возможность. У Него странное предпочтение: Он любит грешников! Так почему бы не попробовать? Скажем, пока мужчина бреется, он может размышлять и молиться, то же самое, когда вы принимаете ванну. Особенно замечательное время — когда вы моете посуду, потому что мытье тарелок так похоже на омывание грехов, что можно прямо-таки притчу сочинить на этом! Я часто говорю, что для священника мыть посуду — гораздо более удовлетворительное занятие, чем принимать исповедь, потому что сразу виден результат!
Если захотеть, всегда можно найти время и место. Знаете, мой отец был человек решительный, у него на двери висела записка: «Не трудитесь стучать. Я дома, но не открою». Ну, это очень радикальное решение вопроса. Но тем самым он получал возможность, когда у него было десять минут свободного времени, употребить их так, как он сам хотел, а не зависеть от кого бы то ни было, кто соберется вторгнуться к нему. И я совершенно уверен, что при тех условиях, в которых мы живем, всегда можно найти момент уйти к себе, закрыть дверь и сказать себе: позвонит ли телефон, постучит ли кто в дверь, придет ли кто-то — меня нет, я с Богом, на Небе, в Раю — назовите как хотите. (Конечно, это гораздо труднее, если приходится жить по три, по пять человек в одной комнате.)
И если путем тренировки научиться жить в настоящем моменте, не до и не после, то настоящий момент становится чрезвычайно насыщенным, как бы сгущенным, в него можно вместить чрезвычайно много. Скажем, во время немецкой оккупации меня как-то арестовали в парижском метро — и в тот же миг и прошлое и будущее исчезли. Прошлое исчезло, потому что мое реальное прошлое мне пришлось бы отрицать, о будущем у меня не было никакого представления, потому что я не знал, что со мной сделают. И осталось только теперешнее мгновение. И это теперешнее мгновение внезапно стало таким насыщенным, сгущенным, таким напряженным, в него вместился весь предыдущий опыт жизни, все напряжение жизни за многие годы. И в результате — вот он я!
Так что если научиться постоянно жить настоящим временем, не повторять вчерашний день, не жить воображением на час вперед, мы могли бы со всей интенсивностью жить теперь. Ясно, теперь вы можете знать, что через четверть часа будет перерыв на обед и вы избавитесь от моей беседы, но это знание вас не накормит, так что оно пустое. Поэтому подремлите, или слушайте и реагируйте, примите или отвергните, но делайте это теперь, потому что четверть часа непременно пройдет, и нет никакой нужды стараться жить где-то еще, кроме настоящего момента. Следующий момент непременно встретится нам, и вовсе не требуется устремляться к нему, все равно он не настанет быстрее. Если вы это поймете, то обнаружите, что в течение дня у вас масса времени для того, чтобы побыть с самим собой и с Богом. А затем впустите Бога и в следующий свой шаг. Какой бы он ни был, вы можете сказать: «Господи, теперь я буду действовать — благослови меня. Благослови меня, благослови того человека, с которым я встречусь, благослови всю ситуацию, сделай ее Твоей!». Просто надо этому научиться.
II
Я начал первую беседу с утверждения, что для того, чтобы молиться, нужно иметь Бога, к Которому обращать свою молитву. Может быть, об этом следует сказать больше. Сколько-то лет назад, собираясь в поездку по Соединенным Штатам Америки с беседами о молитве в контексте книги
School for Prayer[133], я прочел начало небольшой брошюры Теодора и Синтии Уэдел, и был очень поражен. Вот что они писали: хотя слова наших молитв стараются быть благочестивыми и как таковые обращены в первую очередь к Богу, но если думать о молитве не в порядке слов, а в порядке наших внутренних устремлений, того, чего жаждет наше сердце, чего действительно ищет наш ум, того, что манит нашу волю к себе (тогда как Бог зовет в другую сторону), того, чего наше тело как бы требует от нас, то вполне вероятно, что несмотря на то, что слова наши внешне по-христиански благочестивы, всем своим существом мы устремлены в противоположную сторону. И они выражают это очень резко, они говорят: «Молитва никогда не обращена в пустоту. Молишься или Богу — или сатане». Насколько мы обращаем свою молитву врагу, зависит от пропорциональности, от равновесия между нашей решимостью — я сознательно употребляю слово «решимость» — быть Божиими и нашим влечением к тому, что вовсе не Божие. Над этим нам следует задумываться и размышлять. Потому что как бы мы ни молились, крик всего нашего существа будет, вероятно, слышнее, чем слова, которые мы произносим. Бог услышит и то, и другое, но кто-то еще тоже услышит.
И Уэделы говорят: «Можно бы сказать так: чем молиться Богу, надо бы молиться „тому, кого это касается“». А это, при нашей внутренней разделенности, вполне может означать: «Я обращаю мою молитву к тому, кто удовлетворит мое внутреннее стремление, мои желания». Это очень страшно. И это значит, что мы не можем сводить нашу молитву к благочестивым выражениям, не можем сводить молитву к тому, что, как нам кажется, правильно перед Богом, перед нами самими, перед нашим ближним, перед миром, в котором мы живем. Мы должны поставить себе вопрос: насколько я един со словами, которые произношу, и насколько мне хочется, чтобы моя молитва не была услышана?
На грани между тем и другим стоит молитва блаженного Августина, с которой он обращался к Богу, когда понял, что его прежняя жизнь была дурная. Он сам приводит эту молитву в своей «Исповеди». Он говорил: «Господи, даруй мне целомудрие — но еще не сейчас!
[134]». Он был честный, гораздо честнее, чем большинство из нас. Он совершенно честно говорил Богу: «Я знаю,
что правильно, я это выбираю. Но моя плоть, мое сердце, мои привычки, мои устремления не способны примкнуть к этому моему намерению». И очень важно нам снова и снова ставить себе вопрос: насколько моя молитва или те или другие слова, которые я употребляю, когда обращаюсь к Богу, выражают все мое существо? Или: каким это образом я с таким усилием молюсь о том, что правильно, в то время как по существу устремлен совершенно к противоположному?
Разные люди в различные моменты оценят эту ситуацию по-разному, но все мы внутренне разделены. Апостол Павел, человек, намного более великий, чем любой из нас, говорит, что в себе видит два закона, что в нем борются закон духа и закон плоти (Рим 7:14—25). И в каждом из нас эти два закона борются. Значит ли это, что когда мы молимся о добром и вместе с тем устремлены к дурному, мы лицемерим, мы неправдивы? Нет, потому что в нашей духовной жизни многое, если не все, зависит от того выбора, который мы делаем, а не от того, чего мы на самом деле добились. В тот момент, когда мы сделали выбор в пользу Бога, наша молитва может стать криком к Богу о свободе, освобождении, исцелении, но чтобы она стала таковой, мы должны сначала понять, что нуждаемся в исцелении, что нуждаемся в освобождении — и тогда кричать, кричать о нем из глубины, даже если мы на самом дне, каково бы ни было наше смятение, как бы нас ни влек соблазн. Вполне может оказаться, что нас держит искушение, но мы ненавидим его и взываем о спасении. Но не следует обманывать себя и думать, что потому что мы произнесли те слова, какие надо было, мы уже достигли туда, куда эти слова должны были повести нас.
Это важно, чрезвычайно важно нам быть правдивыми. А быть правдивым значит видеть себя таким, какой я есть — ну, в той мере, в какой мы способны себя так видеть. Духовный наставник начала ХХ века, отец Иоанн Кронштадтский, говорил, что Бог дает нас видеть себя такими, какими Он нас видит, только в той мере, в какой прозревает в нас достаточно веры и достаточно надежды, чтобы нас не сломило ви{'}дение нашей внутренней тьмы. Так что не надо стараться увидеть больше, чем Бог нам открывает, но мы должны всегда быть готовы прямо взглянуть на то, что Бог открывает, и именно это, эту тьму или эти сумерки, принести Богу, чтобы Он мог исцелить нас и спасти.
Мы должны быть правдивы. В «Хасидских рассказах» Мартина Бубера рассказывается о раввине, который был полон радости. Как-то его спросил один из жителей его деревни, каким это образом он может жить в радости, когда знает, что в какой-то день предстанет перед Богом, будет судим и, может быть, осужден. Как ему представляется суд? И он ответил: «Господь скажет мне: рабби, посвятил ли ты все время на то, чтобы всем сердцем и всем умом изучать Мое святое слово? И я скажу: нет, Господи… И Он спросит: рабби, исполнял ли ты изо всех сил то малое, что ты уже понял? И я скажу: нет, Господи… Рабби, скажет тогда Господь, обращался ли ты ко Мне в покаянии, прося о прощении и о помощи? И я скажу: нет, Господи… И тогда Господь улыбнется и скажет: войди в покой Мой, ты правдив!
[135]».
Мне кажется, это прекрасный рассказ и в нем очень много правды. Бог может спасти того грешника, которым я являюсь, Он не может спасти того святого, которым я не стал. Если мы сознаем, что мы такое, мы связаны с Христом тем взаимоотношением, ради которого Сын Божий стал Сыном человеческим: мы — предмет спасения. В тот момент, когда мы закрываем глаза на тот факт, что нуждаемся в спасении, и пытаемся вообразить, будто мы уже граждане Неба, Богу нас не достать. Он протягивает нам руку — мы не принимаем ее.
Так что очень важно быть в основе своей правдивым. Не менее важно быть правдивым в каждый конкретный момент. Мы становимся на молитву утром, вечером. Мы можем поставить себе первым делом вопрос: тороплюсь ли я закончить молитву и заняться чем-то другим, или жизнь теснит меня своими требованиями и отрывает от радости молитвы, заставляет что-то делать, вместо того чтобы я мог побыть с Богом и радоваться Его присутствию? Когда начинается день, становлюсь ли я перед Богом со словами: «Я восстал от ночного сна, словно Лазарь вышел из гроба. Я ничего не сознавал, не понимал, меня будто не было, я был, как мертвый, и Ты воззвал меня снова к сознанию и жизни. Пусть мой путь будет прямым, пусть я не запятнаю белизну дня, пусть мой путь в этом дне будет правый». И с этим можно войти в новый день. Но жаждем ли мы присутствия Божия? Чувствуем ли мы, что так замечательно было бы побыть с Богом подольше, вместо того чтобы спешно устремляться в новый день?
И еще вопрос: почему нам не хватает времени для Бога? Почему мы не готовы встать пораньше, чем прямо к завтраку? Помню, как один японец говорил мне: «Я понимаю в христианстве про Отца и Сына, но совершенно не могу понять про Досточтимую Птицу». Так вот, мы должны быть готовы следить за Досточтимой Птицей, быть готовы к встрече с Духом Божиим. Но приказывать тут невозможно. Нельзя сказать: «Господи, я умылся, позавтракал, оделся, достал зонтик, мне пора выходить, пожалуйста, приди и быстренько благослови меня». Но именно так мы часто поступаем. Мы так не говорим, потому что мы благочестивы, но фактически разве не это мы делаем? Если мы хотим встретиться с кем-то, кого действительно любим, нам не спится! Но мы прекрасно спим перед встречей с Богом. Да, конечно, мы Его любим, но вовсе не так мы взволнованы при мысли, что кто-то любимый возвращается из дальнего путешествия, или из соседнего города, или просто приезжает погостить. И тут можно поставить себе вопрос: что мы подразумеваем, когда говорим: «Я люблю Бога и поэтому становлюсь на молитву»? Что это за любовь, велика ли она? Насколько мне хочется молиться? Когда у нас есть близкий друг, сколько времени мы готовы проводить в беседе с ним, как мы любим сидеть с ним молча у камина! Есть ли хоть что-то похожее на это в наших отношениях с Богом?
А потом приходит вечер, и тут свои проблемы: мы устали, мы весь день что-то делали, теперь наступило время помолиться. В каком расположении мы молимся? Бывает по-разному. Если мы целый день были заняты чем-то, что не имеет никакого отношения к Богу, были погружены в чисто секулярную деятельность, можно закрыть дверь и для начала помолчать вместе с Богом и сказать Ему: «Как замечательно! Наконец-то мы вместе!» (помните: «Я гляжу на Него, Он глядит на меня, и нам так хорошо вместе»). Или я могу излить Ему мое сердце, поделиться с Ним всем, что случилось за день, всеми заботами, всеми огорчениями и радостями дня. И после этого можно сказать: «Да, все это мы делали сообща, а теперь просто побудем вместе, и я подумаю о Тебе».
Есть прекрасное короткое стихотворение немецкого поэта Рильке, которое называется «Бог — мой ближний»
[136]. Он говорит в нем: «Господи! Настала ночь. Я слышу Тебя. Тебе, может быть, одиноко: знай, что я помню о Тебе». Стихотворение ничем не выдающееся, но оно передает живое чувство, что Бог и я связаны друг с другом. Это не богословское утверждение, это лирическое переживание его отношения к Богу. Можно говорить об одиночестве Бога в том смысле, что Бог предлагает нам всю Свою любовь, но как мало тех, кто открывается и готов принять ее! Пригубить ее — да, урвать что-то от нее, использовать — да, но не разделить ее, как делишь с человеком, которого любишь.
Кроме стремления быть с Богом, есть и другие причины, почему мы начинаем молиться: тревога или недоумение о чем-то. Мы не нашли им разрешения у друзей или в самих себе — как к последнему средству мы обращаемся к Богу. Мы готовы поделиться с Ним своей проблемой и попросить Его вмешаться.
Если успею, я еще скажу нечто о предстательской молитве. Пока я лишь хочу сказать, что мы обращаемся к Богу в надежде, что Он что-тосделает. Но спросим себя: что Он должен сделать? Наша молитва к Богу не звучит ли часто как: «Да будет моя воля, Господи, не Твоя!». Опять-таки мы слишком вежливые или слишком благочестивые и не высказываемся так прямо, но как много наших молитв сводятся к тому, чтобы указать Богу, что Ему следовало бы сделать, если бы Он был столь же мудрым, как мы!
Бывает и еще одно положение, своего рода суеверное опасение, что если не помолиться, то что-то будет неладно. Знаете, обвалится потолок, или пол провалится, или мышь залезет ко мне в постель — в зависимости от того, чего вы на самом деле боитесь. Я это знаю на опыте. Помню, много лет тому назад мой духовный отец спросил меня: «Ты любишь молиться?». Я ответил: «Да». — «И молишься много?» — «Да». — «А что бывает, — спросил он, — если после очень тяжелого дня ты настолько устал, что просто не в состоянии помолиться?». Я сказал: «Мне бывает не по себе». — «М-м, — сказал он, — потолок может обрушиться на тебя, если ты его не поддержишь своей молитвой?». Я нехотя признал: «В общем, да». И он продолжал: «Знаешь, что это значит? Это значит, что ты надеешься не на Божию любовь или заботу, не на Его промысл, а на свои молитвы. Ты думаешь, что столько-то помолишься Ему, и Он воздаст тебе равной заботой». Мне стало неуютно и ответить было нечего. Но то, что он добавил, было еще хуже. Он сказал: «Ты должен научиться доверять Богу (прекрасная мысль!). И ради этого, — сказал он дальше, — я тебе совершенно запрещаю молиться. Перед тем как лечь спать, скажи Богу пять раз с земным поклоном: Господи, молитвами любящих меня — спаси меня! И ложись спать, и больше ни одной молитвы. Но поставь себе вопрос: а кто же те, которые меня любят? Чьей заботой, под чьим покровом и защитой я более безопасен, чем своими просьбами? И когда всплывет лицо, вспомнится имя, поблагодари за то Бога, поблагодари их за любовь и радуйся тому, что ты под защитой их любви».
Первый раз, когда я лег в постель после такого упражнения, мне было очень не по себе. Я лежал, глядел в потолок и стал думать: так кто же? На самом деле все было совершенно просто: моя мама, моя бабушка, мой отец, еще тот, и другой, и третий — в том числе и мой духовный отец. В первый вечер мне хватило этого узкого круга людей, потому что я уснул. Но постепенно, по мере того как я день за днем вспоминал тех, под чьим покровом я в безопасности, мне пришло на мысль, что Бог любит людей! Вы, вероятно, не так неразумны, как я, но это действительно так. В первые дни я больше думал о людях, но потом осознал: Господь Иисус Христос любит меня, Отец наш Небесный любит меня, Матерь Божия любит меня, мой ангел-хранитель любит меня, святой, чье имя я ношу, любит меня. Да, непонятно, как это им удается, но они действительно любят — вероятно, это составная часть безумия креста. Но тогда я стал чувствовать, что я действительно в безопасности и стал сколько-то понимать идею общения святых: я в безопасности, потому что люби{'}м. Если по заслугам, я погиб навеки, потому что никуда не гожусь. Но по любви, которую Бог и люди даром проявляют ко мне, я, как это ни трудно представить, могу надеяться на спасение.
А следующим шагом была мысль: но в таком случае вся моя молитва, вся моя жизнь может протекать под знаком благодарности! Я могу быть благодарным за то, что спасен любовью Божией и любовью людей, хотя я никаким образом ее не заслуживаю. И то, что это дается мне незаслуженно, было — и есть — так замечательно!
И таким образом молитва, которая началась с суеверного страха, благодаря тому что мне не дали молиться, а велели сосредоточиться на любви Божией и любви людей, перешла от суеверного страха к радостной молитве, для которой не требуется многих слов, требуется только уверенность, что есть любовь, на которую я могу отозваться, ничего более.
Но бывают и такие моменты, когда у нас на уме не молитва, а другие желания, — не потому что мы устали, а потому что помним: как кончу молиться, я смогу заняться чем-то более увлекательным! Был бы я честен, я бы сказал: Господи, я прочитаю молитвы как можно быстрее, Ты и так знаешь все мои провинности, так что мне нет нужды рассказывать Тебе о них подробно, можно просто сказать, что я сожалею о всех своих прегрешениях. Как Ты знаешь, я Тебе благодарен. Ты знаешь, кто из людей нуждается в моих молитвах, благослови оптом всех, кого я ношу в сердце, и благослови меня поскорее лечь в постель, потому что на ночном столике у меня лежит такой увлекательный детективный роман!
И не говорите, что с вами никогда такого не случалось. Может быть, не так грубо, как я описываю, потому что я грубый человек. Это могло произойти исподволь, вы, возможно, прочитали все положенные молитвы, но все-таки косились в сторону книжки. Вы, возможно, произнесли все, что должны были, но сердцем рвались к Агате Кристи. И мне кажется, мы должны осознавать это, и самое лучшее, что мы можем сделать прежде чем помолиться, это поставить себя перед Богом и спросить себя: в каком расположении я стою? почему я тут стою? потому ли, что меня этому научили? или потому что мной владеет суеверный страх? потому что я должен пройти тесными вратами молитвы, прежде чем выйти на простор детективного романа? или потому что я действительно хочу быть с Богом, потому что быть с Ним — так сладостно? Вот путь к тому, чтобы быть правдивым. Потому что если вы окажетесь в первом положении, то чрезвычайно легко повернуться к Богу и сказать: мне стыдно самого себя, я не верю Твоей любви, я хочу подпереть потолок собственной молитвой… Хотя мне и не хочется провести с Тобой слишком долгое время, потому что у меня есть более привлекательное занятие… и так далее.
И начиная с этого, можно развить молитву, которая будет действительно молитвой покаяния, раскаяния, может быть, даже сокрушения, и, конечно, она будет полна чувства стыда. И сказав все это, можно с благодарностью повернуться к Богу и радоваться о том, что несмотря на все это, Он все равно нас любит, потому что Он — Тот, Кто неизменно, всегда верен.
Я хочу сказать всего несколько слов еще об одном. Нам говорится, что молитва бывает разного рода: просительная, благодарственная, хвалебная и предстательская за кого-то. И обычно в порядке достоинства просительную молитву относят в самый конец. Как будто те, кто писал об этом, считали, что прошение — низшая форма молитвы, потому что это все равно что протянуть руку с просьбой: «Дай, пожалуйста!». Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что просить чего-то у Бога с внутренней уверенностью, что будешь услышан, даже если просимое не будет даровано, исполнено — требует гораздо больше сил, чем просто прославлять Бога или благодарить Его. Мы благодарим Бога постфактум — это не так трудно! Если мы неспособны даже поблагодарить кого-то за то, что он сделал, мы очень плохо воспитаны, в этом нет ничего мистического или возвышенного. Воспевать Бога за то, Кто Он есть, в те моменты, когда мы осознали Его святость, Его величие, Его красоту, проблемы не составляет.
Но просить с уверенностью, что будешь услышан, гораздо труднее. И недостаточно сказать в конце прошения: «Мы просим это во имя Христово», потому что такая добавка в конце молитвы — не волшебный трюк, и имя Христово — не амулет. Эти слова просто означают: «Я прошу это во имя Христово, то есть моя молитва должна быть такая, какую мог бы принести Христос вместо меня». Или, если предпочитаете, я говорю: «Христос молится во мне, Святой Дух молится во мне и произносит эти молитвенные слова». А если так, то наши молитвы должны пройти строгий отбор. Потому что если обратиться даже к Ветхому Завету, то мы найдем там молитвы, которым нет места в христианском подходе.
Расскажу постыдный эпизод собственной жизни. Я присутствовал как-то на лекции духовного лица определенной деноминации, он говорил с группой православной молодежи. И я не помню в своей жизни более обманной, лицемерной, ложной лекции. Он по сути говорил: «Вы и так принадлежите к моей деноминации, хотя не осознаете этого, так приходите, присоединяйтесь!», — вот и все его доводы. И я был так возмущен, что там же высказал ему, что думаю. Потом я возвращался домой на метро, помню, бежал вниз по ступенькам, и у меня всплыли слова псалма:
Да будет путь его мрак и ангел Господень оскорбляяй его! Да будет путь его ползок и ангел Господень погоняяй его! (Пс 34:5—6)
[137]. И затем я спохватился. Да, это псалом, но я чувствовал, что это звучит не специально по-христиански, и все-таки ничего не мог с собой поделать. Я заставил себя замолчать и сказал Богу: «Знаю, это нехорошо — но на самом деле именно это я чувствую». Но если вы можете сказать: «Это неправильно, но таковы мои чувства», то вы, по крайней мере, сказали Богу что-то правдивое, и с этим Бог сможет как-то справиться!
Так что недостаточно к эгоистичной, эгоцентричной, возможно даже антихристианской молитве добавить слова, которые ее как бы освятят именем Христа. Вы наверно помните места из Евангелия, где нам говорится, что все, что мы ни попросим во имя Христово, мы получим (Ин 14:13—14). Недостаточно сказать: «Я молюсь в Его имя»: мы приносим эту молитву как бы из недр Христа. А эта молитва может исходить из Христа, если Христос в нас и мы в Нем, и наша жизнь сокрыта со Христом в Боге (Кол 3:3). Это не амулет, и это тоже нам следует продумывать, когда молимся, вернее, в другие моменты: ясно, что когда мы молимся, невозможно все время ставить себе вопросы: правда ли это? правдив ли я? правильно ли это? правильно ли я молюсь?.. Но перед тем или после можно посидеть и продумать: был ли я правдив?
Думаю, на этом я закончу свою беседу, я говорил уже сорок минут. И если я смогу ответить на вопросы по нашей теме или о том, что я упустил, я готов ответить.
Но прежде я хотел бы еще сказать, как я вам благодарен за то, с какой любовью и терпением вы слушали. Вам даже не надо напоминать текст из английского сборника гимнов, который я слышал лет двадцать назад в одном университетском собрании. Перед моей проповедью священник объявил гимн такой-то, я посмотрел, и было очень лестно: он начинался словами «Слушайте, исцеляющий голос звучит». После проповеди он снова объявил гимн такой-то — и запнулся. Я посмотрел: первые слова были «Проснитесь, спящие!».
Ответы на вопросы
Молишься, в общем, постоянно, но часто кажется именно, что тебе надо проснуться. Молитва не вызывает подъема души. То, что вы говорили о Галилее — не значит ли, что надо искать юношеского горения, почти экстаза?
Кажется, Исаак Сирин в VI веке сказал, что экстаз, приподнятое состояние — признак новоначального, что по мере духовного созревания мы становимся ровными, спокойными, углубленными, не колеблемся — знаете, как лодка, глубоко погруженная в воду. В начале, когда мы узнаем что-то новое, нас это глубоко волнует. Но мы должны научиться быть ровными. По образу, который дает Исаак Сирин (хотя он не говорит так прямо), невозможно представить Христа в состоянии экстаза, потерявшим связь с землей, потому что Он ушел в Небо, или оторвавшимся от Неба, чтобы быть на земле. Христос совершенно уравновешен, совершенно устойчив.
Так что когда я говорил о том, как можно испытывать возбуждение по поводу кого-то, это был образ, подходящий для данного момента. К чему мы должны стремиться — это посредством молитвы войти в общение с Богом и в полной уверенности, что Он рядом, отдаться, уйти в забытье, в сон, зная, что Он с нами и пока мы спим, как Он с нами в нашем бодрствовании, что когда мы проснемся, первое, что предстанет нам, если мы сохраним чуткость, это Он и Его реальность, что этот промежуток заполнен, как об этом говорится в Песни Песней: я сплю, а сердце мое бдит(Песн 5:2).
Чувство Бога, общение с Богом не зависит от уровня умственного восприятия, мы укоренены в Нем и можем отдаться сну в безопасности и уверенности. Этому, я думаю, надо учиться, потому что отдаваться — не такое уж естественное действие для нас, жизнь учит нас не такому образу взаимоотношений. Нужно совершенно, до конца, до глубины верить другому человеку, чтобы быть в состоянии отдаться и не почувствовать, что теряешь себя.
Как быть с молитвенной жизнью, если нам дано молитвенное правило, как вписать молитву в ежедневную жизнь?
На этот вопрос трудно дать общий ответ, потому что ответ зависит от продолжительности вашего правила, зависит также от того, какую работу вы выполняете. Но я думаю, что если уметь пользоваться временем, у нас окажется его гораздо больше, чем нам представляется. В писаниях одного русского духовного наставника говорится, что полчаса глубокого общения с Богом может заменить несколько часов сна. Если бы мы научились молиться глубоко, мы могли бы сэкономить время за счет сна. Но в этом вопросе есть и другая сторона, которую я не могу разрешить для того, кто задал вопрос, потому что не мне давать ему какое-то правило или указания.
Молитвенное правило — школа, через которую мы стараемся перерасти собственный опыт, собственное знание Бога, собственный отклик и в целом самого себя через приобщение познанию Бога, опыту и личности людей больших, чем мы сами. Так что когда мы читаем молитвы святых или мудрых людей, или героев духа, мы делаем две вещи. В какой-то мере, в той мере, в какой мы уже участвуем в том, что эти молитвы выражают, мы уже приносим собственные молитвы — их словами. В той мере, в какой мы еще не разделяем их опыт или знание, мы воспринимаем эти молитвы верой и приносим их Богу актом веры. Но на человеческом уровне важно, что то, что мы воспринимаем из этих молитв, позволяет нам изо дня в день приобщаться этому опыту и знанию и постепенно, медленно открываться к большему пониманию и перерастать его.
Когда у нас есть молитвенное правило, включающее молитвы святых, полезно какое-то время (я не имею в виду каждый день, но на протяжении жизни) размышлять как можно глубже над тем, о чем эти молитвы говорят нам. Под размышлением я не имею в виду туманные мечты. Я просто имею в виду: взять отрывок и спросить себя (то же самое мы делаем с отрывками Священного Писания), что именно в нем говорится. Не что мыможем в него вчитать, а что там на самом деле есть. Затем поставить себе вопрос: что я знаю об этом? И собрать все, что мне об этом известно, так, чтобы оно выкристаллизовалось в этих словах, в этих выражениях. И затем еще поставить себе вопрос: что в этом есть такое, что знал этот святой или этот писатель, а мне еще предстоит открыть? И когда мы начнем использовать эти молитвы, тогда то, что уже выкристаллизовалось, внезапно оживет, остальное же будет стоять перед нами, как поле для новых открытий, и мы это принимаем благоговейно. И если мы доверяем слову Христову, что для Бога нет мертвых, но все живы для Него (Мф 22:32), тогда мы можем обратиться к святому или автору данной молитвы и сказать ему: «Ты выразил в этих словах свой опыт. Я неспособен войти в него, разделить его до конца — принеси Богу эти слова за меня!».
Это приведет нас к моменту, когда нам уже не нужно плестись от слова к слову, но мы можем отозваться немедленно на каждую фразу, отозваться всей душой. Вот к чему мы можем постепенно приближаться — не спешить пробраться через слова богослужения, а настолько отождествиться с ними, впитать их содержание в себя так глубоко, чтобы с первого взгляда воспринимать их и ожить перед Богом, как живая песнь.
И дальше мы должны научиться молчанию, просто молиться так глубоко, с такой силой, что этого не передать словом, и мы можем только безмолвно общаться. В каком-то смысле, если мы оказываемся перед первыми словами молитвенного правила, если мы читаем первые слова и погружаемся в молчание на все время, которое мы посвятили бы чтению правила, мы можем сказать, что исполнили правило, потому что цель его — поставить нас перед Богом, и это достигнуто. Отойти от Бога ради того, чтобы вычитать текст, было бы не особенно разумно. Но это я говорю с моей точки зрения, и конечно, я не мог бы сказать, например, монаху, который обязан вычитывать правило, или кому-то, за кого я не несу ответственности, поступать так-то или так-то.
Разве не правильнее, становясь на молитву, выражать в ней собственные мысли, а не то, что мы вычитали из Священного Писания или молитвослова? То, что читаешь, не всегда вызывает отклик в тебе. Зачем заимствовать чужие мысли и выражения?
Совершенно очевидно (и не в обиду вам будь сказано) вы можете признать, что Божии мысли лучше и правильнее ваших! Но Божии заповеди и Божии мысли не просто приказы, которые Бог дает нам, как капрал приказывает рядовому. Он делится с нами Своими мыслями, так чтобы мы постепенно вырастали и все больше и больше понимали Его. И Писание говорит нам устами одного из пророков, что пророк — это тот, с кем Бог делится своими мыслями (Ам 3:7). И Божии мысли, которые выражены в Священном Писании, — это мысли, которыми Бог делится с людьми, способными принять эти мысли и донести их до нас. Так что это Божии мысли и по форме, и по содержанию; и как таковые мы можем принять их за опору, чтобы, по слову апостола Павла, приобретать ум Христов (1 Кор 2:16).
Меня часто смущает, что я неспособен поделиться с другими верой, которая так много значит для меня самого…
Думаю, вы можете несколько утешиться мыслью, что и Христос не мог изменить каждого, кого встречал на Своем пути! Потому что мало сказать слово — надо, чтобы оно было воспринято. Господь дает Дух без меры (Ин 3:34), но мы принимаем Его в меру своей способности вместить Его. Так что наше дело — быть свидетелями, вестниками в мире, соответствовать тому, чему учит Бог, образом жизни, из которого очевидно делается, что мы — ученики Его, и, в идеале, сиянием, которое может коснуться других. Мы должны быть такими людьми, глядя на которых другие говорили бы: «В чем дело: вот человек, в котором есть что-то, чего у меня нет?!» К. С. Льюис в одной из своих радиопередач во время войны сказал, что разница между верующим и неверующим, между безбожником и христианином в том, что безбожник похож на статую, а верующий — статуя, которая ожила. И люди должны быть в состоянии выразить суть христианства, глядя на нас, словами: «Статуи оживают! Статуя стала живым человеком!»
[138]. Разумеется, статуя может быть гораздо прекраснее конкретного живого человека, но она — камень, в ней нет жизни. Мы должны быть людьми, которые несут вызов — не потому что мы что-то проповедуем, а потому что мы
являем эту проповедь в себе.
Но восприятие происходит свободно. Тот, кто услышит нашу проповедь или увидит в нас некую весть, должен принять нас свободно. Никому она не может быть навязана, потому что истина, которую Господь даровал нам, — это совершенная свобода, а не новая форма порабощения. Есть замечательное место у одного из писателей V века, где говорится: если Бог станет перед тобой и даст тебе заповедь, на которую ты не можешь всем сердцем ответить «Аминь!», не исполняй ее, потому что Богу не нужны твои поступки, Ему нужно твое сердце. Ему нужна гармония между тобой и Им, а не рабское послушание. Это не значит — непослушание, ясно, что это не значит, будто можно сказать Богу: «Я лучше поступлю по-своему, а не по-Твоему». Это значит, что цель — взаимоотношение приобщения, общей жизни. Если вы не доросли до этого, так и скажите. Скажите Господу: «Надо бы, но — не хватает решимости. Надо бы — но недостает веры! Надо бы — но…» И Господь подождет, и Он поможет вам расти с того момента, когда вы осознали, где та точка, начиная с которой вы можете расти.
Подвижничество [139]
Ученичество
Слово «аскетизм» происходит от греческого глагола, который означает «упражняться». Он может означать упражнение бегуна. Апостол Павел в одном месте своего послания дает этот образ: христианин должен стремиться к совершенству так же, как бегун устремляется к своей цели (1 Кор 9:24). Обычно слово «аскетизм» наводит на мысль о крайне жесткой жизни и дисциплине. И часто, слишком часто это слово связывается для нас с образами из жизни ранних святых, пустынножителей, образами невероятных, невообразимых достижений выдержки и силы воли людей, которые жили в пустыне в крайних лишениях, проводили все ночи в бдениях, целые дни в молитвах и т. д. В результате для большинства христиан понятие аскетизма связано с этими образами, как будто великие подвижники прошлого совершали эти физические подвиги ради того, чтобы показать, как мало они нуждаются в земном для того, чтобы жить.
Как мне кажется, причина здесь та, что невозможно каким-то образом доказать, передать это чувство укорененности в Боге, показать, что они жили словом Божиим, а не от земли черпали свое бытие. Показать, что их жизнь, насколько это возможно в тварном мире, приближалась к жизни первых насельников рая, Адама и Евы, живших благодаря совершенной приобщенности Богу и невинности — пусть зачаточной, пусть еще в становлении, — которая должна была развиться, перерасти в зрелость и святость.
Поэтому жизнеписатели выбирали определенную точку зрения и, вместо того чтобы попытаться показать, насколько глубоко было общение подвижников с Богом, показывали, как мало те зависели от земли. Если вместо описаний подвигов святых почитать их собственные писания, мы видим, что их подвижничество не было просто стремлением выйти за пределы законов природы, какими мы их знаем в мире, отпадшем от Бога. Этот мир должен существовать не только творческим словом Божиим, которое держит наш мир, но и собственным усилием — усилием, которое никогда не приведет весь мир или отдельную человеческую личность к полноте жизни, тем более к бессмертию, но может подвести человека к доступному ему познанию Бога, общению с Ним.
Так что аскетизм не заключается в первую очередь в необычайных, невообразимых достижениях мужества, выдержки и воли. Он состоит в тренировке, строгой тренировке, постоянном усилии стремиться к Богу. Вспомните снова слово апостола Павла о том, что нам не следует проходить свое поприще лениво (Еф 5:15—16). Мы должны следовать своим путем, как тот, кто стремится к победе. Вспомните и то место, где апостол говорит, что подвиг — не пустые жесты, не гимнастическое упражнение, у подвига есть цель, он устремлен к победе (1 Кор 9:25—27).
В этом смысле аскетизм — опыт, который принадлежит всем, он не ограничен христианством или религиозной областью вообще. Любое дело в жизни предполагает обучение, усилие, постоянство и подвижническую установку, такую установку, которая ограничивает нашу свободу действий или мыслей или чувств, чтобы мы вырастали в меру своего призвания. Хирург должен подчиниться строгой дисциплине, чтобы быть в состоянии оперировать собранно и успешно. Художник должен не только пройти обучение, но и быть в состоянии выразить в камне или на холсте, или в прозе или стихах, или в музыке то, что больше его самого. Невеликий интерес представляет художник, которому нечего выразить, кроме: «Полюбуйтесь, вот мой автопортрет в цвете, в линиях или в звуках». Так что мы должны понимать, что аскетизм в этом смысле — понятие универсальное, и что когда мы говорим о христианском аскетизме, мы говорим о расположении мысли, расположении сердца, целенаправленности, чувстве ответственности за свое призвание, которые ве{'}домы всем людям. Это не обязательно подразумевает определенный путь к достижению цели, но всегда предполагает какой-то путь.
Святой Серафим в одной из своих бесед с Мотовиловым сказал, что каждый человек должен распорядится своими дарованиями так, как они приносят ему наибольшую пользу, «прибыток». Одному способствует приближению к Богу милостыня, другому — пост, еще кому-то — молитва, он приводит различные примеры. Каждый из нас должен посмотреть, что ему лучше всего делать, чтобы стать ближе к Богу, и кроме того, бороться с тем, что стоит между ним и Богом
[140].
Так что аскетизм невозможно определить в общем и целом, его можно представить во всем многообразии, многогранности. И каждый, кто называет себя учеником Христа, святой или грешник, должен выбрать свой частный путь или определенные духовные, душевные или телесные упражнения, которые дадут ему вырасти в опытность, а она, в свою очередь, позволит идти дальше к Богу. Потому что недостаточно знать цель, недостаточно даже знать путь. Надо не только знать, куда идешь и как туда можно попасть. Надо стремиться, желать достичь цели. Без этого, если не приложить к деланию все сердце — и, повторюсь, это относится не только к приобщенности Богу, но ко всему в жизни, — мы никогда не достигнем цели. Просто силой воли, решимостью исполнить что-то, без сердечного желания мы не сможем дойти до цели.
И тут мы подошли к чему-то очень важному. В начале я говорил о строгой жизни и дисциплине. Когда мы в наше время говорим о дисциплине, мы сразу думаем в плане механически исполняемых правил, которым учат (может быть, уже не учат, но мое поколение учили) в школе, или в молодежных организациях, или в армии, или на некоторых жизненных путях, где требуется иметь дисциплинированный ум, дисциплинированное тело и в целом дисциплинированное поведение. Но это не все, что подразумевает дисциплина. Дисциплина — это состояние ученика, discipulus, не состояние рядового, вытянувшегося в струнку перед капралом. Состояние рядового солдата — это состояние подчиненности. Здесь же предлагается высшая свобода, но свобода, укорененная в верности и ответственности.
Но для этого надо сначала иметь учителя. Я не говорю о духовном наставнике, выбранном среди людей. Господь сказал, что Он — единственный наш Господь, единственный Учитель, единственный Наставник (Ин 13:13). И если мы хотим научиться дисциплине, как ее понимает христианская Церковь, мы должны в первую очередь поставить себе очень серьезно, трезво и ответственно основной вопрос: выбрал ли я Христа своим Господином, своим Учителем, своим Наставником? Не только потому что Евангелие или Церковь последующих столетий предлагает мне мировоззрение, которое представляется наиболее убедительным. Христианство — это отношения, взаимосвязь с Живым Богом на Его условиях и жизнь, соответствующая такой связи. Это не мировоззрение, это образ жизни. И начинается это с бедственного состояния потерянной овцы, через наш собственный акт веры и отдачи Богу, через наше обращение к Нему как к нашему Спасителю и Наставнику, и ведет к тому, что через Крещение, через Покаяние, через возрождение благодатью Божией мы становимся детьми Царства Божия.
Так что в первую очередь нам следует рассмотреть, что такое ученичество. Вы помните слова Христа: Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет (Мф 6:21). Является ли Бог, Христос, вся область Божия нашим сокровищем или нет? Является ли для меня область Божия целью пути? Готов ли я рассматривать эту область как драгоценную жемчужину, ради которой я продам все, чтобы купить ее и владеть ею (Мф 13:45—46)? Ясно, что Евангелие (как и я сейчас) не говорит о реальной жемчужине или вообще о материальном имуществе, хотя в процессе обретения свободы, освобождения от порабощенности вещам, привязанностям, предрассудкам и т. д. нам, может быть, придется расстаться с тем, чем мы обладаем. Это может быть материальное имущество, это может быть положение в жизни, это также может быть наша гордость, наша леность и многое, многое другое.
Так что в отношении аскетизма первое, что надо постараться понять: где мое сокровище? Конечно, каждый из нас может сказать теоретически: да, я христианин, Христос мне Бог, Христос мой Наставник, Христос мой Спаситель. Он мой Господь, мой Учитель, я Его ученик… Но если мы честны, хотя бы в той небольшой мере, какая доступна каждому из нас, мы сознаем, что глубоко разделены внутренне. В моменты, когда перед нами не стоит никакая проблема, мы всем сердцем готовы служить Богу, мы всем сердцем готовы встретить любые испытания, чтобы достичь высшей цели жизни, но как только придет испытание, искушение, так часто мы откладываем служение Богу.
Отец Александр Ельчанинов сказал — не помню, в своих «Записях»
[141] или как-то в разговоре, — что между добрым намерением и его осуществлением нельзя дать себе ни минуты промедления, куда могла бы закрасться мысль: «Погодя!», или «Кто-нибудь другой сделает», или «Зачем?», или «А надо ли?». Между верным побуждением и действием не должно быть промежутка, следует действовать немедленно. И это очень важно помнить, когда мы думаем о подвижнической жизни, как я пытался представить ее — как стремление быть верным, ответственным учеником.
Русское слово «подвижник» означает того, кто в движении, кто не застыл. Не то что он в беспрерывном волнении и беспокойстве, но он не бывает неподвижен, все время устремлен, не спит, бодрствует, по слову Христа в 24-й и 25-й главах Евангелия от Матфея, как бдит страж, которому поручено предупредить войско о приближении врага.
Это очень важно, и я настаиваю на этом, потому что нет смысла говорить об аскетизме, сознательно устремленном к Богу, если мы не знаем, к какому Богу идти, или не стремимся к Нему, если Он — просто приятное дополнение к нашей обычной жизни или порой помеха, кто-то, кому мы хотели бы закрыть глаза, как воины завязали глаза Христу, когда поругались Ему, ударяли и спрашивали: «Скажи, кто ударил Тебя?» (Лк 22:64). Я ставлю вопрос во всей остроте, потому что он так и стоит. Вопрос в том, живы ли мы в Боге или мертвы для Бога — не физической смертью, не безнадежно, но как бы мертвы бесчувствием, неотзывчивы и поразительно неблагодарны. Потому что если бы у кого из нас был друг, который был убит, чтобы спасти нам жизнь, мы бы никогда этого не забыли и старались жить так, чтобы быть достойными этой жертвы. А тут мы видим, что Бог стал человеком, который в молодом — тридцати трех лет — возрасте согласился умереть нашей смертью, чтобы уверить нас, доказать нам, как велика Божия любовь, чтобы мы могли поверить в эту Божественную любовь.
Так что в центре всего — ученичество. И перед нами путь — Евангелие. Но как мы относимся к Евангелию? Мы выбираем, что-то отвергаем, сознательно перетолковываем, даем такое толкование, которое нам легче принять, забывая, что Христос сказал: Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мф 11:29—30).
Все сказанное может вам показаться не относящимся к делу: не то ожидали вы услышать на тему аскетизма, но это существенный его элемент, без которого бесполезны любые наши подвиги, потому что можно голодать, можно не спать, можно совершать все, что совершали святые, и подпасть под осуждение изречения (не помню, чье оно), которое гласит: дьявол никогда не спит, никогда не ест — и никогда не кается… Нам надо быть внимательными, потому что это очень серьезно. Ученичество — состояние духа, которое говорит о том, что мы выбрали Учителя и что всем сердцем, всем своим существом хотим приобщиться Его мысли, разделить Его подход к вещам, жить таким образом, чтобы обрадовать Его, понимать Его так глубоко, так полно, как только можем, перерастать самих себя в Его меру. И это ученичество идет очень далеко, потому что Учитель не говорит нам: исполняй то-то и будешь праведным. Такой подход мы находим в Ветхом Завете.
Разница между ветхозаветными заповедями и заповедями Нового Завета в том, что исполнение ветхозаветных заповедей позволяло человеку сказать: теперь я праведен перед Богом. Но Христос дает нам Свои заповеди и затем прибавляет: когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать (Лк 17:10). Но вместе с тем мы не призваны быть рабами. Христос говорит нам: Я уже не называю вас рабами, Я называю вас друзьями, потому что раб не знает, что думает его господин, а вам Я все сказал (Ин 15:15). Так что Он ждет от нас не механической покорности, не поступков как дел подчиненности, что мы находим в заповедях Моисея. Он ждет, чтобы через исполнение Его заповедей, которые раскрывают нам Его мысль, Его отношение к жизни, указывают нам путь спасения, мы уподобились Ему, усвоили себе все это отношение через вслушивание настолько внимательное, настолько полное, настолько пламенное, чтобы мы стали способны действовать не в ответ как бы на внешний зов, а потому что нас зовет к тому внутреннее побуждение, вдохновение — и в самом простом смысле этого слова, но и в самом возвышенном смысле, словно дыхание в нас Святого Духа, как не раз говорит об этом апостол Павел.
Это предполагает прежде всего тренировку сердца. Речь не идет о эмоциях, о том, чтобы выработать сентиментальные порывы к «младенцу Иисусу», к «сладчайшему Иисусу» или «страждущему на кресте Иисусу» и проч. Вопрос в том, чтобы научиться любить, любить так, чтобы мы могли сказать: Он — подлинное сокровище моей жизни, даже в моменты, когда я теряю Его из виду, потому что я хрупкий, потому что я легко обманываюсь, потому что я многого не знаю, потому что в моем узком сердце и уме и существе не вмещается все, что должно бы там быть, — но Он действительно мое сокровище. И после каждого падения я обращаюсь к Нему без отчаяния, потому что знаю, что Он не надсмотрщик, а Спаситель. Вот каково взаимоотношение.
И это еще новый шаг. Где мое сердце и как я могу воспитать мое сердце в верность, в лояльность
[142], в чистоту? — все те чувства и отношения, которые позволят мне принадлежать Самому Богу, даже если моментами я буду отпадать по причине хрупкости, позволят принадлежать в первую очередь Ему, а не быть рабом мира, который иногда прибегает к Богу в моменты тревоги, страдания, страха или горя. И только если в нашем сердце есть голод по Богу, если наше сердце обращается к Богу хоть с какой-то степенью постоянства, мы сможем сделать что-то и с нашим умом. Все мы это знаем из опыта обыденной жизни. Мы знаем, что когда наше сердце равнодушно к чему-то, то практически невозможно или невероятно трудно справиться с мыслями. Но если сердце отдано чему-то, то ум подчиняется и следует за сердцем. Нетрудно думать о человеке, которого мы любим, и так трудно вспомнить в молитве или на деле кого-то, кто нам в общем-то безразличен. Это просто обязанность, и ум рассеивается. Так что за тренировкой сердца должна последовать целая тренировка ума.
Но есть тренировка и нашего тела, потому что между нашей душой и нашим физическим существом нет четкого разделения, так же как Божество не было отделено от человечества во Христе. Мы — духовно-телесное целое, и есть вещи, которые могут быть достигнуты душой только при поддержке сердца и тела: сердце должно дать горение, вдохновение, страстную устремленность, тело должно быть способно на длительное усилие.
Помню, несколько лет назад я вел беседу о молитве в одном из лондонских университетских колледжей — вернее, предполагалось, что я проведу такую беседу. Я вошел в комнату, там было человек двадцать студентов. Они сидели с бутербродами в руках, развалившись в креслах, задрав ноги, везде стояли бутылки с пивом. Я ничего не имею против бутербродов, да и пива тоже, поскольку, скажем так, каждое животное должно питаться. Но группа студентов, которая в таком виде и состоянии собиралась слушать беседу о том, как можно встретиться с Богом и общаться с Ним, — это мне неприемлемо. Возможно, они были очень рады, но я свел беседу к пятнадцати минутам, а затем сказал им: «Теперь задавайте вопросы, если они у вас есть». И молодой человек, удобно вытянув ноги в мою сторону, сказал: «Что вы мне посоветуете, если я скажу, что хочу научиться молиться?». Я ответил: «Во-первых, я скажу опустить ноги и сесть прямо». Он послушался. Тогда я продолжал: «В таком расслабленном состоянии вы неспособны на длительное умственное усилие. Вот вам мой совет: научитесь утром вставать по будильнику. Когда он прозвонит, у вас две минуты на то, чтобы встать — и сразу в холодную ванну или под холодный душ. Потом десять минут гимнастики, и в течение дня постарайтесь научиться держаться прямо, как человек, а не плестись, будто вы верблюд в караване». Мои слова были восприняты гораздо менее благодушно, чем даже я ожидал. Но как можно рассчитывать, что ты будешь способен внутренним усилием стоять перед Живым Богом, Которого ты не видишь ясно перед собой, говорить с Ним или быть в глубоком безмолвном общении с Ним, если сердцем ты к этому не стремишься и даже тело твое неспособно быть в собранном состоянии?
Я хотел бы в заключение упомянуть один образ, который дает Феофан Затворник в своих письмах о духовной жизни. Говоря о роли нашего тела и его тренировки, он пишет, что отношение между телом и душой, духом должно быть подобно связи смычка со скрипкой, верно настроенной. Если струны души не натянуты, даже божественная рука не вызовет певучего звука. Если струны слишком напряжены, они лопнут от малейшего прикосновения
[143]. И это, можно сказать, суть аскетического подвига: так настроиться, чтобы само молчание Божие вызвало отклик всего нашего существа или той части в нас, к которой обращается Бог, чтобы мы отозвались в совершенном созвучии с тем, что услышали.
Мистический опыт
Слова «мистерия», «мистика» происходят от греческого muein, которое значит «быть безмолвным». Все отношение, не только умственное, человека к своему Учителю — это обучение тому, как общаться с Господом глубже слов, за пределом слов, в том, что можно бы назвать созерцательным молчанием или просто глубоким покоем, успокоенностью всех сил тела и души. Бывают блаженные минуты, когда это просто, когда этот покой, мир, безмятежие сходит на нас, дается нам. Но гораздо чаще этого состояния мира, покоя надо искать и добиваться, не только принимать как дар, но искать как приобретения. И этот приобретенный дар не может быть отнят, потому что ум, сердце, тело, воля, все существо человека было оформлено, сформировано и настроено созвучно с молчанием Божиим.
Есть фраза у одного картезианского монаха о том, что если мы называем Христа Словом Божиим, то можем представить себе, что Бог — то неисследимое молчание, из глубин которого только и может прозвучать слово, созвучное с этим молчанием. Так что слово и молчание, слушание и делание неразлучны. И это требует от нас, как я указывал в первой беседе, беспощадно строгого отношения ко всему, что мы делаем, — не только когда читаем Священное Писание, не только когда молимся, но ко всему в жизни.
Но когда речь идет о таком строгом подвижничестве, не следует воображать, что оно означает беспрерывное напряжение или беспрерывное наблюдение за самим собой. Это как раз бы значило слишком натянуть струну. Речь идет о внимании в полном покое, в состоянии без напряжения, но полной бдительности. Если нужно дать пример такого состояния, сочетающего покой с вниманием, я бы привел пример человека, который наблюдает птиц. Такой человек хочет уловить первые движения, первые признаки жизни в лесу или в поле, которые его интересуют. Он должен встать ранним утром, раньше птиц, потому что в противном случае птицы уже пробудились и улетели. (Один мой друг как-то сказал мне: «Дух Святой подобен робкой птице. Он слетает к тебе. Не шевелись, дай Ему сесть спокойно, с доверием к тебе, иначе Он улетит».) И когда ты занял место, ты должен научиться двум вещам: быть в совершенном покое и вместе с тем в готовности живо отозваться на все, что бы ни представилось твоему взору, но без всякого предвзятого ожидания чего бы то ни было, потому что если ты ждешь чего-то определенного, то пропустишь то, что происходит на самом деле, пока ты всматриваешься, вслушиваешься в ожидании того, что может вовсе не случиться сегодня. Так что требуется воспитать себя в постоянном внимании, живой готовности отозваться на побуждения Духа, на все, что Господь Бог посылает в нашу жизнь, и вместе с этой бдительной готовностью быть в полном покое, так чтобы быть готовым воспринять отпечаток любого события, как воск воспринимает наложенную на него печать.
Святой Серафим Саровский говорит о том, как следует подходить к чтению Священного Писания. Он говорит, что Священное Писание надо читать на коленях, не обязательно физически став на колени, но с чувством благоговения, как если бы мы пали на колени перед Живым Богом, Который сейчас обратится к нам со Своим словом. Святой Иоанн Златоуст говорит, что книги Евангелий можно касаться, не иначе как вымыв руки. Опять-таки он не обязательно имеет в виду только физический акт омовения рук, потому что его можно совершить с полной внутренней беспечностью. Этой книги следует касаться как святыни.
Мариамна Фортунато, иконописец из числа прихожан нашего лондонского собора, говорила нам, что икона — как бы Имя Божие, выраженное в линиях и красках. Евангелие — Имя Божие, выраженное в словах, словесная икона Божия. И книга Евангелий имеет двоякое значение. С одной стороны (и это очевидно), это слово Самого Бога. Бог обращается к нам. Но, с другой стороны, слово Божие — не только семантика, это Личность. И книга Евангелий — образ, Присутствие. Это не только слова Божии, но Сам Христос посреди нас, мы в присутствии Христа, слушаем Его слова, поклоняемся Ему, когда Он молчит, или стоим в благоговении, когда слова, которые Он произносит, обращены не к нам, зная, что кто-то другой слышит эти слова, превосходящие наше понимание.
Подумайте о толпе, которая окружала Господа в дни Его земного служения. Все слова, которые записаны в Евангелии, Христос произнес в ответ на конкретный вопрос или замечание конкретного, реального человека. Там нет общих утверждений о богословских предметах или духовных вопросах. Все, что говорил Христос, было обращено к кому-то: или к определенному человеку, или к ученикам, или к толпе, или к отдельному грешнику, или к кому-то, кто стоял на пороге вечной жизни или перед опасностью потерять ее. Но всегда сказанное имело личный характер. И часто мы должны бы понимать, что из толпы раздался вопрос, и Христос дает ответ на этот вопрос. Совершенно очевидно, что ответ до конца понимает один человек, потому что это ответ на его (или ее) вопрос. Затем есть ряд людей, у кого вопрос, который выкристаллизовался в уме и в сердце спросившего, уже созревал, хотя еще не выразился конкретно в словесной форме; эти люди, вероятно, слушали и думали в себе: да, то, что Он говорит, полно смысла. Я еще не до конца понимаю, я должен созреть в своем вопросе и тогда изнутри вопроса получу ответ. А другие — вероятно, многие — пожимали плечами: не понимаем, о чем Он говорит, как мы можем плоть Его есть (Ин 6:52)? Или: что Он имеет в виду:куда Я иду, вы не можете ныне идти (Ин 8:21)?
Все мы находимся временами в одном из этих положений. Бывают моменты, когда мы читаем евангельские слова — и они обращены прямо к нам. Бывают моменты, когда мы как бы проблеском улавливаем значение слов. Тогда мы можем сложить их в свое сердце и мысль, но в первую очередь в сердце, в сердцевину самого нашего существа, не туда, где живут наши эмоции, — до момента, когда мы созреем достаточно, чтобы понять и отозваться. И бывают печальные моменты, когда мы только и можем пожать плечами или с сожалением покачать головой и сказать: я неспособен даже и близко подойти к пониманию того, что говорит мой Господь и Бог. Как же я далек еще от Его мысли и сердца, и воли и ви{'}дения!
Любой из этих подходов важен, когда мы читаем Писание, — подход благоговейный, когда мы физически касаемся Священного Писания, берем в руки, открываем книгу, читаем или слушаем. Но мы должны также помнить древнее присловье, что Священное Писание понимается не только умом. Если мы исполняем то, чему учит нас Писание, то мы начинаем понимать значение слов Божиих, прозвучавших через Христа. И значит, есть подвижническое требование к нам: то, что мы поняли, мы должны исполнить изо всех сил, хотя бы изо всех наших малых сил, немедленно — и я намеренно употребил ранее слово «беспощадно», без всякого снисхождения к себе — стать исполнителями того, что мы поняли. Все сразу мы не понимаем, потому что ум Божий будет раскрываться перед нами до бесконечности, увлекая нас все больше в простор божественного ви{'}дения, но столько, сколько мы поняли, мы должны научиться воплощать и исполнять.
Когда мы произносим: Да будет воля Твоя, это не означает, что мы просим Бога насильственно внедрить Свою волю в обстоятельства нашей жизни или в жизнь окружающего мира. Мы просим, чтобы наша воля стала единой с Его волей в той совершенной гармонии, в какой человеческая воля Христа была волей Божией не через поглощение Его человеческой воли волей Божией, а благодаря установлению совершенной, непоколебимой гармонии и единства между этими двумя волями.
Так что первый шаг к такому чтению Евангелия, который я старался предложить, — пытаться понять мысль Христову, выраженную в словах, потому что только таким образом можем мы понять Его, и затем через молитву, через послушливость, через исполнение, через возрастание во все более глубокое и полное общение с Богом приобретать ум Христов (1 Кор 2:16), так чтобы наше действование проистекало изнутри нас, не было актом подчиненности, а актом причастности.
Это опять-таки требует дисциплины, то есть отношения верного, преданного, смиренного ученика, который вслушивается всем своим существом, и когда замечает, что расходится со своим учителем, переживает это как отпадение, раскаивается, то есть говорит: Господи, прости меня! Я все время воображал, что я — Твой ученик, и вот я обнаружил, насколько я далек от того, чтобы быть в полном и подлинном общении с Тобой…
А остальное зависит от действия Божия. Все, что в наших силах — и к этому я хотел бы обратиться в другой раз, — это упорядочить наши мысли, наше сердце (я говорю не об эмоциях, а о нашей способности отозваться всем сердцем: вы прекрасно знаете из собственного опыта разницу между тем, чтобы отозваться всем сердцем, и эмоциональным откликом на внешнее побуждение), наше тело. И только если мы на самом деле понимаем, что значит, что Господь и Бог наш стал человеком, одним из нас, взял на Себя противостояние между Богом и падшим человеком и разрешил в Самом Себе этот конфликт, привел все к полной гармонии, если понимаем, что парадоксальным образом Он вольной волей стал до конца единым и с человеком, даже в его состоянии отчужденности от Бога, и с Богом, Которого человек отвергает, понимаем мы и то, что именно поэтому Он мог умереть нашей смертью и спасти нас Своей смертью, и открыть нам врата воскресения.
И мы должны учиться понимать, насколько все это реально, понимать, что это не символы, не образы, не сказки. В нашей жизни всегда есть опасность подменить остроту, жестокость, грубую реальность распятия — спокойным любованием крестиком из перламутра. Постоянно нам грозит опасность подменить трагедию Великой пятницы литургическими напевами и молитвами и не дойти до сердцевины трагедии. Разумеется, мы не можем так воспринять эту трагедию, будто Воскресения не было. Но трагедия всегда присутствует, потому что до тех пор, пока мир нуждается в спасении, воскресший Христос несет на Своем теле следы распятия, гвоздиные раны, следы тернового венца, рану от копья в боку, след тяжелого креста на плече. В каком-то смысле, пока есть хоть один грешник, воскресший Христос еще страдает. И мы должны понимать, что ответственность за это лежит на каждом из нас. И если у нас есть хоть сколько-то чувства благодарности, понимания реальности всего того, что мы исповедуем и провозглашаем, мы должны делать прямые выводы, касающиеся нас лично, и понести ответственность.
Вот почему святой Исаак Сирин и другие святые, и современные богословы не перестают повторять, что христианство заключается не в мистических переживаниях — их временами Бог посылает нам даром, чтобы поддержать нас, вспомните слова апостола Павла: где умножился грех, там преизобилует благодать (Рим 5:20). Сердцевина христианства — в аскетическом подвиге, дерзновенной решимости и беспощадном хранении верности Христу.
Сказанное в начале о том, каково должно быть наше отношение ко Христу, когда мы читаем Евангелие, можно также отнести к молитвам церковным и к молитвам, составленным святыми: утренним молитвам, вечерним молитвам, вечерне, утрени, любым другим богослужебным последованиям. Мы должны прибегать к ним ради того, чтобы войти в мысль тех, кто больше нас, научиться от них, с какими чувствами следует приближаться к Богу, научиться от них, какие расположения ума и сердца и воли и всего существа мы должны приносить Богу, чтобы Он мог использовать нас как музыкальный инструмент, правильно настроенные струны которого производят все более богатую мелодию красоты и святости.
Надо, однако, понимать несколько вещей. Прежде всего не следует обманываться. Когда мы читаем вечерние или утренние молитвы, мы не читаем молитвы, которые составлялись за письменным столом, эти молитвы вырвались с кровью, живой кровью вылились, как крик боли, крик страха или ликующей радости и благодарности, из сердца живого человека. И потому мы не можем ожидать, что изо дня в день сможем отождествиться с каждой из этих молитв или с какими-то местами этих молитв. С нашей стороны было бы безумием вообразить, что за то короткое время, которое мы отводим на молитву утром или вечером, мы сумеем отождествиться с духовным опытом святого Василия Великого, святого Иоанна Златоуста или Симеона Метафраста, или Марка Подвижника, или иных святых, чьи имена не надписаны в начале молитвы, но которые принесли их Богу как итог своего опыта, выразившегося ярко в какой-то момент именно в этих словах. Так что нам следует подходить к этим молитвам в сознании, что мы должны быть благодарны Богу, если сможем отозваться хоть на одну фразу, отозваться на одну мысль, признать как собственное хоть одно настроение души, одно положение, когда читаем ту или другую из этих молитв.
Но это предполагает, что мы не просто обращаемся к этим молитвам утром и вечером, проведя день, который был совершенно чужд их содержанию и выражениям. Мы должны на всем протяжении нашей жизни, день за днем, вдумываться: о чем говорят эти молитвы, в каких выражениях, какие мысли заключены в их словах, какой опыт выразился в этих мыслях и расцвел или, может быть, умалился, чтобы найти доступное выражение в словах этих молитв? Мы должны ставить себе вопрос: что я знаю о том, что читаю сейчас? понимаю ли я эти слова? имеют ли они какое-то значение в моей жизни, для меня? что они означают в моем словоупотреблении? есть ли им место в моем опыте? Затем обратиться к любой фразе и постараться понять, что та или иная фраза доносит до Бога или до нас. И как только мы поняли, что она значит, мы должны поставить себе вопрос: как я могу жизнью, реально воплотить слова, которые я прочел?
Это можно сделать по-разному. Во-первых, чтобы быть способным отозваться на молитву, можно, подходя к ней, обернуться к святому, который произнес эти слова, опытно пережив то, что включено в слова, и сказать: святой Василий, святой Иоанн, святой Марк — кто бы то ни был, — я так недостойно употребляю твои слова! Помолись за меня, чтобы я мог понять чуть больше, прикоснуться к сути твоего опыта. Прими эту слабую, бессильную мою молитву и принеси ее Богу со словами: вот человек, который хочет общаться с Тобой через меня, потому что я — один цвет радуги, тогда как Ты — несказанный Свет. Прими эту молитву и отзовись на нее, даруй этому человеку понимание, и возрастание, и мудрость, и новизну жизни…
Кроме того, меня научили одной вещи, которую я бережно, как сокровище, храню всю жизнь. Прочитав фразу молитвы, я не успеваю вникнуть в нее. И мне был дан совет: читая утренние, вечерние молитвы, помолчать немного, помолиться святому, к молитве которого подходишь, с благоговением, с открытостью, с чувством изумления, прочесть одну фразу, помолчать немного, положить поклон, чтобы отозвался не только ум, не только сердце — сколько там оно может отозваться, — но и самое тело, и после поклона снова повторить фразу, постоять молча, и снова повторить ее спокойно; и переходить дальше. Тем самым утренние или вечерние молитвы превращаются в занятие, которое длится 2—2,5 часа. Если у нас нет столько времени или потому что мы малодушны, или ленивы физически, или действительно устали, или ограничены по времени, мы должны выбрать те немногие молитвы, на которые мы уже способны отозваться хотя бы частично, и произносить их таким образом, пока эти молитвы не запечатлеются в нас или, по выражению Феофана Затворника, не вонзятся нам в сердце, как кинжал, так, что из сердца обильно потечет кровь в ответ на эти слова и мысли и опыт. Феофан понимал, что не каждый располагает таким количеством времени, и он говорит: прикинь, сколько времени ты можешь уделить на молитву, поставь будильник и молись всем существом, телом и умом, сердцем и волей, всей своей силой и всем своим бессилием, всей своей открытостью и всей своей неохотой. Молись таким образом то время, каким ты располагаешь. И если ты обнаружишь, что успел прочесть только первые строки первого псалма, считай, что ты прочитал всю вечерню. Потому что вся цель молитвы — не пробраться с одного конца богослужения к другому, но углубиться всем своим существом в те чувства, которые богослужение должно было бы родить в нас.
И еще одно, последнее. Следует помнить: все, о чем я прошу Бога, я должен сам стремиться выполнять в течение дня. Недостаточно просить Бога обновить во мне дух правый (Пс 50:12), послать мне случай исполнить Его волю, если я не прислушиваюсь к внутренним побуждениям Духа и не пользуюсь внешними ситуациями, в которых оказываюсь. И тут опять-таки полученный мною совет кажется мне очень ценным: взять одну молитву, которая мне ближе, чем другие, потому ли, что естественно близка моему сердцу, потому ли, что я ее понимаю и могу отозваться из глубин моего существа, или потому что она состоит из отдельных прошений, которые легко применять в жизни день за днем. Пример, который я хотел бы привести, — 24 обращения Иоанна Златоуста, которые мы находим в вечерних молитвах. Каждое из них — прошение, обращенное к Богу о чем-то одном: Даруй мне терпение, великодушие и смирение. Сказать Богу «даруй» подразумевает, что я откроюсь и приму дар. А открыться и принять невозможно, просто открыв руки со словом «дай!». Недостаточно просто ждать дара, открыться можно только с усилием. Это означает, что если мы сказали: Господи, даруй мне терпение, мы должны быть готовыми встретить каждого человека, каждую ситуацию, независимо от того, родилась ли она и развилась изнутри нас или встретилась нам извне, как богоданную возможность учиться именно этой добродетели и исполнять ее.
Я уже не раз рассказывал вам о западном святом по имени Филипп Нери, который был очень вспыльчивого характера и умудрился перессориться, за редкими исключениями, со всеми братиями в своем монастыре. В какой-то день ему стало так невыносимо, что он неспособен с терпением, без раздражения отвечать на замечания, что он кинулся в церковь, пал на колени перед изображением Христа и стал просить: «Господи, даруй мне терпение!». Помолившись, он вышел из храма и встретил одного из братий, с кем до сих пор жил мирно, — и вдруг тот сказал Филиппу что-то оскорбительное. Филипп встретил другого, пожаловался на первого, а тот вместо сочувствия ответил: «Так тебе и надо!». Филипп отскочил в гневе, затем опомнился, побежал обратно в церковь, упал снова на колени перед Спасителем и сказал: «Господи, разве я не просил у Тебя терпения?». И голос Спасителя ответил: «Да, и поэтому Я умножаю случаи тебе научиться терпению».
Дисциплина и муштра
Между дисциплиной и муштрой глубокое различие. Дисциплина — состояние ученика, того, который нашел учителя и всей силой сердца и души, всей волей, всем своим существом хочет научиться от него и отождествиться с ним, вырасти в полную меру учителя. Это подразумевает строгое усилие, которое мы видим у всех подвижников, у всех героев духа, у всех тех, кто стремился быть подлинным учеником, — потому что самого себя не перерастешь, просто ожидая, что что-то произойдет. Это требует постоянного усилия. И сейчас я хочу дать определение, в чем состоит это усилие и какова его цель.
Первое, что я хочу подчеркнуть: цель этой строгости, дисциплины, напряженного вслушивания, которое называется послушанием — что в первую очередь подразумевает слушание, слышание и исполнение, — не то, что так часто называют мистическим опытом. Этими словами обычно обозначают эмоциональный подъем, ощущение близости Божией или на высших ступенях — восхищение, экстаз, чудеса, видения или голоса свыше. Не в них цель подвижничества. Кто-то из святых отцов говорит, что мы должны помнить, что любое мистическое переживание — дар, нечто, что Бог посылает нам в подарок, но это вовсе не доказательство нашей любви к Богу или подлинной устремленности нашего внутреннего существа к Богу. Он также говорит нечто, что нам следовало бы вспоминать почаще, хотя его слова вряд ли относятся к нам в полной мере. Он подчеркивает, что экстаз, восхищение, необычайные состояния души и тела не являются признаками возвышенной духовности. Все это, говорит он, свойственно новоначальному (хотя то, что он называет состоянием новоначального, далеко превосходит все, что мы можем себе представить или пережить). И далее он говорит, что цель духовной жизни во всех ее формах — уподобиться Христу и что невозможно вообразить Христа в состоянии экстаза, восхищения, которое или отделило бы Его от видимого мира, так чтобы Он ушел в мир невидимый, или, наоборот, свело бы Его из премирных обителей Его Отца, чтобы полностью погрузить в этот наш видимый мир.
Так что цель наша в этом аскетическом подвиге — не переходить от одного переживания к другому. Цель его — открыться настолько полно, как мы способны, действию Божию, стать настолько, насколько мы способны, прозрачными божественному свету, стать гибкими в руке Божией настолько совершенно, как мы только можем. Если думать о подвиге в таких терминах, тогда подвижничество становится чем-то очень драгоценным, потому что подвижничество, страстный порыв нашего существа к Богу, усилие открыться Ему, сделать Его содержанием и смыслом нашей жизни становится очевидным признаком нашей любви к Богу, того, что мы Его выбрали своим Господом и ценим Его превыше всего.
Призвание христианина можно определить словами Священного Писания: мы призваны приобрести ум Христов (1 Кор 2:16). Это предполагает глубокое изменение нашего собственного ума. Наш ум разделен, наши мысли рассеяны. Один восточный писатель говорит, что наши мысли подобны обезьянам, прыгающим с дерева на древо. Разве это не так? — уж не говоря о том, до чего мы забывчивы, до чего мысли наши расплывчаты. С другой стороны, такое приближение к уму Христову подразумевает постоянное сознание, что Он наш Учитель и что только прислушиваясь к Нему всей силой нашего существа — и я говорю не только о мыслях, уме, но о всем, что в нас есть, — можем мы постепенно прийти в состояние, когда наши рассеянные мысли собираются, обезьян уже нет, покой возобладал в нас.
С другой стороны, когда мы говорим о уме Христовом, ясно, что не подразумевается только мыслительный процесс. Подразумеваются — Его ценности, Его намерения. Подразумевается также, если можно так сказать, Его сердце. Так что дело в полной нашей внутренней перестройке. И конечно, такая перестройка не может быть достигнута редкими усилиями среди долгих периодов расслабленности и безразличия. Усилие должно быть постоянное, непрестанное, неослабное. Святой Серафим Саровский говорил одному своему посетителю, что разница между погибающим грешником и святым только в одном: в решимости никогда не сдаться, никогда не отвернуться от своей цели. Это опять-таки не означает, что мы усиливаемся создать что-то собственной силой, а — стремимся стать настолько гибкими, настолько прозрачными, слушать с такой напряженностью и таким смирением, чтобы слово Божие достигло до нас и воля Божия заполнила нас и стала живой силой внутри нас не только в наших поступках, но в самом нашем существе.
Действительно, если поставить себе вопрос, какая последняя цель христианской жизни, разве не ясно, что ее невозможно достичь ни на земле, ни в вечности только нашими собственными усилиями? Мы призваны — и это слова апостола Петра — стать причастниками Божественной природы (2 Пет 1:4). Этого мы не можем вырвать у Бога, не можем отвоевать себе. Один из возможных переводов одного места Послания к филиппийцам говорит, что Христос хищением выбрал стать причастником жизни Божией (Флп 2:6). Мы призваны стать живыми членами тела Христова, другими словами, так отождествиться со Христом, чтобы во времени и пространстве, в ожидании последнего дня, восьмого дня Истории, быть продолжением Его воплощенного присутствия в мире. Неужели мы воображаем, что этого можно достичь какими-то нашими усилиями? Конечно, нет. Это возможно, только если мы отдадимся Божию воздействию на нас. Но мы должны сами постоянно, все в большей степени открываться этому Божию воздействию.
Мы призваны быть храмами Святого Духа. И даже это выражение недостаточно, чтобы передать все величие нашего призвания, потому что храм — место, где живет Святой Дух, а мы призваны настолько быть проникнуты Святым Духом, чтобы Он не просто жил в нас, как Святые Дары в Чаше. Мы не просто сосуд, который содержит нечто. Дух Святой должен так нас охватить, чтобы ничего не осталось в нас внешнего, чуждого Ему. Вот наше призвание, но призвание недостижимое человеческими силами. Однако мы должны предоставить Богу возможность достичь до нас.
И еще — и это последнее, на что я хотел указать, — мы призваны стать сынами и дочерьми Живого Бога, но не в том ослабленном смысле, как мы говорим о усыновлении. Нет, речь не о том, что наше положение окончательно определено как положение усыновленного ребенка, который навсегда останется приемышем, тогда как Единородный Сын совершенно иной и в ином положении по отношению к Отцу. Единородный Сын Божий рожден от Бога прежде всех веков. Мы входим в это взаимоотношение через усыновление, но наше усыновление, так сказать, стирается. Это только дверь, которая открывается, и мы становимся тем, чем Христос является от века — сыновьями и дочерьми Божиими.
Все это, как я не раз уже говорил, не может быть просто получено пассивно, но не может быть достигнуто и просто человеческой силой. Даже наше земное призвание — быть свидетелями Христа, быть отражением Его света, быть Его воплощенным присутствием в мире, быть Его пророками, другими словами, провозглашать слово Божие в падшем мире — все это не может быть достигнуто просто человеческой решимостью. Когда апостол Павел, желая исполнить свое земное служение как можно лучше, просил о силе, Господь сказал ему: Сила Моя совершается, проявляется в немощи; довольно тебе благодати Моей (2 Кор 12:9). Немощь, о которой говорил апостол, о которой говорит Христос, — это не расслабленность, не лень, не забывчивость. Это ни одно из тех проявлений слабости, робости, трусости, которые не дают нам вырастать в полную меру роста Христова (Еф 4:13). Это — прозрачность, отданность, гибкость, которые можно принести Богу, так чтобы Он мог свободно, беспрепятственно действовать в нас. Так что аскетическая жизнь заключается в беспощадной борьбе против всего, что может помешать Богу покорить нас, охватить нас, стать динамичной силой внутри нас.
Теперь мы лучше видим, что такое подлинный мистический опыт. Это не всплеск эмоций, это не какой-то вид неслыханных, сверхъестественных переживаний. Это такое приобщение Творцу, что мы приобретаем Его ум, что жизнь Творца, Бога нашего, свободно вливается в нас, что свет Божий сияет через нас, что Бог в нас и мы в Боге. Но такая отдача, такая открытость, дар самого себя, как бы мы ни воображали порой, когда мы мирны, что все это в нас есть, — это не постоянное наше состояние. Так много в нас того, что противится нашему собственному желанию исполнить наше призвание. Человек много более великий, чем мы, апостол Павел говорит, что видит в себе два закона, закон духа и закон плоти. Он признает в себе косность, которая отвращается Божественной динамики. Он говорит, что добра, которого желает, не исполняет, а зло, которое ненавидит, творит все время (Рим 7:12). Так что сказать, что в каждом из нас есть сопротивление всему, что Божие, это не пустые слова. И в этом нет ничего удивительного. Мы — тварные существа, и перед лицом Божиим мы — как земля, которая должна принести плод. Но чтобы принести плод, земля должна быть вскопана, в нее должно быть брошено семя, земля и семя должны получить заботу, и только тогда будет плод.
Тот же Максим Исповедник, которого я уже цитировал, говорит, что человек стоит на грани двух миров
[144]. Мы принадлежим одновременно двум мирам, а не целиком и полностью одному из них. Мы принадлежим земле, мы земные и взяты от земли. И в то же время мы принадлежим божественной (а не только духовной) области. И земное и небесное в нас еще несовершенно. Божественная область открыта нам, и все, что Божие, предлагается нам, но мы должны это принять и усвоить. С другой стороны, мы должны перерасти свою принадлежность только земле и превратить то, что земное в нас, в преображенную реальность, из земных стать божественными. И значит, наша задача — так вслушиваться, чтобы отождествиться с нашим Учителем. И когда я говорю «вслушиваться», я говорю о послушании, потому что в латинском языке discipulus означает ученика, нашедшего себе учителя и во всем следующего ему. Но так слушать мы должны не ради того, чтобы удовлетворить собственное любопытство. Мы должны слушать всем нашим существом с одной только целью — уподобиться Тому, Кто говорит. Это может быть Христос, говорящий с нами через Евангелие. Это может быть Святой Дух, говорящий в нас
воздыханиями неизреченными (Рим 8:26). Это может быть Тот же Дух, учащий нас называть Бога, Отца Единородного Его Сына — нашим Отцом, чтобы мы вырастали в меру этого Его сыновства. И это означает тяжелую, беспощадную борьбу, чтобы дать Богу победить нас с нашей помощью, потому что, по слову опять-таки Максима Исповедника, Бог все может, кроме одного: Он никого не может заставить полюбить Себя, поскольку любовь — это совершенная свобода.
Чтобы достичь этой цели, нужно упражняться постоянно, все больше и усиленнее. Я не хочу сказать, что мы не можем заниматься тем, что является нашим земным призванием во всех его видах. Бог знает, что мы нуждаемся в пище, в одежде. Бог знает, что нам приходится совершать какие-то дела на земле, хотя бы то одно, основное наше дело — быть авангардом Царства Божия, войти в этот мир небесными гражданами, которые провозглашают величие, святость небес, провозглашают, в чем состоит небесная жизнь, и должны покорить эту землю — падшую, преданную человеческим грехом во власть сатане, отвоевать ее дорогой ценой, подобно воинам, которые проливают свою кровь. Существует древнее присловье отцов пустыни: «Дай кровь и примешь Дух»
[145]. Вот наше дело. Мы призваны изменить, преобразить град человеческий в град Божий, делая его все больше и больше бесконечно более совершенным человеческим обществом, делая его настолько глубоким, настолько великим, настолько святым, чтобы первым гражданином этого града мог быть Иисус, Сын Божий, ставший Сыном человеческим. Вот наше призвание. И этого невозможно достичь только нашей умудренностью, нашим умением, нашими усилиями. Даже если мы устремлены к этой цели, мы, как я уже говорил, внутренне настолько разделены, что это требует постоянного усилия.
И здесь стоит вспомнить притчу о сеятеле (Мф 13:3—23). Я помню, один священник говорил мне, что в разные моменты мы бываем той или другой почвой. Мы можем оказаться каменистой почвой. Мы бываем доброй почвой, которая принесет стократный плод. Мы можем быть почвой, заполоненной терниями. Мы можем быть придорожной полосой, где птицы склюют упавшие туда семена. Но никто из нас не бывает в одном состоянии все время. Поэтому мы не должны упустить никакую возможность, а для этого должно постоянно открываться действию Божию. Как знать, не буду ли я сегодня в состоянии принять в самые глубины моего существа семя Божие, хотя час назад или завтра, или вчера я был подобен проезжей дороге или тернистому участку. И это приводит меня к следующему, на чем я хотел бы остановиться.
Невозможно, когда мы говорим об аскетическом подвиге, разделить область телесную, область душевную и область сердца, потому что наше существо не разделено перегородками. Мы — целостное существо, состоящее из всех этих элементов и еще многого другого, и все они сообщаются. Мы действуем не последовательно то так, то эдак, мы действуем одновременно как целое, как единство. Невозможно сказать: вот упражнения для ума, для сердца, для тела, для воли — потому что все наше существо принимает участие в каждом поступке. Я вспоминаю слова отца Сергия Булгакова, который сказал: победить плоть означает привести к жизни свое тело
[146]… Значит, есть разница между ними: плоть, порабощенная слабостью, порабощенная страстями, преданная расслабленности, ставшая проводником воздействия дьявола, может быть побеждена и стать преображенной.
Читать слово Божие следует постоянно, потому что мы не можем просто, как часто бывает с нами, пропуская без внимания то, что Бог сказал две тысячи лет назад или пять тысяч лет назад в Новом или Ветхом Завете, ожидать нового откровения, нового слова от Бога нам сейчас, откровения Его воли вот теперь, если мы отвергли все, что Он уже говорил прежде. Так что надо быть внимательным к любой вещи, которую говорил Господь Иисус Христос, к собственному Божию слову, которое выразило в человеческих словах мысли Самого Бога, Божественную волю о нас и путь спасения.
Точно так же надо молиться изо дня в день. Очень часто мы чувствуем себя бесплодными, мертвыми. Но как знать, будем ли мы такими же мертвыми в конце, приложив молитвенное усилие? Ведь когда мы приходим с холода, мы можем согреться, согреть руки, только растерев их. Точно так же — и это образ, который дает святой Макарий Египетский, — только вступив в огонь, можно загореться. Только заставляя себя быть в присутствии Живого Бога, можем мы в конечном итоге ощутить тепло или свет или огонь присутствия Живого Бога. Но цель усилия — быть верным: быть верными учениками, не относиться к Богу как к Благодетелю, Который обязан дать, потому что мы просим: «Дай, дай!». Мы не призваны быть попрошайками. Мы призваны быть верными друзьями, от всего сердца преданными служителями, Его воинами.
Я хочу сказать еще несколько слов об этом отношении к слову Божию, которое мы читаем, к молитвам святых, которые мы произносим. Первое, что мы должны делать, это сохранять живое чувство, что мы ученики. В течение долгого времени нам очень часто будет казаться, что это ученичество лежит на нас тяжелым бременем. Но вспомните, что в какой-то момент мы были захвачены личностью ни с кем не сравнимого, Единственного Учителя, Господа Иисуса Христа. В какой-то момент мы обнаружили, что нет другого учителя, за которым можно последовать от земли к небу, от смерти в жизнь вечную. Мы обнаруживаем, что если оторвемся от Него, мы отпадаем в смерть, и что нет другого пути, кроме как следования за Учителем, Который есть Истина, Который — Жизнь, Который также Путь (Ин 14:6). Это подразумевает, конечно, что мы должны усилием воли, принуждением в моменты расслабления, лени, болезни, при всех обстоятельствах, которые влекут нас сказать «потом, другой раз, не теперь», заставить себя стать перед Богом, даже если единственное, что нам доступно относительно этого присутствия, это, субъективно говоря, то, что Он отсутствует. Все, что я знаю, это: что касается меня, я ничуть не ощущаю Его присутствия. И однако верой я знаю, что Он тут. Я знаю, что стою перед Ним и что Он никогда не оставляет меня.
После этого читай. Не читай много. Прочитай небольшой отрывок Евангелия и спроси себя: что я прочел? что означает именно этот отрывок Евангелия — не так, как я его понимаю, а как его понимает Бог? что Он хотел передать мне, а не что я сам вчитал в этот отрывок? Это большой соблазн, и требуется крепкая цельность, самодисциплина, чтобы вглядеться в отрывок и сказать: я совершенно открыт. Я не знаю, что Он хотел сказать. Спрошу Его… И для этого многие духовные писатели, в частности Феофан Затворник, советуют: читай этот отрывок снова и снова, повторяй его про себя, не перечитывая, по памяти, чтобы он вошел в твой ум, чтобы ты воспринял его как можешь глубже, и затем поставь себе вопрос: что значат эти слова? что означало это выражение? какой ум выковал эту строку? из какого сердца излились на меня эти слова ради моего спасения?.. На это могут уйти часы, чтобы дойти до подлинного восприятия какого-то отрывка, может потребоваться не один день. Нам не следует переходить от одного места к другому, пока мы до конца не сольемся с этим отрывком. Очень легко прочесть отрывок поверхностно, воспринять верхний слой его содержания и перейти к другому, и еще другому, и еще дальше. Однако мы знаем из житий пустынников, из житий святых, что они могли порой построить всю свою святость на одной фразе, которую они восприняли и на которой построили жизнь.
Я хочу дать вам пример одного из учеников святого Антония Великого. К нему пришел человек по имени Павел, беднейший египетский крестьянин. Он услышал в церкви призыв молиться и спасаться. Он был неграмотный и неученый, но захотел узнать, как достичь спасения, и пошел в пустыню к тому, о ком шла широкая молва, и задал ему свой вопрос. Антоний ответил: «Это просто. Живи в пустыне, постись, ешь меньше, чем тебе требуется или хочется, спи на голой земле, мало спи и трудись изо всех сил». Крестьянин ответил: «Все это я исполнял всю свою жизнь. У меня никогда не было постели, я всегда голодал, всегда работал сверх сил, но это все не дало мне спасения». «Да, — сказал Антоний, — одного еще тебе недостает: ежедневно прочитывай всю псалтирь». Павел сказал в отчаянии: «Этого я не могу! Я неграмотный и псалтири не знаю!» — «Я тебя научу, — сказал Антоний. — Садись рядом со мной, будем плести корзины, я буду читать псалмы, а ты повторяй». И он произнес первые слова: «Блажен муж, который не идет на совет нечестивых». Павел повторил эти слова раз, другой, третий, потом говорит: «Позволь мне походить и затвердить эти слова» — и ушел в пустыню и пропал из виду. Антоний расстроился, затем ему стало любопытно, он подумал: что сталось с моим учеником? Но так как он знал, что для подвижника любопытство — грех, он стал бороться с любопытством. И лет сорок он боролся с любопытством, пока любопытство не пропало, и он мог свободно предать Павла Божией заботе. Как-то он пошел по пустыне не из любопытства и не ради того, чтобы найти Павла, а просто потому что захотел уйти глубже в пустыню. И вдруг — кого он видит: Павел! Он бросился к нему, схватил и говорит: «Павел! Что ты за ученик? Я собирался научить тебя всей псалтири, научил первому стиху — и ты исчез!». И Павел ответил: «Прости меня, отче! Вот сорок лет как я стараюсь стать человеком, который никогда не ходит по пути нечестивых».
Вот как мы должны читать Священное Писание. Мы не можем делать это с простотой Павла, мы недостаточно просты для этого, у нас нет его целостности, цельности. У нас нет отчаянного желания ожить, перейти от смерти в жизнь. Но мы должны хотя бы понимать, что только таким путем мы можем довести до самих себя то, чему учит Евангелие: читая его снова и снова, перечитывая, повторяя в уме те же слова, пока они не запечатлеются в нас так глубоко, что мы сможем начать жить ими. Это не значит, что надо читать большие куски Евангелия — вопрос в том,как читать, каким образом.
То же самое можно применить к чтению и повторению молитв. Пока мы не дадим слову Божию, тому, что Бог говорит нам, отождествиться с нами, вернее, пока не отождествимся сами с этим словом, мы никуда не двинемся. И здесь-то и начинается подвиг: строгое, беспощадное усилие дать Богу покорить нас, стать Господом нашей жизни, «Жизнью нашей жизни», если употребить образ, который дает Николай Кавасила. И только после этого можем мы думать о других путях — а такие другие пути есть, — какими мы можем довести до себя это слово, это учение или чужой опыт.
Роль тела в духовной жизни
Я хочу еще немного поговорить о роли нашего тела в духовной жизни, потому что, мне кажется, еще не все сказано о том, что нам абсолютно необходимо учиться собирать свой ум и использовать свое тело как источник трезвения, бодрствования.
Старец Силуан, скончавшийся в 1938 году, говорит в своих записях, что благодать Божия заполняет всего человека. Она касается нашего духа, затем доходит до нашей души, нашего ума и чувств, движений воли, но она достигает до нас полностью, лишь когда пронизывает также и наше тело. Потому что человек — не душа или дух, заключенные в теле, которое безжизненно, не участвует в том, что относится к плану духовному, не имеет отношения к тому, что происходит с нашей жизнью в Боге. Человек — таинственное существо, состоящее из тела и души, в нем материальность нашего тела призвана к единству с Богом такому же совершенному и полному, как и дух и душа. Что тело способно к этому — об этом явно, ясно свидетельствует Воплощение. Божество во Христе было соединено не только с Его душой и духом, но и с Его телом. И когда мы думаем о смерти Христа на кресте, о том, что Его тело лежало в гробу, пока Его душа сходила в ад, когда мы говорим, что Его тело было нетленным, мы имеем в виду, что Божество не отлучилось от Его материального человечества, так же как не отлучилось от Его человеческой души.
Есть у Исаака Сирина замечательное, может быть, даже изумляющее нас высказывание. О судьбе человека после его смерти и в вечности он говорит, что место человека не может быть окончательно определено до Воскресения, потому что душа человека ничего не может навязать телу, даже спасения или погибели, пока тело не даст свое согласие. Этими словами он не только утверждает — я едва не сказал: торжественно провозглашает — единство человеческих души и тела, но также то, что это наше материальное тело не есть просто безжизненный остов. Это не халат, который мы снимаем и отбрасываем (хотя часто выражаются именно так), оно наделено чудесной способностью не только биологически быть связанным с жизненной силой в нас, но и с Богом, и оно может войти в вечную жизнь — не пассивно, не просто вслед за душой, а по собственному праву.
Такое ви{'}дение тела очень важно, если мы хотим понять, какое место тело и физический подвиг занимают в аскетической жизни. Духовные писатели с самого начала делали различение между телом и плотью. И еще задолго до того, как кто-либо из духовных христианских писателей даже просто упомянул об этом, мы читаем в 6-й главе книги Бытия, как Бог посмотрел на человечество, отпадшее от Него, которое сознательно отвернулось от Него, «оземленилось» и ничего не хотело знать, кроме земли, и сказал: они плоть (Быт 6:3). Здесь под словом «плоть» подразумевается, как во всей аскетической литературе, бездушное человеческое нечто, биологическая реальность гораздо более низшая, чем животные. Потому что в итоге не осталось ничего человеческого в том состоянии человека, которое Бог описывает в этом месте книги Бытия: обесчеловеченная физическая реальность, биологически живая, но оторванная от всех корней вечной жизни.
Я уже упоминал место из писаний отца Сергия Булгакова, где он говорит: чтобы приобрести тело, надо победить плоть. Он явно говорит об одной физической реальности, но плоть означает биологическое бытие, оторванное от Бога, чуждое Ему, Единственному, Кто — сама Жизнь. А тело — то же самое человеческое, физическое бытие, но исполненное жизни, которую дает Бог, не маленький росток, в котором кратковременная жизнь вот-вот засохнет, поскольку извлекает жизненную силу из праха, из земли. Оно привито ко Христу, оно то же самое, но живо жизнью Самого Бога или, если предпочитаете (и мне кажется, так сказать вернее), участвует в жизни воплощенного Сына Божия, человеческой жизни Бога во плоти.
Из этого следует несколько вещей. С одной стороны, это предполагает общее богословие материи, которое, как мне кажется, слишком часто забывают. С другой стороны, это объясняет, почему в первой главе своей книги о духовной жизни епископ Феофан Затворник говорит о роли таинств
[147]. Таинства — действия Божии, но это действия Божии, в которых используется материальное вещество этого мира: вода, хлеб, вино, масло и т. д., и которые достигают нас через наше тело. Погружением тела в благословенные, освященные воды совершается Крещение. Принятием освященных Хлеба и Вина физическим образом мы становимся причастниками того,
что они доносят до нас. Чрезвычайно важно думать о нашем теле и сознавать не только, какова его роль, но и нашу ответственность перед нашим телом и
что тело может совершить (или не совершить) в нашей жизни. Поэтому я хочу отметить некоторые моменты относительно того материального мира, в котором мы живем.
Бог, как нам сказано, сотворил все сущее из небытия. Если можно говорить о времени, то в какой-то момент ничего не существовало, был Один Бог. И затем Он вызвал одну за другой Свои твари из радикального небытия. Он вызвал их в акте любви. Он все возлюбил в бытие. И каждая тварь, возникая в бытие из небытия (и здесь ясно, насколько выражение «возникая из небытия» не соответствует тому, что было, потому что нет такого небытия, из которого что-то может возникнуть), оказывалась лицом к лицу с Богом и Его Любовью. Божественная Любовь вызвала тварь к бытию, но не в застывшее бытие, не просто в существование, не на время, а для того, чтобы она, все возрастая и углубляясь, сама участвовала в Божественной жизни. Бог предлагал Самого Себя каждой твари, которую Он вызывал к бытию. Каждая возникающая тварь видела Его как превосходящую все красоту и совершенную любовь, любовь, которая отдает не только то, что имеет, но и самое себя. Этот Бог, оставаясь в Самом Себе непостижимым, таинственным, изливает Себя в Свое творение, делает его причастником — в той мере, в какой оно способно, пока не настал конец времен, — Своей жизни и самой Своей природы.
Каждая возникающая тварь встречается также со всеми другими тварями, возникшими раньше, чем она, в ее зарождающейся, первозданной красоте и гармонии, в совершенной невинности и величии ее призвания к совершенству, то есть к единству с Богом. Это соединение с Богом когда-то станет совершенным и полным. И каждая тварь связана с Богом изумлением, благоговением, благодарностью, любовью, ликованием. Бог знает каждую Свою тварь по имени. В еврейской мысли имя, подлинное имя, не прозвище, которым мы условно называем друг друга, но то имя, которое выражает самую сердцевину существа, — это имя выражает то единственное отношение, которое существует между Богом и каждой тварью, единственность неповторимой твари, несравнимого существа, единственного, потому что любовь не бывает коллективной, а только личной.
На протяжении таинственной истории, которая передается нам, развертывается перед нами в книге Бытия и вообще в Священном Писании, мы видим, насколько глубокая связь существует между телесным быванием и духовным состоянием человеческого существа. У святого Григория Нисского есть замечательный комментарий на одно место книги Бытия, где нам говорится, что после падения Бог сделал Адаму и Еве кожаные ризы (Быт 3:21). Многие люди наивно улыбаются при этих словах: они считают, что Адам и Ева поняли, что наги, и соответственно Бог дал им одежду. Нет, дело не в этом. Согласно святому Григорию Нисскому, человек, пав, стал ограниченным, вместо того, каким был и что мы видим во Христе после Его Воскресения: Он совершенно плотский и человечный, но не ограниченный. Вы помните места, где говорится, как Христос внезапно предстает Своим ученикам, проходит закрытыми дверями, появляется и снова исчезает с их глаз (Ин 20:19, 26). Человечество в том физическом состоянии, которое мы знаем, — не то первоначальное человечество, которое даровал нам Бог. Мы — существа, падшие не только душой, но и телом. Мы стали как бы густыми, мы приобрели вес, который отягощает нас. То, что было телом, духовным телом, стало плотью, в которой сосуществуют вместе закон жизни и закон смерти.
То, как мы относимся к окружающему миру, отражает это наше отпадение от благодатного состояния. Если обратиться опять-таки к книге Бытия, мы видим Адама и Еву в раю, они вкушают всех райских плодов, но нигде не сказано, что их жизнь зависит от этой пищи. Если обратиться за разъяснением к словам Христовым, можно вспомнить, что Христос сказал сатане во время искушения. На слова сатаны: «Если Ты Сын Божий, обрати эти камни в хлеб, напитай Себя» — Христос ответил: Не хлебом единым жив человек, но всяким словом Божиим (Лк 4:4). Жизненная сила, сила, поддерживающая жизнь в Адаме и Еве, было слово Божие. Они были вызваны в бытие, вызваны в жизнь, перешли из небытия в самые глубины Божии. Только после падения, вместо того чтобы жить словом Божиим, вместо того чтобы познавать тварный мир через приобщение уму Божию, они обратились к рациональному, аналитическому познанию, которое свойственно теперь нам. То, что по-французски называется целостное ви{'}дение, непосредственное восприятие, было заменено нашим современным знанием, которое мы усвоили с падения.
В этот момент Господь говорит две вещи: прах ты и в прах возвратишься (Быт 3:19) — прах, потому что человек был создан, чтобы принадлежать двум мирам, материальному, земному миру, вместе с материальностью всей твари, и духовному миру (я не говорю «миру духов» во множественном числе), жизнь в котором принадлежит собственно человеку. Но потеряв Бога, человек должен был черпать временное бытие от земли, из которой он был взят. Со скорбию будешь питаться [от земли] …терния произрастит она, а не только хлеб (Быт 3:17—18). Здесь мы видим погружение в материальный мир через тело, вернее, через тело, потерявшее свое совершенство и цельность. Вместо того чтобы исполнить свое призвание, о котором святой Максим Исповедник говорит, что человек был призван соединить в самом себе вещественное и духовное начала и вести все вещественное в область Божественную, человек оказался пленником вещественного мира.
Правда, в каком-то смысле человек и вещественный мир не идентичны. Отличие в том, что человек перестал быть в полноте тем, чем призван был быть: подлинным человеком. Быть подлинным человеком означает быть в полном общении, во все возрастающей и углубляющейся причастности с Живым Богом. Окружающий нас вещественный мир не отвернулся от Бога, не согрешил, он был, по выражению апостола Павла, предан человеком в рабство греху (Рим 8:20). Человек, который должен был быть вождем, вести всю тварь в глубины Божии, потерял свой путь, и потому заблудился весь мир.
Святой Феодор Студит говорит в одном из своих писаний, что окружающий мир действительно порой страшен, кажется одичавшим, обезумевшим, но, пишет он, мир, в котором мы живем, подобен коню, которым правит опьяневший всадник. Конь будто беснуется, но виновен не конь, а всадник. Мы опьянели, мы слепы, потеряли свой путь, мы мечемся. И потому весь мир, который мы были призваны вести к полноте, обезумел, со всеми последствиями безумия.
Позднее наше взаимоотношение с миром становится еще более жестоким и грубым. В той же книге Бытия, после потопа Господь говорит Ною: все движущееся, что живет, будет вам в пищу, в ваши руки отданы они; да страшатся и да трепещут вас все звери земные (Быт 9:2—3). Это венчает, вернее сказать — это самая низшая точка взаимоотношений между тварным миром и человеком, самая глубина, разделяющая их. Человек, который был призван вести все в область духа, стал не только предателем мира, но и мучителем его, убийцей созданий Божиих.
Такой подход лежит в основе аскетического отношения к телу и к тварному миру. Усилие подвижника направлено на то, чтобы покорить плоть ради того, чтобы обладать телом, победить обезбоженность, из-за которой мы стали мертвым веществом — мертвым, потому что мы отвернулись от жизни или потеряли ее, — ради того чтобы обрести вновь состояние примирения, в первую очередь, с миром, который мы предали и ввергли в область смерти, страдания, дисгармонии, изуродования. Призыв отказаться от некоторого рода пищи, от плоти животных, призыв освободиться от голода, который распространяется на все сотворенное Богом желанием все подчинить себе и в конечном итоге уничтожить — вот призыв поста. И это охватывает гораздо больше, чем физический пост, простое воздержание в пище и питье. Это состояние трезвости, состояние, через которое мы можем опомниться от опьянения, о котором говорит святой Феодор Студит, состояние, восстанавливающее нас в правильном взаимоотношении с созданиями Божиими.
Но, как уже было сказано, человек пал, человек предал тварный мир в рабство сатаны со всем, что из этого следует. И, по слову апостола Павла, вся тварь стенает, ожидая откровения сынов Божиих (Рим 8:19—22). Все творение — жертва: оно не согрешило, оно несет вместе с человеком последствия человеческого греха. Поэтому у творения своя собственная связь с Богом, на собственных правах. Тварь не нуждается ни в примирении, ни в покаянии. И вот почему возможны чудеса, вот почему совершаются таинства. Весь мир был создан способным радоваться о Боге, чувствовать Его, жить Его словом, жить в Нем неведомым нам образом, отличным от нашего. Все созданное способно слышать творческое, державное, освобождающее слово Живого Бога. В противном случае чудеса были бы магическими действиями. Разница между таинством и магическим действием, между чудом и магией в том простом факте, что магическое действие — акт власти, акт, которым тот, кто обладает тайным знанием, может насильно навязать свою волю Божьему творению вопреки его собственной воле, в ущерб ему, с целью уничтожить его или использовать на зло. Чудо — действие Божие, которым на короткий миг, в определенной ситуации Божие творение бывает восстановлено в гармонии, той гармонии, которая существует между творением и Богом, но также внутри творения между отдельными тварями.
Вы наверно помните многие случаи, когда Господь Иисус Христос совершает чудо. Он повелевает морю утихнуть, приказывает ветру улечься, и они слушаются. Но они послушны Его слову в прямом значении послушания: они не запуганы, не сломлены, не порабощены, они не просто покорны. Они слышат голос Того, Кто есть их свобода, Кто есть Любовь к ним, и отзываются радостно на это освобождение и входят в гармонию Божию.
Это еще в большей степени относится к таинствам. Человеческая вера, да, наша человеческая вера, слабая, хрупкая, колеблющаяся, столь несовершенная, но все-таки живущая в нас и в нашей среде, выделяет часть вещества из контекста мира, плененного сатаной, — частицу воды, хлеба, вина, масла, или даже слова{'}, слова благословения, слова хвалы, слова, которые выражают волю Божию, слова пророческие — и приносит их Богу, возвращает их Богу, чтобы Он владел ими полностью, неограниченно, совершенно. И Бог принимает их, это мы выражаем в словах: «Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся». Бог принимает их и возвращает нам как Свою собственность: этот хлеб, эти воды, этот елей и даже, как я сказал, самые слова возвращаются к нам, очищенные от нечистоты, свободные от печати сатаны, и доносят до нас то, что принадлежит области Божественной.
И все это возможно только благодаря тайне Воплощения, к этому я еще вернусь. Но сначала я хочу сказать, что Божественная область, доходящая до нас при посредстве материальности этого видимого мира, свидетельствует наряду с Воплощением, что все Богом сотворенное способно быть не только духоносным в самом общем смысле, но Богоносным. Все соединено с Богом таким образом, что может донеси Его до нас. Владимир Лосский в своей книге «Мистическое богословие Восточной Церкви»
[148], говоря о благодати, о тайне Бога и о том, как Бог открывается нам в общении, пишет, что Бог существует — если позволительно употребить такое слово, говоря о Боге, — Сам в Себе как непредставимая, неисследимая тайна, но в то же время Он существует как бы вне Себя, как излияние Самого Себя в Свою тварь. Это излияние мы называем благодатью. Это излияние, которое те, кто плохо знает V век, но читал Григория Паламу, называют энергиями
[149]. Это Бог, сообщающий Себя материальному веществу этого мира, свободному от греха, освобождаемому актом веры с нашей стороны и радостным приятием со стороны Бога. Эти энергии доносят до нас Божество.
И теперь коротко о Воплощении. Когда мы говорим о Воплощении, часто, слишком часто мы думаем, что Бог соединился с тем, что мы считаем отличительными признаками нашего человечества: ум, сердце, воля — все, что в целом мы называем нашей психикой, духом, душой. Но в Евангелии от Иоанна ясно говорится, что Слово стало плотью (Ин 1:14). Оно не просто стало человеческим духом. Слово Божие, Само Божество в Воплощении соединилось с человеческой плотью. Но эта плоть ничем не отличается от всей материальности этого мира. И когда Христос родился, жил, умер и восстал, и восшел на небеса, вся тварь могла ликующе глядеть на это тело Воскресения, тело Бога воплощенного, восседающего одесную Славы, и узнавать себя самое и видеть, к чему она призвана. Все, от величайшей галактики до мельчайшего атома, самое грандиозное, как и самое ничтожное, — все видит себя во славе, в той славе, к которой призвано все творение.
Так что Воплощение — это призыв к нам поставить себе вопрос: как мы относимся к собственному физическому телу? — и не порабощать его, не ломать его, не делать его рабом, а освободить его, высвободить от состояния обезбоженности, бездуховности и сделать его телом, способным исполниться божественной жизнью, эсхатологически, пусть и не в полной мере, стать уже теперь тем, чем мы призваны, — стать телом и душой в вечности.
Место таинств
Епископ Феофан Затворник говорит, что есть два таинства, которые прямо связаны с подвижнической жизнью с точки зрения и телесного, и духовного подвига. Эти два таинства — Крещение и Таинство покаяния, раскаяния, примирения — назовите как хотите. Я хочу говорить сегодня об этом в продолжение моей последней беседы, потому что эти таинства связаны с материей. Благодать Божия достигает нас в таинствах через материю. Она достигает нас телесно, как бы от материи к телу, и за пределом тела достигает души, и я не имею в виду переход от кожного покрова вглубь или от нашего физического существа к духовному — это происходит одновременно.
Я уже указывал, что с точки зрения православного богословия, которое уходит корнями в писания апостола Павла и во всю традицию Ветхого и Нового Завета, тварный мир подпал под дисгармонию, страдание, искажение через отпадение человека от общения с Богом. Сама по себе материя этого мира остается чистой и незапятнанной, и потому она может быть, как мы видим в Воплощении, не только духоносной, но Богоносной, потому что, согласно Евангелию, согласно учению Церкви, Бог стал человеком, соединил Себя с человечеством.
Но есть еще другое выражение: Слово стало плотью (Ин 1:14). Божество соединилось не только с человеческой душой Христа, человека Иисуса, как Его называет апостол Павел (Рим 5:15), но с Его телом. И в Его смерти на кресте мы не видим, чтобы Его Божество разделилось от Его человечества. Мы видим, как раздирается надвое человеческий состав, человеческая душа отрывается от человеческого тела. Тело и душа в своем единстве были охвачены, пронизаны, исполнены Божества, и теперь их единство разрывается уродливой, ужасной реальностью смерти. Он сходит в ад во славе Своего Божества, Тело же Его остается нетленным во гробе, потому что оно не разлучилось от Его Божества.
Так что материальное вещество этого мира, хотя через падение человека подпало под рабство греху, способно исполниться Божественного присутствия, быть послушным слову Божию. И когда я говорю «послушным», я употребляю это слово в его изначальном значении — способным слышать слово Божие и отзываться на него, и получить освобождение от рабства через это послушание слову Господню.
Таинства — действия Божии, но они совершаются посредством материи, и это возможно, потому что материя этого мира способна отзываться на зов Божий, быть исполненной Божественной благодати, Божественного присутствия.
Разумеется, можно возразить, что если подумать о водах Крещения, о Хлебе и Вине Евхаристии и о словах разрешительной молитвы в Таинстве покаяния, то здесь и там связь между божественной и материальной областью кажется очень различной. Это действительно так. Бог соединяется со всем, что имеет материальность, по-разному, отличным образом. Когда благословляются воды Крещения, Дух Божий сходит на них, освящает их и исполняет тем, что в словах молитвы называется
ангельской силой[150], благодатью стать проводником, провозвестником Бога. Крещальная купель — это как бы образ, икона Самого Христа, в Чью смерть мы поистине погружаемся. И через Его смерть, соучаствуя в Его смерти, мы также становимся соучастниками вечной жизни воскресшего Христа.
В Евхаристии хлеб и вино исполняются Божественного присутствия. Они становятся Телом и Кровью Христовыми, потому что Божественные энергии достигают, исполняют их и делают причастными Самому Христу. Один из русских богословов XIX века настоятельно указывает на то, что когда мы причащаемся, мы причащаемся Телу и Крови Христовым, однако мы не едим (говорит он) историческую плоть Христа. В оригинале его текста, написанного по-французски, употреблено очень острое выражение: он говорит, что мы приобщаемся Телу, а не поглощаем мясо. В разрешительной молитве опять-таки божественная благодать передается через материальность произносимых слов: они не просто звуки, они действительно передают благодать.
Так что благодать Божия проникает самыми различными способами, наполняет слова, воду, елей, хлеб, вино и дает им достичь нас телесно и душевно. С другой стороны, если благодать достигает нас при помощи материальных средств, мы должны принимать во внимание, что наше тело действительно играет свою собственную роль в возрастании нашей духовной жизни. Наше тело погружается в воды Крещения. Мы принимаем Тело и Кровь Христовы устами, через рот. Слова проповедника достигают нашего слуха, и через то вера пробуждается в нашем сердце. Таинство прощения грехов или Таинство брака совершается посредством слов. В каждом случае Сам Бог вливается в материальный мир и достигает нас через нашу собственную материальность. И это, мне кажется, так чудесно и велико, потому что подчеркивает то, что с такой ясностью открывается нам в Воплощении: что наше тело способно в полноте приобщаться вещам божественным, духовной области.
Когда апостол Павел говорит, что мы должны прославлять Бога в телах наших как и в душах наших (1 Кор 6:20), он не имеет просто в виду, что мы должны прославлять Бога тем, что ведем жизнь, достойную Его учения и Его заповедей. Он хочет сказать, что мы как целое, все в нас должно когда-то — или, если предпочитаете, — постепенно просиять божественным присутствием и сиять светом вечной жизни. Это не материальное сияние, но нечто, что можно уловить. У нас есть пример этого в рассказе о том, как Моисей сошел с Синайской горы после созерцания лицом к лицу славы Божией, и лицо его так сияло, что люди не могли выносить этого сияния, и ему пришлось скрывать лицо покрывалом (Исх 34:33).
Какая тут связь с темой наших бесед, с подвижничеством? Крещение — событие, которое не происходит на пустом месте, человека не крестят без подготовки. Человек принимает Крещение, потому что до него дошло слово. Это может быть услышанное слово, это может быть написанное слово, это может быть голос Святого Духа, звучащий воздыханиями неизглаголанными внутри нас или ясно говорящий в нашей душе (Рим 8:26). Но так или иначе, в результате мы слышим нечто и становимся верующими. И я хотел бы напомнить вам слова из 11-й главы Послания к евреям, где нам говорится, что вера — это уверенность в невидимом, уверенность несомненная (Евр 11:1). Не доверчивое принятие, а уверенность, которая основана, покоится, коренится на опыте. Этот опыт может быть очень зачаточный, это может быть опыт, когда мы разделяем чье-то чужое знание, но это всегда личный опыт.
И это приводит нас к следующему шагу, к метанойе, о которой говорит Писание. Слово это мы переводим как «обращение» или «покаяние», в зависимости от контекста. Обращение — слово очень ясное и простое. Оно означает поворот. Кто-то, кто смотрел в одном направлении, отвернувшись от Бога, поворачивается, становится лицом к Богу и начинает приближаться к Нему. Эти два момента равно важны. Недостаточно повернуться, стать лицом и плакаться. Надо повернуться, стать лицом и идти. Различие это очень важно, потому что так часто мы думаем о покаянии как о сокрушении и плаче о грехах, ненависти к своим злым поступкам, сожалении о всем, что в нашем прошлом было недолжного. Тогда как покаяние означает — осознать все это, осознать, что мы, как блудный сын, находились в чуждой стране, что мы оказались неверными сыновьями или дочерьми Богу, что мы унесли прочь все, что Бог нам дал, и промотали все. И после этого повернуться обратно и смотреть в сторону Бога. Вот в чем обращение: полный поворот, который означает, что мы движемся в новом направлении.
И только когда мы обернулись к Богу, когда решили, твердо решили двигаться в новом направлении, тогда можно прийти к Крещению. Это следующий шаг. И это шаг очень серьезный и очень ответственный, потому что в Крещении мы соглашаемся так соединиться со Христом, чтобы все, что Христово, стало нашим, и все, что Ему чуждо или противно Ему, стало чуждым и неприемлемым для нас. Разумеется, мы знаем, что будут у нас колебания, что мы пойдем нетвердо, но намерение, решимость должны быть таковы, и каждый раз, когда мы отклонимся, мы снова исправим путь и снова пойдем к Богу, только к Богу, все дальше к Нему во Христе и со Христом.
Это имеет в виду Павел, когда говорит о умирании со Христом в Крещении (Рим 6:3), умирании в том смысле, что мы становимся чуждыми всему, что в прежней жизни было связано с грехом, со злом, в конечном итоге, с отчуждением от Бога — обезбоженность, неверность, неверность нашему собственному призванию, нашему человеческому величию и любви Божией и Его призыву, обращенному к нам. Но это предполагает, что если мы готовы на такую смерть, мы можем быть уверены, что Бог отзовется и разделит с нами Свою жизнь. В этом символический смысл Крещения. Мы с головой погружаемся в воды, которые означают для нас смерть, и восстаем из этих вод к новой жизни.
Апостол Павел говорил о физической смерти в таких словах: Для меня смерть не означает совлечься временной жизни, но облечься в вечность (2 Кор 5:4). Вот что происходит. Мы не совлекаемся временной жизни в том смысле, что мы не умираем на самом деле, но символически мы сбрасываем все греховное, тленное, несущее на себе печать смерти и разлучения от Бога, и восстаем к жизни уже теперь Царствия Божия и причастия жизни вечной. И эта жизнь — жизнь Христова, жизнь Божия.
Апостол Павел употребляет очень ясный образ — хотя садовники могут поставить под сомнение, до конца ли этот образ адекватен. Он говорит о нашей прививке ко Христу (Рим 11:17—24). Если развить этот образ, он предстает нам в следующем виде. Есть Дерево Жизни. Это Дерево Жизни — Христос, Сын Божий, ставший Сыном человеческим, и самое Его человечество есть полнота и совершенство человечества, потому что нет подлинного человечества, кроме как то, когда человек совершенно и до конца соединен с Богом. И есть мы, каждый из нас, подобный маленькому ростку, черпающему от земли ту временную жизнь, которую она может дать. И что случается: великий Садовник подходит и отрезает нас от наших корней, от той почвы, которая давала нам эту временную жизнь, и мы как бы подвешены в смерти. У нас нет корней в том, что временное, и мы еще не укоренились в том, что вечно. Временная жизнь течет из нас, и мы видим грозящую нам смерть. И затем мы бываем привиты к Дереву Жизни, и, чтобы прививка принялась, это Дерево Жизни тоже должно быть надрезано, потому что только рана к ране можно привить росток к ветке или к дереву. Оба должны быть ранены, и тогда жизнь дерева бежит в малый росток. И это не чуждая жизнь. Она не заменяет, не вытесняет жизнь маленькой ветки, она бежит по малой веточке и приводит к полноте, к совершенству все способности, все потенциальные возможности маленького ростка. Вот что должно произвести в нас Крещение. И это совершается с нами физически, когда воды Крещения погружают нас во Христа, в мертвость ко всему, что чуждо Богу, в полноту жизни Божественной.
И поэтому, я думаю, Феофан Затворник говорит, что в основе нашей подвижнической жизни — Таинство покаяния, обращение, и кульминация его — в Крещении. Но он подчеркивает еще один аспект обращения. Он указывает, что в Крещении нам все возможно: жить в Боге, разделять Его жизнь, врастать в нее. Но Крещение подобно тому, как сажают семя в землю: за ним надо ухаживать, маленький росток надо оберечь, пока он не окрепнет и не сможет противостоять невзгодам жизни. Так что будут моменты неверности, будет хрупкость, порой будут падения, будут раны. Но после каждого такого события мы можем вернуться по-новому, не так, как мы могли поступать, прежде чем сделали свой выбор, пока не выбрали Бога и Христа. В рамках этого взаимоотношения мы обретаем вновь, восстанавливаем наше право по рождению, наше достоинство, наше человеческое величие, нашу цельность.
Каждый из нас, возможно, пережил момент, когда подлинное покаяние потрясло душу, когда не только ум наш просветлел, сердце очистилось, воля выправилась, но изменилось самое наше тело. Есть прекрасное место в писаниях, кажется, святого Никиты Стифата, ученика Симеона Нового Богослова, где он говорит, что подлинное покаяние может вернуть даже потерянное телесное девство, потому что сила Божия — сила обновления. Христос сказал: се, творю все новое (Откр 21:5). Он не просто убеляет то, что обветшало и пришло в упадок. Совершается новое рождение, настает подлинная новизна.
И думаю, вы поймете, почему я вставил эту беседу о таинствах непосредственно в контекст того, что старался донести до вас о богословии материи, о том, что материя этого тварного мира совершенно свободна и способна общаться с Богом, стать духоносной, стать богоносной, преобразиться.
В таинствах нам дано ви{'}дение того, что будет. Да, в таинствах мы видим материю этого мира в эсхатологическом измерении. Слово «эсхатология» происходит от греческого
эсхатон, которое означает или что-то окончательное, или то, что достигло своей полноты, исполнения. В Воплощении произошло нечто абсолютно окончательное. Во Христе пришло завершение всего, и хотя мы еще идем к концу, конец уже остался позади и находится в нашей среде, потому что конец — не точка во времени, конец — Личность и определенная ситуация. И вместе с тем исполнение всего еще впереди: мы одновременно уже достигли цели с Богом и еще устремлены к своему исполнению. В таинствах мы это видим, постольку поскольку способны видеть. И насколько это возможно в контексте мира, в котором мы живем, мы видим, как материя уже участвует в том, чем она призвана быть в конце времен. Это очень ясно — до ужаса ясно в каком-то смысле — в Божественной литургии, когда, после причащения священства и мирян, священник произносит молитву, в которой просит Бога даровать нам приобщаться Ему еще истиннее в Его грядущем царствии
[151]. Мы только что приобщились Телу и Крови Христовым. Эсхатологически говоря, произошло событие решающее, окончательное, но нам еще предстоит перерастать самих себя и вырастать за пределы того, что мы способны вместить пока. Этот Хлеб и это Вино, и эти воды Крещения, которые в Боге, сообщают нам Божественную благодать, жизнь вечную. И однако, когда все исполнится, все это осуществится в нас с полнотой, которой мы пока не можем и представить себе.
В этом, как я уже сказал в начале, и заключается наша подвижническая задача, потому что Бог подает нам Себя неограниченно. Он дает Свою благодать без меры, но мы воспринимаем ее, лишь постольку поскольку мы подвижнически отдаемся Богу, подвижнически открываемся Ему, подвижнически молим Его покорить нас, сломить нас. И есть обещание, которое очень часто устрашает нас, обещание, которое дал ангел-хранитель Ерму, одному из семидесяти апостолов, когда сказал: не бойся, Ерма! Не оставит тебя Бог, пока не сокрушит или сердце твое, или кости твои
[152].
Я закончу на этой утешительной, воодушевляющей фразе.
Духовность пустыни
Я назвал эту беседу «Духовность пустыни», а не «Духовность пустынников», потому что нам следует сознавать, что, кроме мужского большинства, пустыню — и не только египетскую, но во всех концах христианского мира — населяло немало женщин, либо отшельниц (тут сразу вспоминается Мария Египетская), либо живших общинами. Так что я собираюсь говорить о духовности, общей для всех, кто избрал пустынножительство. Хочу также указать, что понятие пустыни не совсем простое, потому что когда мы говорим о духовности пустыни, мы думаем о египетских, о сирийских отцах, если нам знакомы такие имена, как святой Ефрем Сирин или святой Исаак Сирин, но на протяжении истории Церкви пустыней оказывались многие места. Во времена, когда население нашей земли было гораздо малочисленнее, существовали обширные области, куда можно было удалиться в полной уверенности, что никого не встретишь. И я помню, как отец Софроний говорил мне, что на семь лет удалился в пустыню — что означало на самом деле, что там, где он жил, отделенный от всех горным хребтом, он был в полном одиночестве. Но расстояние между ним и другими людьми нельзя было измерить сотнями миль, как при жизни Антония Великого или Арсения Великого, расстояние было очень мало. И вместе с тем оно было практически безгранично, потому что никто не переходил этот хребет, никто не вторгался к нему. Так что надо сознавать, что понятие пустыни обнимает не просто географическое место, но духовное положение. И если мы подумаем о самой известной пустыне, египетской, то обнаружим, что духовность там была, в каком-то смысле, гораздо более многосложная, чем кажется на первый взгляд.
В пустыне мы видим не только отшельников и затворников, но и монашеские общины, некоторые из которых были очень большие и многочисленные, были монастыри по несколько тысяч монахов. Так что есть духовность пустыни, которая может сочетаться с общинной жизнью. Уходившие в пустыню люди имели очень различное происхождение. Их корни, образование, общественное положение, прежняя должность, разумеется, оказывали влияние на их мысли, подходы, придавали различные оттенки их жительству и, следовательно, духовности.
Как я уже упомянул, в пустыне были не только мужчины (хотя их было большинство), но и женщины. И действительно, хотя в сборниках изречений (Apophthegmata) мы находим изречения этих женщин, очень похожие на слова мужей пустыни, если почитать описания их жизни, мы видим в них совершенно другие черты и другие свойства личности, чем качества окружавших их мужчин.
К этой многосложности добавляется еще и то, что эти мужчины, эти женщины уходили в пустыню по самым различным причинам. Помнится, отец Георгий Флоровский в одной своей лекции о монашестве
[153] говорил о том, что монашеское движение началось как реакция людей, мужчин и женщин большой духовной глубины и силы, на теплохладность, безжизненность христианского общества, возникшие в результате императорского эдикта, который давал христианской Церкви право существовать, а позднее и предоставил ей преимущественное положение. Эти люди оставляли города, оставляли родные места, уходили туда, где качествовало неразбавленное христианство и где можно было создать общины, полные подвижнического устремления, беспощадного, радикального, которое позволяло им всю свою жизнь подчинить Евангелию.
С другой стороны, некоторые уходили со своих мест, будь то из больших городов империи или из деревень, потому что на них нашла опасность, физическая или душевная опасность, им грозило впасть в грех или физически погибнуть. Эти люди уходили по хрупкости, но такой хрупкости, которая сознает себя и не хочет, чтобы ею воспользовались окружающий мир или те люди, которые над ними имеют авторитет или власть, и уничтожили их как людей, как христиан. Еще другие снимались со своего места, потому что в окружении не только теплохладных христиан, но и в большой еще мере языческого общества они впадали в отчаяние перед пустотой жизни. С этим мы сталкиваемся в наше время во всех странах, где господствует безбожие: перед людьми встает отчаяние, и потому они как бы уходят, стараются найти внутреннее состояние, Царство Божие внутри себя, или внешнее положение — в монастыре или в тайной общине, где они могут найти другого рода безопасность (это бывает и в тюрьме, и в концентрационном лагере), не телесную, не покой души и чувств, но успокоение в сознании, что они укоренены в Боге и что жизнь имеет смысл, и что жить можно. Те из вас, кому попадалась книга Татьяны Горичевой «О Боге говорить опасно», на первых же ее страницах столкнулись с примерами такого рода ситуаций.
Были еще и такие, которые отозвались на прямой призыв. Святой Антоний Великий пошел в храм и услышал чтение Евангелия. В тот день читался отрывок, где есть слова: если хочешь быть совершенным, продай все и следуй за Мной (Мф 19:21). Он оставил все имущество — и важно не то, велико ли имущество или не очень, важно, насколько оно обладает нами, — оставил все, что имел, и ушел в пустыню (он и так жил невдалеке от нее), ушел в одиночество, в неизвестность, к еще неведомым ему собратиям.
Были и другие призвания. Мне вспоминается один греческий святой. Он тоже услышал в церкви слова апостола Павла: непрестанно молитесь(1 Фес 5:17). Ему было девятнадцать лет отроду, он впервые услышал эти слова, не потому что никогда они не касались его слуха, но потому что они никогда не ударили его в сердце. Он оставил все: деревню, родных, семью, всех и вся, ушел в горы и стал жить отшельнической жизнью; к нему я еще вернусь.
В это же время люди уходили в монастыри по причине того, что безбрачие и девство очень высоко ставились в те славные дни радикального подхода. Но и среди этих людей были различия. Одни, мужчины как и женщины, уходили ради того, чтобы вести жизнь безбрачия, чистоты, молитвы, полной открытости Богу, так, чтобы ничто не обладало ими, кроме Самого Бога. Уход некоторых порой может поразить нас. В этом контексте я сейчас упомяну мимоходом рассказ о Галактионе и Епистимии. Они были женихом и невестой. Каждый из них в тайне своего сердца решил сохранить девство, и когда после венчания в храме они остались наедине вдвоем, они открыли друг другу свои сердца и обнаружили, что ими владеет одно стремление, одно желание — всецело отдать себя Богу. И они оба решили тайно оставить дом и уйти в пустыню, каждый в разный монастырь. Но я привожу этот рассказ, потому что у него интересное завершение. Позднее началось гонение на христиан, и до Епистимии дошел слух, что ее муж схвачен язычниками и подвергается мучениям. Она пришла к своей игуменье и сказала: «Мой муж сейчас умирает мучеником. Мое место рядом с ним». И игуменья благословила ее отправиться в Александрию и пострадать вместе с Галактионом, потому что он ее муж. Как мы видим, тут было очень тонкое и сложное понимание человеческих взаимоотношений и места в них подвига и любви.
Еще одна причина или побуждение, приводившее людей в пустыню, было покаяние, чувство, что после греховной жизни только радикальное обращение, то есть полная перемена ума и жизни, борьба, которая выжжет все внутреннее зло и нечистоту, может позволить вернуться к Богу. Вы все знаете историю Марии Египетской, это самый яркий пример такого рода людей.
И наконец, еще причина, почему монастыри и скиты были столь населены: в ту эпоху в них сияли, как образцы, великие Божии люди, которые прожили какое-то время в пустыне и выросли в меру светильников, поистине просияли славой Божией. Они вдохновляли, поражали. Как следствие, в тех, кто увидел славу Божию на лице или в глазах одного из этих подвижников, рождалось желание подражать им, стать их учеником. И это приводило к богатому, сложному, творческому взаимоотношению, которое называлось и до сих пор называется послушанием.
И при всем этом, учитывая пол, образ жизни, происхождение, побуждения и причины, мы видим порой людей очень разного склада ума, хотя в них есть и некоторые общие черты.
Может быть, тут пригодятся два примера. Одновременно со святым Арсением, который жил в глубине пустыни, избегал всякого общения с людьми, жил авва Моисей. Авва Моисей поселился на пути следования путников. Его келья была всегда открыта для паломников и путников. Он проводил свою жизнь, все время в заботах о них. И как-то братия в недоумении спросили авву Арсения, каким это образом он ради Бога бежит от людей, а такие, например, как авва Моисей, живут на распутье. И тот ответил: «Обоих нас побуждает любовь Божия. Я бегу всех, потому что на небе у множества ангелов одна воля, согласная с волей Божией, на земле же у всех людей желания расходятся, воли сталкиваются, и я не могу быть одновременно с Богом и с людьми». Тем самым он признал, что в нем есть хрупкость, хотя в глазах других людей он был одним из величайших пустынников
[154].
Есть еще рассказ о двух братьях, которые ушли в монастырь в пустыне. Один раздал все свое наследство и жил в полной нищете и одиночестве. Другой, напротив, оставил себе свою часть наследства и употреблял ее на то, чтобы оказывать помощь паломникам и бедным. И тот, который оставил все, упрекал своего брата в том, что он нарушил монашеский обет нестяжания. Брат ничего не мог возразить ему кроме того, что его побудила к тому любовь, и он не мог противиться ей. И брат его, оставивший все, после молитвы получил откровение в видении, что подвиг обоих был равно принят, потому что оба отозвались на божественную любовь, выразивши это разным образом. И в результате такого разного образа мыслей появлялись и различные образы жизни, но и разнообразные образы молитвы.
Если задуматься над тем, что я только что сказал, можно поставить себе вопрос: что же у них было общего? Можно ли говорить о духовности пустыни, а не просто о духовности отдельных пустынников, между которыми не было ничего общего или было очень мало общего? Мне кажется, на самом деле у них было много общего: в основании всего было неутолимое стремление души к содержанию, к полноте. И тут мне вспоминаются слова архиепископа Михаила Рамзея, который как-то сказал, что душа человека так бездонно глубока, что ничто не может ее заполнить до краев, кроме Бога, Который изливает в нее Свое присутствие. Так что мы видим людей, мужчин и женщин, которые испытывали настоящий голод и которые, поняв, что окружающий мир не дает возможности насытиться до конца, наполниться до края, уходили в пустыню, так чтобы исчезло все, что могло отвлечь их от этого поиска, все, что могло вмешаться, все, что могло ослабить их устремление, все, что могло увлечь их в делание, не имеющее ничего общего с этим устремлением их жаждущей души. Они были разными людьми, но все испытывали этот же голод.
И вследствие этого голода возникала, как мне кажется, вторая общая им черта: они откликались страстно, до конца, беспощадно отзывались на тайну Креста и любви Божией, — Того Бога, Который так возлюбил мир, что отдал Своего Единородного Сына ради того, чтобы этот мир был спасен. Этот голод естественным образом приводил их к уединенной жизни, но вскоре они обнаруживали, что и в одиночестве они не одни. Мне вспоминается, как Феофан Затворник определяет монаха: «Бог да душа — вот весь монах». К этому они и стремились в первую очередь, и этого достигали продолжительной, беспощадной, победоносной борьбой.
И, как я уже говорил, бывало, что по Одному Ему ведомым причинам Бог обращался с призывом к человеку. Некоторые были прямо призваны. Некоторые слышали слова, которые они не могли беспреткновенно осуществить до конца в той ситуации, в которой были, в своей деревне, в городе, где жили, на своем месте в жизни, и они оставляли все, потому что Бог обратился к ним со словом. И здесь, может быть, стоит вспомнить слово святого Марка Подвижника, который говорит в одном из своих писаний, что если даже Сам Бог станет перед тобой и даст повеление, и твое сердце не может ответить «Аминь!», — не исполняй повеление, потому что Богу нужно твое полное согласие и гармония с Ним, а не пустой поступок. Так вот, эти люди поступали в гармонии с Богом, пусть неполной, зачаточной, но по мере того как они так жили, эта гармония росла, возрастала, так что они действительно вырастали в место вселения Самого Бога.
Они оказывались в пустыне, и я хочу продумать с вами, что такое эта пустыня. Как я уже сказал, в физическом отношении это могут быть очень различные условия. Это может быть простор Египетской пустыни, это может быть ограниченность Афона. Это может быть любое другое место, где нет ничего, кроме вас: вы на земле, над вами небо, и все одиночество, а порой страхи, а порой ликование земли и неба. Если подумать о Египетской пустыне, то первое, что ярко встает перед нами: ее насельники были перед лицом огромного простора, неизмеримой безграничности земли и неба вокруг них и над ними. Одно из ранних воспоминаний моей жизни (так как детство мое прошло в Персии и часто на краю пустыни) — это картина пастуха в окружении овец. Тогда эта картина поражала меня как впечатление, эмоционально, но когда много лет спустя я стал продумывать то, что видел тогда, меня поразила картина: небосвод безграничный, бесконечный, и такое же бесконечное пространство земли. А между этими двумя бесконечностями — ничтожно малое существо, охраняющее такие же малые существа, в окружении опасности, в окружении смерти, в окружении всего, что есть разрушительного в природе. Между пастухом и его стадом только одна разница: в том, что он заботится о стаде. Он стоит, такой же уязвимый, такой же ничтожно малый, как его овцы, но его наполняет любовь к стаду, забота о нем, готовность рисковать жизнью, положить жизнь на то, чтобы стадо осталось целым, безопасным, и он обладает опытом столетий и тысячелетий других пастухов, которые тоже стояли как стражи хрупкости других существ.
И мне кажется, это так и осталось во мне и, может быть, оправдает меня в том, что я говорю о пустыне, как будто у меня есть опытное знание ее. Я ничего не знаю, кроме этого глубокого впечатления, которое сохранилось во мне вот уже почти 70 лет: окружающая бесконечность — и малость человека, чувство, что человек в пустыне крайне уязвим, за пределом всякой надежды спасения, всякой надежды на помощь, и тем не менее способен стоять там в вере и в надежде. И это шаткое равновесие между ужасом и беспредельной надеждой, превозмогающей отчаяние, потому что безопасность в Боге или, может быть, в мудрости — оно-то, возможно, и есть состояние уравновешенности ранних насельников, тех, которые ушли в пустыню первыми. Они не могли найти поддержку у более опытных людей, не могли по-человечески почерпнуть от них чувство безопасности, научиться мужественно встречать опасности лицом к лицу из их слов: «я выстоял перед всем этим, не страшись».
А если думать о страхе, следует понимать, что страх был реальный. Пустыня, как бы она ни казалась пустой на карте, населена гиенами, дикими кошками, тиграми и львами, всеми возможными зверями, на которых мы без страха смотрим в зоологическом саду. Но если встретишься с ними на природе, в их глазах видишь свою смерть — смерть в их челюстях, смерть в их численности, смерть в их голоде, смерть в их дикости, неприрученной человеческой любовью.
Позднее некоторые святые, достигши состояния Адама в раю или состояния Христа, приручили их — не силой, не властью, а собственным присутствием, вернее, присутствием Христа в них, которое проливало гармонию там, где вследствие греха возникла дисгармония. Но кроме этих страхов (к этому я еще вернусь), другие страхи рождались из одиночества, из того, что никого не было, чтобы отвлечь их мысли, их внимание от самих себя, от смятения в собственном их сердце, от смятения в мыслях, от вожделений плоти, от воспоминаний прошлого, от тоски и желаний, всего того, что овладевало ими, потому что внешний мир больше не укрывал и не развлекал их. Вы, может быть, помните слова Паскаля
[155] о том, что развлечение — наше единственное спасение, и вместе с тем — худшее для нас зло. Оно отвлекает нас от самих себя, от того, что единственно важно, дает нам передышку. Но эта передышка отбрасывает нас назад, возвращает в мир, заставляет отказаться от поиска. Пустынники оставались наедине с самими собой. Это происходило в первую очередь на уровне человеческих проблем, клубящейся в них душевности, внутренней разделенности, борьбы. С другой стороны, они встречались с искушениями, которые вносил в их жизнь, в их мысли, в их сердце, в их плоть дьявол. Я помню место у святого Иоанна Лествичника, где он советует тем, кто уходит в пустыню, провести сначала достаточно лет в общежитии, чтобы приобрести навык в столкновениях с людьми, прежде чем в одиночестве стать лицом к лицу с собственной внутренней борьбой и с дьяволом, который воспользуется тем, что они одиноки и не защищены присутствием наставника или братства.
Я хочу вернуться к уже упомянутому греческому святому. В своей деревенской церкви он услышал слова непрестанно молитесь (1 Фес 5:17). Слова эти коснулись его, открылись ему, проникли до глубин его существа. Он ушел на гору и стал молиться непрестанно. Он был неграмотный, знал единственно молитву Господню и стал повторять эту молитву, твердить ее раз за разом, вникая, сколько мог, в слова, продумывая их, снова возвращаясь к молитве, обогативши слова размышлением над ними, обогатившись своим прошлым опытом, который ожил от слов, и новоприобретенным пониманием их. И все было прекрасно, пока светило солнце. Затем настал вечер, и с ним — неуверенность сумерек. По мере того как сгущалась темнота, вокруг него стали подниматься звуки. Он слышал осторожные шаги, треск сучьев, он мог видеть, как вокруг него сверкают глаза, он слышал вскрики жертв хищных зверей, хищных птиц. Он почувствовал себя таким ничтожным, таким уязвимым, таким беззащитным, он ничего не мог сделать, потому что даже не видел своих врагов, не мог определить, какие именно опасности его окружают. И тогда само собой он стал взывать словами, которых как таковых прежде не слышал: Господи Иисусе, спаси меня! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси меня! И так он кричал всю ночь.
Пришло утро, все умолкло вокруг него, казалось, вернулась безопасность. Но теперь он знал, что за каждым кустом, под любым камнем его подстерегала опасность, которая была ему явна ночью. Так что он продолжал взывать теми же словами, произносить слова молитвы Господней, потому что понимал, что если Господь не защитит, он пропал, погиб, он мертв, растерзан на куски. Позже, когда он был уже стариком, его посетил другой подвижник и спросил: «Скажи, кто научил тебя непрестанно молиться?». И ответ был: «Бесы! Потому что когда я привык к одиночеству, привык к ночным страхам, привык справляться с собственными проблемами, на меня стали нападать бесы, и мне пришлось бороться с ними. И всецело и до конца я мог полагаться только на Бога, и день и ночь я взывал к Нему, просил помощи и милосердия».
Но в этой борьбе против страха, в этой тревоге, которую они встречали с верой в Бога и в уверенности, что раз Бог сказал слово, значит, Он взял на Себя ответственность за все, что случится с ними, пустынников поддерживала надежда за пределом надежды, надежда за пределом отчаяния, уверенность, что в Боге безопасность и что они могут стоять и молиться. И хотя формы молитвы были различны, но в конечном итоге молитва сводится к всецелому предстоянию перед Богом, во все большей открытости Ему, все более полной отдаче Ему. У этого святого молитва началась с крика о помощи. Молитва началась с обращения о помиловании и прощении у Марии Египетской. В конце жизни Исаака Сирина она вылилась в понимание того, что единственные молитвенные слова, которые стоит произносить, это: Господи, помилуй! — в сознании, что слово «милость» покрывает все наши взаимоотношения с Богом: Его прощение, дарование Им новой жизни, Его вдохновения на борьбу и Его дар благодатной силы на победу.
Есть книги на эту тему, которые могут показаться вам интересными. Есть несколько сборников жизнеописаний или изречений отцов и матерей пустыни. Есть
Луг Духовный Иоанна Мосха и, конечно, тома
Добротолюбия[156]. Разумеется, к этому можно прибавить писания Иоанна Лествичника, можно попытаться прочесть более пространные
Жития святых, потому что в житиях святых вы найдете рассказы, случаи, придающие реальные, личные качества разным святым, характерные черты которых я старался представить в целом. Но каждый из них был неповторимой личностью, связанной с Богом неповторимым образом, и потому каждый из них может быть более или менее близким каждому из нас, оказаться наставником для нас в большей или меньшей мере.
Безмолвие
Одна их характерных черт пустыни — безмолвие. Мы говорили о беспредельности пустыни и о том, как в этой бепредельности мы находим молчание, которого нигде больше не найти, молчание такое глубокое, такое всеобъемлющее, что малейший звук, малейшее нарушение этого безмолвия вызывало у некоторых насельников пустыни очень глубокую реакцию. Я помню, как один из них писал: «Пролетела со щебетом птица в небе, и на многие часы тишина нарушена»
[157]. Очевидно, что он имеет в виду не нарушение внешней тишины. Щебетание птицы раздалось и смолкло, но оно достигло души человека, который был в глубоком, однако несовершенном внутреннем покое, и нарушило его.
В одном из своих писем Феофан Затворник, говоря о тишине, пишет, что она подобна тому, что происходит, если дать воде в пруду устояться. Только очень постепенно ил оседает на дно пруда, и вода становится совершенно прозрачной, так что можно, глядя на пруд, видеть его дно, но видеть вместе и отражение неба в нем. Такой вот тишины стремились достичь, искали аскетическим и мистическим подвигом пустынножители. Окружающая их тишина, с одной стороны, была порой как бы успокоением, ничто не нарушало их внутреннего созерцательного состояния. С другой стороны, временами эта тишина становилась устрашающей: не на что опереться. Безграничная пустыня, безграничное небо над ней, и ничего в этом пространстве, на что отозваться, ничто не обращено к ним, так что они действительно в полном, абсолютном одиночестве с Богом или с самим собой. Разумеется, я не ставлю под вопрос объективное присутствие Божие, но я хочу сказать, что моментами они ощущали превосходящее все присутствие Божие, заслонявшее все мысли, все чувства, которые не имели связи с этим присутствием. И, с другой стороны, в ходе этой внутренней борьбы за свою цельность, целостность бывали моменты, когда они как бы оставались наедине с собой. Это требовало от них готовности принять вызов такого молчания и справиться с ним. Внутренняя тревога должна успокоиться, должны осесть, как ил в пруду, воспоминания, сожаления, надежды, желания…
Мне вспоминается рассказ об одном пустыннике, который, еще будучи в миру, победил большие искушения, оставил мирскую жизнь ради того, чтобы обрести тот мир, который только Бог может дать, мир, превосходящий всякое представление. И внезапно ему предстало одно воспоминание, память о чем-то, что могло произойти и не произошло. И годами ему пришлось бороться с этим воспоминанием, и эта борьба далась ему много труднее, чем преодоление конкретных, непосредственных искушений.
С воспоминаниями, восстающими из прошлого, приходилось сталкиваться всем подвижникам. И в связи с этими воспоминаниями вставали в памяти случаи, огорчения, желания, надежды, которые еще не обратились в них в покой и полную устойчивость, способность быть лицом к лицу с Богом и только с Богом Одним. Этого достигают долговременной борьбой. И это учило подвижников своего рода внутренней дисциплине, которую они называли трезвением, бдительностью: в одной стороны, быть бдительным, не допустить, чтобы впечатление извне овладело мыслями, всколыхнуло чувства, пробудило в уме и в душе состояния, которые придется преодолевать; с другой стороны, эта бдительность должна позволить уловить в душе малейшее движение Божиего присутствия.
Пустыня и бросает вызов своей тишиной, но одновременно и учит тишине, учит слушать. Мы этого не умеем делать даже в обычной жизни. Но кроме того, очень трудно научиться тишине при отсутствии всякого внешнего побуждения, потому что прислушиваться надо к тому, как безмолвно проходит мимо нас Бог. Прислушиваться надо к малейшему движению души. И эти движения души следует оценивать — от Бога ли они, или просто естественные, природные побуждения, или это может быть искушение, исходящее от злой силы. И этому учишься постепенно из опыта, из трагических падений, когда подвижник поддается побуждению, которое не исходит от Бога, и обнаруживает, что опустошен, что годы труда и трезвенной жизни уничтожены, сметены. Или наоборот, бывает, что, вслушиваясь внимательно и уловив одно слово от Бога, подвижник унесен в новизну жизни на такой глубине и с такой силой и красотой, которых прежде не знал.
Так что вот вторая черта этого покоя пустыни: стояние лицом к лицу с ее безграничностью и с хрупкостью собственного существа, и необходимость сохранять внутрьпребывание, но не быть сосредоточенным на себе. Быть внутри, да — но сосредоточенным на Боге. Разницу между этими состояниями описывает Феофан Затворник: он говорит, что человек, сосредоточенный на себе, подобен стружке дерева, свернутой вокруг собственной пустоты. Важно, чтобы внутри была не собственная пустота, а незримое, порой неощутимое присутствие Божие, открытость, а не состояние стружки, открытость, которая позволит нашей душе звучать подобно музыкальному инструменту, о чем я говорил раньше.
Конечно, с этим связана молитва, но молитва, которая находит различные способы выражения. С одной стороны, молитвенная дисциплина, которая направлена на то, чтобы приучить ум полностью быть внимательным к молитвенным словам, иначе говоря, не к тому, что происходит внутри вас, а к тому, к чему вы устремлены, чему хотите соответствовать. И, с другой стороны, моменты в молитве, когда душа вся — внимание и отклик, когда то, что происходит в душе, — ответ во всей правде на присутствие Бога или на Его отсутствие, крик отчаяния сиротствующей души или ликующий возглас души, которая почуяла мимолетную близость Господа.
Я уже упоминал некоторые формы молитвы, но мы должны понимать, что в ранней пустыне не было в качестве материала для молитвы всего богатства литургических текстов или молитв святых, которым мы располагаем теперь. Эти молитвы возникли позднее. Тогда у подвижников были псалмы. И псалмы, в каком-то смысле, это очень сложное и богатое собрание молитв, в которых человеческая душа во всей правде отзывается на каждую человеческую ситуацию, в какой она оказывается. И под правдой я имею в виду не только высшую божественную правду, но человеческую правду. Моментами, отзываясь на собственное раскаяние, печаль, душа оборачивается в сокрушении сердца к Богу и вопиет о своем горестном состоянии: 50-й псалом — типичный такой пример. Но бывают и другие моменты, когда псалмы, родившиеся в Ветхом Завете, до времени Христа, выражают и другие чувства — чувство гнева, чувство боли, тревогу, и каждый из нас может, и даже каждый из подвижников мог узнать себя не только в лучшем, но порой в самых трагических ошибках или в самых трагических реакциях на ситуации извне.
Конечно, духовные писатели толковали некоторые из таких мест и относили гнев или отвращение к «врагу» как к сатане или к злу внутри нас самих. Но когда эти псалмы были составлены, они не обязательно писались в таком чисто духовном смысле. И для святых было очень важно, что они могли, будто в зеркале, увидеть себя в этих местах, могли честно признать, что в них есть гнев, в них есть отчаяние, в них есть реакции, которые недостойны не только Бога, но и их самих. Это было важно, потому что они могли знать, что в этом они не одиноки. Они могли чувствовать, что не предоставлены самим себе, не должны искать путь через извилины собственной души без руководства и ложно вообразить, что все неправо в них, а в великих духоносных людях все было право. Они видели у царя Давида и в других ветхозаветных личностях, составивших молитвы, борьбу, которая шла в них на том основании, что они были обыкновенными людьми, стремящимися к Богу, с усилием пробивающимися к Нему сквозь собственную невосприимчивость к жизни в Боге и к идеалу, к которому они стремились. С другой стороны, бывали моменты, когда они видели перед собой величие больших душ в молитве и могли учиться от них. Но и в том, и в другом случае они что-то открывали о себе — или о том состоянии, в котором они находятся, или о том, какими их призывает Бог стать и быть. Так что Псалтирь играла очень центральную и важную роль в научении молитве и такой трезвости, которая давала им видеть себя в правде, какие они есть, без иллюзий и без разочарования, ставить себя перед Богом и перед собственной совестью.
Если подумать о том, что они ежедневно вычитывали Псалтирь от начала до конца, если подумать о том, что они молились собственными молитвами, взывали в тоске или провозглашали свою радость, то понятно делается, что молитвенная жизнь была не просто литургическим упражнением, где они принимали участие в молитве Церкви, которая их поддерживала и несла. Им приходилось вести борьбу за молитву в своем одиночестве, лицом к лицу с самим собой и с Богом. И если поставить себе вопрос о том, что сталось с этими молитвами позднее, когда развилось монашество, например на Афоне, то мы увидим, что это тяжелый труд, а вовсе не легкое упражнение. Есть место в писаниях одного афонского старца, где он говорит, что монах должен свести свое молитвенное правило к минимуму и оставить как можно больше времени на непосредственную беседу с Богом, открытость Ему, так, чтобы обмениваться жизнью с Богом. Но если вникнуть, что же он называет минимальным правилом, то мы содрогнемся, потому что он говорит: достаточно вычитать утренние молитвы и утреню, затем первый и третий часы, шестой час, девятый час, перейти к вечерне и повечерию — после этого можно спокойно молиться перед лицом Божиим.
Я помню русскую женщину, которая хотела принять монашество, а я пытался ее отговорить. Она была крепкая, упрямая женщина и говорила: «Я хочу научиться молиться». Тогда я сказал ей: «Ладно, вот вам молитвенное правило» — и дал ей правило по заповеди этого старца. Через какой-то период я спросил ее, сколько времени у нее уходит на правило, и она ответила, что часов восемь в день (которые она перемежала своей работой уборщицы, чтобы на что-то жить). Через год я спросил: «Ну, как молитва?». И она ответила: «Знаете, я вычитываю правило, потом, перекрестившись, говорю себе: слава Богу, теперь можно спокойно помолиться». Потому что правило служило ей для дисциплины ума, посредством правила ее мысли, ее чувства, все ее существо, включая физическое тело, как бы оказывалось между мельничными жерновами и становилось мукой. И из этой муки можно испечь хлеб и принести его Богу. Как видите, надо понимать, что это не было так: помолился немножко, а потом сидишь и созерцаешь пустыню, любуешься ее красотой, переживаешь свое одиночество или чувство близости Божией. Это была борьба, подлинная борьба за то, чтобы перерасти себя через то, чтобы войти в опыт других людей, пережить его.
Разумеется, эта молитва через какое-то время, короткое или долгое, приводила к общению с Богом, общению очень разительному. В житиях некоторых пустынножителей мы видим, как они стоят перед Богом, пламенея молитвой. Есть несколько рассказов о том, как ученики или проходящие мимо паломники смотрят в щелку двери или в окно и видят, как подвижник стоит, воздев руки к небу, и от рук поднимается пламя
[158].
Кроме псалмов, употреблялись и другие формы молитвы, краткие, насыщенные формулы, подобные, например, той, что употребляется в англиканской вечерне:
Господи, поспеши на помощь нам (Пс 21:20), или возникшей позже (хотя некоторые ее формы довольно ранние) Иисусовой молитве:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. И это очевидно требовало иного рода зрелости и иного рода дисциплины, потому что когда читаешь молитвы, где переходишь от мысли к мысли, гораздо легче удерживать ум на той или другой фразе, чем на одной-единственной мысли. А Иисусова молитва, так же как и эти короткие фразы, заимствованные из Псалтири, или отрывки из Ветхого или Нового Завета, требовали, разумеется, способности полностью сосредоточиться всем сердцем, всем умом, всем своим существом на произносимых словах, потому что, как однажды сказал мне один человек, замечательный молитвенник, с этими краткими молитвами беда в том, что если одну из них произнесешь без внимания, ее уже не вернешь. Можно произнести ту же молитву тысячи раз, но ту, которую пропустил без внимания, уже не восстановишь... И остается боль, сожаление о том, что в момент, когда я сказал Богу:
Господи, спаси меня! — я был рассеян, как будто мне это неважно. Или в момент, когда я обратился к Богу со словами:
Радость Ты моя![159] — как сказано в одном из псалмов, я как бы прошел мимо этих слов, и хотя я их произнес, но до Бога не дошло, что я отозвался на них с глубоким чувством радости и благоговения.
Я уже говорил о том, каким образом сначала земные страхи, а потом душевное смятение, а позднее и страх сил зла побуждали людей непрестанно молиться, потому что через физическую опасность человек познал свою хрупкость, познал, что он предельно уязвим, что нет надежды для него, кроме как в непрестанном внимании и в милости Божией, и потому он обратился к Богу, взывая о постоянной помощи. И это приводило к сознанию, которое очень живо было у пустынников и которого нет у нас, что каждый человек бесконечно хрупкий, уязвимый, что никого нельзя судить и осудить, — это принадлежит только Богу, Который Один только может взвесить силу человека и искушение, или страх, или хрупкость. И мы находим образцы такого рода открытости к хрупкости другого человека со стороны великих святых. Я сейчас думаю о двух случаях из жизни пустынных отцов. Один из монахов общины оказался недостойным, согрешил в чем-то. Созвали братию, чтобы произвести над ним суд и назначить ему соответствующее наказание. И старец пришел в собрание, неся на спине дырявую корзину с песком. Он шел из кельи на собрание, и песок сыпался изо всех дырок. Один из братий сказал ему: «Отче, что ты делаешь? Ты взял для песка худую корзину». И старец ответил: «Видишь, я иду судить моего брата и не замечаю собственных грехов, которые стелятся за мной следом, их я не вижу»
[160].
И есть другой случай в рассказах о жизни пустынников. Подвижнику донесли, что один из братий держит у себя в келье женщину. Старец сказал: «Пойдем, проверим, так ли это». Он пришел к указанному монаху с группой братий, окинул взглядом келью и увидел большую корзину, где только и могла быть спрятана женщина. Он сел на эту корзину, покрыл ее своей мантией и сказал братии: «Ну что же, ищите женщину». Они все обыскали, и когда они никого не нашли, старец выговорил им, что не следует спешить подозревать добродетельного брата, отправил их вон каяться в превозношении, дерзости и подозрительности, после чего выпустил женщину из корзины и строго обличил и ее, и монаха
[161].
Такое было в целом отношение в этой среде. Можно привести десятки примеров людей: сами они достигли чистоты, величия, святости, перед которой стоишь в безмолвии, и, однако, никогда не осудили другого человека, потому что из собственного опыта познали, как легко могут поколебаться, как легко искушение может войти в мысли, поколебать даже физическое их существо. И это одна из вещей, которым мы можем научиться от отцов пустыни: их чувству собственной хрупкости, тому, что каждый уязвим и что к каждому следует относиться с состраданием и с глубочайшим смирением.
И это приводило их к простоте — не к того рода примитивности, какую мы находим в тех людях, кого называют недалекими или простоватыми. Это была простота цельности, всякая усложненность отпадала с них. Я помню, святой Иоанн Кронштадтский пишет в своем дневнике: Бог — самое простое существо, какое можно себе представить, потому что в Нем нет тени, нет запутанности. Он весь — свет и прозрачность. Некоторые из вас, может быть, читали книгу
[162], в которой маленькую девочку спрашивают, почему она думает, что Бог может видеть прошлое, настоящее и будущее. И она отвечает: «Потому что Он совершенно прозрачный, Ему не надо поворачивать голову, чтобы видеть то, что сзади Него. Он все видит благодаря собственной прозрачности». И эти люди благодаря своей приобщенности Богу, благодаря тому, что они предстояли перед лицом Божиим, — освободились от всего, что делает нас как бы густыми или сложными в дурном смысле слова. И потому они могли смотреть и видеть так, как по-французски говорится о молитве: просто молитва взглядом, способность стоять перед Богом и смотреть, не нуждаясь ни в каком аналитическом процессе, который приведет к пониманию, стать настолько прозрачными, чтобы свет Божий беспрепятственно лился в них и через них, чтобы не осталось ничего, кроме самого существенного. Причем ясно, что существенно не сложное, а, как я вам уже говорил, живая душа по образу Живого Бога, которая может общаться с Живым Богом, потому что достигла полной гармонии по образу и подобию.
Помню, отец Софроний говорил со мной об этом. Он говорил, что если долгое время живешь один, так чтобы ничто не вставало между тобой и самым твоим существом или между тобой и Богом, тогда начинаешь различать вещи, которых иначе не различил бы. И он дал такой образ: на пестрых обоях с разноцветным узором из цветов и птиц трудно заметить пятно. На чисто побеленной стене малейшее пятнышко, мошка сразу заметны. И он добавил: «Вот к чему мы должны стремиться. Мы должны стараться стать настолько прозрачными, настолько свободными от всего лишнего, чтобы немедленно замечать и видеть все случающееся».
И таким образом мы встречаем в ранних пустынниках поразительную непосредственность их ви{'}дения и их понимания самих себя, Бога и других людей, потому что это прямое ви{'}дение, простой взор, простая способность смотреть и видеть позволяла им прозревать в людях, сквозь различные слои усложненности, самую сущность их души. И это давало им мудрость, которую действительно можно найти только в пустыне, мудрость, которая позволяла этим людям, глядя на человека, общаться с ним на глубинах молчания и могла потому отозваться на внутреннего человека, а не на внешнее событие. Помню, например, как трое монахов посетили одного старца в пустыне. Все трое просили его сплести им сети для ловли рыбы. Он отказал первым двум, а на просьбу третьего немедленно, с готовность отозвался согласием. Посетители ушли, но двое первых вернулись и спросили: «Отче, почему ты отказал нам и не отказал ему?». И старец ответил: «О вас идет хорошая молва, следовательно, мой отказ вы не примете так, будто я гнушаюсь вами. У того же брата дурная слава. Если бы я отказал ему, он мог подумать: он отказал мне за мое недостоинство. Вы приняли мой отказ спокойно, он бы его так не принял, поэтому я сплету ему сеть»
[163]. Такого рода притчей, такого рода советов множество.
Образы пустыни
Есть еще какое-то количество вещей, которые, мне кажется, важно знать для того, чтобы понимать духовность, самый дух пустыни. Я имею в виду подвижническое стремление к послушанию, а также реализм и юмор, которые мы находим у пустынножителей. Все это — составные части той цельности, которая позволяет проявляться их простоте так, как люди благочестивые редко решаются ее проявлять, потому что это унизит их святое достоинство.
О послушании я уже говорил, повторю коротко вот что: люди становятся учениками того, кто им созвучен (и это очень важно), чей голос они слышат, чью мысль они понимают, пусть зачаточным образом, в чей опыт они способны врастать. И очень важно прилепиться к человеку, с которым у вас есть как бы духовная, душевная близость. В пустыне мы все время видим, что одни люди шли к одному старцу, другие — к другому, не потому что тот лучше, а потому что одни понимают одного, другие — другого, и учатся от него. Возвращаясь к примеру, который я давал: тот, у кого талант к живописи, не пойдет учиться у музыканта, а музыкально одаренный человек не пойдет к скульптору. Каждый выберет себе того наставника, который может повести, словно путеводная звезда, к совершенству.
Но это порой может означать жестокую борьбу, борьбу с самим собой, потому что мы все держимся за то, какие мы есть, держимся за собственное как бы нутро. И чрезвычайно трудно порой отказаться от того, что нам кажется очень ценным в нас самих. Это может начаться с чего-то очень простого. Это может повести как будто к нелепым вещам, потому что одно из свойств послушания то, что стараешься жить за пределом себя, своего понимания, своего опыта через то, что входишь в опыт и понимание, принадлежащие не тебе, а другому человеку. И поэтому для начала порой приходится выполнять что-то, значение чего не понимаешь. Мы все время встречаемся в жизни с послушанием на самом обыкновенном уровне. Почему в медицине шприц или скальпель надо держать таким образом? Гораздо эффективнее было бы взять его по-другому. Беда в том, что эффективность будет стопроцентная: ваш пациент несомненно умрет. И то же самое мы находим в духовном обучении, когда вам говорят что-то, что кажется вам абсурдным. И если вы противитесь абсурдности, говорите: нет, я ожидаю разумного совета, тогда вам говорится нечто уж совершенно неразумное.
В жизнеописаниях пустынников мы видим, например, что послушнику велено сажать капусту вниз головой. Он прекрасно знал, что так она не вырастет, но делал, как сказано, потому что доверял, что у наставника есть на то причина. А причина была не та, чтобы выросла капуста, а чтобы ученик научился исполнять сказанное ему в полной гибкости и прозрачности. Или ученику сказано поливать высохшую ветку, и тот поливал ее каждый день в течение трех лет, принося воду за несколько миль, потому что близко воды не было. Он мог бы сказать: я опытно знаю, что этот прутик никогда не пустит корни, не расцветет. Но кончилось-то именно этим, и это показало ученику не столько садоводческий талант его наставника, сколько результат подлинного послушания, потому что, исполняя сказанное, он был утешен результатом
[164].
Мы видим и трагические случаи, которые говорят о вседушном, абсолютном послушании. Но разве не это же самое мы находим в жизни мучеников, которые из послушания Евангелию Христову, из лояльности и верности своему Господу готовы были принять мучения и смерть, тогда как так легко могли бы избежать и мучений и смерти ценой малого компромисса со своей совестью или со своей верой, или с тем, чего ожидает от них Бог. Временами мученики сами навлекали на себя смерть, потому что не соглашались уступить. Здесь, в пустыне мы встречаемся тоже со своего рода мученичеством среди людей, которые чувствуют, что важно сохранить верность до конца, а не сохранить жизнь.
Еще одно — удивительная простота и хрустальная прозрачность духовности пустыни. Этим я хочу сказать, что в пустыне практически не было умственного, сложного богословия. Было богословие в самом подлинном смысле слова: знание Бога, личное знание, которым делились, глубокое знание, которое определяло образ жизни этих пустынножителей и их взаимные отношения, простота и прозрачность, которые были следствием этого прямого, непосредственного знания. Оно, будучи основано на том, что Апостол называет «сокровенный сердца человек» (1 Пет 3:4), знало неустойчивость и хрупкость восхождения человека от земли к небу. В нем не было никакой усложненности, но и ничего примитивного в дурном смысле слова, ясное видение, — видение вещей, которое порой могло передаваться словами или образами, а порой передавалось сиянием человеческой личности. И упрощение жизни, которая сводилась к предельному минимуму имущества и поступков, что делало каждую мелочь жизни выпуклой, позволяло ее увидеть, воспринять и оценить.
Из этого рождались изречения, которые мы находим в разных книгах, где описываются жития и учение отцов пустыни: словесные образы или приточные действия. Такое наставление, прямое и простое, очень характерно для пустыни и сохранилось за ее пределами среди духовных наставников, которые умели говорить образно, ясно, остро. Эта простота давала им возможность излагать свою умудренность в примерах, порой полных юмора, а не только, как можно бы ожидать, застывшей мудрости. Простота эта выражалась в том также, что, проведя многие годы в пустыне, они утратили способность мыслить и реагировать на вещи так, как, вероятно, было им свойственно раньше, вне пустыни. Я сейчас думаю, например, о том, как два брата попытались устроить ссору между собой. Один сказал: «Брат, я слышал, что у людей в миру бывают ссоры». Второй посмотрел на него: «Ссоры? я не помню, что это. Объясни мне!». Первый сказал: «Да, мы прожили 50 или 60 лет вместе и никогда не ссорились, так что немудрено, что ты забыл. Вот что происходит: один говорит одно, другой возражает ему, и так возникает ссора». Второй посмотрел на него с удивлением: «Почему же мне возражать тебе?» — «Ну, просто чтобы испытать, что такое ссора». — «И что же мы сделаем?» — «Вот, я положу между нами кирпич. Я буду говорить, что он мой, а ты будешь возражать, что он твой, и так мы поссоримся». Он положил кирпич и сказал: «Это мой кирпич!». Другой посмотрел на него и сказал: «Брат, если это твой кирпич, возьми его!». И так и не получилось у них ссоры, и они не узнали, что это такое
[165].
В других случаях они с той же мудростью и простотой преподавали очень яркие уроки своим ученикам или тем, кто приходил к ним за советом. Я помню, как у одного старца в пустыне был послушник или прислужник. Он был послушный, внимательный, но еще не до конца прошколенный. В какой-то день он услышал, что в Александрии гонение на христиан. Он пришел к своему наставнику и сказал: «Отче, я хочу пойти в город и пострадать за Христа». И его наставник, зная, насколько он еще хрупкий, сказал ему: «Это похвальное намерение, но прежде пойди, проведи три дня в уединении, соберись с силами, помолись Христу, приготовься к мученичеству. Пойди вон в ту хижину и проведи в ней три дня». Юноша пошел в хижину, устроился там, огляделся и подумал: какой же тут подвиг? Тут удобно, пол застлан шкурами, мне тут будет слишком уютно… Но кроме как на шкурах, сидеть было не на чем. Он сел, и через две минуты почувствовал укус, потому что шкуры кишели блохами и клопами и прочими кусачими тварями, которые, вероятно, давно изголодались, а тут им достался живой монах! Он поймал одну блоху, раздавил другую, но тем временем его уже кусали еще и тут, и тут, и там… И через короткое время он выбежал из хижины, пошел к своему духовному наставнику и говорит: «Отче, я не могу сосредоточиться, не могу молиться. Меня заели блохи!». И старец сказал ему: «А ты думаешь, львы и тигры меньше кусаются?». И таким вот образом, просто и непосредственно он научил его чему-то существенному.
Есть еще рассказ о двух братьях, которые ушли жить в пустыню. Какое-то время они жили в хижине в строгом подвиге, затем, начитавшись, размышляя, узнав о подвигах и примерах других подвижниках, один из них сказал: «Брат, быть монахом значит быть ангелом. Я хочу быть ангелом в пустыне. Я уйду из нашей хижины и буду жить в пустыне». И в своем стремлении стать ангелом он сбросил одежду и ушел. И пока был день, было тепло, все было прекрасно. Но к вечеру стало прохладно, затем стемнело, и завыли гиены. Замерзший, голодный, в страхе он побежал обратно к хижине и стал стучаться. «Кто там?», — спросил его брат. — «Это я, брат твой. Открой, мне холодно, я голоден, кругом дикие звери!» — «Ты не брат мой, — ответил тот. Мой брат стал ангелом в пустыне, он может обходиться без пищи, ему не страшен холод, звери не тронут его». — «Пожалуйста, открой!», — продолжал молить брат. — «Нет, ты — искушение мне от сатаны». И так он продержал его снаружи до утра, и только тогда открыл двери и сказал ему: «Ну, и каково это — быть ангелом в пустыне?», — и таким образом излечил его раз и навсегда от иллюзии, будто он может жить, как бестелесный дух, тогда как на самом деле он всего-то новоначальный в борьбе за духовную жизнь и жизнь вообще
[166].
Я даю вам эти примеры, потому что в каком-то отношении они более интересные, чем некоторые мудрые высказывания. Мы склонны считать, что пустынники, о которых нам говорится, проводили в молитве целые ночи, а дни в трудах и были подобны огненным столпам среди пустыни, и нам кажется, что они были крайне суровые, донельзя серьезные и благочестивые, если этим словом обозначать наши потуги быть «благочестивыми» — в кавычках.
На этом я кончу свои беседы о духовности пустыни. Я сознательно связываю их с тем, что касается нас непосредственно или относится к нашему времени, а не только к пустыне, потому что это не исследование христианской древности. Это попытка научиться от героев духа всему, чему мы можем научиться, с тем, чтобы применять это в нашей жизни со всеми необходимыми поправками, но в основной, основоположной цельности, которую они выражают.
Святой Ефрем Сирин [167]
Я хочу говорить о святом Ефреме Сирине, память которого мы совершаем завтра. Он — один из великих наставников покаяния и внутреннего обращения. Моя беседа недостаточно хорошо подготовлена, я просто постараюсь передать вам собственное понимание святого Ефрема Сирина и лишь некоторые сведения о нем. Он написал много, его учение очень богато, и потребовалось бы, вероятно, две или три беседы, чтобы описать сколько-то исчерпывающим образом его личность и его вклад в христианскую жизнь.
Сведений о нем не очень много, так что не ожидайте от меня точных дат и перечисления важных событий его жизни. Его жизнь раскрывается в его сочинениях и в писаниях тех, кто помнил его и описал его духовный подвиг, но это скорее описание внутреннего становления, чем ряда событий. Если говорить о событиях, то их действительно немного. Он родился в Эдессе, жил в Сирийской пустыне, был поставлен дьяконом и стал проповедником христианства. Затем вернулся в пустыню и в течение последующей жизни был признан за человека святой жизни.
Если попытаться вглядеться в его жизнь, можно обратиться к его собственным писаниям, которые очень богаты, и к различным спискам его жития. Из его собственных воспоминаний мы узнаем, что его родители переселились в Месопотамию из Сирии. Это все равно что англичане, попавшие в Новый свет, они уходили от побережья все дальше вглубь страны. Они были переселенцы-колонисты, бедные неимущие крестьяне, которые отправились в поисках свободы, независимости и хлеба. Они были неграмотные, совершенно неученые, люди простого сердца. Они тяжело трудились и мало что могли передать своему сыну, кроме веры и большой цельности, которую он вспоминал позднее, но которая нелегко ему давалась сначала.
Поворотным моментом в его жизни, как у многих святых, было случившееся с ним плачевное, неприглядное происшествие. Подростком, он однажды, как сам рассказывает, набрел в поле на корову бедного крестьянина, жившего неподалеку. Он был грубый подросток и стал гонять корову, бить ее, пока несчастное животное не упало замертво. Он посмеялся, печаль и отчаяние человека, который потерял единственное, что имел, показались ему забавными, он пожал плечами и надолго забыл это событие.
Оно припомнилось ему года два спустя. Он снова был в поле и провел там ночь с пастухом. Ночью на стадо напали волки и унесли овцу. Хозяин стада разгневался на потерю и обвинил их в том, что они не только были невнимательны, но сами придумали кражу овцы. В результате они оказались в тюрьме.
И тут Ефрем сделал открытие, которое имело решающее значение в его жизни. Он обнаружил, что наказание приходит не за то, в чем тебя обвиняют, а за другие грехи. В заключении вместе с ним были два человека, которые оказались там по ложному обвинению и всеми силами старались выйти на свободу, потому что знали, что невиновны. А вместе с тем эти люди в другой момент своей жизни совершили зло и избежали наказания. Ефрема глубоко потрясло его собственное положение, он задумался над тем, что с ним произошло. Однажды ночью в сонном видении ему было подсказано, в чем дело: не имеет значения, что он оказался в тюрьме по ложному обвинению, он должен понести наказание за тот вред, который причинил бедному крестьянину, когда грубым подростком погубил его единственное имущество, корову. В том же видении ему было открыто, что на его товарищах по заключению лежит тяжелый груз вины, но не той, за которую они попали в темницу. И все трое задумались, и все трое поняли, что правда Божия достигает человека неожиданными путями и что теперь они стоят перед судом Божиим, а не судом человеческим и что в каком-то смысле не важно, будут ли они осуждены или нет за преступления, которых не совершали, — важно, что они по справедливости страдали за преступления, за которые не были наказаны.
С этого началась для святого Ефрема как бы двойная линия мысли. С одной стороны, он осознал смысл, значение Суда Божия и Божия Промысла, понял, каким образом Бог видит все в мире, великое и малое, и что Божия правда не обязательно следует человеческим путем, а доходит до человека, когда он готов, подготовлен и созрел к тому, чтобы воспринять решение суда. Когда он проявил такую грубость к соседнему крестьянину, ему была оставлена свобода ходить злым путем, пока не созреет в нем некоторая готовность увидеть и понять. Он вспомнил слова Послания, где говорится, что если мы осуждены несправедливо, мы должны радоваться, а если осуждены и наказываемся поделом, то должны каяться (1 Пет 4:15—16). И он построил всю дальнейшую жизнь на этом двойственном понимании Божественной правды, которая может медлить, потому что она в основе своей, по сути своей направлена не на возмездие, а на спасение. Она не мстительна, она стремится вызвать в том, кто поступает неправо, перемену мыслей, перемену сердца, то есть обращение и покаяние.
В конечном итоге он был освобожден и вышел в жизнь с этими двумя открытиями, с этим новым пониманием. Его жизнь глубоко переменилась. Он стал вести жизнь чистую и вскоре начал писать: он писал молитвы, писал песнопения. Он вел суровую, строгую жизнь, жил подвижнически и боролся за чистоту сердца и чистоту тела. Целомудрие занимает чрезвычайно большое место в учении святого Ефрема, но он никогда не рассматривал целомудрие только лишь как физическое состояние или внешнее поведение. Если попытаться выразить его учение о целомудрии словами, которые он сам не употребил бы, потому что он был в первую очередь лирическим писателем, я бы сказал, что целомудрие начинается с благоговейного отношения: благоговения перед Богом, которое очищает сердце, дает чистоту мысли, упрочивает нашу волю, и благодать сходит на нас все глубже, охватывает и тело наше. И наряду с этим уважительное, благоговейное отношение к людям, ко всем людям. Из опыта греха рождается в человеке сознание, что он недостоин прощения от Бога и милости от людей, что его хрупкость такова, что только благодать может поддержать его. Рождается такое отношение к людям, к окружающим его, что он каждого видит как своего хозяина, а о себе думает, что призван быть слугой, благоговейно, верно, великодушно служить.
Любопытным образом это понимание смирения ясно открылось ему благодаря замечанию, которое он услышал во время посещения Эдессы от блудницы. Молодым подвижником он пришел из пустыни в большой город и, проходя по улице, увидел женщину, одну из городских блудниц, которая бесстыдно смотрела на него. Он резко одернул ее: «Как ты смеешь так глядеть на меня!». И она со смехом ответила: «Я вполне вправе смотреть на тебя. В Библии говорится, что женщина была взята из мужчины. Я смотрю на то, откуда я произошла. Но ты-то почему смотришь на меня, вместо того чтобы смотреть в землю, из которой ты был взят?». И он задумался. Он не обратил свой взор к земле — это видно из его дальнейшего жития, потому что у него еще не раз бывали споры и с блудницами, и с другими людьми вокруг, из чего видно, что он не был слеп к своему окружению. Но он осознал, что эта женщина сказала ему что-то очень важное: что если он действительно хочет понять свое место, понять, что он такое, он должен смотреть в землю, в прах. Женщина могла смотреть на него как на источник своего происхождения, он не мог претендовать на это, он был всего лишь мужчина. И это тоже вошло в его учение о смирении: сознание, что человек — ничто, что он вызван из праха и вернется в прах, и вместе с тем что призвание его так велико, что Бог согласился стать человеком. В его писаниях о Воплощении, о том,что во Христе — человеческое и что — Божественное, все время присутствует это сознание Бога — и праха, того, что человек есть — и того, чем он призван быть и может стать.
За свою жизнь он несколько раз посещал Эдессу и соседние города. Не совсем ясно, кто поставил его дьяконом и при каких обстоятельствах. В одном из его Житий рассказывается следующее: он молился в пустыне и просил Бога указать ему человека, который мог бы научить его вещам духовным, и Господь повелел ему идти в Кесарию. Он пришел туда и, когда стоял в церкви и слушал проповедь святого Василия, увидел в нем такую славу и совершенство знания и мудрости, и чистоты и истины, что стал восклицать — что, вероятно, не приветствовалось бы и сегодня в церкви, — стал восхвалять проповедника во весь голос. Окружающие пришли в недоумение, что случилось, потому что, к вящему возмущению окружающих, он выражался на сирийском языке, а окружающие понимали только греческий. (Каким образом сам Ефрем так совершенно понимал святителя Василия, говорившего по-гречески, нам не говорится.) Но святитель Василий отметил — вероятно, не без основания — Ефрема, подозвал его, долго с ним беседовал, и ему захотелось поставить Ефрема дьяконом. Но Ефрем по своему крайнему смирению отказался. И тут святой Василий поступил так, как, думаю, не решится поступить сегодня ни один епископ: он посвятил Ефрема «исподтишка» и как бы воровским образом. Он повел Ефрема в церковь, сказал, что хочет помолиться вместе с ним, и после долгой молитвы Василий сказал: «Брат, теперь поклонимся до земли и припадем к Богу». И когда они распростерлись на земле, святой Василий быстро встал на ноги, возложил руку на лежащего Ефрема и произнес молитву на рукоположение дьякона. Я не уверен, что сегодня это было бы признано законным, но бедный Ефрем поднялся с земли дьяконом, и будучи послушливым, а также имея прямые, простые убеждения и чувствуя, что через возложение рук святого Василия на него сошла благодать и благословение, он с этого дня посвятил себя дьяконскому служению.
Это дьяконское служение сказывалось в его жизни двояким образом. Он принимал участие в молитве, в богослужении, а также в назидании народа и в проповеди православной веры. И за это мы должны быть ему благодарны, потому что в результате появилось много духовных сочинений. Но здесь опять-таки он поступил так, как, в общем, не поступают дьяконы в наше время. Это были времена богословских споров, и один еретик, живший в Сирии, придумал новый способ, как распространять свое лжеучение. Он писал короткие гимны на популярные тогда мелодии, его приверженцы их заучивали, а потом шли на базарные площади, в пивные, в места, где люди собираются, и пели их вместе с присутствующими. Мелодии были народные, слова — простые, как бы благочестивые, и ересь стала быстро распространяться. Святой Ефрем решил бороться с ней тем же способом и в результате написал около десяти тысяч строк, песнопения с привлекательными названиями на знакомые всем мелодии. Это все равно что теперь писать краткие богословские трактаты и ходить небольшими компаниями по всему Лондону, распевая их на популярные мелодии. Но в результате это дало хорошие плоды.
Святой Ефрем всю жизнь стремился к более замкнутому и одинокому образу жизни. Несколько раз он делал попытки уйти от своих обязанностей, но затем ему не давала покоя совесть, и он возвращался. В конечном итоге он все-таки удалился в пустыню, и в какой-то день был найден там уже скончавшимся.
Я сказал о его учении очень поверхностно и быстро. Если вникать в его учение, этим надо было бы заниматься гораздо подробнее, но сейчас я хотел бы задержаться вниманием на одной вещи, которую практически каждый православный знает из Ефрема Сирина, если даже не знает о нем, — это великопостная молитва. Я хотел бы кое-что сказать об этой молитве, потому что некоторые ее слова слишком привычны, а другие слишком необычны; и в том и в другом есть опасность.
Обращение: Господи и Владыка живота моего (жизни моей) — совершенно в духе учения святого Ефрема: это признание Бога Господом, признание, что Он — Творец всего, признание, что Он Промыслитель и Податель всего, что Он Судия всех людей, что Он всесилен и царствует во славе, ви{'}дение Господа в Его величии. Опыт юношеских лет, заключение в темнице, виде{'}ния, которые у него там были, связь между его прошлой дурной жизнью и посещением Божиим позже, как будто беспричинным, привели к тому, что он познал Бога как Хозяина своей жизни. Но отношение Ефрема к Богу как к Господу и Владыке имело место не только на этом объективном уровне. Бог — Господь и Владыка не только объективно говоря: Ефрем выбрал Его Господом, по следам Его, как Наставника, он хотел идти. И когда он призывает нас признать Христа Господом и назвать Его Владыкой, он порой действительно подразумевает больше, чем мы готовы принять. Если мы хотим назвать Христа Владыкой и не быть осужденными, недостаточно говорить «Господи, Господи» — об этом предупреждает и Сам Христос (Мф 7:21), важно творить Его волю, а не только провозглашать Его слова.
В какой-то момент святой Ефрем встал перед этой проблемой. Когда он стал дьяконом, он с большим страхом и скорбью почувствовал, что его проповедь осуждает его самого: если он не может вести жизнь в уровень Евангелия, которое он читает вслух народу, провозглашает народу, если вся его жизнь не станет осуществлением того учения, которое он проповедует, он стоит осужденный. И есть в его творениях такое прекрасное место, где он говорит об этом и потом добавляет: и пусть, если нужно, я буду осужден собственными словами, но слова моего Владыки я все равно буду проповедовать… Но всю жизнь он провел в сознании того, какую ответственность берет на себя человек, когда признает Бога своим Господом, Христа — своим Владыкой. Объявляя себя Его последователем, человек должен понимать, что это значит.
Так что когда мы произносим эти слова, когда размышляем о них, мы должны ставить перед собой вопрос: что это признание Бога — Господом значит в моей жизни? Значит ли это, что объективно я признаю Его Господином, признаю Его всецелую власть, признаю, что Он призвал нас из небытия в существование и что в какой-то день мы будем судимы, что Он Податель всего и Судия всех людей? На человеческом уровне любой преступник признает все это в отношении земной власти. Тюрьмы в Великобритании называются тюрьмами Ее Величества. Это не значит, что находящиеся в тюрьмах признают власть, воздвигшую стены и башни, на том же уровне, как мы признаем Бога. Опять-таки, когда мы говорим Христе как нашем Владыке, мы должны полностью сознавать ответственность за свои слова и помнить, что изо дня в день мы стоим перед судом этих слов. Никто не заставлял нас признать Иисуса Христа своим Господом, назвать Его Владыкой. Мы свободны принять это или не принять, но если мы приняли, то ответственность наша велика.
Дух праздности (это слово переводится с оригинала очень по-разному). То же понятие мы находим в Евангелии относительно празднословия, пустословия. В первую очередь это относится к тем нашим словам, которые остаются безжизненными, не отражают никакого внутреннего действия, остаются дремать, без жизненной силы, без жизни. Это отражает также состояние нашей души, когда в ней нет жизни, нет духа, она дремлет, застыла. Это отражает соответствующую пустоту нашей души. Это та пустота, о которой в Евангелии говорится: пустой дом, откуда был изгнан злой дух, прибранный и чистый, готовый принять гостя, но оставленный пустым. И Евангелие говорит, что изгнанный дух вернется посетить свое прежнее жилище и, увидев его чистым и прибранным, пойдет и позовет семь злейших духов, и они придут и поселятся в этом пустом доме (Мф 12:43—45). Это предупреждение: если душа наша пустая, если сердце пустое, ум пустой, если в наших словах нет духа и жизни, принадлежащих Тому, Кого мы исповедуем Господом и Владыкой, тогда в них войдет, их охватит, наполнит другое присутствие. Поэтому первое, о чем мы взываем к Господу, это чтобы Он спас, избавил нас от духа праздности, сонливости, пустоты — так много слов означают одно это понятие, которое в основе всякой разрушительности.
Следующее слово — уныние. Когда мы обнаружили в себе то состояние души, которое я только что описал, мы должны как-то действовать. А для действия требуется решимость, мужество, а мы малодушны. Так легко надеяться на лучшее, так страшно сдвинуться с места. Так легко пребывать и дальше в мире грез, так трудно очнуться. Но подвижник — тот, кто проснулся, подвижник — тот, кто стряхнул с себя дремоту, кто в высшей степени бодр. Это тот, кто, по определению святого Серафима Саровского, полон такой решимости, что предпочитает лишиться покоя и всего, к чему привязан, чем лишиться Бога, и в этом вся разница между погибающим грешником и святым, достигающим своего призвания: малодушие, уныние.
Уныние очень похоже на сонливость. Все пущено на самотек. Человек погружается в грезы наяву, уходит в нереальный мир, в мечтания. Дремота не ждет ночи. Закрываешь глаза — и можно считать, что настало время ночного сна. И как ни странно, но именно в моменты, когда у нас недостает энергии действовать на самом деле, наши мечты полны гордости, силы, власти, успеха. Когда мы погружены в дело, то, чем мы заняты, требует всего нашего внимания, но в мечтах первое место занимает любоначалие, жажда власти, гордые устремления. И наряду с малодушием — наша трусость, расслабленность, жизнь, полная грез наяву, и в этих грезах — жажда власти и воображаемая сила и вся сопутствующая им жестокость и грубость.
И празднословие. Не в том дело даже, что мы говорим много. Разумеется, есть и это. Но не в этом «праздность» слов. Праздность — значит бесплодность, она коренится в духе уныния, малодушия, мечтательности, которые приводят к жажде власти — и мы говорим, когда не должны бы, и живем в воображаемом, а не в реальном мире. И это очень важно, потому что мир Божий — мир реальности. Мир дьявола — мир мечтаний и нереальности. Мир Божий реален, в нем присутствуют все трудности, вся жесткость того, что реально. Дьявол предлагает нам мир, в котором нет ничего реального, хотя все кажется доступным. Мы всесильны, наша гордость удовлетворена, мы славны, мы воображаем себя всем, чем не являемся в реальности. Мы отважны и смелы, хотя еще ничего не совершили. Мы спим, но мир реальности принадлежит тем, кто бодрствует. Так что эти первые слова молитвы говорят о самом главном. Если я признаю Бога своим Господом и Владыкой, если я стремлюсь жить в реальном мире, если я стремлюсь отбросить бесовский мир воображения и нереальности, если я всеми силами стремлюсь к жизни и хочу избежать смерти — потому что жизнь и реальность идут вместе, а смерть идет вместе с иллюзией, — тогда я должен дойти до конкретного, действенного понимания того, что значат эти слова, не только как описание душевного состояния, но как программа действия: каждое из этих слов должно стать призывом, как бы лозунгом, девизом, который заставит нас поступать определенным образом.
Как именно — кратко говорится нам в следующих строках: Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему.
Я уже говорил о том, что целомудрие нельзя понимать только как поведение, относящееся к телу, так же как девство не следует понимать как только физическое состояние. Целомудрие начинается в момент, когда мы обнаруживаем и выделяем первостепенные ценности: Бога и человека, и когда по отношению к Богу и к человеку (включая самих себя) мы поступаем благоговейно, когда мы относимся к собственному телу с тем же почитанием, с каким относимся к хлебу и вину, ставшими Телом и Кровью Христовыми, с каким отнеслись бы к телу Воплощения, и от этого научаемся, как мы должны относиться к любому из тех, с кем мы встречаемся. Целомудрие начинается с того, что мы обнаруживаем, что у человека есть вечное призвание, он предельно значителен для Бога, он может спастись или погибнуть. Человек может быть предметом почитания, и мы призваны, как сказал Христос, когда умыл ноги Своим ученикам, друг другу умывать ноги (Ин 13:14), быть друг для друга верными, смиренными, любящими служителями. Только если мы приобретем этот дух, мы сможем распространить его на человека в целом, на душу и тело, и достичь состояния души, ума и сердца, которое приводит к совершенной, постоянной чистоте, называемой целомудрием.
Смирение — нечто гораздо большее, чем жалкая его карикатура, которую мы часто изображаем. Нам кажется, что смирение состоит в том, чтобы постоянно твердить, что мы недостойны никакого внимания, тогда как на самом деле страстно ждем внимания, говорить, что то, что мы сделали (зная, что сделали-то хорошо и что оно само по себе добро), — не имеет никакой ценности, потому что сделано нами. Это все не смирение. Смирение, в первую очередь, забвение о себе, и такая забота — серьезная, глубокая, деятельная — о Боге и о ближнем, что нам вовсе неинтересно обращать внимание на себя. Это состояние, когда мы, вспомнив о себе, говорим этой мысли: «Иди прочь! Это мелко, мелочно, так неинтересно. Я занят чем-то бесконечно более драгоценным».
Смирение также связано с победой над тщеславием и гордостью. Смирение имеет связь с тщеславием не только потому, что оно совершенно очевидно является его противоположностью, но тщеславие — состояние того, кто ищет признания и одобрения от людей, а не от Бога. А если подумать, от каких людей мы ждем признания или за что именно ждем похвалы, мы видим, до чего мы себя делаем мелкими через тщеславие. Повод для тщеславия так мелочен: шутка, успех в чем-то, что много ниже полной меры величия человека. А уж тех, кто рукоплещет нам, мы, может быть, даже презираем, и тем не менее благодарны им за похвалы. И в обоих случаях, будь то повод или люди, через тщеславие мы становимся невероятно мелкими, пустыми, в смысле — ненужными, бесполезными. Оно сводит нас к ничтожеству. Смирение начинается, когда мы соотносим свое суждение не с людским, поверхностным, случайным суждением, а когда мерой служит величие человека и полнота правды и истины Божией. Смирение в том состоит, чтобы не иметь другой мерки, как только величие человека перед судом Божиим.
Вот почему святые были смиренны: потому что они видели, как велик человек, они могли видеть и то, как далеки они сами от своего призвания. Потому что они знали, что подлинное откровение человека нам дано в человеке Иисусе Христе (Рим 5:15), они могли с истинным смирением признавать собственное недостоинство. Потому что они знали, что Бог хочет, чтобы мы были друзьями Ему, близкими спутниками, они могли измерить глубину нашего падения, расстояние между нами и Им, и испытывали смирение. От видения величия человека и Божественной славы рождается в человеке смирение, не от постоянного внимания к своим промахам или недостоинству. И в конечном итоге — об этом я не раз уже говорил — смирение, humility — происходит от латинского humus, плодородная почва. Это образно, приточно состояние почвы, земли, которая всегда есть, принимается как должное, по ней ходят, она принимает безмолвно все отбросы, которые люди кидают в нее, и живое семя, и солнечные лучи, и дождь — она все способна воспринять, усвоить и принести плод, она всегда забыта, всегда безмолвна, всегда способна все принять и принести плод. Вот в чем смирение.
Терпение — тоже сильное слово. Это не просто способность терпеливо переносить ближнего. Это способность нести страдание, трудности, ограничения, нести любое бремя, начиная с самого себя и кончая Крестом Распятия. Терпению свойственна сила, вера и молчание, это и ведет нас к любви, и берет свое начало в любви.
Любовь — способность отдавать все, чем обладаешь, и самого себя, способность принимать другого в его инаковости, таким, какой он есть, благоговейно, почтительно, радостно, и способность также полагать жизнь за друзей, жить жертвенно. Если провести тут параллель с предыдущими словами — и я предоставляю вам сделать это самостоятельно, — можно увидеть в этом ответ на первые четыре прошения. Так живет тот, кто проснулся к реальности, кто стоит перед лицом Бога и человека, себя самого и своего призвания, готов к действию и рассматривает любовь, которая есть полнота жизни, как основу и как конечный итог.
И наконец — хотя это могло бы быть первым прошением, и для святого Ефрема было, возможно, первичным опытом жизни: Господи и Царю, даруй мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего.
Я кончу свою беседу о святом Ефреме Сирине на этой попытке дать вам короткий комментарий на эту молитву, великопостную молитву, которую мы читаем во все недели Великого поста. Я хотел бы только добавить одно: очень важно, чтобы мы вдумались в значение каждого слова, поняли его смысл и поставили себе вопрос о том, как и по отношению к кому мы можем применить ее, потому что опыт показывает, что мы очень избирательно грешим и, вероятно, еще избирательнее бываем добродетельны. Мы не грубим направо и налево, а выбираем свои жертвы. Мы не всегда равно смиренны, мы тщательно выбираем случаи и ситуации. И если ежедневно вглядываться в день, который прошел, и в грядущий день, и ставить себе вопрос: с кем я встречусь, в каких ситуациях окажусь, какая связь этого человека или этой ситуации с тем или другим моментом праздности, празднословия, терпения или нетерпения и т. д.? — мы были бы подготовлены к тому, чтобы встретить искушение, которое иначе не могли бы встретить. Когда мы знаем, что встретимся с человеком, который непременно вызовет в нас раздражение, мы можем на миг остановиться, противопоставить злу — чувство юмора и сказать себе: смотри, если не будешь осторожен, то в два счета придешь в ярость… И тогда прекрасно возможно встретиться с человеком без ярости, а как бы шутливо, а бесу кинуть косой взгляд со словами: на этот раз ты меня не поймал!
Преподобный Серафим [168]
Преподобный Серафим — практически наш современник: он скончался в 1833 году. Он принадлежит XIX столетию, это человек, не так уж сильно удаленный от нашего времени, и однако всей своей устремленностью он выразил традиционный монашеский путь, он прошел через весь опыт подвижнической жизни — и в конечном итоге вышел к людям.
Очень часто, когда мы читаем жития святых, мы видим людей, которые, испытав какое-то разочарование, совершенно оставляют мир, уходят в доступную им пустыню. Это может быть физическая, реальная пустыня, это может быть пустыня большого (или не такого уж большого) города. Но всегда есть этот момент ухода, который порой выражает начало новой жизни или увенчивает прежнюю жизнь.
К таким людям относится святой Арсений Великий. Он был одним из первых вельмож Константинопольского двора, он обнаружил и почувствовал пустоту той жизни, которую вел, оставил все и ушел в пустыню, и сделался учеником совершенно неученого монаха, который был одним из великих духовных наставников того времени
[169]. Его спросили, как это он, такой культурный, образованный, привыкший к утонченной жизни и мысли, выбрал именно такого наставника. И он ответил: «Я и по слогам не разбираю ту книгу, которую он читает бегло»
[170]. Одному был открыт духовный мир, другому был открыт мир человеческого знания. Арсений остался в пустыне, удаляясь всякого человеческого общения, избегая даже случайных встреч. И на вопрос, почему он так поступает, он ответил: «На небе мириады ангелов имеют одну волю, а на земле у людей воля многообразна. Я не могу оставить небесную гармонию даже ради отношений с людьми и любви к ним»
[171]. Там же жил другой инок, который, напротив, ради любви был готов порой оставить свое одиночество, глубокий покой пустыни и оказывать помощь путникам, паломникам — он делал это тоже во имя Божие.
Мне представляется, что преподобный Серафим явил в своей жизни более полный путь, чем эти два человека. Он не оставил мир вследствие разочарования. Мир не причинял ему страданий, кроме того, разумеется, что этот наш мир — мир двойственный, мир полутьмы, где присутствует Бог, но и тьма нависает тяжестью, где свет светит и не может быть заглушен, но не может охватить своим сиянием все. Святой Серафим не оставил мир по каким-то личным причинам, по какой-то неудаче житейской. Он был одарен во всем. У него была приятная внешность, были сила, здоровье, он был умен, он преуспевал в том, чему учился, — разумеется, в то время и в тех условиях жизни он учился немногому, но преуспевал в учебе. Он пользовался любовью и уважением. Его влекло из мира не по чему иному, как потому, что он очень рано, еще в раннем детстве, уловил красоту, гармонию, глубину божественной области и всеми силами устремился к тому, чтобы погрузиться в эту область, так чтобы ничто не вырвало его из гармонии.
Он взялся за делание без жалости к себе и с невероятным мужеством, но когда достиг цели, то по воле Божией, по прямому указанию Матери Божией вернулся к людям и последние пять лет жизни или около того был, можно сказать, «человеком для других». Он жил в монастыре и ежедневно принимал до двух тысяч человек, которые приходили к нему, посмотреть на него. Именно «посмотреть»: он не проповедовал, не говорил речей. Вокруг него не было учеников, которые могли бы просеивать посетителей и допускать к нему тех, у кого была подлинная нужда. Его окружали толпы людей. Старое монашеское присловье гласит: «Никто не может отвернуться от мира, если не увидит на лице другого человека сияние вечной жизни, свет вечности». Вот это люди и видели в его лице. Он вызывал из толпы тех немногих, о ком знал, что должен что-то им сказать, кому он должен был что-то передать от Бога, но и все остальные не оставались голодными и жаждущими: они увидели. Они видели покой. Они видели величие. Они видели радость. Они видели любовь. И все это на таком фоне, который не был естественным контекстом для человеческой радости или просто покоя, мира. Они видели все это на лице человека, который вел беспощадную борьбу за собственную цельность и за цельность других людей. А эта цельность дается дорогой ценой.
В житии преподобного Серафима есть место, где говорится, что как-то у него был посетитель. Он сидел молча в келье, а Серафим молился. И вдруг вся келья наполнилась мраком, и посетителя охватил ужас. Так продолжалось какое-то время, а святой Серафим все молился. Затем мрак и ужас отошли. Посетитель спросил, что это было. И преподобный ответил: «Я молился о спасении одной души, и вся тьма адова охватила нас, чтобы не дать молиться и помешать ее спасению».
Он умел радоваться там, где, по-человечески говоря, другие не нашли бы силы даже выжить, просто улыбнуться. Каждого человека он встречал словами любви, каждого называл «Радость моя!». Или встречал людей словами, в которых вся суть Евангелия: «Христос воскресе!». Он не был сентиментальный. В нем, в его приветствии, в его обращении не было сентиментальной теплоты. Чем больше читаешь о нем, чем больше стараешься уловить отличительные свойства его святости, тем более он кажется устрашающим, страшным в том смысле, как нас страшит то, что слишком превосходит нас величием. Он не был и холоден, он был подобен воздуху горных вершин, бодрящему, свежему, и вместе с тем этот холод сиял светом, грел теплом, которое от Бога, не земное.
В нем мы видим, как разрешается проблема, встающая перед нами из поколения в поколение: проблема сочетания деятельности и созерцания. Поначалу можно ошибочно вообразить, будто вся его жизнь была сплошным усилием достичь созерцания, если можно так выразиться. Но когда читаешь о том, как он заполнял время своих уединенных лет молитвенным правилом, которого никто из нас не выдержал бы и один день, и трудом, который мало кто из крестьян вынес бы, когда думаешь, что за все годы жизни в монастыре среди русской зимы у него не было иного отопления, кроме маленькой лампады перед иконой, то понимаешь, сколько там было физического, умственного и душевного подвига, и понимаешь, что подразумевает православная традиция, когда говорит, что в начале, пока Сам Бог не придет, не покорит, не овладеет человеком, созерцательная жизнь — сплошное действие, усилие, борьба. Она не имеет ничего общего с пассивным ожиданием милости от Бога. Это бодрственное, напряженное усилие, охватывающее человека во всех сторонах его жизни. Он много читал, читал Библию, размышлял над ней. Он читал писания великих духовных наставников и старался исполнять их, чтобы через делание пришло понимание их. Он глубоко знал православную аскетическую и мистическую традицию.
И вместе, в тот период, который можно было бы назвать деятельными годами его жизни, мы видим, что сама эта деятельная жизнь была, может быть, больше чем когда-либо исполнена созерцания. Не только потому что он вышел из затвора, когда установился в присутствии Божием, в сознании присутствия Божия, в непрестанной молитве, но и потому что обходился с представавшими ему ситуациями и проблемами именно так, как характерно для созерцателя. Однажды его спросили, как это он любому приходящему к нему в немногих словах говорит то, что нужно этому человеку, — будто знает все прошлое этого человека, всю его настоящую жизнь, его конкретные потребности и обстоятельства. И святой Серафим ответил, что он молится, непрестанно молится, и когда к нему приходит человек, он просит Бога благословить их встречу и затем говорит первые слова, какие Бог дает ему сказать.
Здесь действие и созерцание связаны, сплетены воедино, и такова та единственная форма действия, которая — подлинно христианское действование. Христианин не тот, кто внимательно, трезво, всеми силами исполняет заповеди Христовы так, будто они — внешние правила поведения. И не тот, кто особенно успешно действует во имя Божие. Для христианского действования характерно, что каждый поступок, каждое слово христианского святого есть действие Божие, совершаемое через человека, который становится сотрудником Божиим. А это возможно только благодаря созерцательной установке в жизни.
Вы наверно помните слова Христовы: якоже слышу, сужду, и суд Мой праведен есть, потому что Я не ищу Своей воли, но воли пославшего Меня (Ин 5:30). Христос слушает и явно выражает волю Божию. То, что Он слышал от Отца, Он произносит вслух всем в мире, в котором Он живет. И в других местах мы видим, что Отец Его доселе делает (Ин 5:17). Отец показывает Свои дела, и Христос, Сын Божий, исполняет действия, осуществляет их на земле. Так именно действуют святые, говорят святые. Они произносят слова, которые принадлежат Богу, они исполняют действия, которые тоже Божии. Вспомните замечательные слова, которыми Евангелие определяет святого Иоанна Предтечу: глас вопиющего в пустыне (Мф 3:3). Он настолько стал един с волей Божией и с тем, что он должен возвестить от Бога, что его даже нельзя назвать пророком, говорящим от Бога, — Сам Бог говорит через человека.
В последние годы жизни преподобного Серафима это и поражает: вот человек настолько глубоко и совершенно укоренившийся в созерцании, настолько единый с Богом, что он может действовать, вернее — что Бог действует в нем и через него, и это действие намного превосходит человеческие способности. Не только в словах, которые он произносит, не только в совершаемых исцелениях, не только в советах, которые он дает, не только во всем том, в чем выражал святой Серафим евангельскую любовь, — через одно лицезрение его, человека, настолько ушедшего не просто в себя, но в Бога, что увидеть этого человека означало увидеть Бога. Вот почему мне показалось, что стоит попытаться сказать о нем, несмотря на то, что невозможно сделать это в полную, достойную его меру.
Святой Серафим родился в Центральной России, в Курске, 19 июля 1759 года. Его отец занимался строительством. Мальчика назвали Прохором. Отец его скончался, когда Прохору было всего пять лет, и воспитанием его занималась мать. И очень рано стало ясно, что, несмотря на способность к учению, к работе, сердцем он лежал к другому. Он учился, трудился, но основой его существа была молитва, и хотя нам ничего не известно о его молитвенной жизни, потому что он был не из тех, кто говорит о себе, ясно, что для него ничего не было хоть сколько-то столь же важного. Когда ему исполнилось 17 лет, он попросил мать отпустить его. Мать благословила его, и крест, который был ее благословением, он всю жизнь носил открыто на груди. Сначала он пошел в Киев к одному старцу, известному молитвеннику и духовному наставнику. Досифей не разрешил ему остаться в Киеве, но научил его Иисусовой молитве: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного, и послал его в монастырь в Центральной России, в Саров (название его происходит от небольшой речки, которая бежит через лесную чащу). Он вернулся к матери, недолго пробыл у нее и затем с молитвой Иисусовой на устах, внимая словам и их действию, пешком проделал путь около 300 верст до Сарова. Он пришел туда 20 ноября 1796 года, накануне праздника Введения Матери Божией в Храм, пошел прямо в церковь, получил разрешение остаться и стал послушником.
Он исполнял самые разные послушания, и монахов очень впечатляли его большие способности к любому делу, его послушливость и постоянство. По-видимому, он был человек редкой силы воли и решимости. Он со всей простотой подчинился общежительном уставу монастыря, работал на кухне, особенно же отличался на строительных работах. Через какое-то время его послали собирать деньги на монастырь. Опять-таки об этом периоде его жизни мы мало что знаем. Знаем, что он ходил один по России, от деревни к деревне, только лишь с молитвой, собирая пожертвования. Вероятно, этот опыт странничества, неприкаянности имел большое значение в его жизни. Тишина лесов, одиночество — и молитва. Но он вернулся в монастырь, к жизни по послушанию.
Обычно мы думаем о послушании в терминах подчиненности, порабощения. В основе послушания — внутреннее состояние того, кто понял, что призвание человека столь велико, что его невозможно достичь без помощи, без руководства, без совета. Конечная цель послушания — научить нас так вслушиваться в собственные Божии слова, чтобы слышать их, и так слышать, чтобы исполнять их. Но прежде чем мы сумеем слышать и понимать слова Божии, сказанные нам в Священном Писании или через нашу совесть, и освободимся от своеволия, надо пройти целую школу, чтобы освободиться от самого себя. Послушание — состояние ученика, который хочет научиться, который хочет понять не только сказанные слова, но дух, который оформил эти слова, намерение, их породившее, волю, которая не его воля, но превосходит его. И даже если эта воля не больше его собственной, если тот, кто наставляет, меньшего масштаба человек, чем послушник, все равно послушание ведет к освобождению от самонадеянности. Послушник учится внешне и внутренне исполнять то, чего он сам не выбирал. И послушание, доведенное до абсурда, как мы видим порой в писаниях древних подвижников, в конечном итоге учит нас принимать высшую абсурдность Евангелия, безумие Креста, непредсказуемость указаний и волеизъявлений Самого Бога.
Серафим стал вслушиваться. Он стремился перерастать собственную волю и собственную ограниченность, чтобы стать свободным. Он участвовал в монастырских богослужениях, и братия позднее вспоминали, какой радостью и миром он сиял. В нем не было сосредоточенности на себе и своеволия. Все, что случалось, было даром Божиим ему, новой ситуацией, в которой он мог возрастать в познании Бога и к исполнению собственного роста. Он был мирен. В этот период он много читал и Священное Писание, и подвижническую литературу. После восьми лет послушником, 1 августа 1786 года (за три года до Французской революции) он стал монахом. Ему дали имя Серафим, что значит «пламенеющий, сияющий, огненный». В том же году он стал дьяконом и с этой поры почти ежедневно в течение шести лет участвовал в совершении Литургии и в других службах.
К этому периоду относится видение им Спасителя Христа. Однажды во время Литургии он должен был завершить возглас словами «и во веки веков», и внезапно его поразило сияние, заполнившее храм. Он взглянул в сторону западных врат и увидел, что Христос в окружении ангелов и святых входит в храм и идет прямо к нему. Христос обернулся и благословил народ, затем благословил Серафима и, как тот говорил, вошел в икону Спасителя по правую сторону от Царских врат, и икона просияла светом Преображения. Святой Серафим стоял, потеряв дар речи, неспособный говорить или двигаться. Его увели в алтарь, и он простоял там три часа, и потом поведал пережитое настоятелю и духовнику.
2 сентября 1793 года он стал священником и сразу решил оставить монастырь и уйти в пустыню. Он получил на то благословение духовника и 20 ноября 1794 года, в 16-ю годовщину своего прихода в Саров, он поселился в лесу на расстоянии трех или четырех верст от монастыря. О его жизни там мало что известно. Известно, как я уже говорил, что келью он не отапливал. Мы знаем, какое молитвенное правило он совершал. Знаем, что у него был огород, с которого только он и питался какое-то время, но потом оставил и его, и стал варить в пищу некоторые лесные растения. Мы знаем, что он много читал Священное Писание и, что характерно для него и еще двух-трех русских подвижников, называл некоторые места в окрестностях своей хижины названиями мест в Палестине: Вифлеем, Назарет, Вифания, Иерусалим и т. д. И он ежедневно обходил эти места, читал там соответствующие отрывки из Писания, размышлял над ними, был там, будто на Святой земле. И действительно, он превратил эту землю в святыню.
Он был бесстрашный человек, но и ему приходилось претерпевать то же, что и многим подвижникам: страх ночи, страх диких зверей, волков, медведей, страх, который силы тьмы наводят на душу того, кто ведет уединенную жизнь. Он боролся за то, чтобы иметь совершенно внутреннюю жизнь, то есть уйти от положения, в котором все мы постоянно находимся: мы вне себя. Мы очень редко бываем внутри себя, собранными, настолько устойчивыми внутри, что можем действовать свободной волей, говорить свободно, самовластно. Большую часть времени мы реагируем, а не действуем, мы живем отраженным светом, а не светим сами. Один французский ученый нашего времени говорит, что большинство из нас воображает, что мы кончаемся там, где кончается наше тело, но на самом деле мы гораздо больше похожи на осьминога: мы пусты внутри и протягиваем щупальца во все стороны вокруг себя. Пищеварительная система обжоры, говорит он, не внутри него, она простирается на все съестное в мире. Все пять чувств любопытного человека — не просто свойства, позволяющие ему воспринимать окружающее, они, словно щупальца, липнут ко всему, что вызывает любопытство. И первое, что должен сделать подвижник, это втянуть все щупальца, освободиться от рабства обладания, иллюзии, будто он чем-то обладает, тогда как на самом деле он сам — предмет обладания, и найти свое внутреннее «я». Этим путем внутрь святой Серафим шел, отсекая больше и больше все, что связывало его с внешним миром, не только дурное, но все просто обычное, человеческое, пока не стал свободным человеком.
После какого-то времени такой борьбы, когда он день проводил в келье, а ночи вне ее, он решил больше ни с кем не разговаривать, исключить эту связь с людьми. Когда в лесу ему кто-то встречался, он становился на колени или ложился лицом на землю, или просто проходил мимо, не отвечая ни слова. Он никогда не описывал тяготы этой борьбы, какова она была. Но в том же веке, лет пятьдесят спустя, один из наших великих подвижников и духовных наставников, Феофан Затворник, описывал, как он постепенно приучался к одиночеству и затвору
[172]. Он был преподавателем, был поставлен епископом, потом оставил кафедру и удалился в монастырь. Поначалу он просто жил там, свободно ходил везде. Привыкнув к монастырю, он стал ходить только с определенной целью: в храм, посетить кого-либо. Затем он сократил посещения и решил, что не будет выходить из кельи, кроме как на ежедневные богослужения. И тут он вдруг осознал, как для него было важно видеть окружающий мир. В тот день, когда он запретил себе подниматься на монастырскую стену, чтобы смотреть на окрестности, он вдруг почувствовал себя пленником, и долгое время ушло на то, чтобы это чувство плененности ушло, притом что он не видел ничего, кроме монастыря в пределах его ограды. Тогда он еще сократил свое передвижение, и в итоге через несколько лет он стал способен быть в келье, потому что он уже ушел во внутреннюю клеть своей души. Он вернулся внутрь себя, и поэтому внешние ограничения уже не ограничивали его.
Я упоминаю этот его опыт, потому что преподобный Серафим никогда не рассказывал о себе. Но на примере других людей мы видим, как эта внешняя борьба соответствует движению человеческой души внутрь. Это не подвиг в том смысле, что тут нет цели достичь чего-то исключительного. Это просто напряженное усилие достичь устойчивости, стать самостоятельным, стать свободным, быть способным стоять перед Богом при любых внешних обстоятельствах.
Из этого периода можно упомянуть некоторые вещи. Во-первых, вы наверно видели изображения, как согбенный преподобный Серафим идет, опираясь на топор или на палку. Это — последствие нападения разбойников. Его встретила группа людей, потребовала от него денег, он сказал, что денет у него нет. И он, высокий, крепкий, мужественный человек, отбросил свой топор, скрестил руки и стал ждать, что будет. Они избили его почти до смерти, и лишь спустя несколько дней он смог доползти до монастыря, и провел там долгое время на излечении. Два события произошли в связи с этим нападением и его болезнью. Он уже поправился, когда нападавшие его были найдены. И он выступил в их защиту и добился, чтобы они не были наказаны. И тем самым он показал, что способен не только простить, но способен взять на себя страдания и грехи других людей.
Второе: во время его долгой болезни ему явилась Матерь Божия. Он не согласился лечиться. Он просил разрешения только молиться. И как-то ночью Матерь Божия явилась ему с несколькими святыми, с апостолами Петром и Иоанном, и сказала, показывая на него: «Он от нашего рода». Она прикоснулась к нему, и вскоре он поправился. Он продолжал жить в затворе своей кельи, в совершенном одиночестве, в молчании, в молитве. И снова Матерь Божия повелела ему открыть двери кельи, и к нему стал приходить народ. Какое-то время он продолжал хранить молчание, позднее стал принимать людей и разговаривать с теми, для кого у него было что сказать от Бога.
Вот об этом периоде я говорил в начале как о времени исполнения, совершения. Человек оставил мир не потому, что мир неприглядный, но потому, что он обнаружил в сердцевине мира божественное присутствие, потому что был охвачен стремлением жить полнотой жизни. Человек, который решился на сорок лет тяжелейшей борьбы, теперь был в среде народа Божиего. Народ шел и шел к нему. Он исцелял, он благословлял, он наставлял, давал советы, помогал во многих отношениях. Не было ничего слишком незначительного для него. К нему можно применить выражение, которое я как-то слышал, что только Святой Дух может прозреть значение того, что для нас слишком мелко.
Перед смертью он пришел в храм, молился в алтаре, поцеловал все иконы, попрощался с другими монахами и ушел на молитву. Еще как-то раньше он говорил, что его кончина проявится пожаром. Рано утром его сосед по келье вышел и почуял запах гари из кельи преподобного Серафима. Взломали дверь и нашли его на коленях перед иконой Божией Матери, с руками, скрещенными на груди, с головой, склоненной до земли, а в келье что-то загоралось от упавшей свечки.
В заключение я хотел бы вернуться к началу. В нем мы видим человека, прошедшего весь путь, на который мы призваны, человека, который в чистоте своего сердца нашел Бога, но который познал Его и добился долгой, беспощадной борьбой, человека, который никогда не переставал любить ближних, никогда не отвернулся от них, потому что они были грешники, не достойные Бога, который умел почитать и любить людей. Нам говорится, что приходивших к нему людей он часто принимал на коленях, целовал руки простым крестьянам, сажал их на свое место, заботился о них, ухаживал — потому что видел достоинство человека, видел в человеке святыню. Но при том он долгое время провел в борьбе за то, чтобы самому стать человеком в полной мере, тем, чем призван быть человек, — местом вселения Святого Духа, живым откровением Христа. Говоря с кем-то о молитве, он как будто очень дерзновенно говорил: мы должны молиться, чтобы Святой Дух пришел и вселился в нас. Но когда Он придет, не продолжай повторять «Приди и вселися в нас», — это значило бы, что ты сомневаешься, истинен ли дар, который ты получил. Тогда дай место Святому Духу молиться и действовать в тебе.
Перед смертью он сказал кому-то: «Мое тело почти умерло, однако душой я чувствую, будто я только что родился». Это жизнь — жизнь Божия, соединившаяся с жизнью человека, подлинное видение человека. Вот почему так многие приходили, так многие хотели увидеть его, и так многие чувствовали, что нет нужды в словах. Много веков до него подвижник в египетской пустыне, когда его попросили произнести приветствие посещающему их епископу, ответил: «Я ничего ему не скажу». И в ответ на усиленные просьбы объяснил братии: «Если этот человек не поймет моего молчания, он никогда не поймет моих слов»
[173]. Так и здесь. Тысячные толпы, приходившие к преподобному Серафиму, не нуждались в словах. Его молчание, лицезрение такого человека — этого было достаточно.
Это может послужить нам, в наше время, вдохновением во многих отношениях. Мы так страстно воспринимаем окружающий нас мир как нашмир, что не хотим отвернуться от него, не хотим отвергнуться его. Да, Бог так возлюбил мир, что Он отдал Своего Единородного Сына за него. Это знал и преподобный Серафим. Но он знал (а мы так легко это забываем), что для того, чтобы в этом мире действовать так, как мы к тому призваны, чтобы наше действие было действием Божиим через нас, нам нужно безжалостно бороться за самих себя, непреклонно, радостно бороться за то, чтобы стать живыми в мире, который не до конца живой, чтобы стать светом в полутьме, чтобы нести тепло туда, где холод. И мы видим, как Христос действует в Своих святых.
Я не успел рассказать о внешних событиях его жизни, о встречах, о людях, с которыми он встречался, об обстоятельствах исцелений и бесед. Я хотел показать в меру моих сил просто самого человека и то, к чему он пришел в итоге, — ради себя самого и ради других.
Ответы на вопросы
Можете ли привести пример исцеления?
Примеров очень много, но сейчас один приходит мне на мысль, отчасти потому что он произошел с человеком, который впоследствии играл заметную роль в деятельности преподобного Серафима, это Мантуров. Он болел много лет, был инвалид, и наконец его привезли в Саров в надежде, что что-нибудь произойдет. Сначала преподобный Серафим в течение двух дней подолгу беседовал с ним, о чем — нам ничего не известно. Серафим тогда, на склоне дней, жил в небольшой хижине близ монастыря. На второй или на третий день четыре человека принесли туда Мантурова, пятый поддерживал ему голову. Преподобный Серафим вышел, сел рядом с ним на траву и спросил: «А верите ли вы, что Христос, как в древние дни исцелял людей, так и теперь может исцелять?». Мантуров ответил: «Верю». «Верите ли, что Он поистине есть Сын Божий? Верите ли, что Пресвятая Дева, Матерь Его, молится за нас, исповедуете ли веру церковную о Ней?». Он снова сказал «Да». И Серафим добавил: «Верите ли, что Христос, если пожелает, может мгновенно исцелить вас?». Мантуров снова ответил утвердительно. И тогда преподобный Серафим сказал: «Ну, если верите, то вы исцелены». И Мантуров, хотя верил, но и колебался, спросил: «Как это я исцелен? Я же лежу пластом, меня держат четверо». И снова сказал Серафим: «Да; но вставайте». Взял его за плечи, поднял, поставил на ноги и, по словам Мантурова, «держа меня одной рукой и подталкивая в спину, по плечам, он стал говорить: „Давайте, идемте. Смотрите, как вы славно идете“». Мантуров сказал: «Да, но вы же меня держите». — «Нет, нет», — ответил Серафим, отпустил Мантурова, и тот пошел.
Вот один пример. Но для всех исцелений преподобного Серафима характерна забота о духовном здоровье обратившегося к нему человека. Он всегда испытывал веру людей. Непременным условием своей молитвы за кого-то он ставил, чтобы человек исповедовал веру в чистоте и истине. И люди, которые приходили и бывали исцелены, отпускались в жизнь не просто как люди, исцелившиеся телом, но как люди, которые могут начать новую жизнь с обновленной верой, с ясными, несомненными убеждениями. Мне кажется, такова канва любого исцеления, о которых я знаю.
Вы не упомянули беседу с Мотовиловым о стяжании Святого Духа. Преподобный Серафим будто бы говорил, что цель жизни — стяжание Святого Духа, и что это возможно через осуществление своих дарований. Хотелось бы знать, правда ли это, и какие это дарования?
Я упустил это. Мотовилов был среди самых близких святому Серафиму людей, ему святой тоже помог и исцелил его. Это длинная беседа его с преподобным Серафимом о цели христианской жизни
[174]. Суть беседы вот в чем. Когда Мотовилов был еще молодым человеком, он все стремился понять, какова цель христианской жизни и что имеется в виду, когда Священное Писание нам говорит о действии Святого Духа, о водительстве Святого Духа. И ни от кого он никогда не получил объяснения, которое бы удовлетворило не только его ум, но все его существо. Преподобный Серафим стал говорить ему, что цель христианской жизни — стяжать, приобрести Святой Дух. Если употребить более привычное выражение — чтобы Святой Дух вселился в человека, чтобы человек стал местом Его присутствия и действия. И дальше он подчеркивает два момента: с одной стороны, что самый удобный путь для принятия Святого Духа — это молитва. Отчасти потому что в молитве мы стоим лицом к лицу с Богом, мы с Ним вместе, как бы сливаемся с Ним, отчасти потому что молитва — то единственное, чему не могут помешать никакие жизненные обстоятельства, и потому она — универсальный путь. Он поясняет, что есть и другие вещи, к исполнению которых можно стремиться, но это не всегда возможно. Вам, может быть (говорит он), хотелось бы пойти в храм, но храма может не быть или служба уже окончилась. Вам захочется подать, помочь нищему, но может оказаться, что нет нищего или нечем помочь. Вы захотите вести воздержанную жизнь, но здоровье не позволяет. Так что на всех направлениях доброделания могут оказаться всевозможные ограничения по разным обстоятельствам. А молитва ничем не ограничена.
С другой стороны, у каждого из нас есть особые свойства. Что-то полезно нам в нашей духовной жизни, что-то — нет. Скажем, одним людям хорошо заниматься благотворительностью, через нее открывается в них сердце, и они могут принять Бога. Другим полезна созерцательная молитва. Еще другим — что-то еще. И каждый должен обнаружить то особое свойство собственной души, которое отзывается Богу и как бы служит открытой дверью, чтобы мог войти Господь. Вот, думаю, сущность беседы.
Каким образом можно обнаружить свое дарование?
Если бы я был мудрый, я бы ответил: «Спросите преподобного Серафима», но, будучи немудрым, я скажу: опытным путем. Близость Божию невозможно не узнать. Если вы испробуете одно, другое, один путь, другие средства, то настанет момент, когда вы обнаружите, по выражению преподобного Серафима, что оно вам «дает прибыток». Бесполезно изо всех сил исполнять то, что вам не свойственно, не близко. Выбрать то, что приносит прибыль и дает хорошие результаты — вопрос просто хорошего умения вести свои дела. Для одних людей путь лежит через одиночество, для других — через взаимообщение. Одним важно богослужение, другим оно не так важно, уж не говоря о том, что любовь — как забота о Боге и о человеке — может выражаться чрезвычайно разнообразными путями и образами. Так что наше дело — смотреть, становимся ли мы ближе к Богу, исполняя то или другое, строя свою жизнь так или иначе. Нет какого-то специального пути, невозможно выбрать путь, который, как нам вообразилось, есть путь святости. Помните, святой Венсан де Поль пишет в своем уставе: «Мы должны учиться оставлять Бога — Бога ради». Французское выражение позволяет двоякое толкование, оно может значить и «ради Бога» и «чтобы встретить Бога иным путем», потому что ради Бога можно отвернуться от того присутствия, которое мы переживаем. Но вместе с тем есть древнее слово отцов пустыни: «Кто видел брата своего, тот видел Бога своего»
[175]: вот иной способ отойти от Бога и встретить Его в другом, в человеке. Вся задача жизни в том, чтобы знать, от чего ты отказываешься ради того, чтобы встретить Бога. Но если подходить так, то это никогда не будет эгоистичным поиском, безотносительным к другим людям, и никогда не встанет вопрос выбора между Богом и любовью, Богом и человеком в полном смысле, хотя на какое-то время (в случае Серафима — на сорок семь лет) может быть как бы уход.
Это длинная беседа, я думаю, если вы хотите в ней разобраться, прочитайте ее сами.
Как руководить неопытным в этом отношении молодым человеком, как помочь ему (или ей) понять, то ли он делает, что следует?
Во-первых, если человек не приходит интуитивно к уверенности, невозможно привить ему уверенность. Никто не получит уверенности через нас. Второе: есть старое присловье, что невозможно довести ученика дальше, чем куда ты сам дошел. Человека нужно привести к нему самому. Так что прежде чем предпринять что бы то ни было по отношению к человеку, надо пройти целый путь, чтобы привести его к нему самому, чтобы он не был вне, а был все больше внутри, от непонимания к пониманию, от рассеянности к собранности. И когда что-то будет сделано в этом направлении, тогда можно будет подумать, как использовать этот результат. Но результат уже налицо, потому что это дает ощущение идентичности, ощущение бытия. Только когда ты владеешь собой, ты можешь отдаваться. Невозможно отдать то, чем не владеешь.
У молодых людей есть свойство, которое защищает их от наших нападок: они не слишком-то нам доверяют, так что мы можем принести им гораздо меньше вреда, чем нам думается. Очень часто нас слушают и отвечают: ладно, ладно, достаточно посмотреть на тебя, чтобы понять, что все это неправда, — что я считаю хорошим иммунитетом. И второе: мне кажется, что Бог не допускает нас слишком уж навредить людям. Конечно, мы друг друга раним, но в конечном итоге последнее слово и последнее действие остается за Ним. Он не полагается на нас, будто мы сделаем все, — и эта мысль очень ободряет. И в-третьих, я думаю, что если не стараться переделать других по собственному образцу, то все в порядке. То есть если мы помогаем человеку быть тем, что он есть, а не чем-то другим, если мы стараемся учить тому, что говорит Бог, передаем слова Божии, тысячелетний опыт жизни в Боге и т. д., а не то, как мы сами думаем, то мы можем сделать богатый вклад.
Вызов современности [176]
Современный мир ставит нас перед вызовом, и мир современен каждому поколению в любой момент жизни. Но порой стоит задуматься о том, что же такое вызов и перед лицом какого вызова мы стоим.
Каждое поколение сталкивается с переменами. Для одних перемена означает в какой-то степени недоумение: то, что было прежде самоочевидным, что казалось надежным, постепенно распадается или ставится под вопрос, часто очень радикальным образом, насильственно. Для других перемена сказывается иного рода неуверенностью: молодежь входит в меняющийся мир и не знает, куда это ее приведет. Таким образом обе группы — и те, кому кажется, что прежний мир рушится, исчезает, меняется до неузнаваемости, и те, кто оказывается в мире, который сам в становлении, облик которого они не могут понять, не могут прозреть, — равно стоят перед вызовом, но по-разному. И я хотел бы представить вам два или три образа и собственные заключения, потому что единственное, что можно сделать в отношении своей жизни, — это поделиться тем, чему научился или что почитаешь за истину.
Все мы, как правило, ожидаем, что все в жизни должно быть благополучно, гармонично, мирно, без проблем, что жизнь должна развиваться подобно тому, как растет из семени ухоженное растение: небольшой росток под укрытием постепенно достигает полного расцвета. Но из опыта мы знаем, что так не бывает. Мне кажется, что Бог есть Бог бури в такой же мере, как Он есть Бог гармонии и покоя. И первый образ, который приходит на ум, это рассказ из Евангелия о том, как Христос идет по морю среди бури и Петр пытается прийти к Нему по волнам (Мф 14:22—34).
Оставим в стороне исторический аспект рассказа. Что тут случилось, о чем это говорит нам? Первое: Христос не успокоил бурю одним фактом Своего присутствия. И это мне кажется важным, потому что слишком часто, когда нас застигает буря, будь она малая или великая, мы склонны думать: разразилась буря — значит, Бога здесь нет, значит, что-то не в порядке (обычно с Богом, реже — с нами). И второе: раз Христос может оказаться в середине бури и не заколебаться, не быть сломленным, уничтоженным, это означает, что Он находится в точке равновесия. А в урагане, в смерче, в любой буре точка устойчивости, точка, где сталкиваются, взаимно уравновешиваясь, все бушующие силы стихии, — в самой сердцевине урагана; и здесь-то и находится Бог. Не с краю, не там, где Он мог бы безопасно выйти на сушу, пока мы тонем в море, — Он там, где положение хуже всего, где самое бушевание, самое противостояние.
Если вспомнить рассказ дальше, как Петр шел по воде, мы видим, что его порыв был верным. Петр увидел, что ему грозит смертельная опасность. Небольшая лодка, в которой он находится, может потонуть, ее могут разбить волны, перевернуть бушующий ветер. И в сердцевине бури он увидел Господа в Его чудесном покое и понял, что если только и сам сможет достичь этой точки, он тоже окажется в самой сердцевине бури — и вместе с тем в несказанном покое. И он оказался готовым покинуть безопасность лодки, которая представляла защиту от бури, пусть хрупкую, но все-таки защиту (другие ученики спаслись же в ней), и выйти в бурю. Он не сумел дойти до Господа, потому что вспомнил, что может утонуть. Он стал думать о себе, о буре, о том, что никогда еще не ходил по волнам, он обратился к самому себе и уже не мог устремляться к Богу. Он лишился безопасности лодки и не обрел полной безопасности того места, где был Господь.
И мне кажется, что когда мы думаем о себе самих в современном мире (и, как я сказал, мир современен из поколения в поколение, нет момента, когда мир не является все той же бурей, только каждому поколению она представляется в ином обличье), мы все сталкиваемся с той же проблемой: малая ладья представляет некоторую защиту, вокруг все чревато опасностью, в центре бури — Господь, и встает вопрос: готов ли я идти к Нему? Это первый образ, и я предоставляю каждому отозваться на него самостоятельно.
Второй образ, который приходит мне на ум, — это акт творения. О сотворении мира говорится в первой строке Библии: сотворил Бог небо и землю (Быт 1:1) — и это все. Когда я размышляю об этом, вот что мне представляется. Бог, полнота всего, гармония, красота, вызывает по имени все возможные твари. Он зовет, и каждая тварь восстает из небытия, из полного, радикального отсутствия, восстает в первозданной гармонии и красоте, и первое, что она видит, — полная, совершенная красота Божия, первое, что она воспринимает, — полная гармония в Господе. И имя этой гармонии — любовь, динамичная, творческая любовь. Именно это мы выражаем, когда говорим, что совершенный образ взаимоотношений любви находим в Троице.
Но если подумать о следующих строках, вернее, о второй половине фразы, мы видим нечто, что должно было бы заставить нас задуматься о нашем положении. Там говорится, что первый зов Божий создал то, что по-еврейски называется хаос, сумбур, — хаос, из которого Бог вызывает предметы, формы, реальности. В Библии употреблены разные слова, когда говорится о первичном акте творения этого хаоса (что он такое — я сейчас попробую определить) и когда говорится о дальнейшем творении. В первом случае употребляется слово, которое говорит о творении из ничего того, чего не было, во втором — о создании чего-то из, так сказать, уже существующего материала.
О хаосе мы всегда думаем как о беспорядке, неорганизованном бытии. Мы думаем о хаосе в нашей комнате, подразумевая, что комната должна быть прибрана, а мы все перевернули в ней. Когда мы думаем о хаосе в более широком масштабе жизни, в мире, мы представляем себе город, пострадавший от бомбардировки, или общество, где сталкиваются противостоящие интересы, где любовь угасла или исчезла, где ничего не осталось, кроме жадности, эгоцентризма, страха, ненависти и т. п. Мы понимаем хаос как ситуацию, где то, что должно быть гармонично, потеряло гармонию, потеряло стройность, и мы стремимся все упорядочить, то есть каждую хаотическую ситуацию привести к стройности и устойчивости. Опять-таки, если прибегнуть к образу бушующего моря, для нас выход из этого хаоса был бы в том, чтобы заморозить море, чтобы оно стало неподвижно, — но не так действует Бог в подобных ситуациях.
Хаос, с упоминания которого начинается Библия, это, мне кажется, нечто другое. Это все потенциальные возможности, вся возможная реальность, которая еще не обрела свою форму. Можно говорить в таких терминах о разуме, о чувствах, об уме и сердце ребенка. Можно сказать, что они еще в хаотическом состоянии, в том смысле, что все они есть, все возможности даны, но ничто еще не раскрылось. Они подобны почке, которая содержит всю красоту цветка, но еще должна раскрыться, а если она не раскроется, то ничего не будет явлено.
Первичный хаос, о котором говорит Библия, мне кажется, это безграничная, невообразимая полнота возможностей, в которой содержится все — не только то, что тогда могло быть, но что может быть и теперь, и в будущем. Это словно почка, которая может раскрыться, развиться навсегда. И то, что в Библии описано как сотворение мира, это акт, которым Бог вызывает одну возможность за другой, ждет, чтобы она созрела, стала готовой к рождению, и затем дает ей облик, форму и пускает в жизнь и в реальность. Мне кажутся важными эти образы, потому что мир, в котором мы живем, все еще находится в состоянии этого хаоса, творческого хаоса. Этот творческий хаос еще не проявился во всех своих возможностях, он продолжает порождать все новые и новые реальности, и каждая такая реальность из-за своей новизны страшна старому миру. Есть проблема взаимопонимания между поколениями, есть проблема, как понимать мир в определенную эпоху, если ты родился и был воспитан в другую эпоху. Нас может привести в изумление то, что мы видим спустя двадцать или тридцать лет, после того как сами достигли зрелости. Возможно, мы окажемся перед лицом мира, который должен бы быть понятным и близким, потому что населен нашими потомками, нашими друзьями, и однако стал практически непонятным для нас. И в этом случае опять-таки мы стремимся «упорядочить» мир. Это то, что делали все диктаторы: они заставали мир в становлении или мир, который скатился в беспорядок, и придавали ему форму, но рукотворную, в меру человека. Хаос нас пугает, мы боимся неизвестного, мы боимся заглянуть в темную бездну, поскольку не знаем, что появится из нее и как мы сможем с этим справиться. Что станется с нами, если возникнет нечто или некто, или некая ситуация, которую мы вовсе не понимаем?
Таково, думаю, положение, в котором мы находимся все время, из поколения в поколение, и даже в пределах собственной жизни. Бывают моменты, когда мы страшимся того, что случается с нами, того, чем мы становимся. Я не имею в виду тот элементарный уровень, когда можно прийти в ужас, осознав, что разрушаешься от пьянства, от наркотиков, от того, какой образ жизни ведешь, или от внешних условий. Я говорю о том, что поднимается в нас, и мы обнаруживаем в себе нечто, чего никак не подозревали. И опять-таки нам представляется, что проще всего подавить, постараться уничтожить то, что поднимается и устрашает нас. Мы боимся творческого хаоса, боимся постепенно возникающих возможностей и стараемся выйти из положения, обращаясь вспять, предавая новое земле, приводя все в застывшее равновесие.
Люди творческие легко найдут выход, спроецировав то, что происходит в них, в картину, в скульптуру, или в музыкальное произведение, или в игру на сцене. Эти люди в выгодном положении, потому что художник — при условии, что он настоящий художник, — выражает через себя больше, чем даже сам сознает. Он обнаружит, что выразил на полотне, в звуке, в линиях или красах, или формах то, чего сам не видит в себе, это откровение для него себя самого, — на этом основании психолог может прочитать картину, которую художник создал, не понимая, что создает.
Я не знаток живописи, но у меня был опыт, который до сих пор меня поражает, ключ к нему я получил от одной пожилой женщины. Лет тридцать назад ко мне пришел молодой человек с огромным полотном и сказал: «Меня послали к вам, сказав, что вы сможете истолковать мне это полотно». Я спросил, почему. Он ответил: «Я прохожу курс психоанализа, мой психоаналитик не может понять эту картину, я сам тоже не могу. Но у нас есть общий друг (та самая женщина), который сказал: „Знаешь, ты совсем свихнулся, тебе надо пойти к такому же, как ты“, — и послал меня к вам». Я нашел, что это очень лестно, и посмотрел на его картину — и ничего не увидел. Так что я попросил оставить полотно у меня и прожил с ним три или четыре дня. И тогда я начал что-то видеть. После этого я посещал его раз в месяц, рассматривал его произведения и толковал их ему, до тех пор пока он не стал сам легко прочитывать свои картины, как можно читать свои стихи или любое свое произведение с пониманием.
Это может случиться с каждым в какой-то момент жизни — порой со стороны легче понять человека, чем он сам себя понимает. Мы должны быть в состоянии смотреть в лицо современной нам жизни точно так же. Бог не боится хаоса, Бог — в его сердцевине, вызывая из хаоса всю реальность, такую реальность, которая разверзнется новизной, то есть устрашающе для нас, пока все не достигнет своей полноты.
Когда я сказал, что верю, что Бог есть Господь гармонии, но и Господь бури, я имел в виду нечто даже еще большее. Окружающий нас мир не есть тот первичный хаос, чреватый возможностями, которые еще не раскрылись, еще не несут в себе зла, еще, так сказать, не испорчены. Мы живем в мире, где то, что было вызвано к бытию, до ужаса искажено. Мы живем в мире смерти, страдания, зла, неполноты, и в этом мире присутствуют обе стороны хаоса: первичный источник возможностей, потенций — и искаженная реальность. И наша задача труднее, потому что мы не можем просто созерцать, смотреть на то, что возникает из небытия или постепенно вырастает в большее и большее совершенство, словно ребенок во чреве матери, как зародыш должен развиться в полноту существа (человека или животного). Нам приходится встречаться с разрушением, со злом, с искажением, и здесь мы должны сыграть свою роль, решающую роль.
Одна из проблем, которую я вижу — теперь, может быть, яснее, чем в юные годы (возможно, с возрастом чувствуешь, что прошлое более гармонично и надежно, чем настоящее), заключается в том, что вызов не принят, большинство людей хотели бы, чтобы вызов принял кто-то другой. Верующий, всякий раз как возникает вызов или опасность, или трагедия, оборачивается к Богу и говорит: «Защити, я в беде!». Член общества обращается к власти предержащей и говорит: «Ты обязана обеспечить мое благополучие!». Кто-то обращается к философии, кто-то выступает с единичными акциями. Но при всем этом, мне кажется, мы не сознаем, что каждый из нас призван принять ответственное, продуманное участие в разрешении встающих перед нами проблем.
Каковы бы ни были наши философские убеждения, мы посланы в мир, поставлены в этот мир, и всякий раз, когда мы видим его дисгармонию или уродство, наше дело — вглядеться в эти явления и поставить себе вопрос: «Каков может быть мой вклад в то, чтобы мир стал действительно гармоничным?», — не условно-гармоничным, не просто приличным, не просто таким миром, в котором, в общем, жить можно. Бывают периоды, когда, чтобы дойти до ситуации, где жить можно, приходится пройти через невозможные, казалось бы, моменты, так же как может оказаться необходимым хирургическое вмешательство, или как гроза очищает воздух.
Мне кажется, современный мир ставит перед нами двойной вызов, и мы должны вглядеться в него, а не стараться отвести взор, а ведь многие из нас предпочли бы не видеть некоторых аспектов жизни, потому что если не видишь, ты в значительной мере свободен от ответственности. Проще всего игнорировать, что люди голодают, что их преследуют, что люди страдают в тюрьмах и умирают в больницах. Это самообман, но мы все в значительной степени рады обманываться или стремимся к самообману, потому что было бы намного удобнее, намного легче жить, если бы можно было забыть про все, кроме того, что есть хорошего в моей собственной жизни.
Так что от нас требуется гораздо больше мужества, чем мы готовы проявить обыкновенно: очень важно смотреть трагедии в лицо, согласиться принять трагедию, словно рану в сердце. И встает искушение избежать раны, превратив боль в гнев, потому что боль, когда она навязана нам, принята, когда мы ее претерпеваем, в каком-то смысле — пассивное состояние. А гнев — моя собственная реакция: я могу быть резким, могу гневаться, могу действовать — не очень-то много, обычно, и уж, конечно, это не разрешит проблему, потому что, как говорит Послание, гнев человеческий не творит правды Божией (Иак 1:20). Но тем не менее гневаться легко, и очень трудно принять страдание. Высшее выражение второго я вижу, например, в том, как Христос принимает Свои страдания и распятие: как дар Себя.
А второе: недостаточно встречать события, прозревать суть вещей, принимать страдание. Мы посланы в этот мир изменить его. И когда я говорю «изменить», я думаю о многообразных путях, какими может быть изменен мир, но меньше всего о политической или общественной перестройке. Первое, что должно произойти, — это перемена в нас самих, которая позволит нам быть в гармонии — гармонии, которую можно будет перенести, распространить вокруг нас.
Это, мне кажется, важнее всякой перемены, какую можно стараться произвести вокруг себя иным способом. Когда Христос говорит, что Царство Божие внутри нас (Лк 17:21), это означает, что если Бог не воцарится в нашей жизни, если у нас не ум Божий, не сердце Божие, не воля Божия, не взор Божий, все, что мы будем стараться сделать или создать, будет дисгармонично и до какой-то степени неполно. Я не хочу сказать, что каждый из нас способен достичь всего этого в полноте, но в той мере, в какой мы этого достигли, это распространяется вокруг нас гармонией, красотой, миром, любовью и меняет все вокруг нас. Акт любви, проявление жертвенной любви меняет что-то для всех, даже для тех людей, кто не подозревает о нем, не замечает его сразу.
Так что нам следует ставить себе вопросы о том, насколько мы способны мужественно смотреть в лицо вещам, а мужество всегда подразумевает готовность забыть себя и смотреть, во-первых, на ситуацию и, во-вторых, на нужду другого. До тех пор пока мы сосредоточены на себе, наше мужество будет разбиваться, потому что нам будет страшно за наше тело, за наш ум, за наши эмоции, и мы никогда не сможем рискнуть всем, вплоть до жизни и смерти. Этот вопрос мы должны ставить себе постоянно, потому что мы то и дело бываем робкими, трусливыми, мы сомневаемся. Нам ставится вопрос, а мы обходим его и даем уклончивый ответ, потому что это легче, чем дать прямой ответ. Мы должны что-то сделать и думаем: сделаю вот столько, остальное — позже и т. д. И нам надо воспитывать себя, чтобы стать теми людьми, которые посланы принести в мир гармонию, красоту, правду, любовь.
В переводе Нового Завета Моффата есть выражение: «Мы — авангард Царства Небесного»
[177]. Мы — те, у кого должно быть понимание божественной перспективы, кто поставлен, чтобы расширить, углубить видение окружающих, внести в него свет. Мы не призваны быть обществом людей, которым приятно взаимное общение, которые радуются, слыша друг от друга дивные слова, и ожидают следующего случая побыть вместе. Мы должны быть теми, кого Бог возьмет в Свою руку, посеет так, что нас унесет ветер, и где-то мы упадем в почву. И там мы должны пустить корни, дать росток, пусть и какой-то ценой. Наше призвание — вместе с другими людьми участвовать в строительстве города, града человеческого, да, но такого, чтобы этот город мог соответствовать Граду Божию. Или, другими словами, мы должны строить град человеческий, который был бы такой емкости, такой глубины, такой святости, чтобы Одним из его граждан мог быть Иисус Христос, Сын Божий, ставший Сыном человеческим. Все, что не в эту меру, все, что меньше этого, не есть град человеческий, достойный Человека, — я уж не говорю: достойный Бога, — он слишком мал для нас. Но для этого мы должны принять вызов, взглянуть ему в лицо, для начала — стать лицом к лицу с самими собой, достичь требуемого уровня покоя и гармонии и действовать изнутри этой гармонии — или светить вокруг себя, потому что мы призваны быть светом миру.
Ответы на вопросы
Вам не кажется, что наш мир в таком состоянии, что уже поздно думать о изменении, исправлении его?
Нет, я не думаю, что уже слишком поздно. Во-первых, сказать, что уже слишком поздно, означает обречь себя на бездействие, отступиться и только прибавить застоя, гнили. А во-вторых, мир удивительно юн. Я не говорю о шимпанзе и динозаврах, но если иметь в виду человеческий род, мы очень молоды, мы прямо-таки новички, недавние поселенцы. Мы уже успели много напортить, но в целом мы очень юные.
Кроме того, насколько я могу судить — я не историк, но из того немногого, что я знаю, ясно, что мир постоянно проходит через взлеты и падения, через кризисы, через темные периоды и светлые периоды. И люди данного поколения большей частью чувствуют, что когда положение скатилось в хаос, это, должно быть, все, конец. Так вот, опыт показывает или должен бы показывать нам, что всякий раз происходит какой-то подъем, так что я верю, что еще есть время. Разумеется, я не пророк в этом смысле, но думаю, пока я жив, я буду действовать. Когда умру, ответственность уже не моя. Но я не намерен просто уютно устроиться в кресле и отговориться: «Я не понимаю теперешний мир». Я буду продолжать говорить то, что считаю истиной, буду стараться делиться тем, что считаю прекрасным, а что из этого выйдет — не мое дело.
Но когда-то наступит конец всему? Или вы не верите в это?
Я верю, что наступит момент, когда все драматически рухнет, но думаю, что мы еще не дошли до этого момента. Помню, во время революции в России, когда еще допускались диспуты и выступления инакомыслящих, кто-то спросил христианского проповедника, баптиста
[178], считает ли он Ленина антихристом, и тот ответил: «Нет, он слишком мелок для этого». И когда я смотрю вокруг, мне думается, что все те, кого порой называют воплощением зла, слишком мелки, этот образ к ним не относится. Думаю, мы еще не готовы к конечной трагедии. Но в этом смысле я оптимист, потому что не боюсь и последней трагедии тоже.
Но разве такие факторы, как ядерное оружие, не изменили качественно всю ситуацию в мире?
Наличие атомной бомбы, ядерного оружия и т. п., разумеется, внесло иное измерение — измерение, которого количественно прежде не было. Нельзя исключить злую волю или случайность. Но не помню, кто сказал, что решающий фактор — не то, что существует ядерное оружие, решающий фактор — найдется ли человек или группа людей, готовые употребить такое оружие. Думаю, вот главное, что я чувствую по этому поводу. Мир, безопасность и т. д. — все это должно начаться с нас самих, в нашей среде. Можно уничтожить все ядерное оружие и тем не менее вести разрушительную войну и полностью уничтожить друг друга. Без всякого ядерного оружия можно уничтожить жизнь на земле. Можно вызвать голод, который унесет миллионы людей, можно убивать так называемым обычным оружием до тех пор и в таких масштабах, что наша планета обезлюдеет. Так что проблема в нас, а не в самом оружии. Знаете, еще в древности святой Иоанн Кассиан, рассуждая о добре и зле, сказал, что очень немногие вещи добры или злы, большая же часть их нейтральна. Возьмите, например, говорит он, нож. Сам по себе он нейтрален, вся проблема в том, у кого он в руках и что им будут делать. Так и здесь. Все дело в том, чтобы мы, люди, относились к миру, в котором живем, с благоговением, относились друг к другу с уважением. Дело не в разрушительных средствах — все зависит от страха, ненависти, жадности, качествующих в нас.
Все-таки ядерное оружие трудно рассматривать как нечто столь же нейтральное, как нож. Разве не следует бороться с этой опасностью изо всех сил, участвовать в борьбе за мир?
То, что мы говорим относительно ядерной энергии, вероятно, переживалось и выражалось в другие эпохи по другим поводам. Когда был изобретен порох, он так же страшил людей, как сегодня нас устрашает ядерная энергия. Знаете, я, может быть, очень бесчувственный, но когда мне было лет пятнадцать, я с большим увлечением читал стоиков и, помню, вычитал место у Эпиктета, где он говорит, что есть два рода вещей: те, с чем что-то можно сделать, и те, с чем ничего не поделаешь. Где можете что-то сделать — сделайте, про остальное забудьте. Может быть, я похож на страуса, который прячет голову в песок, но я просто живу день за днем, даже не вспоминая о том, что мир может быть уничтожен ядерной энергией, или что меня может переехать машина, или что в храм может залезть грабитель. Для меня важно состояние людей, которые поступят так или иначе. Вот что нам доступно, относительно чего мы можем что-то сделать: помочь людям осознать, что сострадание, любовь важны.
В движении за мир, в борьбе за мир меня смущает вот что: это движение в большой степени обосновано доводом: «Вы же видите, какая нам грозит опасность!». Не то важно, что это опасно, страшно — важно, что нет любви. Мы должны стать миротворцами не из трусости, должно перемениться наше отношение к ближнему. А если так, все должно начинаться не с запрета ядерных электростанций, все должно начинаться с нас самих, рядом с нами, где бы то ни было. Помню, в самом начале войны был налет на Париж и я спустился в убежище. Там была женщина, которая с большой горячностью говорила об ужасах войны и сказала: «Невообразимо, что в наше время существуют такие чудовища, как Гитлер! Люди, которые не любят своего ближнего! Попадись он мне в руки, я бы истыкала его иголками до смерти!». Мне кажется, такое настроение и в наши дни очень распространено: если бы можно было уничтожить всех злодеев! Но в тот момент, когда вы уничтожаете злодея, вы совершаете столь же разрушительный поступок, потому что в счет идет не количество, а качество того, что вы сделали.
У одного французского писателя в романе
[179] есть рассказ про человека, который побывал на островах в Тихом океане и там научился заклинаниями и волшебством вызывать к жизни все, что еще способно жить, но увяло, угасло. Он возвращается во Францию, покупает клочок голой каменистой земли и поет ей песнь любви. И земля начинает давать жизнь, прорастать красотой, растениями, и звери со всей окрестности приходят жить там в сообществе дружбы. Только один зверь не приходит — лиса. И этот человек, monsieur Cyprien, болеет сердцем: бедная лиса не понимает, как она будет счастлива в этом воссозданном раю, и он зовет лису, призывает, зазывает — но лиса не идет! Более того: время от времени лиса утаскивает райского цыпленка и съедает его. Сострадание у monsieur Cyprien сменяется нетерпением. А потом ему приходит мысль: если бы не было лисы, рай включал бы всех — и он лису убивает. Он возвращается на свой райский клочок земли: все растения увяли, все звери разбежались.
Думаю, вот урок для нас в этом отношении, это случается и с нами, в нас. Я не хочу сказать, что совершенно бесчувственно отношусь к тому, что может произойти при катастрофе, ядерной или любой другой, но не это худшее зло, худшее зло — в сердце человека.
Если считать нейтральным все, что может дать добрый или злой результат, то выходит, что страх — это наша субъективная реакция? И потом: где же наша вера?
Я не настолько наивен, чтобы считать, будто страх — всего лишь субъективное состояние и вызван отсутствием веры. Да, все, что может быть разрушительно, что грозит уничтожить человека, его тело, разрушить мир, в котором мы живем, включая нас самих, или разрушить людей нравственно, несет в себе страх. Но я думаю, что за всю историю мы не раз сталкивались с тем, что несет в себе угрозу и страх, и научились укрощать эти вещи, начиная с огня, наводнения, молнии. Был побежден целый ряд болезней, такие, как чума, оспа, в последние десятилетия — туберкулез. Когда я был студентом-медиком, существовали целые отделения умирающих от туберкулеза, теперь он в целом считается легким заболеванием, он излечим. И наша роль, думаю, быть укротителями. Нам придется сталкиваться с явлениями, вызывающими ужас, рукотворными или природными, и наша задача — научиться встречать их, справляться с ними, обуздывать и, в конечном итоге, использовать. Даже оспу используют для прививок. Огнем пользуются чрезвычайно широко, также и водой, эти стихии покорены. Бывают моменты, когда человечество по беспечности забывает свою роль укротителя, и тогда происходят трагедии. Но даже если оставить в стороне рукотворные, человеком созданные ужасы, надо приручить еще многое другое.
Разумеется, такая вещь, как ядерная энергия, более устрашает, я бы сказал, не из-за того, что она смертоносна, — это-то просто: конец и все, но из-за побочных явлений. Поэтому человечеству следует четко осознавать свою ответственность, и я думаю, это вызов, которому человечество должно смотреть в лицо, потому что это нравственный вызов, его не разрешишь просто тем, что мы откажемся от ядерной энергии. В наше время чувство ответственности в целом очень слабо развито. В данном случае мы стоим перед лицом прямого вопроса: «Сознаете ли вы свою ответственность? Готовы ли вы взять ее на себя? Или вы готовы уничтожить и собственный народ, и другие народы?». И я думаю, что если мы отнесемся к этому как к вызову, мы должны принять его крайне серьезно, так же как много столетий назад людям пришлось столкнуться с отношением к огню, когда они не умели производить огонь, но знали, что огонь может сжечь их жилища и уничтожить все вокруг; то же самое относилось к воде и т. д.
В таком случае, как мы можем, подражая Петру, «выходить из лодки»? Как это должно выражаться на практике?
Знаете, мне трудно ответить на это, потому что вряд ли я когда-либо сам выходил из лодки! Но мне кажется, что мы должны быть готовы оторваться от всего, что как бы представляет для нас безопасность, обеспеченность, защиту, и глядеть в лицо всей сложности и порой ужасу жизни. Это не значит лезть на рожон, но мы не должны укрываться, кидаться в лодку, искать убежища в священном месте и т. д., а должны быть готовыми встать во весь рост и встретить события лицом к лицу.
Второе: в тот момент, когда мы лишились прежней безопасности, какое-то время мы неизбежно будем переживать чувство подъема, хотя бы потому, что будем чувствовать себя героями. Знаете, то, чего не сделаешь по добродетели, сделаешь из тщеславия. Но на тщеславии далеко не уедешь. В какой-то момент почувствуешь, что под ногами нет прочной почвы, тогда можно действовать по решимости. Можно сказать: я сделал выбор, и как бы мне ни было страшно, я не отступлюсь. Это случается, скажем, на войне: ты вызвался добровольцем на задание и оказываешься в темноте, в холоде и голоде, промок до нитки, кругом грозит опасность, и так хочется оказаться в укрытии. И можно либо сбежать, либо сказать: я принял решение и буду его держаться… Возможно, ты падешь духом, потерпишь неудачу, и в этом нет ничего бесчестного — никто из нас не является патентованным героем. Но это происходит потому, что вдруг вспомнишь, что может случиться с тобой, вместо того чтобы думать о смысле своих действий или о том, куда идешь. Тут может поддержать мысль о том, как важна, значительна конечная цель, и о том, что ты сам, твоя жизнь, твоя физическая цельность или твое счастье очень уж ничтожны по сравнению с самой целью.
Дам вам пример. Когда-то я преподавал в Русской гимназии в Париже, и в одном из младших классов была девочка, которая во время войны уехала к родным в Югославию. В ней не было ничего особенного — обыкновенная девочка, милая, добрая, цельная натура. Во время бомбардировки Белграда дом, где она жила, был разбит. Все жильцы выбежали, но когда стали осматриваться, увидели, что одна больная старушка не смогла выйти. И девочка не задумалась, она вошла в огонь — и так и осталась там. Но порыв, мысль, что эта старушка не должна погибнуть, сгореть заживо, была сильнее, чем инстинктивное движение спастись самой. Между правильной, мужественной мыслью и поступком она не допустила краткого мига, который всем нам позволяет сказать: «А надо ли?». Нет, не должно быть промежутка между мыслью и действием.
В рассказе о Петре есть еще один воодушевляющий момент. Он начинает тонуть, замечает свою незащищенность, свой страх, свой недостаток веры, сознает, что помнит о себе больше, чем помнит о Христе, — Христе, Которого любит и от Которого тем не менее позже отречется, несмотря на то что подлинно любит Его, — и вскрикивает: «Погибаю, спаси!», и оказывается на берегу. И я думаю, что невозможно просто сказать: «Я выйду из лодки, пойду по волнам, достигну сердцевины урагана и спасусь!». Мы должны быть готовы сделать шаг и выйти в море, которое полно опасностей, и если думать о море человеческом, мы окажемся в окружении опасностей разного рода, больших или малых. В какие-то моменты у вас вырвется: «У меня больше нет сил, мне нужна какая-то поддержка или помощь!». Вот и ищите помощи и поддержки, потому что если решить: «Нет, я буду геройски стоять до конца», можно сломаться. Так что надо иметь смирение сказать: «Нет, это — увы! — все, на что я способен!». И в этот момент спасение придет в ответ на твое смирение.
Может ли верить современный человек [180]
Тема сегодняшней проповеди имеет две стороны. На поставленный вопрос можно сразу дать простой ответ: «Да, современный человек — человек верующий». Он верит в самые необычайные вещи, в нашем западном мире он принимает на веру что угодно, только не традиционные верования своей страны. Легковерия сегодня несравнимо больше, чем лет пятьдесят назад, — я не беру дальше, потому что приблизительно такой период сам помню сознательно.
Люди с научным образованием и довольно зрелые умом готовы верить в одно, но отметают как невозможное другое. Я помню книгу, написанную человеком, перед которым преклоняюсь с большим уважением, о его опыте жизни в Гималаях, в Тибете. Где-то во вступлении он говорит, что ему пришлось отказаться от христианства, из-за того что оно полно самых невероятных утверждений. И сразу затем со страстной убежденностью рассказывает о тибетском подвижнике, который мог летать, когда ни пожелает. Я не говорю, что подвижник не может летать, но если верить, что человек способен летать, то тем более можно многое принять в христианстве, что представляет меньшие проблемы с точки зрения науки и более приемлемо для человеческого разума. Не думаю, что оскорблю кого-нибудь, если скажу, что распространение веры в такие явления, как летающие тарелки, гадание, астрология и т. п., поразительно возросло за последние десятилетия. И тем не менее люди, готовые верить во все перечисленное, говорят, что верить христианству невозможно. Помню, один человек сказал мне, что невозможно принять на веру Воскресение Христа — хотя в Воплощение он верил. И когда я заметил, что гораздо легче поверить, что Бог, ставший человеком, восстал из мертвых, чем поверить, что Бог, ставший человеком, мог умереть, он посмотрел на меня с изумлением и сказал: «Я никогда не задумывался над этим в таком плане!».
Эта доверчивость, способность принимать новые, полные таинственности представления, благодаря чему начинаешь принадлежать группе или движению исключительных «посвященных», поразительна. И мне иногда сдается, что переживание собственной исключительности и особого положения, в котором оказываешься, когда принадлежишь к такому движению, отчасти способствует тому, что люди способны принять на веру некие утверждения. Ведь очень заманчиво принадлежать узкому кругу, пусть даже есть подобные тебе выдающиеся личности, — лишь бы их было не слишком много и ваша исключительность была бы вполне очевидна.
Я сталкивался с подобным отношением к Православной Церкви. Я отказался принять в православие немало людей, отказал им просто потому, что, копнув немного, обнаружил, что православная Церковь представлялась им экзотикой, принадлежать ей было бы так чудно{'}, вызывало бы к ним интерес, ставило их особняком в жизни. Такого рода проблемы бывают у людей двух сортов: одним требуется любой ценой не выделяться из большинства и быть одной из блеющих овец в возможно более многочисленном стаде, другим требуется выбрать что-то экстравагантное или исключительное, чтобы оказаться на пьедестале. Но очень трудно принять что-то совершенно простое, что кажется обыкновенным, поскольку люди жили этим две тысячи лет, или пять тысяч, или десять тысяч лет.
Так что я убежден, что современный человек верит так, как люди XVIII или XIX века не считали возможным верить, он готов проглотить что угодно, лишь бы оно отдавало новизной и вызывало волнующие переживания собственной исключительности, необычайности. Я сейчас никого не обличаю, но выступаю против того, что люди не в силах расстаться с чем-то непривычным просто по той причине, что оно новое и волнует их. Это поверхностный и малоубедительный подход.
Теперь отложим этот аспект вопроса и обратимся к способности или неспособности людей верить тому, что провозглашает христианство. Почему трудно верить и почему я думаю, что можно быть сколько-то образованным и здравомыслящим человеком (каким считаю себя) и тем не менее — верующим? В первую очередь, мне кажется, что одна из причин, почему людям нашего времени представляется трудным быть верующим, в том, что язык христианства постепенно закоснел, потерял силу, ясность, в него стали вкладывать неведомые ему прежде смыслы. Так что в конечном итоге христианское учение сделалось отчаянно безжизненным, и не осталось никакого основания, никакого побуждения верить тому, в чем практически не осталось никакого содержания. Когда Воплощение сводится на уровень мифа или символа, когда о Воскресении говорится, что, конечно же, это не было телесное воскресение Христа, а какое-то духовное событие в сердцах Его учеников, когда все переводится во внеисторический план, в образы, то Евангелие превращается в очередную волшебную сказку. Я могу привести волшебные сказки, гораздо более занимательные, чем Евангелие, если мы ищем развлечения, а не учения, которое способно оформить жизнь. Поэтому я считаю, что Церковь должна очень серьезно задуматься, что же она должна возвещать людям.
Евангелие — строгий документ, Евангелие беспощадно и выражается совершенно определенно, его нельзя пересказывать, разбавлять и приспосабливать к уровню собственного понимания или вкуса. Евангелие провозглашает нечто, что превосходит нас, оно дано для того, чтобы расширить наш ум, расширить наше сердце (порой до нестерпимых пределов), перестроить нашу жизнь, дать нам мировоззрение прямо-таки обратное привычному нам, и все это нам не очень-то хочется принять. И поскольку Запад в целом еще не нашел мужества заявить, что все это бессмысленно, и отбросить Евангелие, многие находят способы «заболтать» то, что слишком трудно, непосильно, и создать «прирученное» Евангелие. Но беда в том, что если в стакан с вином добавить слишком много воды, это будет вода, подкрашенная вином, и она не произведет в вас того действия, какое мог бы вызвать стакан вина. Если в Евангелии нет ничего, кроме нравоучительного рассказа о довольно малоуспешном молодом пророке, который плохо кончил свою жизнь на кресте, то стоит ли действительно ему следовать? Апостол Павел давно уже сказал, что никакой воин не будет готов к битве, если не раздастся ясный призыв трубы (1 Кор 14:8). Кто из нас готов броситься в бой ради всего-то волшебной сказки?
Второе: христианство в ранние дни предполагало дисциплину жизни, которая перестраивала ум и волю, направляла их к Богу. Когда я говорю о дисциплине, я не имею в виду армейскую муштру или общепринятые нормы поведения. Дисциплина, от латинского discipulus, ученик, — это состояние ученика, того, кто выбрал себе учителя, наставника и готов учиться от него любой ценой. И суть того, что у тебя есть учитель, в том, что ты встретился с умом большим, чем твой, сердцем более глубоким, чем твое, волей большей, чем твоя, с образом жизни, которому стоит последовать. Но это может дорого нам обойтись. Бонхёффер написал книгу, которая называется «Цена ученичества», и когда подумаешь о том, как он жил, и особенно как умер, то понимаешь, что ученичество может дорого обойтись, — это испытание мужества, величия души. И церкви как организации не занимаются больше воспитанием людей в духовной жизни, в сердце, в уме, и воле, и в действии, так же как, по образу, который дает апостол Павел, тренируют бегуна перед соревнованием (1 Кор 9:24—27). Тренировка ума — непременное условие ученичества в области науки или искусства. Но мы не ставим себя в положение ученика по отношению к Евангелию, нас очень мало чему учат и спрашивают с нас очень мало. Можно быть христианином очень задешево: считается, что достаточно заявить, что ты готов принять несколько утверждений относительно Бога, человека, греха, спасения, Церкви, — и все. Нет, этого недостаточно. Истину Евангелия нельзя представить как ряд пунктов, приемлемых всем, кто хочет считаться христианином. Это образ жизни, и к тому же нелегкий. Евангелие беспощадно, и слова Христовы же{'}стоки, хотя преисполнены любви, потому что любовь беспощадна, любовь никогда не соглашается на компромисс.
Закон можно обойти. Есть русская поговорка, что закон — как лужа: маленькую можно перешагнуть, большую можно обойти. Не то с любовью, в любви нет ничего такого, что можно обойти. Она предельно требовательна, ей нет границ, и вот чем страшно Евангелие. Можно выполнить до конца ветхозаветный Закон, но невозможно до конца исполнить закон любви. Потому что ветхозаветный Закон состоит из правил, но если нас призвала любовь, что означает — жить для других, забыть себя и только в этом найти полноту жизни, этому границ не будет. В этом — вторая проблема, которой церкви должны смотреть в лицо.
Я уже несколько раз употребил выражение «церкви», и, наверное, многие из вас думают: «Да действительно, как было бы хорошо, чтобы эти вот в черных рясах или официально ответственные за церковь люди сделали в этом направлении что-нибудь разумное, — так славно было бы стать верующим». Но беда в том, что Церковь — это не ваш настоятель, не я, не еще кто-то в рясе. Церковь — это мы с вами вместе. Однажды меня пригласили на конференцию, куда не было допущено духовенство, и меня представили как «мирянина в духовном сане». Точно так же вы — священники в чине мирян, и вы не можете уйти от собственной ответственности за искажение Евангелия и веры или за отсутствие духа ученичества, обвиняя нас в том, что мы — плохие руководители. Нет такого постановления, что руководить должен член клира. Дело священника — совершать богослужение и таинства. Но знание Бога не дается через рукоположение, а здесь речь идет о том, чтобы знать Бога.
В этом еще одна причина, почему христианство потеряло привлекательность и почему многим трудно верить. Считается, что за две тысячи лет христианство мало что изменило в мире. Я думаю, что это или откровенная ложь, или грубая ошибка. Христианство изменило мир коренным образом. До Христа не было понятия того, что человеческая личность имеет абсолютную ценность. В греческом мире, в Римской империи были свободные люди, власть имущие, которые имели право считаться личностью, и был человеческий скот, не обладавший личной ценностью, каждую особь можно было заменить другой. Для удобства им давались имена, но и только. Понятие, что самый ничтожный человек имеет такую же ценность, как самый высший в глазах людей, пришло с учением Христа, с провозглашением того, что именно так Бог относится к каждому из нас, ко всем людям. Одного этого довольно, чтобы показать изменение в человечестве, до того неведомое. Правда и то, что гораздо большего можно было бы достичь, если бы христиане, жившие прежде нас, были лучшими христианами, чем мы. Проблема в том, что они были не лучше нас, и не нам, таким, какие мы есть, обвинять других в том, что они не исполнили своего долга. Если подойти к делу серьезно, можно было бы за одно поколение восстановить равновесие. Апостолов было двенадцать человек, через полгода их последователей было несколько сотен, и они перевернули весь мир, потому что проповедовали нечто вполне определенное. Они провозглашали веру в человека и веру в Бога, они провозглашали новую жизнь и заплатили за это ценой собственной жизни. Если бы мы решились на это, наш христианский мир мог бы назваться христианским с совершенно новым значением этого слова.
И еще. Можно ли быть верующим в мире науки, техники, современной мысли? Когда мы говорим о вере, мы почти неизбежно думаем о религиозной вере. Если взять Послание к евреям, там в начале 11-й главы мы находим определение веры: уверенность в невидимом (Евр 11:1). Есть некая уверенность, и предмет этой уверенности невидим. Вера начинается там, где ударение на слове «уверенность», а предмет ее невидим. Но разве это не касается подхода ко всему в жизни, не только к Богу и вещам духовным? Ни один ученый не пустился бы ни в какие исследования, если не был бы уверен, что за видимым, за гранью видимого есть область невидимого, которая подлежит исследованию, открытию. Мы видим предметы, физик изучает природу материи, химик изучает химическую природу всего того, чем мы постоянно пользуемся. Всякое исследование материального, видимого мира, в котором мы живем, возможно предпринять только благодаря уверенности, что видимое открывает нам то, что сокрыто за этим зримым слоем.
Вы, может, возразите, что это относится только к научному подходу. Но опыт, душевная работа, которую мы называем верой, гораздо более универсальное явление. Когда я встречаю человека лицом к лицу, я вижу человеческие черты, одежду, присутствие — и только, но с кем-то мне хочется общаться, какие-то лица привлекают мое внимание, с кем-то мне хочется познакомиться ближе. Почему? Потому что я знаю не только из опыта всех прошедших прежде меня столетий, но из собственного опыта и интуиции, что это лицо говорит мне о том, что за ним есть нечто, с чем стоит познакомиться ближе. Человеческое лицо, человеческое поведение, манеры человека, звук его голоса подобны витражу, окну из цветного стекла, оно являет мне, что за ним есть жизнь и стоит исследовать, что за ним стоит. Но это тоже акт веры. Объективно говоря, все, что я вижу в каждом из вас, — это овал лица, в центре его — нос, рот, глаза, и пару ушей, образ могут дополнять или не дополнять волосы. Если это все, что можно видеть, у меня нет ни желания, ни побуждения подружиться с кем-то, потому что все мы взаимозаменяемы, все одинаковы на вид. Но что-то сияет за лицом, и актом веры я вступаю во взаимоотношение со стандартным набором внешних черт, как я его описал. Я увидел в нем больше, чем говорит внешность.
Так что вера — душевный труд, который затрагивает все и вся в нашей жизни. Если применить это к нашей вере в Бога, то вера — совершенно не причуда или безумие, недостойные образованного или умного человека. Если вы так считаете, вы должны также отказаться от любой другой формы исследования невидимого. Кроме того, строй невидимого является для меня вызовом самим своим присутствием. Какой вызов обращает ко мне невидимый мир Божий? Как он доходит до меня? Это существенный для нас вопрос. Если мы привыкли мыслить научными категориями, мы не можем исключить возможность, что существует иной мир, менее доступный для восприятия, чем тот, который подпадает под известные нам научные категории. Мы встречаемся с этим невидимым миром непосредственно или посредством чего-то. Мы встречаемся с ним непосредственно драматическим образом через людей или через переживания, как, например, Павел на пути в Дамаск (Деян 9). Мы порой встречаемся с этим же переживанием менее ярко, но совершенно несомненно, на молитве. Нас охватывает чувство присутствия Божия в самые неожиданные моменты жизни, иногда на природе или в любой другой момент, в любой ситуации.
Вот какими путями присутствие Божие может быть доведено до нас, лишь бы мы были настроены на опытное исследование и достаточно честны, чтобы смотреть на вещи целостно, были готовы сказать себе: я сейчас встречусь с неведомым, каково бы оно ни было. Для начала я приму свидетельство других людей, всмотрюсь в жизнь других… Тогда вы обнаружите, подобно тому как это бывает с физиком, химиком или биологом, что перед вами раскрывается мир неведомого, который в каком-то смысле остается невидимым, но с которым вы можете общаться и делать в нем открытия. Этот мир охватывает нас подобно тому, как тепло охватывает промерзшее тело, как жизнь вливается в статую.
Взаимоотношения Церкви и мира с православной точки зрения [181]
Я попытаюсь сегодня как можно проще и яснее поговорить — не с точки зрения Православия, но с точки зрения отдельного православного — на столь жгучую тему современности, как взаимоотношения Церкви и мира. Не знаю, сумею ли я сделать достаточно практические, конкретные выводы, но я хотел бы изложить несколько исходных, принципиальных пунктов, без которых, думаю, немыслима точка зрения ни православная, ни вообще христианская.
Во-первых, мне кажется, что, обсуждая взаимоотношения Церкви и мира, нам необходимо постоянно помнить две вещи, вернее, два словарных момента: с одной стороны, тот смысл, который мы вкладываем в слово «Церковь», с другой — смысл, который мы придаем слову «мир».
С точки зрения Священного Писания, а также духовной и богословской традиции, слово «мир» имеет два совершенно различных значения. В плане аскетическом мир противополагается Церкви, Духу: «Будьте в мире, но не от мира», «удалимся от мира, ибо наша жизнь в Боге» — такие выражения встречаются постоянно, и они вполне справедливы. Есть аспект мира, характерный признак которого — как бы отсутствие, отрицание, отвержение Бога. И есть другой аспект мира, есть другое значение этого слова, которое придает «миру» совершенно иную ценность, значение: Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного… чтобы мир спасен был чрез Него (Ин 3:16—17) — эти слова показывают нам, как на мир должны смотреть христиане, и это ви{'}дение совершенно отлично от аскетического подхода, о котором я только что упомянул.
С другой стороны, в отношении Церкви совершенно очевидно, что и в ней есть два аспекта. Есть та Церковь, которая является предметом нашей веры: «Верую во Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь», и эта Церковь — не просто собрание верующих. Она не просто общество, созданное властью Бога, собранное вокруг Него, обращенное к Нему, научаемое и питаемое Им. Церковь — не просто общество, она — живое Тело, и Тело это одновременно и равно Божественное и человеческое. Церковь, в которую мы верим, носит нас всех, обнимает нас всех, но она вмещает также и присутствие Бога. Первенец из мертвых в этой Церкви — Христос, истинный человек и истинный Бог (1 Кор 15:20). В Нем человечество нам явлено в Церкви во всем своем величии, во всей своей глубине, во всем своем значении. Он — единственный человек, который полностью Человек, и Он — откровение того, чем призван быть человек. А человек призван быть тем, чем был Христос: не просто человеком, отделенным своим тварным состоянием от Нетварного, но именно человеком в его единстве с Богом. В пределах этой Церкви веет Дух, Его животворный порыв, Он научает Церковь всякой истине и изменяет ее, преображает ее по образу Христа, ее Прообраза.
И во Христе и в Духе мы становимся детьми Отца, не только в метафорическом смысле, но совершенно реально, самым подлинным образом. В Церкви Бог и Его творения уже сейчас в нерасторжимом единстве и призванные к еще более таинственному и чудесному единству, когда будет Бог все во всем (1 Кор 15:28), когда мы достигнем своего призвания стать причастниками Божеского естества (2 Пет 1:4). Вот та Церковь, в которую мы верим, которую знает верующий, которой он живет, к которой он устремлен.
Но есть и другой аспект Церкви, тот, о котором в IV веке святой Ефрем Сирин сказал: Церковь — не собрание праведников, а толпа кающихся грешников… Этот другой аспект Церкви являем тоже мы, но в нашем убожестве, в нашей хрупкости, в нашей взаимной разделенности и нашей оторванности от Бога. И когда мы говорим о взаимоотношениях Церкви и мира, мы должны постоянно отдавать себе отчет в том, что при этом всегда присутствуют четыре темы и что очень часто мы создаем путаницу, когда говорим о мире с определенной точки зрения, о Церкви с определенной точки зрения — и забываем две другие. И в результате приходим к выводам весьма печальным, потому что создаем противоположения, которых на самом деле нет, но которые приводят к запутанности, подрывают и нашу чуткость по отношению к миру, и наше восприятие Церкви во всем ее величии и всей ее правде.
Теперь я хотел бы из этой необъятной темы выделить несколько пунктов, которые мне представляются существенными.
Во-первых, то взаимное положение, то взаимоотношение, которое может и должно существовать между Церковью и миром, может быть подобно лишь взаимоотношению Бога и мира, и всякий раз, когда Церковь занимает по отношению к миру положение иное, чем положение Христа, Бога воплощающегося, она изменяет своему призванию. Это мне кажется очень важно: в плане принципиальном не может быть речи, чтобы Церковь как человеческое общество относилась к миру — человеческому обществу — иначе, чем относится к миру Сам Христос. На практике это не всегда так же ясно, как в принципе, но мы должны постоянно помнить, что Церковь является самой собой лишь в той мере, в какой она есть присутствие Божие и, в частности, то Его присутствие, которое Христос явил Своим воплощением.
В Своем воплощении Христос нам явил, мне кажется, две вещи, которые чрезвычайно важны для вас на практике, в реальности взаимоотношений человеческих и религиозных: первая — это новое Откровение о Боге, вторая — откровение о человеке и о тварном мире.
Во Христе Бог явил нам Себя дотоле неслыханным образом. Нехристианские религии создавали себе образы Бога непостижимого, Бога великого, Бога, в Котором выражались все чаяния, все устремления человека, все, чем он хотел бы быть, или все, что он хотел бы видеть в своем Боге. Только Сам Бог мог нам явить Себя таким, каким Он явился во Христе. Во Христе Бог явил нам Себя беззащитным, Богом, без сопротивления отдающимся в руки тех, кто схватит Его, Богом уязвимым, Богом как будто побежденным и Который с точки зрения тех, кто верит только в силу, в успех, в победу, достоин презрения. Вот какого Бога нам предлагают Евангелия в лице Христа: Бога хрупкого и оставленного, Бога, Который отдается нам.
И Он нам не только сказал, Он нам доказал всей Своей жизнью, а не только словами учения, что это — пример для подражания (Ин 13:15). Вот первое: мы, Церковь, призваны быть тем, чем Христос был в мире. Мы призваны войти в этот мир не в защитной броне, ограждающей нас от всякой опасности. Мы не призваны объединяться в мощные организации и общества, способные противостать окружающим нас напастям. Нам не следует составлять человеческие союзы ради того, чтобы победить врага, кто бы он ни был. Мы должны согласиться быть лишь тем, чем был Христос, чем был Бог, явленный в Своем человечестве: уязвимый, беззащитный, хрупкий, побежденный, как будто презренный и презираемый — и тем не менее явивший откровение чего-то чрезвычайно важного: величия человека.
Потому что с этим видением Бога небывалого тесно связано небывалое видение человека: то, каким Бог видит человека, его достоинство. Отказ Бога принять человека меньшим, не в меру его полного роста — одна из самых впечатляющих вещей в Евангелии.
Вспомните притчу о блудном сыне (Лк 15). Осознав свой грех, свое падение, блудный сын возвращается в отчий дом. Он готовит свою исповедь: «Я согрешил против неба и перед тобой, я недостоин называться твоим сыном. Прими меня, как одного из наемников». Но когда он оказывается перед отцом, тот дает ему сказать только первые фразы, в которых выражено истинное положение вещей. Да, он согрешил против неба и перед отцом, да, он недостоин звания сына. Но назваться наемником — никогда! Невозможно перестроить отношения с отцом и из сына, пусть блудного и недостойного, стать слугой, пусть и самым заслуженным. Нет, этому не бывать! Потому что невозможно утратить существо сыновнего достоинства. Здесь беспощадное требование со стороны Бога: мы призваны быть Его детьми, ничем другим, и Он никогда не согласится, чтобы мы продали свое первородство, никогда не допустит, чтобы отношения перестроились, снизились, потеряли то величие, которое явлено в Сыне Единородном. Потому что мы призваны все вместе, в совокупности нашей, стать всецелым Христом, Totus Christus, о Котором говорят святой Игнатий Богоносец и блаженный Августин. Это опять-таки представляется чисто теоретической установкой, но в действительности непосредственно связано с вполне реальной жизнью, с конкретными взаимоотношениями с любым человеком вокруг нас. Мир представляется целокупностью составляющих его существ и содержащихся в нем вещей, эта же полнота присутствует в личности любого существа.
Если мы принимаем такое отношение Бога к миру, если соглашаемся на него, если у нас достает мужества сказать: наше человеческое призвание требует, чтобы мы стали в меру, в масштаб Божий, тогда мы должны принимать друг друга, как нас принял Христос (Рим 15:7), принимать друг друга, какие мы есть, и даже в нашем падении, в нашем унижении, как бы низко ни пали мы сами или другие, уметь признать возможное величие, призвание к величию, заложенное в каждом из нас, которое не только предлагается нам, но является призывом, требованием Божиим к нам.
Это означает, что к человеку следует относиться с огромным уважением. Не с тем сентиментальным «почитанием», которое говорит: жизнь драгоценна, жизнь следует охранять. Нет, это уважение простирается за пределы жизни, вплоть до смерти. Оно учит нас чтить достоинство тех, кто нас окружает, и принять ради них жизнь и смерть, страдание и победу, поражение и конечное воскресение. Такое отношение заставило человека очень мне близкого произнести: «Жив ты или умер — не имеет никакого значения ни для кого, важно — ради чего ты живешь и ради чего ты готов отдать жизнь». Вот совершенно другая мера, далекая от сентиментальности, мера глубины, сущностно важная в нашем отношении к каждому человеку. Но каждый человек — камушек в той цельной мозаике, которую составляет все человечество и весь мир, в котором мы живем.
То уважение, с которым Бог относится к человеческому достоинству, должна проявлять Церковь. И это должно идти очень далеко. Мы, христиане, и в странах, где есть преследования, и в свободных странах, непрестанно провозглашаем, что одно из прав человека — это искренность, свобода совести, право верить. Но если мы умеем уважать человека в его достоинстве, в его царственной свободе, которая стоит лицом к лицу со свободой Божией, мы должны уметь отстаивать и свободу не верить и не должны пользоваться постыдно (как делаем при любой возможности) ситуациями власти, чтобы отнять у других людей ту самую свободу, которой требуем для себя самих. Это непосредственно относится к тем странам, где христианство не гонимо, где оно продолжает доминировать — будь то на государственном уровне, или на уровне общественного мнения, или на уровне человеческого большинства.
Это непосредственно отражается на нашем отношении к воспитанию, к месту Церкви в деле воспитания. Это также непосредственно отражается на свободе совести, когда человек стоит перед лицом смерти, и мы должны, если мы последовательные христиане, если у нас есть сознание человеческого достоинства, как у Бога есть сознание человеческого достоинства, — мы должны, если не сумели открыть человеку Бога при жизни, уметь предоставить ему право умереть атеистом, а не навязывать ему силой в последний момент Бога, Которого он всегда отвергал и Которого он на самом деле и не принимает. Вот несколько примеров. Но эти примеры можно приложить к конкретным ситуациям, к любым ситуациям, к которым они относятся.
Если думать о Христе, Боге, ставшем человеком, в Его положении по отношению к миру — каково отношение Христово? Мы постоянно и вполне справедливо видим в Евангелии, читаем в Евангелии, что Христос полностью стал солидарен с ситуацией человека: человеческой хрупкостью, нищетой, нуждой — во всех значениях слова «нужда». Мы читаем, что Он испытывал голод и жажду, холод и боль. Мы видим, как Он плачет, мы видим, как Он ищет уединения, мы видим, как Его отвергают, видим Его среди друзей — и видим Его преданным. Все обстоятельства нашей человеческой жизни находят выражение в жизни Христа. Мы видим, как Он умирает. И нам кажется, что здесь мы касаемся самых глубин Его солидарности с падшим человеком.
Но это не так. Эта солидарность идет еще дальше, и это очень важно для нашего отношения к миру: если действительно смерть человека — в его отделенности от Бога, если убивает только отлученность от Бога, тогда смерть Христа приобретает значение, глубину, о которых мы редко задумываемся и которые не в состоянии уловить. Для того, чтобы умереть на кресте, Христос пожелал разделить с нами не только физические условия смерти, воспринять смертное страдание, но и то, чем обусловлена смерть человека: его потерю Бога, безбожие в этимологическом смысле слова. Вспомните самые, быть может, трагические слова всей человеческой истории, которые Христос испустил на кресте: Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил? (Мк 15:34). Так часто сейчас, в общем увлечении экзегезой, нам напоминают, что это слова, пророчество из псалма (Пс 21:2). Неужели можно себе представить, что в момент смерти человек вдруг станет повторять псалом! И сколь наивно думать, что не пророчество обращено к событию, и воображать, будто событие осуществляется ради того, чтобы исполнилось всплывшее пророчество! Нет. Перед нами именно то событие, о котором говорит псалом, именно тот ужасающий миг, когда Сын человеческий, Сын Божий, ставший Сыном человеческим, внезапно принимает смерть, и не Свою смерть. Он, непричастный греху, умирает смертью грешника и для того, чтобы умереть, становится причастным единственной трагедии падшего человека: потере Бога, отсутствию Бога. Он умирает от того, что один русский богослов назвал «онтологическим обмороком», когда Он теряет чувство Бота и тем самым разделяет последнюю оставленность человека, предельное одиночество человека.
В западном богослужении постоянно повторяются слова Апостольского Символа веры131: «Он сошел во ад». Что такое этот ад? Что означает это сошествие во ад именно по отношению к человеческой судьбе и взаимоотношениям мира и Бога? Так вот, ад, о котором говорит Ветхий Завет, — это вовсе не дантовский ад, драматическое место мучений. Это что-то еще более страшное. Шеол Ветхого Завета — это место радикального отсутствия, место, где Бога нет. И туда Христос сходит. Разделив с человеком потерю Бога, обезбоженность, Он сходит в ад, в то место, где Бога нет, чтобы до конца разделить судьбу человека. Он сходит туда как человек, лишившийся Бога, и Своим приходом вносит туда всю полноту Божества. И это — конец ада, конец смерти, потому что физическая смерть, которая осталась, — это усыпание, успение, но не та смерть, какой ее представлял иудейский мир или безбожный мир: как небытие по отношению к Богу.
Это мы и должны перенести на тот мир, в котором мы живем. Разве не ясно, что по призванию — если мы принимаем всерьез ту лишенность Бога, через которую прошел Христос, потерю Бога, которую пережил Христос, — в нас должно быть достаточно широты, чтобы вместить не только мир верующих, но и мир неверующих и безбожников. Нет ни одного безбожника в мире, который познал бы отсутствие Бога так, как Христос познал потерю Бога. Нет ни одного атеиста, будь он убежденный, идеологический атеист или просто житейский безбожник, кто бы так измерил глубину этого отсутствия, как ее измерил Христос. Так почему же церковь — не Церковь Символа веры через заглавное «Ц», а церковь в нашем лице, — почему мы не способны разделить это? Почему нас это так страшит? Почему безбожный мир представляется нам радикально чуждым? Почему мы глядим на него враждебно? Почему мы стремимся сообща отбросить «их», оттолкнуть, победить, уничтожить, в то время как Христос открылся до смерти включительно, чтобы разделить «их» участь, — их, а не только нас, блеющих овец, каковыми мы по большей части являемся? Вот еще принципиальная установка, открывающая нам доступ к исторической реальности, в которой мы живем.
Обратимся теперь к решающему моменту этой исторической реальности. В вечер Воскресения Христос является Своим апостолам и говорит:Мир вам! (Ин 20:19). И вслед за этим провозвестием мира Он как будто безвозвратно отнимает его следующим предложением, после того как дуновением передал им Духа Святого: Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас (Ин 20:21). В нашем контексте секуляризованного, по-мирскому сильного, властного христианства эти слова никого не тревожат. Сейчас мы ощущаем вокруг себя поддержку, мы не одиноки. А из-за того, что мы слышим слова Христовы: «Идите — как Я», нам кажется, что мы должны выступить и говорить, и действовать, и строить безопасно, под защитой прочных церковных структур и сил наших будто бы христианских обществ. Но в вечер Воскресения двух суток не прошло с момента распятия! Когда в вечер Воскресения Христос сказал Своим апостолам: «Мир вам! Как послал Меня Отец…», их глазам предстояла Великая пятница. И с этой судьбой им связаться? — она ясна: это Крест, это Гефсиманский сад, томление Тайной вечери, ужас всего, что произошло в течение Страстной седмицы, и все три года, когда Христос представал ученикам, словно меч, разделяющий потемки от света, словно камень преткновения, словно соблазн, предмет отвержения и все сгущающейся ненависти: вот что предстояло их взору. Не успешная деятельность миссионерских обществ, а одиночество Того, Кто сумел так возвысить человека, так безумно поверить в человека, что Он, вместо всякого видимого успеха, согласился умереть. Вот та ситуация, в которую Христос поставил Своих учеников. Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Я посылаю вас, как овец среди волков, — сказал Он им в другой раз (Мф 10:16). Готовы ли мы идти, как овцы среди волков? При всех разговорах о единстве христиан, не твердят ли нам постоянно и кощунственно, что если бы мы сумели быть едины, мы были бы непобедимы. Не потому что слово истины звучало бы убедительно, а потому что мы были бы силой. Какой ужас! — и это перед лицом того, что произошло в Евангелии…
Вы скажете: так что же, пробный камень христианства — поражение? Нет, но такое отношение, такое положение, когда мы равно безразличны как к победе, так и к поражению, когда ни победа, ни поражение не имеют для нас иного содержания, иного значения, чем Гефсимания, Голгофа, Воскресение и Вознесение Христа — таинства славные и таинства трагичные, все то, что в целом составляет домостроительство спасения, где смерть и жизнь переплетены нераздельно.
Но насколько все это реально? Способны ли мы на такое проявление веры? Вера всегда безумна! Это готовность довериться на слово кому-то, кто без всяких доказательств повелевает нам действовать вопреки очевидности, против всякой очевидности, так, как он нам укажет. Чему же нас учит в этом плане история? В своей замечательной книге «Святые язычники» Жан Даниелу обронил фразу: «Страдание — единственная точка скрещения добра и зла, единственная надежда на искупление зла». Что он имеет в виду? Задумаемся немного и посмотрим, каково наше положение по отношению к окружающему нас злу. И еще вопрос: что такое — окружающее нас зло? Является ли злом то, что ранит нас? то, что нам неприятно? или существуют иные критерии добра и зла? Действительно, если вернуться к фразе Даниелу, разве не ясно, что именно страдание — место, где пересекаются добро и зло. Злоба, жестокость, жадность, злопамятство, все дурные чувства, которые зарождаются у нас в сердце и пропитывают наши дела, вонзаются, словно кинжал, в плоть или в сердце, в душу тех, кто нас окружает. Мы даем злу воплотиться, и с момента, когда оно воплощено, оно ранит. И в тот момент, когда оно ранит, жертва получает власть, поистине божественную власть прощения:Отче, прости им, они не знают, что творят! (Лк 23:34). Вспомните также молитву первомученика Стефана (Деян 7:60). Мученик — не просто тот, кто страдает, мученик — тот, кто свидетельствует. Стефан был первым свидетелем, потому что действительно понял и поверил Слову Истины, ставшему Плотью.
На эту тему я хотел бы привести несколько примеров из реальной жизни нашего времени, одни взяты из последних пятидесяти лет истории Русской Церкви, некоторые из других ситуаций. Примеры великие, трагические, но только когда мы способны охватить реальность в ее величии, мы можем потом сделать из нее выводы на меньшем уровне.
Вы наверно помните место из Послания к коринфянам, где апостол Павел подчеркивает, что даже если ты отдашь свое тело на сожжение, но в сердце не имеешь любви, это пустое (1 Кор 13:3). Не страдание, не пролитие крови делает мученика, то есть свидетеля, а победа такой любви, которая не колеблется, не меняется, в которой достаточно крепости, чтобы подарить прощение, а тем самым — и спасение.
Первый пример: в ранние годы русской смуты молодого священника арестовали за проповедь Евангелия. Он провел в тюрьме несколько месяцев, подвергался допросам, пыткам, пережил страх, оставленность, одиночество. Его выпустили. Родственники, друзья его окружили: «Что осталось от тебя?», — спрашивали они человека, который попал в тюрьму молодым, крепким, пламенным, а вышел оттуда изможденным, поседевшим, как будто сломленным. И он ответил: «Страдание поглотило все. Осталось одно: любовь». И он без колебания снова принялся за проповедь среди тех, кто его предал и выдал, и умер в концентрационном лагере.
Другой пример. Человек
[182], которого я близко знал долгие годы, во время немецкой оккупации был взят, попал в концентрационный лагерь. Когда он вернулся, я его встретил на улице и задал ему тот же самый вопрос, что задавали и молодому священнику, о ком я только что рассказывал. И он ответил: «Осталась тревога». Я спросил: «Неужели вы потеряли веру?». — «Нет, — ответил он, — но видишь ли, пока я был в лагере, был предметом насилия, жестокости, унижений, я каждый миг мог сказать: Господи, я им прощаю, прости им и Ты! — и я был уверен, что Бог должен меня услышать, потому что я жизнью и смертью свидетельствую, что моя молитва правдива. Теперь я не страдаю. Но я знаю, что однажды эти люди станут перед Божиим судом, что когда-то Бог взыщет с них за их жестокость. Я хочу молиться о их спасении. Но как я могу доказать Богу свою искренность? Мне нечего прощать, кроме уже минувшего прошлого».
Еще пример человека, погибшего в концентрационном лагере. После его смерти нашли молитву, записанную на куске оберточной бумаги. Вот вкратце ее суть: Господи, когда Ты вернешься во славе, вспомни не только людей доброй воли, но и людей злой воли. Но вспомни не их насилие, их жестокость, все то зло, которое они нам причинили. Вспомни лишь плоды, которые мы принесли: терпение одних, смирение других, мужество некоторых, общее братство, величие души немногих… Пусть эти плоды, которые мы принесли, послужат их прощению
[183].
И последний пример. Русский епископ, умиравший в ссылке, оставил молодому ученику записку: «Нам дано не только веровать во Христа, но и страдать и умирать за Него». И еще: «Помни, что для христианина умереть мучеником — привилегия, потому что в день Суда только мученик сможет встать перед Судьей в защиту своих гонителей и сказать: Господи, в Твое имя, по Твоему примеру я простил. Тебе нечего больше взыскать с них!».
Вот несколько образцов в меру Евангелия, в меру Древней Церкви. Быть может, вы мне возразите: «Что в них общего с нашей мелкой жизнью, в которой нет такого размаха?». Жизнь каждого из нас имеет эту меру, потому что каждый из нас — живой член (разве что мы мертвы!) Тела Христова. И в той мере, в какой Тело всецелого Христа, вся Церковь стоит перед этими проблемами, каждый из нас несет одновременно этот Крест и его сияние. А с другой стороны, я бы сказал, «по Сеньке и шапка». Нам не приходится прощать многое. Но прощаем ли мы то малое, что могли бы простить? или даже в нашу малую меру мы отступники, изменники Христу? не отрицаемся ли мы Евангелия в малом, хотя на словах провозглашаем его в великом? Мы восхищаемся подвигами святых, но сами-то мы меньше даже собственной меры. Мы могли бы прощать изо дня в день — и мы не прощаем. В нас живут обида, злоба, мстительность. Как можем мы ожидать от себя верности в великом, когда мы неспособны быть верными в малом?
Я хотел бы сказать нечто о взаимоотношениях Церкви и мира в несколько ином плане. Я уже упомянул проблемы, которые ставит нам долг нравственной честности, долг отстаивать не только право верить, но и право на неверие, свободу совести во всем ее объеме, потому что Бог, в Которого мы верим, Бог, ставший человеком, есть Бог Истории. Из всех религий только христианство восприняло Историю целиком, полностью. Мы, христиане, не имеем права быть вне Истории. Я уже сказал и настаиваю на том, что мы должны быть внутри Истории, подобно тому, как в ней присутствует Христос, никак иначе. И тем самым христианская деятельность в Истории должна быть действием Божиим.
И тут есть огромная разница, по крайней мере в принципе, между отношением к действию, к деятельности человека неверующего и христианина. Конкретное действие, организационная, глубоко продуманная, планомерная деятельность является частью нашего человеческого предназначения, нас, христиан, касаются все проблемы, где требуется действовать. Но деятельность христианина имеет одно отличительное свойство: деятельность христианина в тех ситуациях, где он оказывается, должна быть действием Бога в Истории. Подумаем снова о Христе. Вспомните место, где Он говорит: Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца(Ин 5:30). И еще: Отец Мой творит; Он показывает Мне Свои дела, и Я творю также — эта цитата не точна, но суть я передаю верно (Ин 5:17,19). Действия Христовы рождаются изнутри глубинного созерцания, и только из глубин созерцания может родиться деятельность христианина. Иначе это будет деятельность, основанная на принципах — нравственных, или богословских, или любых принципах; но сколь бы ни были они истинны, прекрасны, справедливы, они не соответствуют Божественной динамике, внезапной динамике небывалого, непостижимого, чем именно характерно действие Божие. Мы, христиане, призваны жить на большой глубине, жить глубокой внутренней жизнью — но не в смысле обращенности на самих себя. Мы призваны уйти глубже этой обращенности, и самая эта глубина позволит нам вглядеться долго, спокойно, пламенно-чисто в канву истории, канву жизни и благодаря такому созерцанию, глубокому вглядыванию различить в ней след Божий, нить Ариадны, которая укажет, куда Бог ведет нас среди всей многосложности окружающей нас жизни. И тут громадная разница между мудростью и человеческой опытностью. Опытность — результат прошлого, накопленный человеческий опыт, она обращена к переживанию, опыту более обширному, чем личный опыт, и делает выводы интеллектуально основательные, точные, глубокие. А мудрость поступает «безумно»! Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взор в Бога, погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божиим, и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума — так, как нас учит поступать Бог.
Я хотел бы обратить ваше внимание на еще один момент в отношении мира, в котором мы живем.
Я говорил так, будто есть Бог — и люди, человечество, но ничего не сказал о мире вещественном, а ведь на земле и в космосе есть столько всего. Есть огромное пространство, есть масса бесконечно малого и бесконечно великого, есть планеты и есть различные тела, которые парят в безмерности пространства. Каково их отношение, какова их связь с Богом и, как следствие, с Церковью? с нами лично и с Церковью в ее полноте? Мне кажется, тут кроется что-то гораздо более великое, чем я способен выразить, передать и что должно стать предметом вдумчивого рассмотрения, предметом богословия материи, богословия всего тварного, что должно открыть ви{'}дение окружающего нас мира в Боге исходя из ви{'}дения Божия. О материальном мире мы всегда думаем, словно он инертный и мертвый: это дерево, это камень, это небо, это комета, да, но все это — предметы, они не имеют жизни. Устоит ли такое видение, если мы принимаем всерьез Воплощение? Нет! Потому что в Воплощении две темы: не только Сын Божий стал Сыном Человеческим, — это область Истории, но Слово Божие, Бог стал плотью (Ин 1:14). Божество соединилось с тварной материальностью. Сын Божий соединился не только с человеческой душой, Он не вселился в тело, которое как бы служило Ему оболочкой. Его Божество пронизало это всецелое человечество, тело и душу, и в момент смерти Тело Христово, положенное во гроб, осталось нетленным именно потому, что оно было неразлучно соединено с Божеством, так же как Его человеческая душа, которая сошла в шеол, в ад, была неразлучно соединена с Божеством. Но в таком случае то, что я сказал чуть раньше о просторе, о величии человеческого призвания, относится равно к величию, к простору призвания того, что мы называем предметами.
Если в одном определенном случае тело Воплощения, его материя оказалась способной не только вместить Божество, но соединилась с Божеством нераздельно, неразлучно и не перестала быть сама собой, проявилась во всем своем величии и не уничтожилась от этого соединения с Богом, тогда мы должны уметь посмотреть новыми глазами на этот мир, который является предметом научного исследования и технического воздействия. Христианин должен видеть мир иными глазами. Мы не имеем права представлять его миром вещества, который должен быть покорен, использован, исчерпан до предела. Мы — единственные, кто знает, что вся материя этого мира призвана к вечной судьбе, что она способна на это призвание. Мы знаем, что она не только способна стать проводником духовного, но способна соединиться с Божеством и что слово апостола Павла: будет Бог все во всем (1 Кор 15:28) можно принять совершенно реально: все предметы именно призваны быть пронизанными Божественным присутствием, просиять присутствием Божиим, потому что только оно может им сообщить их окончательное, предельное величие. Мне кажется, тут нам надо продумать заново, например, отношение христианина к телу в медицине, отношение к материи, которая является предметом нашего научного поиска, к материи, которой овладевает техника, перестраивая ее все по-новому. Вот проблема, над которой должен задуматься как ученый-теоретик, так и специалист-практик.
Что касается плана аскетического, который также является частью нашей вовлеченности в тварный мир, я бы хотел просто отметить, что материю, составляющую наше тело, мы слишком часто, постоянно обвиняем во всевозможном зле: жадность, лакомство, плотское невоздержание, похоть всякого рода — это грехи плоти. И мы утешаем себя мыслью, что, не будь у нас плоти, мы были бы ангелами… Мы были бы, вероятно, падшими ангелами, но факт тот, что у нас есть плоть, и совершенно несправедливо обвинять ее, как мы то делаем. Один из отцов Церкви где-то V веке сказал, что грехи плоти — это грехи, которые дух совершает против плоти. Это хорошее определение, которое стоит запомнить и на которое следует обратить внимание. Чувство голода — это реакция нашего тела, жажда — потребность нашего тела. Но когда мы произносим: «Я хочу не бифштекс, а филе» или: «Вода мне не по вкусу, я люблю пиво» — это говорит не наше тело, это действие нашего воображения — дурного или слишком живого, но именно воображения! Тело хочет пить, оно не жаждет специально пива или кока-колы, тело хочет пищи, оно не требует непременно филе. Это относится и ко всему остальному.
Так вот, если подумать о нашем теле с такой точки зрения. Первое: есть наше тело, внешнее обличье каждого из нас, в единстве с душой, с нашим, скажем так, психологическим составом. Это тело в единении с душой, с воображением грешит, потому что не только наша душа лакомка: при определенных мыслях у нас «слюнки текут», наше тело тоже реагирует. Но есть и другой уровень — чистой физиологии, что не имеет ничего общего ни с лакомством, ни с чем другим. И на уровне ничтожно малом, так сказать, на уровне клеток и молекул, атомов и всего мельчайшего, из чего состоит материя нашего желудка, они-то ничего не говорят, они продолжают свое движение по законам физики. И вы видите, что тело — не говоря о всем прочем! — можно рассматривать в совершенно различных планах: есть человеческое существо, его зовут Иван, Петр, он может быть лакомка, он может быть пьяница, он может быть то или се; есть его желудок, который в совершенстве приспособлен к тому целому, которое состоит одновременно из чистой физиологии и из действия воображения, желаний и т. д. на это тело; и, кроме того, есть в нем целый материальный мир, который совершенно свободен от страстей. Так вот, мне кажется, что один из главных моментов аскетического подвига, одна из целей борьбы, подвига, ведущегося уже веками и до наших дней, состоит в том, чтобы победить плоть ради того, чтобы дать самовластную свободу телу, достичь того, чтобы наше тело в полной мере стало материей в ее чистоте, в ее свободе по отношению ко злу. И каждая крупица материи, какая есть в нас, способна пережить восхищение, восторг того момента, когда Бог вызывал ее из небытия в бытие, когда она затрепетала славой своего бытия в присутствии Божием. Но этого можно достичь лишь путем аскетического подвига.
Но то, что я говорю о человеческом теле, относится также к окружающей нас материи совершенно особенным образом. И я попрошу вас вернуться мыслью к тому, что я сказал чуть раньше о Воплощении, в частности о веществе, которое мы приносим Богу в таинствах. В таинствах материя высвобождается из своего дурного контекста, изымается из-под власти князя мира сего, актом веры, актом доверия к Богу она возвращается Ему. И Бог берет ее в Свои руки, возвращает ей в таинствах ее первозданность, она становится способной уже теперь перерасти эту первозданность и стать для нас не только зримо, но ощутимо проводником того, что нам будет дано в вечности.
Когда хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христовыми, частица материи в том грешном, недостойном мире, в котором мы живем, уже достигает полноты своего призвания. Вот что происходит. Она высвобождается от греха, возвращается в Бога, достигает совершенства и полноты того, чем она призвана быть.
И это тоже — часть взаимоотношений Церкви и мира, потому что это возможно, это становится реальностью только внутри Церкви, в том ее аспекте, который определяется не как общество кающихся грешников, а словами Символа веры и словами Самого Христа: Тело одновременно Божественное и человеческое, где полнота Божества пребывает вместе с неполнотой человечества на пути к своему исполнению.
Ответы на вопросы
Можете ли вы сказать чуть больше об отношениях христиан с атеистами: как конкретно можно их строить?
Этот вопрос сейчас много обсуждается в англосаксонских странах, и он в становлении, я не думаю, что могу дать на него ответ ни собственный, ни сколько-то превосходящий мое понимание.
Первое: если принять то, что я сказал раньше о положении Христа в отношении отсутствия Бога, потери Бога, наше принципиальное отношение к атеисту не может быть отношением врага, противника. И я думаю, что это очень важно, потому что то, как мы рассматриваем другого человека, любого другого, уже определяет возможности встречи и взаимоотношений. Второе: наши отношения с атеистами по существу не отличаются от наших отношений с кем бы то ни было. Мы должны быть в состоянии делиться тем, что имеем. И большое несчастье — что нам нечем или так мало чем делиться.
Если подумать о первохристианах: они вошли в мир, который для них был такой же сложный, такой же трудный, как наш мир — для нас. В любую эпоху современность трудна, непредсказуема, небывала, лишь потом, когда все проблемы разрешены, она кажется простой. Но те христиане вышли в мир с проповедью, в первую очередь — с радостью и с полнотой жизни, каких не было ни у кого другого. Тот мир был в упадке. Тот мир не верил больше в жизнь, в человека, в историю, в ее возможности. И христиане вошли в него с преизливающейся верой, с сияющей надеждой и с любовью, способностью любить, которая вдохновляла их отдавать свою жизнь за других людей. Так вот, если примерить эти их черты на нас, мне кажется, мы очень мало на них похожи. Кто из нас может с полной честностью сказать: я готов заплатить плотью своей, внутренним покоем, жизнью за что-то очень значительное для жизни человека, который — ближний мой? Я не говорю о тех, кого мы особенно как-то любим, но даже и по отношению к ним — готовы ли мы поделиться с ними избытком своей радости? Посмотрите на «благочестивых христиан» у выхода из храма: на что они похожи? Если вы думаете, что такое зрелище обратит атеистов, то — увы! — навряд ли! Вглядитесь, есть ли у нас ощущение полноты жизни? Вы действительно считаете, что у христиан есть это чувство силы жизни, творчества, будущего? Вот уж нет! И потому, разумеется, мы оказываемся на противоположном полюсе по отношению к людям иных, чем наши, убеждений. Ведь единственное, что может заполнить пространство между нами, — это именно внутренний порыв, когда вы устремляетесь вперед и пустоты не остается, нечего заполнять, потому что вы ее уже заполнили всем, что несете в себе. Это тоже я считаю очень важным. И это справедливо по отношению к атеисту, по отношению к любому человеку.
Кроме того, есть еще одно, что мне представляется все более затруднительным, потому что я начинаю понимать (вероятно, пойму годам к девяноста!), что в атеизме есть что-то очень реальное, атеизм — не просто непонимание, отсутствие опыта и т. д.
Меня очень поразила — простите, я перейду на другое — летом на коллоквиуме в Женеве встреча с несколькими богословами «смерти Бога»109. Один из них мне сказал: «Видите ли, я нахожусь там, в том моменте жизни Христа, когда Он сказал: Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил? В тот момент Христос выразил крик отчаяния миллионов и миллионов людей. Он был по эту сторону смерти, но уже на Кресте. И у меня нет другой надежды, я разделяю это человеческое отчаяние». И этот человек остается христианином. Только он — христианин, потому что познал Христа распятого. Главное в его жизни — ужас той минуты, когда Христос оказался обезбоженным. Вот что составляет его жизнь.
И я думаю, что в недрах тайны Христовой нам следует признать большее содержание, чем мы обычно признаем. Видите ли, я думаю, что мы, христиане, ошибаемся, когда думаем, что каждое событие бывает превзойдено следующим. В нашем представлении нам кажется, что Воскресение уничтожило все, что его предваряло. Мы воображаем, что живем уже в Воскресении. Это не так — по большей части мы живем по эту сторону Страстной седмицы. Мы не христиане постхристианского мира. Мы христиане, которые еще совсем не христиане, или христиане в очень малой мере. В жизни Христа каждое событие не уничтожает предыдущего. Руки и ноги воскресшего Христа все еще носят язвы от гвоздей. В ребрах Его рана. На челе у Него следы тернового венца. Все это не принадлежит прошлому, безвозвратно прошедшему. Если можно так выразиться, Христос не исцелился от Своих страстей, потому что воскрес.
И я думаю, что слишком часто мы, христиане, ведем себя так, будто Церковь в какой-то момент прошла через предшествующие события, но теперь она опочила в Воскресении, так что и мы находимся в Воскресении, мы во славе, и нам непонятно, каким образом другие не вошли сюда же. Так вот, это наивно, это тупо, нам не хватает чуткости, можно определить это множеством неприятных слов. Разве мы не могли бы проявить немного больше понимания? Потому что все мы довольно-таки атеисты, то есть вне Бога, и могли бы несколько лучше понимать ужас того, кто совершенно без Бога. Мне кажется, что здесь нам нужно глубже понять некоторые аспекты того, что происходило со Христом: Гефсиманский сад, Тайная вечеря и ее туга душевная, Распятие, целый ряд событий Страстной седмицы и т. д. Тогда мы стали бы гораздо ближе атеисту, и он понимал бы нас немного лучше. Потому что когда мы делаем вид, что воскресли, а на самом деле еще мертвецы, никого это не убеждает, в этом-то вся беда. Я думаю, что мы могли бы углубить свои отношения, свою связь с атеистами, именно углубляя и обогащая свою связь с событиями жизни Христа, усвояя себе жизнь Христову или включаясь в жизнь Христову все глубже, точнее, определеннее, гораздо более трезво и реалистично, чем делаем обычно.
Марксисты говорят о необходимости «прямого действия». Как должен действовать христианин?
Я не претендую на то, чтобы давать ответы и рецепты! Во-первых, деятельность христианина должна быть такова, как я говорил раньше: действие Божие, совершаемое теми, кто являются живыми членами Тела Церкви. Но помимо этого есть целый мир вещей, где мы можем найти свое место. Мы могли бы обнимать человеческое общество со всех сторон. Но если мы действительно христиане, мы превосходим это общество, как тот, кто живет в трех измерениях: он живет в двух измерениях и, плюс к тому, в третьем. В этом смысле мы должны были бы жить, подобно людям, у которых нет Бога, во времени и пространстве — что и составляет два измерения; но кроме того, в нас должно присутствовать то измерение безмерности, бесконечности, вечности, которое и есть третье измерение, принадлежащее Богу. И в рамках любых профессий, любых ситуаций мы должны были бы уметь вести себя так, как человек трех измерений, живущий среди тех, кому доступны только два измерения. В жизни мира очень многое относится к области чисто человеческой. И когда я говорю «человеческой», я не говорю «безбожной», я имею в виду: в масштаб человека. Это вопросы милосердия, честности, правды, жалости, мужества — все проблемы общечеловеческие, которые не нуждаются в ярлыке «христианские». Разумеется, христиане должны были бы вносить в них еще одно измерение, но эти проблемы стоят, и мы должны были бы в них принимать участие.
К сожалению, в наше время понятие «общины», христианской общины, начинает обесцениваться. Первые христиане были едины и неразделимы, потому что любили друг друга, любили Бога, у них действительно было опытное знание Бога, они жили одной жизнью, и, будь они в одиночку или собраны, они составляли Общину, которую ничто не могло разрушить. Мы теперь пытаемся создавать своего рода общины, сущность которых — собраться и быть одиночками вместе. То есть мы не способны любить друг друга, но мы можем согреться друг о друга. Мы в состоянии сгрудиться так, чтобы не чувствовать себя уж очень одинокими, отчаянно одинокими. Но это не община. Такая община основана только на страхе одиночества, на внешнем страхе, на чувстве, что в одиночку ты уж очень ничтожен. Христианская община должна быть основана на преизбытке жизни, а не на чувстве ничтожества.
В результате таких потуг «общинности» (в каком-то плане совершенно законных, я вовсе не хочу сказать, что нам не нужны подобные общины, группы, общая жизнь) очень часто — и я говорю главным образом об англосаксонских странах, которые теперь знаю лучше, чем Францию, — приходы, христианские конфессии, церкви пытаются быть небольшими обществами внутри Общества. Каждый приход пытается предоставить своим прихожанам все элементы общественной жизни: танцы, вист, покер, настольный теннис — все это под крышей, которую вернее назвать зонтиком, «церкви». Я не вижу существенной разницы: играть ли в настольный теннис под эгидой церкви или секулярно, качество игры зависит только от вашего умения. И мне кажется, что сейчас нам грозит опасность пройти мимо чего-то очень важного: в нашем стремлении к «христианскому действованию» пройти мимо интеграции в общечеловеческую деятельность. А когда вдобавок мы занимаемся христианской деятельностью и говорим: «Если мы будем все это делать лучше, чем атеисты, это привлечет к нам больше людей», то дальше идти некуда. Если люди приходят ко Христу, потому что у нас лучше организована работа с детьми или экскурсии или что бы то ни было — нет! Извините, но Христос умер на Кресте не ради этого.
И тогда встает проблема деятельности. Я думаю, что наш долг — быть везде, участвовать в любой человеческой деятельности, везде и в любое время. Но участвовать во всем с чувством ответственности, с пониманием, ощущая третье измерение, превосходящее то, что привносят в деятельность другие. И тогда мы будем действовать, вероятно, незаметно, без всякого ярлыка: христианский, нехристианский, католический, православный, протестантский — или любого другого, но в результате мир, в котором мы находимся, постепенно откроется новому измерению.
Только ли те, кто стали мучениками, вправе сказать Христу: «Прости им»?
Нет. Мы все можем это делать и должны это делать в той мере, в какой в нас уже есть что-то Христово. Но мы должны быть готовы принести ответственное свидетельство. Мы не имеем права сказать: «Господи, прости тех, кто гонит Церковь за железным занавесом!» — и одновременно не прощать того, кто подшутил над нашим именем или грубо толкнул в метро. В этом вся проблема: мы все готовы прощать большое зло, которое нас не касается, и полны злопамятства в том малом, что затрагивает нас самих. И в тот момент, когда мы не способны ко второму, мы теряем право и на первое. От нас не требуется отдаться на съедение львам и прощать римских императоров, но когда нас кусают блохи, мы могли бы проявлять более христианские чувства!
Какое значение имеет вечная материя? Материя этого мира будет как бы одухотворена, будет освящена после Страшного суда, славного явления Христова?
Да. Но тут, думаю, нам нечего сказать, это превосходит то немногое, что нам известно, это совершенно нам непостижимо. То немногое, что нам известно, вот оно: когда Христос являлся после Своего Воскресения, Он имел то же тело, которое было распято, и вместе с тем это воскресшее тело имело совершенно иные свойства, — и тут нам дано как бы прозрение того, к чему мы призваны. Нам дано единственное свидетельство — нет, не единственное, в лице Божией Матери нам дано второе свидетельство, пример того же: человеческой плоти, неподвластной времени, принадлежащей вечности.
Но представить себе конкретно, какова будет материя этого мира, когда она будет прославлена, явлена во всем своем величии, разверзнется — этого, думаю, мы не в состоянии представить. Можно выдумывать, но мне кажется, невозможно богословствовать на эту тему.
Каково отношение Православия к классовой борьбе в империалистических странах?
У Православия нет какой-то особенной позиции по отношению к классовой борьбе или к империалистическим странам. Мне кажется, существует общая, основоположная христианская позиция, которая заключается в следующем: только и именно христианство впервые объявило человеческую личность абсолютной ценностью. Человеческая личность — вот абсолютный критерий нашего ви{'}дения вещей. А значит, идет ли речь о человеческих личностях как индивидах, идет ли речь о группах людей, христианин обязан отвергнуть любое проявление эксплуатации, несправедливости или жестокости.
Кроме того, думаю, что тут возможны два подхода: есть медленная, постепенная борьба, которую вели христиане, всерьез воспринимавшие христианство, готовые платить за свои убеждения, например, борьба против рабства, борьба, которая тянулась порой десятилетиями или даже столетиями за выправление общества, несправедливости и т. д. И есть проблема насилия, и проблема эта сегодня встает перед христианским сознанием чрезвычайно серьезно. На экуменическом съезде в Упсале
[184] эта проблема насилия была поставлена в отношении малоразвитых стран, в частности по отношению к Южной Америке. И не только я, но и все представители Церквей из-за железного занавеса ужаснулись легкости, с которой представители Запада говорили: «Ну да, бывают моменты, когда надо реагировать насилием, когда насилие становится законным», или наивности, с которой, например, на конференции «Церковь и Общество»
[185] в Женеве в 1966 году французский социолог нам сказал: «Но революция совсем не обязательно связана с пролитием крови или с насилием! Революция — просто ускоренная эволюция». Помню, один из членов русской делегации ему сказал: «Послушайте, уж нам-то не надо говорить такое!».
В насилии есть нетерпение, есть иллюзия, будто построить рай можно так же легко, как разрушить то, что раем еще не является. Мне кажется, что христианское сознание должно очень внимательно вглядеться в эту проблему насилия, прежде чем одобрить его. Что касается классовой борьбы: слово «борьба» трудно приемлемо с христианской точки зрения, потому что мы не должны бы принимать антагонизм, который подразумевается этим словом.
В настоящее время историческая Церковь все больше удаляется от мира и мир — от Церкви духовной: так ли это? И чем тут помочь?
Я думаю, что беда исторической Церкви нашего времени в том, что она одновременно совершает две вещи: она обмирщается, становится все меньше Церковью, и вместе с тем пытается убежать от мира, создавая свой собственный мирок. В результате мир отходит от Церкви духовной, потому что через нас очень трудно разглядеть Церковь с большой буквы. Увидеть образ Божий, глядя на нас, не очень-то легко.
Что делать? Мне кажется, помогло бы серьезное восприятие того, о чем я говорил раньше: во-первых, церковь в становлении, церковь как человеческое общество должна стремиться стать Церковью, а не одним из множества обществ, которые существуют согласно естественным законам. И во-вторых, Церковь, которую мы составляем, при всем нашем несовершенстве — абсолютно уникальное общество, и мы призваны быть свидетелями, мы должны свидетельствовать дорогой ценой и абсолютно правдиво. Мне кажется, только это может помочь.
Что касается стремления стать духовной Церковью, это один из больших соблазнов, который всегда стоит перед нами: как только нам что-то не удается, мы становимся «духовными», потому что «духовность» не определишь, она глубинна, она возвышена, и это позволяет нам уйти от всяких обязательств! Мне кажется, мы должны постараться вернуться к основной истине христианства: Воплощению Самого Бога. Бог не перестает быть духовным из-за того, что воплощается, но воплощается Он полностью, совершенно, всецело. Тогда мы сможем на что-то надеяться.
Если перед лицом мира Церковь не должна быть агрессивной и победоносной, сильно структурированной, действовать избирательно, то ей следует изменить свои нынешние временные формы. Какую форму ей следует иметь?
Думаю, тот, кто поставил эти вопросы, должен адресовать их кому-то более непогрешимому, чем я. Но мне кажется, что на самом деле проблема не в том, чтобы изменить структуры. В конце концов, любые структуры хороши и приемлемы, если внутри этих структур — живые люди. В конечном итоге, существенное влияние оказывают не те или другие структуры, а люди.
Что мы действительно должны постараться перерасти — так это агрессивность, которую порождает в нас страх, желание восторжествовать, потому что мы путаем победу Божию с победой, так сказать, «поповской», или с победой иерархов, или с победой «благочестивых христиан». Мы должны суметь перерасти это смешение между Богом и нами, между Царством Божиим и Церковью в ее временно{'}м бывании. И в таком случае жизнь всегда порождает структуры, формы, потому что жизнь никогда не бывает аморфна. С другой стороны, если бы в нашей среде была любовь, множество вещей стали бы ненужными, и многое другое стало бы возможным. Нужда в благотворительных обществах возникает, когда люди недостаточно щедры и не дают сами по себе, то или другое приходится организовывать, потому что оно не возникает само по себе. Разумеется, есть уровень, на котором следует заниматься организацией. Но прежде всякой организованности должно быть движение сердца, порыв воли, который позволит осуществить задуманное.
Я вам дам пример такого сердечного порыва. Лет семь-восемь назад я был в Индии. Когда я вернулся в Англию, меня попросили выступить на тему голода в Индии. И я выступил, рассказал, что видел, и говорил со всей доступной мне страстностью, гораздо большей, чем сегодня. После собрания, как принято в англиканских церквах, я стал у выхода, и люди подходили попрощаться со мной. Подошла одна дама и сказала: «Ах, отец, какой хороший вечер мы провели с вами!». Я посмотрел на нее (мысленно я бы не знаю что с ней сделал!) и сказал: «Надеюсь, что вы по крайней мере достаточно заплатили за этот вечер». Она ответила: «Я дала шиллинг». — «Тогда вернитесь и дайте фунт, потому что если вечер был хорош, это позволит накормить хоть кого-то в Индии».
Так вот, мне кажется, что проблема в этом. Мало что-то организовывать, если люди, придя, просто говорят: «Вот замечательный доклад» или: «Мы провели хороший вечер за счет тех, кто умирает с голоду». Нет, нет и нет! А если есть люди, способные на иной подход, нет нужды стоять с тарелкой на выходе — они найдут способ, как вручить вам деньги.
Чем объяснить, что история Церкви всегда вступала в явное противоречие с теми евангельскими и Христовыми принципами, которые вы изложили?
Ну, отвечу просто и прямо: тем, что слишком многие христиане похожи на меня, им не хватает мужества быть христианами! Мне кажется, что если бы мы принимали всерьез свое христианство, многое бы изменилось — только вот, это нас страшит. Мы все время пытаемся превратить Евангелие в Ветхий Завет, принять заповеди Христовы за приказания, руководство к исполнению. Вы знаете, что такое закон: закон — то, что надо исполнять. Но у закона огромное преимущество перед любовью, закон гласит: если вы исполните то-то и то-то, этого достаточно, больше ничего не требуется. А трагедия евангельского делания в том, что Христос нам говорит: закона нет… То есть нет предела тому, что мы должны исполнить. Христос нам говорит: любите. Но «любить» так, как говорит Христос, означает: будь готов забыть о себе настолько полно, чтобы для тебя существовал только другой, а ты сам для себя вовсе не существовал. Если бы Евангелие заключалось только в этом, и то Христа убили бы, потому что это самое страшное, что только можно себе представить.
Принять существование «другого» уже нелегко, предпочесть существование «другого» собственному — ужасно страшно. Но сказать: я готов, согласен не быть, для того чтобы был другой, существовать только ради него, по отношению к нему, в зависимости от него, и забыть себя — это смерть. Так вот, этого все мы страшимся. Посмотрите на наши дружбы, на отношения приятельства, отношения взаимной любви, вот что важно. Мы боимся потерять самосознание, боимся не ощутить себя самими собой, совершенно потеряться. Вместо того чтобы быть зерном — а зерно должно умереть, чтобы принести плод, — мы говорим: нет, я готов принести плод, но не хочу умереть до конца. Я хочу все время знать, что существую… И это катастрофа, и мне кажется, что это и стоит в сердцевине евангельской трагедии: если мы не способны любить, нет такого Евангелия, которое мы способны исполнить. Потому что победа Евангелия — это не гарантия социального обеспечения, это не справедливое общество, это не равное распределение богатств и благ. Все это, конечно, входит в Благую Весть, но составляет очень незначительную часть ее всецелого требования. И я думаю, что в этом вся трагедия. Чтобы Церковь стала самой собой, нужно, чтобы каждый христианин сталхристианином. Вот в чем стоящая перед нами проблема. Потому-то я говорил раньше, что для взаимоотношений мира и Церкви важно, чтобы мы были верны в малом: если нет верности в малом, то и великое просто не может совершиться. На словах мы стремимся к единству, мы готовы строить единство мира, мы готовы строить единство Церквей — и не способны создать единство, общность трех или четырех человек. Как можно быть строителями единства, если мы — нелояльные товарищи, неверные друзья, или бессердечные начальники, или бесчестные работники и т. д.? Вот где все начинается. Только не в порядке закона, потому что по закону всегда можно на чем-то остановиться, а в порядке любви, жертвы, служения.
Я думаю, что в христианской Церкви миллионы людей сумели быть христианами, и что таково наше призвание, таково требование к нам Евангелия. А когда мы говорим: «Церковь явно противоречит собственным принципам и потому я от нее отворачиваюсь» — это лазейка, уловка, ничего другого. Стань тем единственным членом Церкви, который будет в уровень своего христианского призвания, — и вся Церковь станет выше сначала благодаря примеру, затем и самим делом.
Если позиция Церкви по отношению к миру должна быть позицией Бога по отношению к миру, как объяснить, что на практике различные христианские Церкви занимают различные позиции?
Мне кажется, что в основе того, о чем вы говорите, факт: Церкви в своем внешнем выражении — это человеческие общины, которые считают себя христианскими, потому что заявляют, провозглашают нечто, но не живут этим в достаточной мере. В ту меру, в какую мы знаем истину, но не живем ею, мы перестаем улавливать что-то существенное в самой Истине. Позиции Церквей в какой-то степени расходятся, пока какая-либо проблема не становится трагически-реальной для одной определенной общины. Например, в период гонений все Церкви обнаруживают между собой глубокое единство: я говорю о единстве в действии, единстве в жизни. Сейчас на Западе и во многих частях света мы живем слишком обеспеченно, защищенно и успешно находим возможности всяких уверток. Когда же реальная проблема встает перед нами со всей остротой вопроса жизни и смерти, тогда люди либо перестают быть христианами, либо отзываются на ситуацию вполне по-евангельски. Я думаю, в этом отношении наша задача состоит в том, чтобы учиться, чтобы пытаться поступать по-евангельски, прежде чем нас к тому вынудит Суд Божий. И это очень, очень серьезно. Ведь суд Божий неизбежно настигнет нас рано или поздно, потому что Бог не станет терпеть Церковь-изменницу.
Почему все христианские авторитеты не призывают молодежь: не учитесь убивать других людей, отказывайтесь от военной службы?
Это один из тех вопросов, которые очень трудны для меня, потому что у меня нет ответа — я имею в виду: у меня нет внутреннего ответа на него. Недавно я проводил говение для студентов в Оксфорде, и один молодой человек подошел ко мне и спросил, пацифист ли я. Я ответил: «Нет». Он сказал: «А я вот радикальный пацифист». Я говорю: «Да? Совершенно радикальный?». — «Да». — «Представим, что ты входишь в комнату и видишь, как мужчина пытается изнасиловать твою невесту. Что ты сделаешь?» — «Я обращусь к нему с просьбой не делать этого»… Для меня это неприемлемо, я в этом смысле еще не обращенный язычник. Вот как мне представляется эта проблема: если эта проблема встает передо мной частным случаем и я не в состоянии ее разрешить, это значит, что у меня нет ответа и на общий вопрос.
Разумеется, в плане войны, при хорошей подготовке мы могли бы отказаться от военных действий. Но как быть с преступником, бандитом, хулиганом? Вот где для меня встает вопрос. И я не способен дать такой ответ, какой дал тот оксфордский студент, я убежден в обратном! Возможно, это лишнее доказательство того, что я плохой христианин, который еще и не начал становиться христианином, этого я не отрицаю. Но для меня это неразрешенная проблема. Я не вижу ее решения. Например, в 1939 году, если бы меня не мобилизовали, я бы ушел добровольцем (я и сейчас так поступил бы), потому что мне казалось, что происходит что-то, что надо пресечь, сделать невозможным, что в уродливой ситуации военная реакция менее уродлива, чем та ситуация, с которой она призвана бороться. Но я вовсе не претендую, что это христианский ответ, и дай Бог, чтобы нам не пришлось участвовать в том, о чем я сейчас говорил. Но мне просто приходится признаться, что мое христианство настолько слабо, что у меня нет решения.
Не следует ли стремиться избегать таких ситуаций психологической подготовкой?
С этим я согласен. Я бы сказал даже: мы могли бы отвергать безбожное насилие, если бы у нас хватало мужества отвергать несправедливую успокоенность эксплуатации, жестокости, которые мы прекрасно принимаем. Мне кажется, вопрос войны должен разрешаться в мирное время. Нужно, чтобы мирное время было достойно человека, не обязательно христиан, но просто людей. До тех пор, пока мирное время, в которое мы живем, недостойно нас, можно с уверенностью знать, что в какой-то момент оно разрешится насилием. Начинать надо здесь, начинать надо в мирное время.
Если хотите, вот христианский пример, мне он кажется замечательным, но ему не подражали как христианскому примеру. В древних Правилахесть одно правило Василия Великого, гласящее: при вооруженном конфликте христиане не имеют права отказываться от участия в нем, потому что если бы они были достойны имени христиан, вооруженный конфликт не возник бы. Но, добавляет Василий, пока идет борьба и еще три года после нее все христиане, которые в ней участвовали, должны быть отлучены от причастия, потому что они пролили кровь и не сумели предотвратить конфликт… Вот нечто очень близкое тому, о чем вы говорили: если мы — общество, в большинстве своем состоящее из христиан (а так оно и есть в некоторых странах), и тем не менее не способны установить состояние умиренности, свободное от уродства, мир, который не вел бы к войне, тогда поздно, думаю, обращаться к пацифизму в разгар войны. Но проблема мира и проблема нашего ответа не снимается, и она тяжелее для нас, чем для людей, у которых нет тех же данных, какие есть у нас, чтобы судить о некоей ситуации.
Миссионерство Церкви [186]
Мы о Церкви часто (мне кажется, слишком часто) думаем как о том месте, куда мы можем прийти, встретить Господа, успокоиться, быть под Его крылом и под покровом Божией Матери, а затем, окрепши, оживши, идти обратно домой. Мы очень редко думаем о Церкви как о том месте, где мы получаем зарядку, где мы встречаемся лицом к лицу с Самим Господом и слышим от Него Его последнее поручение апостолам: идти в мир и принести в весь мир радостную весть о том, что весь мир, каждый человек так Богом любим, что Бог Своего Единородного Сына послал на смерть для того, чтобы можно было спасти каждого человека (Ин 3:16—17).
Христос Свое дело совершил, апостолы вышли в мир и совершили свое дело проповеди, многие из них претерпели жестокие мучения и смерть. Их ученики тоже шли во все края света, который тогда был доступен, и каждому человеку приносили весть: «Ты любим, ты Богом любим! Надейся на Бога, надейся на себя самого — не нагло, не превозносясь, но веря, что если Бог тебя может любить, то все тебе возможно».
И мы являемся посланниками. В этом смысл миссионерства. Смысл этого слова — «посланничество», и ничего в этом нет как бы профессионального, «технического». Это не должность каких-то людей, специально выбранных для того, чтобы они шли и говорили, проповедовали, это роль каждого верующего. Как сказано у апостола Петра, мы все — царское священие, язык свят, то есть освященный народ (1 Пет 2:9). Нам дано знать Бога и идти в мир для того, чтобы весь мир мог Бога познать, мог из безнадежности, из страха, из мрака выйти в область надежды, в область радости, в область победы, но победы не своей собственной, а Божией победы, которая через верующего льется во весь мир.
Мне кажется, что мы слишком часто забываем свою миссию, то есть свое посланничество. Так часто бывает, что человек приходит в церковь со своим горем, со своей нуждой и получает утешение, крепость, и затем, успокоенный, идет домой, но не для того, чтобы принести Благую Весть о том, что если Бог меня может так переменить, то Он весь мир может переменить. Это очень важный момент. Мне кажется, что мы должны научиться рассматривать Церковь не как «миссионерское общество», а как Тело Христово. Отец Сергий Булгаков говорил, что Церковь — это продолжение воплощения Самого Христа. Когда мы крестимся, мы делаемся членами Тела Христова. И мы, как Тело Христово, исполненные благодатью Святого Духа, должны идти в мир и принести миру эту неописуемую радость и уверенность — не самоуверенность, а уверенность, что Бог нас любит, что нельзя терять надежду. Это первое, что я хотел сказать.
В этом отношении Церковь очень многое потеряла. Первое поколение христиан, не только святые апостолы, но их ученики, и те, которые обращались к вере через них, загорались таким пламенем, для них жизнь вдруг делалась такой новой, такой полноценной, что они не могли не говорить о своей вере другим людям. Ведь мы знаем из собственного маленького, ничтожного опыта: когда мы прочли какую-нибудь книгу, которая нас увлекла, в которой мы нашли глубину и свет и смысл, мы идем от человека к человеку и говорим: ты это читал? непременно прочти! У тебя ее нет? я тебе ее подарю!
И вот так мы должны были бы идти в мир, после того как встретили Христа в своей жизни хотя бы один первый раз и продолжаем Его встречать за каждым богослужением. Причем каждое богослужение нас обогащает тем, что из общих молитв, из действий, из присутствия других людей мы получаем новую уверенность в том, что наш опыт, в котором мы могли бы, может быть, даже сомневаться: а вдруг этого не было, вдруг это была иллюзия? — не иллюзия, это опыт целого народа, целой общины. И это мы в значительной мере потеряли.
Если вы подумаете о себе самих, как я думаю о себе, если вы подумаете о той общине, в которой вы живете, вы, наверное, почувствуете, что люди толпой льются в храм для того, чтобы получить утешение, укрепление, прощение, помощь. Я даже не уверен, что мы все стремимся в храм для того, чтобы встретить друг друга, а только Господа. А вместе с этим есть древнее присловье: кто видел брата своего, тот видел Бога своего54. Каждый из нас — икона Христа, может быть, несовершенная, может быть, оскверненная, но икона, и к каждому мы должны относиться как к святыне. Когда мы все укрепимся через это познание, через этот опыт, мы можем выйти в мир, чтобы говорить людям о том, что они Богом любимы. Это — наша проповедь. Мы должны идти в мир, потому что мы познали Христа, Который нас послал в этот мир делиться нескончаемой радостью. Мы будем встречать людей, которые нам скажут: «А что у меня общего с Богом?». Я, кажется, уже упоминал в какой-то беседе, как ко мне в России подошел молодой офицер и спросил: «Что у меня общего с Богом, чтобы я в Него верил?». И я ему задал вопрос: «А вы хоть во что-нибудь верите?». — «Я верю в человека». Я сказал: «Это у вас общее с Богом. Потому что Бог так верит в человека, что Он нас создал, Сам стал Человеком для того, чтобы нас спасти от погибели, которую мы сами на себя навлекли, и продолжает верить в человека, несмотря на то, что человек часто в Него не верит». Офицер на меня посмотрел и сказал: «Я об этом никогда не думал», и ушел.
Я не знаю, что дальше было. Но мы можем к каждому человеку, самому безбожному, неверующему подойти и спросить: во что ты веришь? — и оказывается, что он верит всегда во что-то, во что Бог верит. Я сейчас не говорю о политических системах, но о каком-то человеческом содержании. Так что миссия наша неотъемлема от нас. Мы не можем быть верующими и не быть посланниками Божиими. Это ведь замечательно. А мы видим, сколько миллионов людей приходят в Церковь для того, чтобы получить новую жизнь и унести как бы за пазухой, поделиться ею, может быть, с самыми дорогими: с женой, с детьми, с самым близким другом, и вместе с тем могут посмотреть вокруг себя и сказать: «Эти люди мне чужды, я с ними делиться не буду». Помню, я как-то разговаривал с одним священником Зарубежной Церкви, и он мне говорил, как он ненавидит коммунизм. Я его спросил: «А вы разве не помните, что нам велено любить наших врагов?». И он мне ответил: «Моих врагов я готов любить, Божиих — ненавижу». Вот с этим нельзя уходить из церкви.
Это, конечно, крайний предел, но тем не менее мы часто как бы «уходим в Церковь» без озабоченности о тех людях, которые вне Церкви. Или, если мы о них озабочены — потому ли, что мы в священном сане, или потому, что у нас такое настроение, — то мы хотим их «обратить», то есть, если я посмею так выразиться, сделать их подобными нам самим. Чтобы у человека были мои мысли, мои чувства, чтобы он жил, как я, может быть, не живу — но думаю, будто живу, или притворяюсь. И вот это очень важно. Я настаиваю на этом, потому что вопрос миссионерства для меня абсолютно центральный. Я к Богу пришел не через Церковь. Я встретил Бога в момент, когда хотел убедиться в том, что Его нет и что мне до Него никакого дела быть не может. И тогда я встретил Христа, и после этого у меня осталось только одно желание — поделиться с другими людьми этим чудом: не Церковью, не церковностью, не богослужениями, не молитвами святых, а тем, что я знаю Христа, я уверен, что Он есть, он мой Спаситель, он твой Спаситель, Он смысл твоей жизни, как и моей жизни.
Так думали апостолы. У них не было «богословия» в том смысле, в котором мы его изучаем в богословской школе, не было никаких богословских трудов, которые они могли бы читать. Они шли с горячим сердцем, с пламенем в душе. И люди, которые их встречали, наверное, говорили: «Что это за человек! Он не как мы, он какой-то живой, в нем огонь горит. Я холодный, как бы мне согреться от него! Чем он может поделиться со мной?». Вот какими мы должны бы быть.
Богословие пришло позже, и не всегда удачно. Вы наверно знаете, что я богословию не учился, но я кое-что читал и каких-то замечательных людей встречал. В этих замечательных людях — в отце Георгии Флоровском, в отце Сергии Булгакове, во Владимире Николаевиче Лосском и во многих других (потому что я рос в период, когда самый цвет эмиграции руководил нашей мыслью), мы видели — и это нас поражало — не умственные выкладки, а то, что они горят опытом о Боге, любовью к Нему, знанием о Нем и всем этим делятся. Причем делятся очень разно, в зависимости от того, с кем они говорят, о чем они говорят. Иногда они были выше уровня того, кто слышал. Я тогда был подростком и не всегда понимал, что отец Сергий Булгаков или Владимир Николаевич Ильин, или другой кто говорит, и тогда я как бы складывал в сердце то, что сказано, в надежде, что рано или поздно, может быть, пойму, но смотрел на них и думал: они говорят из внутреннего опыта.
Вот тема Церкви — говорить из внутреннего опыта. Причем этот внутренний опыт должен быть моим, а не только повторением. Когда мы проповедуем, когда мы читаем богословские лекции, недостаточно людям говорить: святой Иоанн Златоуст говорил то-то, святой Василий Великий учил так-то, святой Серафим Саровский сказал то-то. Потому что люди, слушая, смотрят на нас и думают (осмелюсь еще раз так выразиться): «И напрасно говорил! Если единственный результат речей этих великих духовных лиц — этот человек, то не стоит их читать».
То же самое можно сказать о церковной молитве. Дьякон, когда служит, должен слова церковной молитвы говорить от себя, он должен их довести до своей души, чтобы это была его беседа с Богом. Если он просто эти слова произносит, потому что это — святые слова, они не дойдут до людей, а если дойдут, то только чудом, несмотря на него, а не благодаря ему.
Как-то при мне в одном московском храме служил дьякон, и первую ектенью он пел, как концерт. Когда он вернулся в алтарь, я ему сказал: «Отче, так молиться нельзя! Говорите с Богом, а не пойте Ему песенки». И он мне ответил: «Я певец из консерватории и приношу Богу самое лучшее, что у меня есть». Не дай Бог! Этого нам не нужно. Если мы хотим услышать такое пение, мы можем сходить в консерваторию. А мы должны вернуться к тому, как раннее поколение говорило из собственного опыта. У нас есть громадное количество молитв, песнопений, громадное количество духовных писаний, которые мы должны прочесть и довести до самых глубин своего существа. Если они остаются только у нас в разуме, то они напрасно были написаны. Это ужасно сказать, но это так, потому что если ты повторяешь спасительные слова, которые могут спасти другого, а тебя не спасают, до твоей души не доходят, то ты кощунствуешь. Опять-таки скажу: мы должны научиться, когда совершаем богослужение, когда молимся вслух с другими людьми, говорить с Богом этими словами, словами святых, которые превосходят нас, но должны стать нашими. И тогда люди воспринимают.
Знаете, мне вспомнилось: до войны я был доктором в одном детском лагере, и мы как-то засиделись, разговаривая, с группой старших мальчиков и девочек. В какой-то момент я им сказал: «Ну, теперь идите спать, а я пойду прочту вечерние молитвы». Они отозвались: «А почему бы нам не пойти с тобой?». Я сказал: «Ну если хотите, идите, но я буду молиться от себя, а не для вас». Я прочел вечерние молитвы и почувствовал, что они не уходят, прочел другие молитвы… — и так до пяти часов утра мы молились вместе. Они не заметили, как прошло время, потому что я им не декламировал молитвы, а я с Богом разговаривал. Я не хочу сказать, что я способен на такую молитву, но в тот день Господь мне дал такую тишину в душе, такую любовь к этим мальчикам и девочкам, подросткам 16—18 лет, что я с Ним говорил и это доходило до них. Вот как мы должны бы молиться в церкви, те из нас, которые служат, и так должны быть мы в состоянии слушать эти молитвы.
Но между текстом и слышащим, увы, бывает мое недостоинство, моя неспособность так молиться этими словами, чтобы они звучали правдой, Божией правдой, искренностью хотя бы. Вот это нам надо менять в Церкви, потому что не всегда это мы встречаем в каждом храме и на каждом богослужении, в каждом дьяконе, в каждом священнике или епископе. Красота должна вырастать из содержания, красоту надеть на содержание нельзя. В этом отношении каждый священник, каждый служащий должен читать, перечитывать и продумывать наше богослужение и доводить до своего сердца, и знать, может ли он это сказать правдиво и искренне; а если нет, то каяться в этом.
Есть молитва в начале Литургии, где говорится: Господи, Твоя слава непостижима, держава бесконечна, а дальше: милость безмерна, человеколюбие неизреченно28… И сколько раз я встречал людей, которые первое могут сказать: они видят Бога во славе, великим Богом. Но они не могут сказать, что в своей жизни встречают постоянно Его милость, Его человеколюбие. И тогда надо перед собой ставить вопрос: могу ли я эти слова сказать честно и правдиво? в какой мере эти слова остаются истиной, несмотря на то, что я полностью их не могу воспринять? Это долг священника и служащих с ним, но это также обязанность каждого верующего — так воспринимать то, что он слышит, чтобы каждое слово было истиной.
А когда мы молимся частным порядком, мы должны молиться, повторяя слова святых, и те слова, которые мы от души можем сказать, — сказать от души. Где у нас нет понимания, сказать: Господи, я верю, что этот святой знал, что он говорит, я эти слова Тебе преподнесу от его имени, а его прошу эти слова, когда они будут долетать до Тебя, оживить своей молитвой и мне помочь понять. А некоторые слова я не могу сказать, они были бы ложью, я их не скажу сегодня. Я должен набраться духовного опыта…
Это все вопросы, которые требуют от каждого верующего, но в частности и особенно от епископа, от священника, от дьякона, правдивости, искренности. И только тогда наша Церковь станет той живой Церковью, какой была Церковь Апостольская, когда мы это сможем осуществить. Одними богослужениями, одними проповедями, одним чтением Святых Отцов, одним преподаванием богословия мы этого сделать не можем, потому что когда мы повторяем то, что до нас не дошло, люди знают: ну да, это он в семинарии выучил, а что он сам об этом знает?
И вот мне кажется, что обновление Церкви связано с миссионерством, то есть мы должны с другими поделиться этим опытом, этим содержанием. Церковь должна меняться в том смысле, что должна все больше осознавать не только в лице духовенства, но в лице каждого верующего: как он слышит, как он повторяет, как он читает эти молитвы про себя дома или в храме.
И еще: как мы живем. Проповедь апостолов была в их житии, в том, как они жили. Люди смотрели на верующих, на христиан, которых жгли на кострах, и, как нам рассказывает древний писатель Тертуллиан, восклицали: «Что это за люди? Как они друг друга любят!»52. Можно ли это сказать теперь про нас, верующих? Любим ли мы друг друга так? Дам пример. Я служил в одном храме Москвы, давал крест в конце службы, и одна женщина выпихнула из ряда другую и бросилась ко кресту. Я ее остановил, сказал: «Стань здесь рядом и подожди, чтобы все прошли». А та, которую выпихнули, повернулась к ней и сказала: «Вот когда мы выйдем из храма, я тебе морду набью!». И это было после Божественной литургии! Я обеих заставил ждать, пока полторы тысячи человек подошли ко кресту, и потом с ними поговорил об этом: неужели так на них воздействовала крестная смерть Христа, Его Воскресение, Его проповедь Евангелия, молитвы святых, которые мы читали?
Этот вопрос мы должны себе ставить, потому что церковь должна быть постоянно обновляема в нашем лице. Не церковь через заглавное «Ц», а церковь в лице меня и тебя, и ее, и его, и нас. Это очень, очень важно. И только тогда Церковь станет явлением Христа на земле, когда люди будут смотреть на нас, слышать нас и говорить: «В этих людях есть что-то, чего в нас нет. В них живет Бог, в них действует Бог».
То же самое можно сказать в отношении нашего вероисповедания. Мы можем повторять совершенно грамотно слова Символа веры, мы можем повторять учение Церкви о том, о другом, но как часто это бывает механично, как часто это не наш опыт и не наша вера. А пока это не станет нашим опытом и нашей верой, мы не вошли в Церковь, мы еще не говорим от имени Церкви. Нам надо задуматься в наше время над тем, чтолюди могут понять, когда мы им повторяем то, что писали отцы Церкви в IV, V, VI, VII веках. Понятно это или нет? Это же рождалось в совершенно иной обстановке. Это говорили люди, которые были гонимы, родные которых умирали в тюрьмах, в застенках, на кострах, в ссылке. А мы все это слышим, сидя в кресле или стоя уютно в храме…
И еще мне вспоминается одно слово отца Георгия Флоровского. Более православного, радикально православного человека я не встречал до сих пор. И я помню, как он мне сказал: «Вы должны помнить, что Соборы справедливо осудили ереси, но одного Соборы не сделали: они не дали такого ответа еретикам, которой бы их обратил». Это у меня осталось на душе. Я верю, верю в истину Православия, но нам надо научиться эту истину передавать так, чтобы люди понимали. И говорить человеку: «Ты еретик! Ты ошибаешься, ты не прав, ты вне Церкви» — никому не помогает, ни тому, кто говорит это, ни тому, кто это слышит. Иногда можно сказать человеку: «Да, ты Богом любим, да, ты о Боге знаешь многое, но ты выражаешь не так. Я тебе объясню, в чем разница, в чем дело». Иногда бывает, что человек ставит вопрос на той плоскости, на которой невозможно с ним говорить. Я вспоминаю статью, которая была написана лет пятьдесят тому назад о споре между западным философом и православным епископом из Греции. Философ требовал от епископа, чтобы тот ему доказал неправду католичества на основании той философии, которой он держится, а эта философия никак не поддавалась к изложению православной веры. И в результате получилось, что епископ не смог убедить философа — не потому что он не был прав, а потому что контекст, форма была такая, что он не мог ею воспользоваться.
То же самое относится к тому, как мы разговариваем с иноверными. Сказать, что они не правы, очень просто. Я
прав, потому что я
православный. Сказать им: «Обратитесь, и тогда вы поймете» — никто не воспримет в такой форме. Мне вспоминается, как, когда мы стали членами Всемирного Совета Церквей
[187], от нашего имени выступал владыка Иоанн (Вендланд). Он сказал короткое слово, где поблагодарил Всемирный Совет Церквей за то, что они нас приняли в свою среду и открыли нам свое сердце. И он сказал вещь, которую я никогда не забуду: «Мы вам не принесли с собой новую веру. Мы принесли вам исконную евангельскую веру, которой вы отчасти изменили на основании человеческих измышлений. И вот мы вам отдаем вашу собственную веру и надеемся, что вы принесете из нее тот плод, который мы по своей греховности не сумели принести». Вот это была проповедь Евангелия, это для меня встреча с инославным, иноверным.
И это относится не только к инославным — католикам, протестантам и т. д. Это относится даже к языческому миру, потому что человек, который верит в Бога, в конечном итоге верит только в Того Бога, Который существует. Человек, возможно, Его не понимает, Его образ может быть изуродованным или фантастическим, но когда человек стоит и молится, его слушает только Тот Бог, Который есть. Я вспоминаю, как мы с владыкой Иоанном в Дели вошли в языческий храм послушать, как люди молятся. Началось это забавно в том смысле, что при входе в храм мы должны были снять башмаки. И мы их сняли, а сторож нас остановил и говорит: «О, не оставляйте свои башмаки здесь. Они же хорошие, их украдут! Я их возьму к себе в контору». И вот с босыми ногами мы вошли в храм. Этот храм посвящен всем религиям, поэтому там отделения, и в каждом отделении люди молились по-своему, а мы переходили из отделения в отделение, становились на колени и молились Иисусовой молитвой. И когда мы вышли, владыка Иоанн мне сказал: «Как замечательно! Все эти люди молятся по-иному, но они молятся единственному Богу, Который есть. Они смотрят на слона, на обезьяну, на корову, потому что это для них как бы зацепка, которую они себе создали, а слышит их только Тот Бог, Который есть».
Мне вспоминается и другое. Когда-то я разговаривал с Владимиром Николаевичем Лосским, и он говорил, что у язычников настоящего знания о Боге нет и быть не может, потому что только во Христе мы можем найти Бога. Я спорить не смел, потому что мне было тогда двадцать с небольшим лет и я его слишком почитал. Но я вернулся домой, взял Упанишады, то есть древние индийские писания, выписал из них восемь изречений, пришел к нему и говорю: «Владимир Николаевич, я, когда читаю святых Отцов, выписываю то, что меня поражает. Я всегда под цитатой пишу имя того Отца, который ее написал, а здесь восемь цитат без имен. Вы можете узнать по содержанию, кто из святых Отцов писал?». Он взял: «О, да!», и написал под каждой цитатой: Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Симеон Новый Богослов и т. д. Когда он кончил, я ему сказал: «Знаете что? Это индийские Упанишады». И он на меня посмотрел и сказал: «Мне над этим надо подумать».
И то же самое мы видим у старца Силуана. Он когда-то разговаривал с миссионером, который в Китае был и говорил, что китайцы безнадежны, их никаким образом нельзя обратить. Силуан ему говорит: «А что вы делаете для того, чтобы их обратить?» — «Я иду в капище, стою там и потом начинаю кричать: что вы здесь делаете, мо{'}литесь истуканам! Вы разве не видите, что это дерево, камень, что они никак отозваться не могут на ваши мольбы?». — «Что дальше бывает?», — спрашивает Силуан. «Они меня хватают и выкидывают вон и бьют притом!». Силуан говорит: «А знаете что, в следующий раз вы пойдите в храм и постойте и посмотрите, с каким благоговением и какой верой они молятся. И когда они кончат молиться, вы подойдите к одному из их жрецов или священников и скажите: я наблюдал, как молились вы и ваши люди. Расскажите мне о своей вере». Он вас возьмет и посадит на ступеньках около храма и будет рассказывать. И каждый раз, когда он скажет что-нибудь, что открывает как бы дверь, вы ему скажите: «Как это прекрасно! Если бы прибавить к этому ту или другую мысль — и повторите им что-то из Евангелия, — как это было бы полно». И этим вы положите семя в его душе.
И вот нам надо научиться в Церкви быть живыми людьми, чтобы между нами и Богом не стояли никакие формулировки, никакие формы. Я не хочу сказать, что надо их презирать. Я люблю богослужение, я стал священником, потому что любил богослужение и люблю, но для многих оно недоходчиво, а Бог доходчив до каждого. И нам надо в проповеди, в молитве, в том, как мы себя держим, открывать людям этот путь. А этот путь нелегко открыть.
Я не помню, рассказывал ли уже, как в ранние годы моего священства был один прихожанин, которого я не выносил, который для меня был соблазном, ужасом. Но я чувствовал, что если я служу, то я должен быть, как желоб, по которому течет и его молитва, и этого я не мог сделать. Я приходил в храм за два часа, за три часа, стоял перед царскими вратами и говорил: «Господи, открой меня! Измени меня, чтобы я мог открыться, чтобы этот человек мог войти в меня и через меня подняться к Тебе». И это бывало, через два-три часа я мог сказать: «Хорошо, войди!». Радости от этого не было, но была открытость и готовность.
Вот те вещи, которые меня поражают в наше время. Нам надо миссионерство открывать по-иному, не то что учить других людей, а самимстать другими людьми. Чтобы люди, глядя на нас, спрашивали — а не то, что мы шли и требовали от них, чтобы они слушали. Так Церковь будет обновляться, если каждый человек будет стоять перед Богом, будет с Ним, будет молиться Ему, давать Ему произносить живые слова в его сердце, соединяться со святыми в одной любви к Богу. Тогда Церковь будет обновляться, и обновляться, и обновляться. Не в смысле послереволюционного «обновленчества», а в смысле того, что люди будут новые, и новые люди принесут свет в мир, который так нуждается в свете.
Царственное священство мирян [188]
За последние годы у меня накопились некоторые мысли о Церкви, и у себя в приходе я провел целый курс бесед о том, насколько эмпирическая, реальная Церковь, в которой мы живем, отличается от той более реальной, совершенной Церкви, в которую мы верим. Для того чтобы жить в эмпирической, современной нам Церкви, надо, с одной стороны, понимать, во что мы верим, в какую Церковь мы верим, а с другой стороны — принимать в учет, как историческая Церковь развивалась, как она дошла до того состояния, в котором находится, и какова наша роль в том, чтобы эту Церковь, похожую как бы на червячка, сделать светлячком. Это очень, мне кажется, современная задача, потому что возвращение к прошлому, к традициям, к путям дореволюционной России и т. д. — не решение вопроса.
Одно слово сначала о Церкви. Церковь мы понимаем как Богочеловеческое общество, которое одновременно полностью и Божественно и человечно. Человечество в Церкви представлено двояко. С одной стороны — совершенный Человек, идеальный, но реальный, исторически реальный Господь Иисус Христос. А с другой стороны — мы, которые тоже люди, тоже, если можно выразиться так не по-русски, «человеки», но — во грехе. Человечество мы должны воспринимать в Церкви именно так: мы видим, какими мы призваны быть, глядя на Христа. И чем глубже мы это воспринимаем, тем больше видим, как мы далеки от этого образа; но видим тоже, как к этому образу устремляться, потому что Христос нам сказал: Я есмь Путь и Истина и Жизнь (Ин 14:6). Он не только говорит нам: «Ищите, как умеете», Он говорит: «Я — путь. Если вы будете идти Моим путем, то станете подлинными людьми, детьми Божиими».
Божественное присутствие в Церкви ощущается даром Святого Духа, исполнившим ее в день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на апостолов и в их соборе заполнил всю Церковь. И никакой человеческий грех, никакая человеческая греховность не может удалить Святого Духа из Церкви. Каждый из нас призван быть сосудом, в котором находится эта святыня, мы призваны быть храмами Святого Духа. И в этом отношении мы являемся храмами, но часто оскверненными. Апостол Павел говорит, что мы святыню носим в глиняных сосудах (2 Кор 4:7). Они должны бы быть золотые, а не глиняные, и без трещин, а мы все с трещинами, греховны. Мы можем терять сознание Святого Духа в себе, как бы Он в нас ни действовал, мы можем заглушить Его голос. Опять-таки апостол Павел пишет, что иногда Дух Святой говорит в нас ясно, называя Бога Отцом нашим (Гал 4:6). Это значит, что в такой момент мы должны бы быть детьми Божиими, так же как Иисус Христос является Сыном Божиим, то есть через укорененность во Христе, приобщенность Ему, соединение с Ним мы должны стать уже не приемными детьми Божиими, а, как святой Ириней Лионский очень смело говорит, во Христе и силой Святого Духа стать единородным сыном Божиим и коллективно, все вместе, и каждый из нас.
И третье: во Христе и Духе мы все в Боге. И в этом отношении Церковь — нечто непостижимо великое, потому что это уже Царство Божие, пришедшее в силе, то есть оно как бы тут, но оно должно еще осуществиться в нас, оно тут в своей полноте, но каждый из нас его должен осуществить в себе или войти в его полноту. Именно это отец Георгий Флоровский имел в виду, когда говорил, что Церковь и дома, и на пути одновременно. Она дома, потому что мы уже дети Божии, она на пути в каждом из нас, потому что мы все в становлении. И вот это мы должны помнить: меньше этого Церковь не может быть. Но, с другой стороны, как ясно из того, что я уже сказал, каждый из нас вносит в историческую, эмпирическую Церковь свое несовершенство, свою греховность, свою неполноту еще.
А кроме того, коллективно Церковь как историческое явление приняла на себя формы, которые ей неприсущи. И это, мне кажется, сейчас проблема, которую Церковь должна глубоко рассмотреть и на которую она должна творчески отозваться. Если мы посмотрим на церковные структуры, то увидим, что они являются как бы копией тех структур, которые были в Византийской империи, то есть строго иерархической системы с величием, с торжеством, с грандиозностью; это одно. Второе: в древней Церкви, в самый ранний ее период, когда еще проповедовали апостолы и их прямые ученики, христианами становились люди, которые лично пережили встречу со Христом — или непосредственно, как апостол Павел, как другие ученики Христовы, или потому что они встретили таких людей, которые были живыми иконами Христа, людей, которые могли свидетельствовать о Христе и о спасении, как то определяет апостол Иоанн: мы говорим о том, что мы слышали, что видели своими очами, и что осязали руки наши (1 Ин 1:1—2). Такой человек говорит, конечно, совершенно иначе, нежели тот, который понаслышке повторяет сказанное кем-то другим двадцать поколений тому назад. Поэтому ранняя Церковь была немногочисленна, она была укоренена в опыте о Христе, она за этот опыт платила мученичеством, смертью, пытками, изгнанничеством — и это в течение трех-четырех веков, не только первое поколение так пострадало, а в дальнейшем тоже.
Когда император Константин признал Церковь не как враждебное явление, а как явление сначала приемлемое, а потом и желанное, она переменилась глубочайшим образом. Те люди, которые ни за что в Церковь не пришли бы, когда это могло стоить им жизни, влились в нее, потому что этой Церкви покровительствовал император. И она разжижилась, в нее вошли элементы, которые никоим образом не хотели бы мученичества, а хотели человеческой славы, человеческой обеспеченности, хотели быть как бы по правую руку императора. И вдобавок, церковные структуры начали делаться похожими, по воле императора и с согласия самой Церкви, на структуры империи. То есть патриарх был параллелью, стоял как бы параллельно с императором, архиепископы и епископы тоже имели свое иерархическое положение и т. д.
И еще одно: в этом поколении, где христианская вера не зависела исключительно от огненного опыта Святого Духа и Христа, где люди в значительной мере делались верующими понаслышке, появилось расслоение между людьми образованными, знающими, что такое христианская вера как вероучение, а не только как опыт, и людьми, которые не имели доступа ни к какой письменности и поэтому могли только понаслышке узнавать о христианской вере. И в результате епископат, духовенство приобрело положение учительное, но не потому, что из них как бы изливался свет святости, а потому что они знали, что передать следующему поколению или своим современникам. И получилось постепенное расслоение между духовенством и мирянами. В ранней Церкви этого разделения не было в том смысле, что было одно живое тело, в котором разные члены — апостол Павел об этом подробно говорит (1 Кор 12:13) — имели различные функции. Но функция — это одно, а сан и возвышенность — это совершенно другое. А если уж говорить о сане и о его высоте, то надо помнить слова Христа о том, что никто большей любви не имеет, как тот, кто жизнь свою отдаст за ближнего своего (Ин 15:13). Своим ученикам Он говорил: Кто из вас хочет быть первым (то есть быть самым истинным Моим учеником), должен стать всем слугой (Мк 10:43). И на Тайной вечери Он снова говорит: Смотрите, вы Меня называете Учителем, а Я среди вас, как служащий (Ин 13:13—15). Это у нас пропало в значительной мере, если не совершенно, потому что мы влились в светские структуры.
В результате этого, как мне кажется, получилось расслоение между мирянами, которые не чувствуют ответственности за Церковь и которым как будто даже говорят: «Ты только делай то, что тебе сказано, и все будет хорошо», и духовенством, которое в итоге — скажу прямо — возомнило, что оно имеет право «руководить стадом Христовым». А миряне — это не стадо, это живое тело Христа, и духовенство — не вожди и не начальники, а слуги. И к этому нам надо как-то вернуться, сознанием сначала вернуться. Надо учить людей, и начать с себя самого. То есть священник или епископ поставлен вести народ в эту тайну освящения мира, но каждый на своем месте должен быть готовым жизнь свою отдать. И когда я говорю «жизнь отдать», я не говорю романтически о том, чтобы умереть в пытках и т. д., но отдать каждый день, каждый час своей жизни на то, чтобы все вокруг было освящено. Я не говорю, что нет таких священников или епископов, но в целом такой подход к Церкви редко встречается. И миряне, которых апостол Петр определяет как царственное священство, народ святой, храм Святого Духа, оказываются просто подвластным «стадом», которому говорится: «Поступай так-то, делай то-то, учись этому, верь в то или другое».
А что такое царственное священство? У нас в епархии был в этом году съезд на эту тему, о мирянах, о царственном священстве в частности. Если прислушаться к святому Максиму Исповеднику, то он говорит, что человек был создан для того, чтобы всю тварь привести к Богу, что он создан как участник двух миров — вещественного и духовного, он в себе совмещает эти два полюса. И в этом смысле всякий верующий в Церкви является священником, то есть человеком, который освящает тварь, который делает ее святой, что значит — Богу посвященной и пронизанной Божественной благодатью. Это призвание каждого христианина, не только священника, у священника есть своя задача, о чем я еще скажу. И мирянин — не только человек, который живет «в миру», это человек, который Христом послан в мир для того, чтобы все, к чему он прикоснется, сделать святыней. Он священник в этом отношении: как мы относимся к предметам, которые вокруг нас, как мы относимся к людям, как мы относимся ко всей природе… Если подумать о том, что все это создано Богом в любви, с тем, чтобы все вошло в тайну приобщенности Ему, как благоговейно мы бы относились ко всему тому, к чему мы прикасаемся — словом ли, взглядом ли, прикосновением ли руки. И я думаю, что мирянин вступает на этот путь в момент, когда его готовят к принятию Крещения, потому что через Крещение человек соединяется со Христом и в этом таинстве погружения в воды смерти и жизни, выходя из них новым существом, человек делается уже как бы носителем Христа. Когда совершается Миропомазание, Святой Дух сходит на человека, и он уже — в малой мере, конечно, не в той мере, в какой Христос действовал, — уже является присутствием Божественной благодати, ему поручено это тайносовершение. Это своего рода рукоположение, человек делается частью тела Христова.
Теперь: почему царственное священство? Мне кажется, ответ можно найти у святого Василия Великого, который говорит: всякий может управлять и властвовать, только царь может умереть за свой народ… И вот это роль всякого христианина — и мирянина, и священника, потому что если мы называем народ Божий, laos таким словом, оно включает всех: и новорожденного младенца, и патриарха. Это народ Божий, и в этом отношении мы все являемся царственным священством через то, что мы должны быть готовы жизнь свою положить за каждого человека, который находится в Церкви и особенно вне Церкви: Я вас посылаю, как овец среди волков (Мф 10:16). Мы овцы не в том смысле, что должны быть блеющим стадом, которому нечего говорить или нечего давать. Нет, мы — общество людей, которые должны идти в мир, идти туда, где не слышали о Христе, туда, где не верят в Бога, идти туда, где разврат, где неправда, где нет веры, где нет надежды, где нет радости, где нет любви, и все это приносить туда в себе и давать ценой своей жизни. А «ценой своей жизни» не значит умереть: умирать можно каждый Божий день, отдавая свою жизнь другим людям. Умереть на плахе — это одно мгновение, умирать изо дня в день — это другое дело. Я вам могу пример дать.
Я встретил в России одного монаха, священника, который провел в концентрационном лагере 26 лет. Он сидел передо мной на койке с сияющими, светящимися глазами и говорил: «Вы понимаете, Владыко, как Бог был добр ко мне! Меня, неопытного священника, Он избрал, на пять лет в одиночку посадил, в тюрьму, а потом на 26 лет в лагерь, для того чтобы я был священником там, где он больше всего нужен был и куда священника свободного не пускали». Все, что он вынес из этого ужаса, это благодарность за то, что он принес свет туда, где была тьма, надежду — туда, где не было надежды, любовь — и какую любовь он мог проявить! — туда, где любовь колебалась от ужаса, страха и страдания. И вот это является царственным священством. Да, как царь, он отдал свою жизнь. И предельное проявление этого царственного священства, если можно так выразиться (и я надеюсь, что меня не поймут вкривь и вкось), крайний пример его — Господь Иисус Христос, первый мирянин. Он, технически говоря, не священнического рода, Он не священник, Он мирянин, первый член царственного священства. Но Он одновременно Первосвященник всея твари (Евр 4:4 и др.). И вот к этому мы должны стремиться и возвращаться.
В связи с этим меня волнует, что так часто молодые священники (да и священники среднего возраста, которых жизнь, может быть, не ломала внутренне) считают, будто они могут всякого наставить и привести ко спасению. Я думаю, что это очень страшное искушение для священника. Роль священника, духовника или просто близкого друга — не ступать «обутыми ногами» на священную землю. Не всякий священник имеет дар духовничества. Священнику дано исполнять таинства, он может именем Христовым разрешить грехи человека, который каялся, причем не просто разрешить все грехи, которые были названы. В одной из древних разрешительных молитв сказано, что разрешаются те грехи, в которых ты каялся, и постольку поскольку ты в них каялся, а не потому что ты по списку прочел грехи, они все смыты с тебя. Священнику дано читать разрешительную молитву, благодатью Божией, поскольку ты исповедался Самому Христу, он был свидетелем твоего покаяния. Но это не значит, что всякий священник получает другие дары. Рукоположение не делает человека умным, красноречивым, ученым, святым. Он делается тайносовершителем. Это колоссального размера вещь, но это не все.
Одна из вещей, чему должен священник научиться, это — быть при человеке и молчать, и вглядываться, пока Господь Бог ему не откроет нечто или из собственной опытности он не уловит что-то и сможет тогда внести какой-то небольшой вклад. Но именно вклад этой минуты. Не «теперь я тебя понимаю и буду тебя вести», а «теперь я, кажется, понял что-то, что тебе нужно, я с тобой поделюсь тем, что знаю или думаю, будто знаю, а ты бери или не бери». Конечно, в зависимости от того, кто говорит, мы примем его слово с большей или меньшей готовностью исполнять его совет, но, в сущности, очень важно, чтобы священник не думал, будто он может заменить собой Святого Духа. Духовность мы описываем большей частью внешними проявлениями: молитвенностью, теми или другими добродетелями, смирением и т. д. Но в сущности своей духовность — это воздействие Святого Духа на душу человека и отклик с его стороны. Но к сожалению, чем моложе священник, тем больше он «знает», потому что его учили в богословской школе «всему» и он «все знает». Это только потом начинаешь понимать, что ты ничегошеньки не знаешь, так как до тебя не дошло опытно то, о чем ты говоришь.
Молодого священника надо воспитывать так: да, ты получил образование в богословской школе, будь то семинария, будь то академия, но все равно это умственное образование тебя святым не могло сделать. Не воображай, что можешь людей вести от земли на небо… Знаете, когда люди берут проводника в горы, они выбирают человека, который там бывал, знает дорогу, уже проходил ею. А молодой священник, который говорит: «Я получил полное богословское образование, я могу взять человека за руку и привести в Царство Божие» — не прав, потому что он там никогда не бывал. На дискуссии в Троицкой лавре молодой студент мне сказал: «Но разве священник не икона Христа?». Я ему ответил (может быть, грубо, но я подумал: ему нужна встряска): «А ты когда-нибудь задумывался над тем, что такое икона?» — «Да, — говорит, — задумывался». «А я тебе скажу: икона делается иконой, когда она освящена, до того она — дерево и краски. Так пока ты не станешь сосудом Святого Духа, ты дубина, на которой намазана краска». Он, конечно, меня за это не поблагодарил, но это правда. Это может быть неприглядная правда, но я по себе знаю (я тоже священник, и знаю, где мои границы), что никто не имеет права просто так, потому что он понаслышке что-то знает, «вещать» и думать, что другой ниже его.
Я сейчас не имею в виду старчество, разумеется, потому что старчество — совершенно другое дело, это благодатное состояние отдельных избранников, и никто из нас не имеет никакого права воображать себя старцем на том основании, что он может дать умный совет при случае. Сказанное мной относится к явлению, которое в древности и в средние века называли младостарчеством. Это подход молодого, неопытного священника, который из того, чего он начитался, или потому что его так учили, думает, будто он все вопросы может разрешить без личного опыта о Боге и без личного возрастания в святость. Это совсем не говорит, что я отношусь к современной нам Церкви, которой я являюсь живой частью (может быть, вымирающей, но пока живой еще) или к другим священникам с презрением. Я сам сознаю, что я не в состоянии решать вопросы каждого человека. Даже у апостола Павла есть места, где он указывает: это я вам говорю именем Божиим, а это я вам говорю от себя (1 Кор 7:12, 25 и др.). Этот момент мне кажется очень важным в жизни приходов, потому что архиерея вы видите на службе, иногда можете иметь с ним дело, но общаетесь редко, а приходской священник — он-то может действительно скривить вашу духовную жизнь. Я знаю случаи, когда священник с уверенностью говорил то или другое, но с уверенностью, которая происходила от его самоуверенности, а вовсе не от того, что Господь Дух Святой ему открыл глаза на ту или иную нужду человека. Иногда священник должен уметь выслушать человека и сказать: «Мне нечего тебе говорить. Я буду о тебе молиться». И это не унизительно. В жизни святого Амвросия Оптинского есть два случая, когда к нему приходили с вопросами, он в течение двух-трех дней не давал ответа, и вопрошавшие торопили: «Нам же надо домой, у нас промысел, работа, семья, что же ты молчишь?». И он отвечал с грустью: «Три дня я молю Матерь Божию об ответе, Она молчит, — как же я могу тебе ответить?».
Если бы каждый из нас с такой бережностью относился к тому, что он говорит! Можно сказать: «Знаешь, у меня нет ответа, который из моей глубины шел бы к тебе, но я буду о тебе молиться, думать. Если что-нибудь придет мне на мысль или на сердце, я тебе скажу». Или можно сказать: «Знаешь, я именем Божиим тебе ничего не могу сказать, но вот что я вычитал в житиях святых, в Священном Писании. Я повторю, а ты посмотри, пригодно ли это».
А иногда бывает, что даже неопытный священник, потому что человеку нужен ответ, вдруг скажет нечаянно то, что нужно сказать. Я помню, кто-то мне раз сказал: «Ну да, и еретик может правдой обмолвиться».
Если мы посмотрим на историю Церкви — кто были святые? Не только епископы и не только члены духовенства. Некоторые святые были в сане, а некоторые и не были, масса святых были просто миряне — и достигли такой духовной высоты и святости, что из них лился свет Фаворский, они были убедительны тем, что они собой представляли. Есть рассказ из житий святых египетской пустыни о том, как пришли трое к одному старцу в пустыню, и двое ставили ему вопросы, на которые он отвечал, а третий сидел и молчал. И когда беседа кончилась, старец-подвижник ему говорит: «А ты ничего не спросишь?». И тот ответил: «Мне достаточно смотреть на тебя, авва»47. Вот если бы наши священники, включая меня и кого угодно, могли быть такие, что — встретил его, посмотрел и подумал: о! В этом человеке есть что-то, чего у меня нет! Человек, может быть, ничем не выдающийся, но он полон жизни… И вот такими мы должны стать.
Я думаю, что надо принять все это в учет. С другой стороны, судить о священнике только по его жизни или по тому, что ты видишь в его жизни, нельзя, потому что ты видишь внешность. Скажем, ты видишь, что он грешный человек, а ты разве видишь, как он плачется перед Богом, как он страдает о своем падении или о своей слабости? И у меня есть тому очень поразивший меня пример.
У нас был в Париже священник, который отчаянно пил — не все время, но когда запивал, то запивал крепко. Я тогда был старостой, он приходил в храм на службы в таком виде, что качался на ногах, я его ставил в угол и становился перед ним, чтобы он не упал. Мне тогда было лет двадцать с небольшим, у меня понимания было очень мало, мне его было жаль как человека, потому что я его любил, вот и все. Потом случилось так, что нашего приходского священника немцы взяли в тюрьму, и этого пившего священника попросили его заменять. Он тогда бросил пить, он служил. Я к нему пошел на исповедь сразу после того, как его назначили, потому что не к кому было идти. Я шел к нему с мыслью, что я исповедуюсь Богу. Священник, как говорится в увещевании перед исповедью, только свидетель, значит, он будет свидетельствовать перед Богом в день суда о том, что я сделал все, что мог, чтобы сказать правду о своем недостоинстве, о своих грехах. Я начал исповедоваться, и я никогда не переживал исповедь, как в тот день. Он стоял рядом со мной и плакал — не пьяными слезами, а слезами сострадания, в самом сильном смысле сострадания. Он со мной страдал о моей греховности больше, чем я умел страдать, он страдал всем страданием собственной жизни за мою греховность, и он плакал всю исповедь. И когда я кончил, он мне сказал: «Ты знаешь, кто я такой. Я не имею никакого права тебя учить, но вот что я тебе скажу: ты еще молод, в тебе есть еще вся сила жизни, ты все можешь осуществить, если только будешь верен Богу и верен себе. Вот что я тебе должен сказать…» И он мне сказал многое истинное. На этом кончилась исповедь, но я никогда не забыл этого человека и то, как он смог надо мной плакать, будто над мертвецом, будто над человеком, который заслуживает вечного осуждения, если только не исправится.
А впоследствии я совсем иначе стал о нем думать. Он был молодым офицером во время Гражданской войны. Во время отступления войск из Крыма он на военном судне уходил в Константинополь. На другом корабле были его жена и дети, и он видел, как этот корабль потонул. Перед его глазами утонули его дети и жена. Разумеется, люди, ничего не испытавшие подобного, но святоши, могут сказать: «А Иов? Он еще хуже пострадал. Почему этот священник не стал подобен Иову?». Я одному человеку на это ответил: «Ты сначала испытай его горе, а потом будешь о нем судить». С тех пор как я узнал о его трагедии, у меня никогда язык не повернулся осудить его за то, что он запил. Да, горе было такое, ужас был такой, что он не выдержал. Но он остался верен Богу. Он остался священником, вернее, он стал священником для того, чтобы разделить с другими людьми их трагедию, их греховность и покаяние. Дай нам Бог больше таких священников.
И тут, я думаю, и миряне должны играть свою роль. Не надо ставить священника, особенно молодого, на такой пьедестал, чтобы он думал, будто он духовный гений. И надо его поддерживать, чтобы ему не было страшно быть обыкновенным, «полубездарным» священником, если он таков. От священника вы имеете право ожидать, чтобы он благоговейно совершал службы, чтобы он молился за вас и с вами, но рукоположение не дает священнику ни богословского знания, ни различения духов (1 Кор 12:10), ни понимания того, что другой человек переживает, ни способности проповедовать. Это все иное, это может иметь любой человек. Но священнику дана благодать совершать таинства, от него можно их принимать. В остальном, мне кажется, надо больше развивать сотрудничество между мирянами и священниками, чтобы священник не имел тенденции и желания властвовать над уделом Божиим. Потому что миряне могут сделать из священника какого-то псевдостарца: он будет воображать, что он духовник, что он «ведет» и все знает. Я думаю, что должно быть сотрудничество, соработничество. Этому я научился за свою жизнь. Я не хочу сказать, что я лучше кого бы то ни было, просто — я это знаю, и все это мне в суд и в осуждение больше, чем кому-то, кто не знает.
Православная Церковь и женский вопрос [189]
К женской проблеме, к стоящей перед нами необходимостью определить место женщины в Церкви, следует подходить гораздо более глубоко и вдумчиво, чем мы обычно подходим. Эта проблема пришла к нам, так сказать, извне. Мы отзываемся на то, что другие христианские деноминации и вообще люди чувствуют и высказывают. Но мне представляется, что до сих пор Православная Церковь недостаточно задумывалась над этой темой, и когда устами своих представителей она делает категоричные, почти что «непогрешимые» заявления, она очень далека от трезвости и глубины, которые должны бы отличать православие, — особенно если думать о православии в терминах, в каких отец Софроний в разговоре со мной однажды определил православие, сказав: «Кто посмеет назвать себя православным? Быть поистине православным означает знать Бога Таким, Каков Он есть, и поклоняться Ему достойно Его святости».
Церковь, в которой мы живем, одновременно и шире и мельче, чем окружающее ее общество. Ей присуща вся широта и глубина, неповторимость и святость Бога, потому что она — Богочеловеческое общество, общество одновременно и равно Божественное и человеческое. Полнота Божества обитала во Христе (Кол 2:9) и присутствует в Человеке Иисусе. Он — первенец из мертвых всего человечества (Кол 1:18), откровение в Церкви того, чем призван быть человек, то есть человеческое существо до конца и в совершенстве единое с Богом. Также Дух Святой живет в Церкви, является жизнью Церкви и ведет Церковь к полноте истины и ведения. И когда исполнится время, мы призваны во Христе, Единородном Сыне Божием, в единстве с Ним и силой Святого Духа стать по приобщению тем, что Единородный Сын Божий есть по природе.
В этом смысле Церковь так же широка и глубока, как Бог и человек в их совершенстве и человечности. И вместе с тем в Церкви есть ограничение, умаленность, которая — следствие нашей незрелости и того, что мы еще не достигли полной меры возраста Христова (Еф 4:13). Церковь так же велика, как Бог, так же мала, как человечество, она уже содержит все — и вместе с тем еще в становлении; и в этом суть эсхатологической природы Церкви. Все дано, но еще не все воспринято. Все присутствует, но мы слишком малы, чтобы вместить эту полноту, и хотя призвание наше — стать причастниками Божественной природы (2 Пет 1:4), мы еще в становлении, на пути, in via, все еще не in patria. И это так ясно видно из структуры храма, который разделен на две части: алтарь, самое место пребывания Бога, куда никто не может войти, кроме как для совершения священнодействия, и область, где мы все находимся и куда Бог сходит.
В Церкви есть и другая сторона. Мы — малое общество в более обширном обществе. Наш град, наше жительство на небесах (Флп 3:20), но мы посланы Богом быть Его провозвестниками, Его свидетелями, martirion, призваны на земле, в нашей немощи, провозглашать Царство. И мы должны осознавать, что не только по своей греховности, но и по своей незавершенности, потому что мы в становлении, мы — члены обширного человеческого общества и даже больше: всей вселенной, космоса, сотворенного Богом.
У нас есть весть, которую мы должны донести, передать. Но мы также должны вслушиваться всеми силами, со всей глубиной сердца, со всем пониманием и сочувствием, больше того: со всей мудростью, какую дает нам Бог, прислушиваться к тому, что говорит мир о своих нуждах, о своем ви{'}дении, но также о нас. За столетия, прошедшие с начала христианской эпохи, многое постепенно изменялось. Евангелие никогда не было общественным или политическим учением, и тем не менее оно внесло в человеческие отношения понятия, которые взорвали устои прежнего мира. Древний мир знал хозяев и рабов, рабочий скот. Евангелие внесло понятие и понимание человеческой личности — личности, которая имеет окончательное, предельное значение для Бога и, как следствие, должна быть предельно значительна для каждого из нас.
Но вместе с тем Христос и Его апостолы принимали структуры современного им общества — не его предрассудки, но строй жизни. Они не высказывались против рабства как такового. Они не высказывалось о многом, что постепенно было отвергнуто христианским обществом. Таким образом, место, положение женщины в Церкви в большой мере и часто очень драматично отражает положение женщины в нецерковном обществе. Положение женщины в Церкви веками отражало все предрассудки светского, языческого, нехристианского мира. Здесь говорилось о Святой Троице как о парадигме человеческого существования: единство во множественности. Когда Бог говорит: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию (Быт 1:26), и творит человека, anthropos, мужчину и женщину, не провозглашает ли Он тем самым, что в нем нет различия, которое можно было бы определить как мужское и женское? И напротив, что в нем есть тайна того, что можно назвать мужским и женским началом: то, что мы называем мужчиной и женщиной не в опыте падшего мира, а в онтологическом смысле, здесь присутствует вместе.
Бесполезно, думаю, пытаться определять в Боге мужское и женское начало так, как исходя из наших предрассудков или нашего опыта мы приписываем некоторые свойства женщине, а некоторые — мужчине. Самый поразительный пример можно взять из немецкого языка. Слово Mut мужского рода, оно значит mood, в расширительном значении condition, состояние. Но производные от него делятся на мужские и женские, в зависимости от того, что считается мужским или женским свойством. Demut, смирение, — женского рода, Hochmut, гордость, — мужского. И если взять все производные от Mut, мы видим то же различие. Но это различие нельзя проецировать на Бога, в Боге нет места для такого подхода. И значит, нам следует быть осторожными, потому что это предостережение нам о том, что мы даем определения понятиям исходя из общественной, предвзятой перспективы.
Если посмотреть на начало книги Бытия, мы видим: да, человек был создан по образу Божию, как единство во множественности. Мы видим также, что случается далее. Многие христианские писатели древности видят в создании человека, Адама сотворение не мужчины, а человека —anthropos, Mensch. По их мнению (сейчас нет времени приводить примеры), человек, сотворенный из земли, содержит в себе потенциально все свойства мужского и женского начала. И по мере того как человек возрастает от полной невинности во все большую зрелость, эти свойства развиваются и должны быть разделены, чтобы не создавать смешения, а вырастать в собственную полноту и совершенство.
Адам встречает все прочие твари и всем дает имена. В этот момент он дает им не просто «названия», которые удобны, чтобы на словах различать одно создание от другого. То имя, которое он дает, определяет самое содержание, полностью совпадает с сутью каждого существа. В еврейской мысли имя и его носитель совпадают точно, полностью, до конца. Поэтому-то нам и говорится, что когда придет время и все исполнится, каждый из нас получит от Бога имя, которого никто не знает, кроме Бога и того, кто получает его, имя, которое до конца выражает тайну личности, известную только Богу и, в приобщенности Богу, тому, кто его получает (Откр 2:17).
И в момент, когда Адам в чистоте своего сердца, из приобщенности своей Богу, зная мир в Боге и только через Него, произносит это имя, он обнаруживает, что только сам, только он один не имеет как бы напарника. Я не говорю «свою противоположность», потому что речь идет не различии — именно товарища, спутника. Тут видно, что Адам достиг своей зрелости, и Бог разделяет его на мужчину и женщину.
Переводы Библии так часто говорят, что Бог взял
ребро Адама (Быт 2:21). Еврейский текст позволяет другие переводы, и раввинистический перевод на французский язык вместо ребра, côte говорит о côté,
стороне[190]. Бог не отделил ребро, а разделил две стороны, две половины, женское и мужское. И действительно, когда читаешь текст по-еврейски, ясно становится,
что говорит Адам, когда лицом к лицу встречается с Евой. Он восклицает: она жена, потому что я муж (Быт 2:23). По-еврейски это звучит:
иш и
иша, то же слово в мужском и женском роде. Они вместе составляют человека, и они видят друг друга в новом богатстве, в новой возможности перерастать то, что уже дано, в новую полноту.
И это место очень важно, мне думается, потому что когда Ева возникает из Адама, он смотрит на нее и узнает в ней себя самого — вместе узнает в ней полную, совершенную инаковость. И она узнает в нем самую себя и вместе то другое, что делает их двумя в одном, как две половины одной реальности. И это возможно, потому что они смотрят друг на друга по существу, а не поверхностно, внешне.
Чуть позже случится еще нечто. С ними, с Евой заговорит змей и подскажет, что есть другая возможность познания. Кроме познания, которое по-французски называется simple regard, непосредственное восприятие, которое можно иметь только в Боге, которым можно обладать лишь в приобщенности Богу, есть другая форма познания: через наблюдение, через исследование, не внутренним познанием, а внешним, в попытке извне дойти как можно дальше вглубь. Ева соблазнилась, и в то же искушение впал Адам. И тут начинается долгий период: человеческая история, когда возможность непосредственного восприятия хотя не отнята окончательно у человека, но наряду с этим зрением, затуманенным и умаленным, появляется тот поиск, который мы называем знанием, наукой, который в конечном итоге — и это можно видеть сегодня, когда изучаешь физику, — постепенно ведет нас к точке, где математика и физика становятся делом прозрения, образного мышления, а не простого наблюдения за фактами и их исследования.
Ив этот момент Адам и Ева, по слову одного из отцов (сейчас не могу вспомнить его имя), обнаруживают друг во друге уже не alter ego, «другого себя самого», но каждый видит себя как ego, а второй становится alter, «другой». Он отличается по контрасту, по противоположению и становится порой предметом неприятия или, напротив, влечения. И это опять же отмечено в книге Бытия, когда Бог говорит Еве: К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой (Быт 1:16). В этот момент во взаимоотношении между мужчиной и женщиной возникают как бы два потока: с одной стороны, славная линия, которая постепенно ведет ввысь и достигнет кульминации в лице Божией Матери, и другая линия: то, что можно, увы, назвать, естественным человечеством, человечеством земным: Адам значит «земля», Ева того же корня, что «жизнь». Они соединены, и тем не менее не могут достичь того единства, которое предназначил им Бог, потому что это единство по образу Святой Троицы может быть достигнуто только в Боге и изнутри приобщенности Ему.
Но что происходит между мужчиной и женщиной в этот период? Один властвует, другая испытывает желание, влечение. Когда Библия говорит о «влечении», речь не идет, вероятно, просто о физическом вожделении. Это тоска по восстановлению единства, стремление, которое сломлено и неосуществимо, оно не может подняться до заданного уровня и стремится любыми средствами создавать это единство, близость. И мужчина также устремлен к женщине томлением, желанием быть главным, господствовать, властвовать. И вся история мужчины и женщины на протяжении Библии и окружающей библейскую традицию такова: две разделенные половины стремятся воссоздать потерянное единство, тоскуют по нему — и не могут достичь его на своем теперешнем уровне. И тем самым создается новое взаимоотношение, тоска на новом уровне: устремленность становится вожделением, перерастает в желание обладать, вырождается в властность, господство. Это новое устремление, призыв, нежность в сочетании с подчиненностью (вместо взаимной равной отдачи себя, что мы видим во Святой Троице) — это взаимоотношение нарушенного равновесия, которое позволяет двум половинам не распасться ценой глубоко трагичной поврежденности и природы, и взаимоотношения между мужчиной и женщиной.
Этот поток устремленности не только, не исключительно к человеческим отношениям, к осуществлению потерянного рая, но к корням, истокам жизни, к самому источнику жизни — к Богу, это смешение святости и греха, смешение верности Богу и хрупкости (об этом говорит апостол Павел, когда пишет, что в себе самом ощущает два закона: закон жизни и закон смерти, закон духа и закон плоти, закон тления и закон вечности — Рим 7:18—25). И в этих сумерках свет все сгущался и достиг кульминации в Матери Божией, Которая — итог всей тоски, устремленности, всего поиска и также верности, открытости Богу всех поколений, которые были до Нее.
Задумаемся немного о Божией Матери. Матерь Божия приведена в Храм в младенчестве. Не так важно, исторический ли это факт или символический рассказ. В канонических писаниях об этом событии не говорится, это рассказ из апокрифических евангелий, но это событие стало одним из великих церковных праздников и запечатлено в иконографии Божией Матери. Что означает это событие? Оно означает, что с ранних лет Дева Мария была приведена родителями в Святое Святых, в Присутствие. И там вестники Божии, ангелы питали Ее Божественным знанием в Ее состоянии полной открытости, не замутненного ничем созерцания. И внутри этого покоя, полной отдачи Себя, но также перед лицом безграничного, совершенного, смиренного дара Божия Своей твари Она достигает зрелости. И совершается Благовещение. Ей возвещено, что Она станет Матерью Сына Божия (Лк 1:26—38). Ее девство абсолютно существенно, потому что Христос становится человеком по Ее человечеству и является Богом по Своему Божественному Сыновству. Он Бог не по усыновлению, Он — Бог, ставший человеком, Он обладает двумя природами. И когда мы видим на Литургии жертвенного Агнца, мы в каком-то смысле видим человечество Божией Матери, воспринятое Сыном Божиим. Вот почему, думаю, после освящения святых Даров мы поем песнь Богородице: «Достойно есть яко воистину…»
Так что Воплощение — не одностороннее действие Божие, это действие совершенной взаимной открытости. Чарльз Уильямс говорит в одном из своих романов, что когда пришло время, Дева израильская оказалась способна произнести Священное Имя Божие всем умом и всем сердцем, и всей плотью, всем Своим существом; и Бог стал плотью
[191]. Слово стало плотью, Бог стал человеком. Да, если вспомнить то, что я говорил о имени, то вот что случилось. Она настолько совершенно открылась Богу, что могла произнести это Имя, и это Имя, это Слово стало плотью. Святой Григорий Палама в одной из своих проповедей говорит, что воплощение было бы так же невозможно без соизволения Божией Матери, как оно было невозможно без воли Небесного Отца. Есть полная взаимность, как бы равенство во взаимоотношениях. То, что было сказано о Моисее — что Бог говорил с ним, беседуя лицом к лицу, как с другом (Исх 33:11), здесь осуществляется еще гораздо полнее. Здесь соотношение, от которого дух захватывает, равенство, перед которым немеешь — так оно таинственно, в обоих значениях этого слова: таи{'}нственно и та{'}инственно.
И далее мы видим в Ней Ту, Которая поверила. Вы, верно, помните определение 11-й главы Послания к евреям: вера — уверенность в вещах невидимых (Евр 11:1). Годы, проведенные во Святая Святых, годы молитвы, общения, непосредственного ви{'}дения — эта уверенность осталась с Ней на всю жизнь. И эта уверенность — не только по слову ангела, не только потому что Она знала, Кого носит в утробе и могла узнать Его после рождения, — все это позволило Ей на браке в Кане Галилейской узнать в Нем Бога, Того, Кто может превратить воду в вино, превратить обыденность жизни в чудо Царствия (Ин 2:1—12).
Но есть и еще нечто в Божией Матери, на что я хочу обратить ваше внимание, потому что, как мне кажется, это никогда не отмечается. Может быть, я ошибаюсь, но я это переживаю очень глубоко и сильно. Два события я хотел бы свести вместе: сретение Христа в Храме и Его распятие.
Мы знаем из писаний апостольских о всеобщем священстве всех верующих (1 Пет 2:9). И когда мы задаемся вопросом: какова связь этого всеобщего священства со священством установленным, иерархическим, в чем четкое отличие одного от другого? — мне кажется, можно ответить, что всеобщее священство состоит в призвании всех тех, кто принадлежит Самому Христу, кто через крещение стал Христовым, облекся во Христа, является воплощенным Христовым присутствием, как бы ни был сам несовершенен и еще в становлении на земле (каковы все мы) освящать этот мир, делать его священным и святым, приносить его как приношение Богу, чтобы он принадлежал Богу в самом полном смысле этого слова. Это служение состоит в первую очередь в том, чтобы приносить Богу собственную душу и тело, как живую жертву Богу, и в этом приношении себя самого приносить все, что наше, не только чувства, и душу, и мысли, и волю, и все тело, но все, что мы делаем, все, чего касаемся, все, что нам принадлежит, все, что мы можем своей властью освободить от рабства сатане, — действием собственной верности вернуть Богу, чтобы оно стало областью Божией, kiriakon.
Но есть иное священнослужение, когда священник в единении со Христом приносит бескровную жертву, и эта бескровная жертва — Сам Христос. И вот что повергает в ужас: когда священник приготавливает агнец и крестообразно надрезает его, и произносит слова: Жрется(приносится в жертву) Агнец Божий, если одновременно с жертвой, принесенной Сыном Божиим по любви, он не приносит в жертву себя самого, он не первосвященник, каким призван быть в Единственном Первосвященнике, он — один из тех, кто убил Христа на Голгофе.
И меня поражает до глубин вот что: Матерь Божия, согласно Евангелию, выполнила эти два служения. С одной стороны, Она приносит Себя душой и телом, жизнью и смертью, всем существом, в живую жертву, в совершенное приношение Богу, чтобы принадлежать Ему беспредельно, неограниченно. Но вместе с тем дважды Она Воплощенного Сына Божия, Агнца Божия, закланного до сложения мира, приносит в жертву Богу действием священническим, подлинно действием священнослужения.
Первый раз — это приношение Христа в Храм в день сретения (Лк 2:22—38). Вы помните, на чем основан это обычай. После исхода Бог повелел Моисею установить закон, согласно которому перворожденный мальчик в каждой еврейской семье должен быть принесен Богу как бы взамен, в искупление за смерть всех первенцев египетских, которые погибли, чтобы этот ужас принудил фараона отпустить на свободу еврейский народ (Исх 13:1). Каждый перворожденный ребенок мужского пола приносился Богу, и Бог получал над ним право жизни и смерти. И смерть приходила, да, не к каждому из этих детей, но к жертве, которую приносили вместо них, — агнец или голуби. Один, только один раз за всю историю Бог принял в кровавую жертву Младенца, принесенного в храм: это был Его собственный Единородный Сын, родившийся от Девы. Смерть не наступила сразу, но Бог принял этого Младенца на смерть. Она наступит, когда этот Ребенок возрастет в полноту Своего человечества и в Своем крещении на берегу Иордана возьмет на Себя свободной волей и в послушании Отцу все последствия человеческого греха и нашей смертности.
И во второй раз Божия Матерь исполняет это приношение Своего единственного Сына, Который — Сын Божий Единородный, как высшую жертву — на Голгофе. Христос, Первосвященник всей твари, и Матерь Божия вместе с Ним приносит жертву действием, которое мне представляется подлинно актом священнического служения, не просто проявлением всеобщего священства всех христиан, которое тоже совершается в пределах Церкви. Потому что в Церкви таинство совершается не одним священником. Не священник только приносит хлеб и вино, бескровную жертву, а вся церковная община, которой он священник во имя Божие и предстательствует перед Богом.
Я хотел бы еще на миг задержаться на этом понятии всеобщего священства. Мы призваны быть удивительным народом, уникальным, непохожим ни на кого, народом, подобным которому нет на земле. Потому что мы на земле, в мире, но не от мира, потому что крещением, верой, избранием и призванием Божиим и нашим ответом на него мы принадлежим небу. Мы призваны, подобно Христу, в Нем быть Царями и Священниками и Пророками.
И что мы видим в Божией Матери? Ее Сын, Христос отдает жизнь за Свой народ, за Свое творение, за Своих братий по человечеству. Но и Божия Матерь приносит Его, умирает с Ним. Ее сердце пронзает меч. И Она становится Царицей небесной, нашей Царицей на тех же основаниях, по той же причине. О священстве Божией Матери я уже сказал, как воспринимаю его. Но Она исполняет, возможно, совершенно неповторимым образом пророческое служение, которое тоже принадлежит нам и которое в высшей степени принадлежит Богу во Христе. Кто-то из пророков говорит, что пророк — тот, с кем Бог делится Своими мыслями (Ам 3:7). Бог прорек на Фаворской горе: Это Сын Мой возлюбленный, Того послушайте (Мк 9:7). И на браке в Кане Галилейской Матерь Божия обращается к слугам, а через них — ко всем нам, и произносит: что бы Он вам ни сказал, то сотворите (Ин 2:5). Потому что Она узнала и несомненно знает, что Он — Единородный Сын Божий, ставший человеком в Ней.
В заключение скажу, что нам следует глубоко задумываться о Матери Божией. Она поистине ответ всего тварного мира на любовь Божию. Она — любовь, которую земля принесла Богу. Она — тварное существо, которое приносит себя, отдает себя в акте совершенной любви (асовершенная любовь изгоняет страх — 1 Ин 4:18) и действием совершенной взаимности устанавливает равенство, повергающее в благоговейный страх и ужас, равенство между небом и землей, между Богом и Его тварью.
Но Она также Матерь Божия. Она в каком-то смысле едина с Богом, как и мы призваны быть едины с Ним во Христе, когда Бог будет все во всем (1 Кор 15:28), когда вся вселенная будет пронизана Божеством, когда ничего не останется вне славы Божией, сияющей в обоженной твари. Нам следует многое продумывать, и в этом нет ничего странного. Три века, даже больше понадобилось Церкви, чтобы четко выразить учение о Троице. И продолжаются попытки не только понять его еще глубже в таинстве приобщения, но также и выразить словесно, чтобы иметь возможность передавать это учение. Еще больше столетий ушло на то, чтобы на Пятом Вселенском соборе провозгласить подобающее Божией Матери место в таинстве спасения. Она всегда имела это место, но Церковь не сразу провозгласила его с полной ясностью. Еще больше времени ушло, вплоть до IX века, пока Церковь сформулировала нашу веру в иконы в связи с Воплощением.
Мы живем в период времени, когда все глубже погружаемся в тайну Церкви, стараемся приоткрыть эту тайну не на интеллектуальном уровне, а опытно, в таинстве приобщения. Потому что мы стоим перед фактом, что Церковь едина — и вместе с тем разделена, может быть (дерзну провести аналогию), по образу того, как священник произносит:
Агнец Божий раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогдаже иждиваемый[192]. Мы стоим перед парадоксом Христа живого, Духа Святого, действующего во всем христианском мире — но и за его пределами во всей вселенной, во всем языческом и секулярном мире. Мы идем ощупью, мы ищем, как можно выразить это без компромисса и с полной истиной.
И мне кажется, пора нам в отношении тайны мужчины и женщины, мужеского и женского начала, того, чем мы подлинно, онтологически являемся, а не того, что можно наблюдать в искаженном, падшем мире, подвести эти два начала к тайне Святой Троицы и понять, чем является мужчина и женщина, через созерцательное углубление в Святую Троицу. Вот наша задача. Она не будет решена в нашем поколении, но ею до{'}лжно заниматься, ей надо смотреть в лицо. Четырнадцать веков прошло, пока Григорий Палама провозгласил различие между природой и энергиями в Боге. Наши тринитарные представления до сих пор — и тайна, и предмет богословского раскрытия, откровения. Только отталкиваясь от тайны Святой Троицы, от Троичной реальности, а не от взаимоотношений, существующих в нашем падшем мире, мы сможем понять, что такое мужчина, что такое женщина. И да поможет нам Бог не делать «непогрешимых», односторонних, предвзятых, незрелых заявлений перед лицом секулярного мира, языческого мира или наших братьев во Христе, из-за того что мы говорим много раньше, чем начали думать.
Ответы на вопросы
Вы сказали, что принесение Матерью Божией Ее Сына в храм представляется вам истинно священнодействием, выходящим за рамки священства всех верующих. Можете ли сказать подробнее о том, какие выводы можно сделать из этого в отношении женского священства?
Я читал все или большую часть того, что было написано за или против рукоположения женщин, и думаю, что все за и все против в равной мере совершенно неубедительны, абсолютно все. Потому что на любую цитату против, при достаточном знании Священного Писания, всегда можно найти цитату за. Думаю, такая игра цитатами безнадежна. Если опыт всей Церкви и наш личный опыт ничего не дал нам, кроме отрывков рукописей или печатного текста, этого недостаточно. Отсылка к Преданию тоже представляется мне совершенно недостаточной. Предание не есть слово Божие, открытое Христом или апостолами, Предание выросло как знание и опыт Церкви. Но Предание, которое мы не можем ничем обосновать, мне не убедительно. Если человек говорит: «Я так верю, но у меня нет никакого ключа к этому убеждению», — простите, такими доводами нельзя пользоваться.
В результате я должен сказать, что мы, в Православной Церкви, сейчас должны бы ставить вопросы по существу, а не играть в такие вещи, как мытье полов или писание икон, не должны даже говорить, что можно восстановить чин диаконисс — это, мол, придаст почетности уборщицам в храме, но не даст им права совершать что бы то ни было в области священнодействий. Я убежден, что мы должны вдумываться в эту проблему всеми силами ума, с полным знанием Писания и Предания, и найти ответ. Ответ может быть в ту или другую сторону, но пока что мы даем ответы, вовсе не продумав их. С практической точки зрения, я бы сказал, что знаю целый ряд женщин, которые были бы гораздо лучшими священниками, чем их мужья. И я думаю, что ни то, что я сказал сейчас, ни все, что уже было напечатано, недостаточно. Православная Церковь должна начать задумываться и прийти к какого-то рода выводам, а не начинать с выводов, избегая всякого продумывания.
Еще несколько отрывочных замечаний. Во-первых, на Западе гораздо сильнее, чем на Востоке, ощущение, что быть священником — это некий статус. А потому если женщины должны иметь равные права с мужчинами, что совершенно законно на всех уровнях, они должны иметь доступ к священству из-за такой «статусной» ценности священства. Думаю, очень полезно припомнить слова апостола Павла: страшно впасть в руки Бога Живого (Евр 10:31). И я помню слова Арского кюре: «Если бы я знал, что такое священник, я убежал бы как можно дальше от семинарии, чтобы не стать им». Потому что священство — состояние, исполненное такого страха, что вожделеть его невозможно. Его можно принять почти что со священным трепетом, ужасом, и следовательно, сан священника — не предмет статуса, разве что мы низводим священство на уровень неквалифицированной общественной работы и проповеди и своего рода «христианского социального служения». Но если священник — то, чем он действительно должен быть, если он отождествляется со Христом в Его страсти и смерти и принимает все это, тогда, думаю, мужчина и женщина равно должны бежать от этого служения, как бежишь от огня. Это сознание, мне кажется, потеряно до такой степени, что страшно делается.
Женщины менее, чем мужчины, подвержены страсти играть в солдатики. В тот момент, как мужчина надел стихарь или любой другой видимый признак своего положения, он готов исполнять свое служение. Оглядитесь-ка вокруг: почти одни женщины. Где мужчины? Я не говорю о духовенстве, оно — полумужчины-полуженщины: мы носим длинное платье и для своей паствы мы «мать», как говорил святой Серафим Саровский, так что мы не в счет. А если объявить, что будет мужское собрание тех, кто хочет стать дьяконом, священником, епископом и т. д. — зал будет полон: лишь бы иметь уверенность, что получишь какой-то видимый знак отличия, «форму». С этим надо бороться, и я думаю, что женщины, матери могли бы сказать своим детям: берегитесь, чтобы не вырасти существами, которые всю жизнь до старости играют в солдатики. И все равно они и тогда — дряхлые солдатики.
Второе относится к женам священников. Дело жены священника очень и очень серьезное и важное, которое можно возвести к тайне Матери Божией. Положение жены священника до конца жертвенное. Муж не имеет права поделиться с ней тем, что составляет самую суть его существа. Он не может поделиться тем, что слышит в доверительном разговоре, на исповеди, не может поделиться тем, что питает его душу, его жизнь. И жена должна быть готова настолько уходить в тень, настолько смиренно принимать — не в смысле «вытерпеть», но с благоговением относиться к этой связи между человеческой душой и священником, так же как — разумеется, mutates mutandi — Иоанн Предтеча был другом Жениха(Ин 3:29). Его радость была в том, что жених и невеста вместе, он приводил их к встрече и оберегал их встречу в своего рода молчаливом, благоговейном созерцании. Вот ее, жены священника, дело. У меня сейчас нет времени говорить о других аспектах функций жены священника, но это нечто очень великое, что должны сознавать священник, и его жена, и миряне.
Мужчина и женщина в тварном мире [193]
I
За минувшие десятилетия тема мужчины и женщины становилась все более насущной, и не только потому что был сделан целый ряд громогласных высказываний о положении женщины в Церкви и в обществе, но и потому что христианские взгляды все расширялись и углублялись, и проблемы, которых не существовало столетие назад, вышли на передний план. Они не только навязаны христианскому сознанию обстоятельствами, но вырастают из самого христианского сознания. Самые разные группы людей подняли эту тему и в секулярном мире, и в Церкви.
Очень многое было сказано и написано о мужчине, о женщине, об их взаимоотношении, но полного согласия не было достигнуто и в отдельных деноминациях, даже в тех, в которых меньше всего предвзятости и которые свободнее других могли выбрать ту или другую линию. За минувшие десятилетия высказывалась и Православная Церковь, она высказывалась с большой уверенностью и без каких-либо оснований будь то для своей уверенности, будь то для своих утверждений. Вот почему я особенно заинтересовался этой темой и почувствовал, что хочу ее продумать, не потому что я ожидаю от себя чего-либо нового или чего-либо более верного, но для того, чтобы поднять вопросы. У нас имеется два особенно прискорбных документа, и когда я называю их прискорбными, я имею в виду — с моей точки зрения. Это — книга, выпущенная отцом Фомой Хопко в Америке
[194], и еще хуже — документы и заключения Родосской конференции, которая состоялась несколько месяцев тому назад
[195]. Оба текста носят утвердительный характер, ясны, и их самоуверенность объяснима, по-моему, только отсутствием мысли.
Так что мне кажется, что мы все должны думать, вчитываться в Библию, вглядываться в историю Церкви, вглядываться в контекст истории Церкви в секулярном мире, стараться ясно различать, что влияло на христианскую общину в различные эпохи. Потому что Церковь является одновременно организмом, в котором живет Бог, действует Дух Святой, но также и организмом, состоящим из людей, мужчин и женщин, которые глубоко вкоренены в общество, в историю, в свою эпоху, и поэтому на них влияет множество факторов помимо действия Святого Духа или положений Священного Писания.
И вот я хотел бы пройти с вами несколько этапов. Многие из вас, вероятно, прошли куда дальше, знают больше об этой теме, но я хочу поделиться тем, к чему сам пришел. Для начала я хотел бы сегодня говорить просто о начальных стадиях книги Бытия, о творении, и посмотреть, как Бог относится к тому, что Он вызвал в бытие, каковы соотношения человека с остальным тварным миром, с Богом и с самим собой.
Первая строчка книги Бытия ставит нас по существу лицом к лицу с актом творения: В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою (Быт 1:1—2). В каком-то смысле в этом — вся история творения. Это первоначальное действие Божие, которое вызывает из небытия то, чего не было, чего вообще не существовало. Последующие описания в первой главе Книги Бытия относятся к оформлению первозданной материи, которую Бог призвал к бытию.
Когда мы читаем этот отрывок, мы должны видеть, что в начале, то есть в момент, когда что-то возникло из небытия — и это является началом времени, потому что тут начало чего-то нового и начало перемены, — Бог призвал к существованию все, что пришло в бытие и что постепенно будет эволюционировать, развиваться и возникать. Слова, которые здесь употреблены, кажутся очень статичными: Земля же была безвидна и пуста. Их переводили различно, среди переводов два слова привлекли мое внимание. Одно из них — «хаос», момент, когда Бог призвал к бытию то, что должно было быть и стать миром, каким мы его знаем, и даже миром, которого мы больше не знаем; и в тот момент этот мир не имеет формы. Он весь — возможность. Он весь как бы в будущем, а не только в становлении. Мир готов к тому, чтобы начать принимать форму./p>
Слово «хаос» может означать две вещи. На нашем обиходном языке, в современном словоупотреблении «хаос» означает беспорядок. Когда мы думаем о хаосе, мы думаем о результатах разрушения, о хаотическом состоянии общества, о результате урагана, землетрясения, о чем-то, что было гармонией и перестало быть гармонией, стало бесформенным, беспорядочным, о чем-то, что стало меньше того, чем было в начале. Но хаос может означать нечто другое. Хаос может быть массой материала или положением, при котором вещи все еще в спящем состоянии: они потенциально существуют, но еще не начали возникать и становиться космосом — а «космос» означает: красота, устроенность, форма. И это — хаос начала, первобытная материя, куда заложены все возможности, о которых мы знаем, и все возможности, которые даже не могут нам помечтаться и которые постепенно будут призваны Богом или, тоже постепенно, будут возникать согласно внутреннему закону существования, также Богом заложенному в этот хаос. Выражаясь современным языком — своего рода ДНК, которая обусловливает движение всего, чего еще нет, к тому, чем оно призвано быть, к полноте того, чем оно может стать.
Другими словами, можно сказать, что у Бога изначала было ви{'}дение всей твари, ви{'}дение первобытной материи, которая как бы содержит все, что может быть: не только мир до падения, до того, как грех, смертность, разрушение пришли в мир, не только мир, каким мы его знаем — мир сумеречный, мир страдания, боли, горя, греха, зла и смертности, но тоже и мир, о котором мы не можем сказать ничего. Его только можно ожидать, ждать с надеждой, с трепетным сердцем, как того момента, когда, по слову апостола Павла, Бог будет все во всем (1 Кор 15:28). Когда вещи, призванные Богом потенциально к бытию, еще не оформленные, но сотворенные как возможность, станут славным одеянием Божиим, телом Бога, Который Сам останется недосягаемым, непостижимым, таинственным и, однако, исполняющим все Своим присутствием, подобно тому как полнота Божества пребывала в теле воплощенного Сына Божия, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, подлинного и совершенного Человека, не больше и не меньше, Человека в полноте его возможностей.
Вот хаос, который имеется в виду, — не беспорядок, но матрица всех возможностей. Есть выражение, которое я нашел в переводе начала книги Бытия Мартином Бубером: вместо того чтобы употребить слова
безвидная и пустая, он говорит, что она Wirrsinn. Самое звучание слова дает ощущение движения, это не статическая масса возможностей, это как бы вихрь возможностей. Хаос динамичен, в движении, творчески движется с первого мгновения своего существования. Я знаю, что характер словоупотребления относится скорее к области поэзии, чем прямого и строгого мышления, но есть слова, вызывающие ассоциации, и слово Wirrsinn не напоминает ли нам о Big Bang — первичном взрыве, о котором говорят в наши дни
[196]: момент, когда Бог сказал: «Иди», «Приди», мгновение, когда Бог сказал: «Будь» —Fiat латинских переводов. Тогда сущее возникло не каким-то пассивным образом, как бы лениво проистекая из слова Божия, но будто вся мысль Божия, все ви{'}дение Божие, все, что Он возмечтал и задумал о сотворенном мире, внезапно вспыхнуло в бытие и находится тут, полное возможностей, содержа все будущее, уже как бы обладая эсхатологическим свойством. Потому что
to escaton имеет два значения: оно обозначает окончание, то, что случится в конце, но оно тоже значит нечто решающее. Этот творческий клич Бога, этот творческий призыв Бога был Его решающим действием. В этом действии была вся сила, весь огонь, вся мощь, но и вся Божественная любовь, которая привела все существующее в бытие. Это нечто чрезвычайно важное в первичном действии творения. Бог не принуждает мир к бытию. Он не творит мир для того, чтобы господствовать над ним, обладать им, Он творит мир для того, чтобы дать ему все, что у Него есть, чтобы дать Самого Себя и привести этот мир к общению с Собой, приобщить Своей жизни — опять-таки по апостольскому слову. Это было сказано о человеке, но за пределом человека слова эти относятся ко всему творению. Это действие самоотдачи, излияния Себя.
И если подумать о том, как в этот момент Бог и Его твари (вернее, Его творение, потому что тварей конкретно еще нет) соотносятся, это акт Божественной любви, которая во внезапном возгласе ликования рождает целый мир возможностей. И все, возникающее из небытия, оказывается лицом к лицу с Божественной любовью, с любовью такой великой, такой свободной от самости, что она готова излить себя в творение, дать себя. Можно сказать, что тварный мир в этот момент уже содержал все ви{'}дение его Богом. Можно сказать, что вся Божественная мудрость, находившаяся и находящаяся в основе творения, содержится этой первозданной материей. И в этом смысле можно вспомнить ви{'}дение отцом Сергием Булгаковым Божественной Премудрости как той, кто вызывает в бытие мир и сливается с ним как мудрость (я намеренно употребил слово ДНК как силу, которая сформирует, устроит, приведет в бытие все вещи и приведет их постепенно к полноте их совершенства) уже здесь. Это первый момент.
Но тут начинается второй период творческого действия, период, когда Бог из этой неизмеримой многосложности, из этого хаоса, чреватого всеми возможностями, ведомыми и неведомыми человеку, начинает вызывать одну форму существования за другой. В начале нам говорится, что тьма была над бездной (Быт 1:2). Тьма не означает только отсутствие света, она означает также отсутствие формы. Ее пока еще нет. Дух Божий носится над бездной, так же как можно себе представить существо, носимое в утробе: оно в темноте и постепенно оформляется, развивается. А однажды оно возникнет на свет — в свет материальный и одновременно или, может быть, раньше того, в свет Божественный и под осенение Духа Божия, носящегося над ним.
И день за днем дает нам видеть, как из первичного хаоса начинают возникать новые и новые возможности. В наше время никто не наивен настолько, чтобы говорить о днях творения как о «днях» в том смысле, как мы говорим о сутках, хотя бы потому, что солнце и луна не были созданы в первый день, и поэтому невозможно было считать первые дни во множественном числе согласно движению луны или солнца. Но в этом отрывке интересно то, что одна тварь возникает из другой, вслед за другой, и когда она возникает, нам говорится: и был вечер и был свет, было утро (Быт 1:5 и др.). То, что было светом первого дня, в сравнении с возрастающим сиянием, блеском следующего дня кажется полумраком, темнотой. Это движение постепенного раскрытия творения, в котором каждая стадия совершенна, и вместе с этим по сравнению со следующей представляется неполной. Это только шаг вперед, движение ввысь, новое раскрытие в том же смысле, в каком можно говорить о цветке, который зачинается в семени, становится ростком, затем стеблем, затем бутоном и наконец раскрывается в славе. Так же раскрываются эти дни. Каждый момент совершенен, и вместе с тем по сравнению с последующим он несовершенный или, вернее сказать, находит свое свершение в следующем движении, так же как зерно осуществлено в ростке, росток осуществлен в стебле, стебель — в бутоне, бутон в цветке, раскрытом в совершенстве, в славе. Нет момента, когда можно сказать «это было меньше», хотя можно сказать «мы никогда не подозревали в том, что увидели сначала, всю славу, все великолепие того, чем оно стало позже».
Мы еще к этому вернемся, потому что это в точности приложимо к родословной Христа. В двух Евангелиях (Мф 1:1—17; Лк 3:23—38) мы находим описание человеческих поколений, из которых постепенно, через взлеты и падения, но только потому что они все целеустремленно движутся к Богу со всей своей тоской, происходит в конечном итоге невероятное исполнение, каким является Матерь Божия, и совершенное процветшее эсхатологическое явление, конечная победа, которая есть Христос. Он — воплотившийся Бог, ставший человеком, и человек, соединенный с Богом нераздельно, навсегда, в такой степени совершенства — и это слова святого Иоанна Златоустого, — что когда мы спрашиваем себя: что же есть человек? — нам не надо смотреть на престолы царские или княжеские, но надо поднять очи к престолу Божию, и там мы увидим Человека, восседающего по правую руку Силы и Славы. То же движение, то же постепенное продвижение, в котором каждая стадия совершенна в той степени, в какой она может быть совершенной, и находит исполнение в следующей, пока не найдет всецелого, всеконечного исполнения эсхатологической славы, когда конец есть точка во времени и конец в смысле цели.
И затем приходит момент, когда все твари созданы. Можете сами посмотреть в Библии названия и стадии, читать их сейчас, погружаться в них ничего нам не даст. Для меня, во всяком случае, важно то, что я сказал об этом постепенном развертывании, этом постепенном движении от славы в славу, и то, что каждая стадия достигает свершения в последующей стадии.
А когда мы приходим к сотворению человека, мы недостаточно озадачены им, потому что обычно видим в нем просто следующую стадию развития. Если мы верим в эволюцию, то это, да, следующая стадия эволюции. Если мы не верим в эволюцию, но только в творческие действия Божии, то можно воспринять это иным образом. Помню, когда мне было 17 лет, я прочитал маленькую брошюру, написанную английским протестантом по имени Смит (это все, что я о нем знаю), где он старался показать, что идея последовательных актов творения и эволюция не противоречат друг другу в том смысле, что вещи не перетекали просто и гладко из одной в другую. Местами имеется определенная дарвиновская эволюция. Имеется также не-дарвиновская эволюция, когда вещи развиваются вопреки тому, что мы ожидаем. Имеются также ламарковские скачки{'} из одной стадии, из одной ситуации в другую. И он говорит, что всякий, кто смотрит на один из больших современных пароходов, может сказать: это же эволюция — все пароходы родились от первоначальной маленькой лодки, которую первые дикари выдолбили из ствола дерева. Лодка сначала была пустой, и первобытный человек греб руками, потом он придумал весла. Потом выросла мачта и появились крылья, которые оказались парусами. И вещи продолжали меняться. Огонь коснулся лодки, и она стала пароходом. Можно вполне себе представить, что современные океанские лайнеры — новейший результат естественной эволюции первой лодки. В то же время мы прекрасно знаем, что не обошлось без разума, без человеческого мозга. И тогда мы легко можем себе представить, что, хотя мы и наблюдаем эту последовательность стадий, Бог все время присутствовал. Дух Божий носился и все еще продолжает носиться над Своим творением и дает возможность ему двигаться вперед, развиваться, обогащаться, углубляться и все больше становиться способным к единению с Богом.
За одним исключением: за исключением человека. Человек не появляется как усовершенствование предшествующей твари. Посмотрите, чтоговорит Библия: оно так ясно и, может быть, оскорбительно для нас! И сотворил Бог человека (Быт 1:27). Что же Бог сделал, чтобы сотворить его? Бог взял горсть пыли, взял немножко земли, немножко глины — какое слово ни употребить, Он взял частицу первозданной материи, из которой все остальное уже развилось. Он не взял самого развитого и самого замечательного шимпанзе, Он не взял человекообразную обезьяну, которая уже становилась зародышем человека и которой было достаточно маленького толчка, чтобы стать тем, чем она призвана была стать. Нет. Бог оставляет все Свое совершенное, славное творение, оборачивается и берет горсть земли, первобытной материи всей твари, и обрабатывает ее, лепит ее. Остановимся тут на мгновение, потому что, я думаю, это важно.
Каково соотношение человека с остальным творением? Я не говорю о том, какова в этот момент связь человека с Богом, но о том, как человек соотносится с остальными тварями. Это соотношение поистине совершенно, абсолютно, дивно, потому что если бы Бог взял наилучшую из обезьян, сделал ее чуть меньше обезьяной и чуть другой, и сделал из нее человека, человек был бы совершенным чужаком и для породившей его обезьяны, и для всех остальных тварей, ему предшествовавших. Нет, человек сделан из праха земного, из той самой материи, из которой сделана каждая другая тварь. Он принадлежит полностью каждой твари, когда-либо призванной в бытие. В этом смысле он полностью сродни каждому атому, каждой звезде, каждой галактике, он сродни свету и тьме, он сродни каждому растению и каждому животному, потому что все они сделаны из праха земного, из первобытной материи творения. И человек — первобытная материя творения, оформленная и наделенная чем-то большим, чем его земность, потому что есть второе действие Божие, в результате которого сотворен человек.
Второе действие Бога описывается так: И вдунул Бог в лицо его дыхание жизни (Быт 2:7). Тут мы можем ставить перед собой вопросы, потому что — разве не были остальные твари живыми? Все животные были живыми — все полевые животные, все небесные животные, все животные вод, все растения были живыми. Но они не были живы дыханием Божиим. Они были живы жизненной силой, вложенной Богом в них, мудростью Божией, действующей в них, той ДНК, которая сформировала их существование и их прогресс, их становление. Человек же наделен дыханием Божиим. И в этом смысле, в тот момент человек полностью сродни не только всему тварному без исключения, но также и Творцу, Живому Богу. Человек жив не только, так сказать, естественным существованием, но и Божественной искрой, Божиим дыханием.
В творении человека есть еще нечто большее. Когда Бог создает человека, Он говорит: Создадим человека по образу и подобию Нашему(Быт 1:26). Он употребляет «Мы» во множественном числе. Уже в дохристианские времена существовали раввинистические комментарии, указывающие на то, что Бог — не просто арифметическая единица, но Существо сложное, что Он имеет не только индивидуальное бывание, но является Одним во множественности. Мы провозглашаем, что верим в Бога Единого в Троице, в Триединого Бога. Три Лица, Един Бог — не три индивидуума, не три Существа, которые можно рассматривать каждое в отдельности, — Они Едины. И человек создан по образу Божию.
Писатели христианского мира всех времен задавались вопросом, что это означает. Что означает, что мы — образ Божий? И был предложен целый ряд элементов. Было сказано, что человек создан из тела, ума и духа. Говорилось, что характерное для человека свойство как отражения Бога — нет, больше, чем отражения: выражения Бога — есть творчество. Каждое другое существо живет, развивается, прогрессирует, делает, но не творит. Бог творит, и дар творчества, по словам святого Григория Паламы, есть один из элементов образа Божия в человеке.
Я упомянул в начале тот факт, что все тварное оформлено изнутри Божиим ви{'}дением того, чем оно призвано быть, тем, что отец Сергий Булгаков (в другом смысле, надо сказать) назвал бы тварной или творческой Софией, Премудростью. И это — один из путей, которыми мы связаны с Богом. Тут мы видим, что Бог и человек сродни друг другу дыханием Божиим, которое делает человека существом живым, но живым сверхъестественной жизнью, жизнью, которая не только жизнь природы, но уже жизнь общения, как бы оно ни было зачаточным, как бы несовершенным оно ни было, в том же смысле, что человек был создан невинным, не святым. Святости он должен был достичь, но создан он был совершенно чистым.
Здесь мы снова видим, что он наделен даром творчества, и тут еще одна черта, еще один элемент. Бог создает человека по Своему образу, Он употребляет множественное число. И Он творит существо, человека — и я не употребляю это слово как синоним мужчины, но как по-русски говорят «человек», по-гречески anthropos — человеческое существо не как арифметическую единицу, не как индивидуум, но как сложную реальность: двое в одном. К этому я вернусь позже, когда мы будем говорить более подробно о сотворении Адама и о рождении Евы.
Так что здесь снова — человек по образу Божию, потому что он обладает сверхличным существованием. Каждый человек есть не только сам по себе; он есть в отношении и не иначе. Может быть, некоторые из вас помнят текст из Кодекса Безы, который хранится в Кембриджской библиотеке и где есть отрывок из рукописного Евангелия, не вошедший в наш принятый канон. Там говорится, что спросили Христа: «Когда придет Царство Божие?». И Он отвечает: «Царство Божие уже пришло, когда двое — уже не двое, а одно». Этим Он указывает, что единство Адама и Евы есть Царство Божие, уже пришедшее в силе, то есть реальность, и реальность, которая должна расцвести, из зерна стать цветком.
И вот нам предлежит мир, в котором все эти стадии, вся эта сложность и все это диво существуют. И если подумать о Боге, Который призывает в акте любви, не в акте силы, но в акте любви: «Придите, чтобы Я дал вам Себя любой ценой», мы можем представить себе каждую тварь, которая возникает из ничего и предстает лицом к лицу с Богом, Чья мудрость активна, могущественно в действии в нем, в ней, в них. И видя Бога, эта тварь отвечает поклонением, любовью, ликованием на встречу лицом к лицу зарождающегося мира, на котором еще нет пятна, с Тем, Кто есть Бог, Кто есть полная, совершенная, всеконечная красота и Который говорит: Я — то, чем вы должны быть, Я — то, чем вы призваны стать… И человек выходит из небытия этим же путем.
Но тут я хочу снова поставить вопрос. Как Бог знает Свое творение? У Бога было ви{'}дение, картина, Его мудрость оформила — если можно употреблять такие неадекватные выражения, — в Его уме зачаточный, первозданный хаос, кипучий вихрь жизни, каждую тварь, которая постепенно будет вызвана, возникнет, будет приведена из хаоса в ви{'}дение своей собственной красоты, отражающей собственно Божию красоту. Неужели это и все? Знает ли Бог тварный мир всего лишь как мастер, который создает сосуд, как горшечник, который лепит горшок, как художник, который проецирует на полотно свое представление о том, что он видит или воображает, или как скульптор, который высвобождает из каменной глыбы красоту статуи, заключенной в ней? Есть ли это лишь внешнее видение? Проецирует ли Бог Себя в тварь, не общаясь с ней полностью? Отец Сергий Булгаков стоял перед этой проблемой, и разрешил он ее, сказав, что Божественная премудрость погружает Себя в небытие, в результате чего возникает бытие, но какая-то доля Божественной премудрости остается заключенной в этом тварном бытии. И стремление всей твари к Богу есть стремление тварной мудрости, которая в плену и бьется, чтобы вырваться и вернуться к свободе Нетварной премудрости. И это меня не удовлетворяет. Я не могу представить себе Бога, становящегося пленником Своего творения. Я не могу себе представить Божественную премудрость, которая погружалась бы в небытие, потому что небытие, по самому своему определению, не существует — не во что погружаться. И я не могу себе представить, что наша тоска по Богу, любовь, которая у нас может к Нему быть, — нечто иное, чем импульс Божественной премудрости в нас, отличной от нас, в каком-то смысле чуждой нам, стремящейся вернуться в свободу и понести нас с собой, как бы вдобавок к достигнутому собственному возродившемуся исполнению.
Меня поражает событие Воплощения. Что происходит в Воплощении? Бог становится человеком. Бог не становится пленником человеческого тела и человеческой души, которые были бы местом Его вселения, но также и Его тюрьмой, и орудием Его дела спасения. Нам говорится, что полнота Божества обитала во плоти.
С другой стороны, в этом году я впервые осознанно обратил внимание на один из тропарей Страстной пятницы, где говорится, что в Воплощении Бог стал сотварным тому, что Он создал. Он не становится пленником человеческой природы, собственного телесного и психического человечества. Он не обитает в нем, как можно себе представить Его обитающим в храме Его тела. Это выражения, которые употребляются в Священном Писании и в молитвах. Он отождествляется, пронизывает все, что является тварной природой, которую Он принял. Он как бы знает изнутри, что означает быть тварным существом. Это непостижимо, это за пределами понимания, но это просто факт. Он не наблюдает тварность снаружи. Он как бы знает, что означает быть тварным существом, из того, что Сам является таким существом. И это тоже путь, которым мы соотносимся с Богом.
Но за пределами нас весь тварный мир соотносится с Богом этим же путем, потому что если подумать уже о Христе, а не о нас, которые в становлении, которые несовершенны, которые взлетают и падают, — если подумать о Христе, то каждая тварь, глядя на Него, может узнать себя уже достигшей полноты, видеть себя, какой она будет в какой-то день, когда все засияет Его Божеством. И это может воспринять, этим может жить, петь, танцевать каждый атом, каждая волна, это может воспевать каждая звезда, каждая планета, каждая галактика, вся необъятность, о которой мы ничего не знаем, о которой мы время от времени с изумлением открываем, что она наполнена чем-то, существования чего мы не подозревали. И это верно в отношении каждого растения, каждого животного, каждого существа, даже тех вещей, которые мы называем инертными, потому что не знаем, как общаться с ними. Но каждая из них узнает себя в теле Христа, которое есть первозданная материя, — материя, из которой были сотворены Адам и Ева, материя, из которой оформлено каждое творение. Какое славное видение! Какое диво! И насколько централен человек, каждый из нас, потому что эсхатологически, окончательно, решающе это уже случилось в нас и с нами, потому что мы являемся этой первозданной материей. В нас живет дыхание Божие, мы родные, мы братья и сестры воплощенного Сына Божия.
В то же время мы едины с тварным миром на двух уровнях: на уровне его первозданного возникновения и конечного эсхатологического призвания, и на уровне его несчастья, его падения, его страдания, его горя, его тоски, его плача. На всех этих уровнях мы родные и свои всему тварному. И все тварное смотрит на нас с надеждой и с тоской. Апостол Павел сказал, что вся тварь стонет в ожидании откровения чад Божиих (Рим 8:19—22). Да, стонет, потому что пока мы не тот род людей, какими мы призваны быть, подобными Христу, Христову воплощенному присутствию, продолжению Его воплощения, весь мир продолжает быть в плену проклятия смертности, греха, смерти, страдания, несовершенства. И вот почему святой Максим Исповедник говорит, что человек стоит на пороге двух миров — потому что он принадлежит обоим. С одной стороны, он принадлежит тварному миру, миру душевности и материальности, а с другой стороны он действительно принадлежит уже теперь, хоть бы зачаточно, Божьему миру. И Христос есть откровение этого, откровение славы сотворенного материального мира и откровение Бога в то же время.
Ответы на вопросы
Каково соотношение Божественной Премудрости и Христа воплощенного?
Я отвечу как бы на ощупь. Премудрость принадлежит Богу в целом, принадлежит Отцу, Сыну и Святому Духу, она не есть свойство лишь Одного или Другого Лица. Вместе с тем по отношению к тварному миру Христос — Творец, через Которого все было создано, и для нас Он как бы воплощение Божественной Премудрости, которая вызывает к бытию, которая создает, которая придает форму, которая заботится, которая руководит, которая сообщается, которая спасает, и все это — ви{'}дение полноты. Существует, насколько знаю, икона Христа, носящая название «Премудрость Божия», но название обращено к нам, оно не означает, что во Отце и Святом Духе нет Премудрости.
Божественная Премудрость воплощена, находит личностное выражение во Христе, но не только в Нем. Нельзя ли это выразить образом из романа Чарльза Уильямса29: свет, струящийся ниоткуда или отовсюду, в какой-то момент становится цветом, краской, приобретает конкретность, и из краски появляется материальность, бревно. Знаете, порой легче иметь дело с образами, чем с философскими концепциями, по крайней мере, мне видно, что образ Чарльза Уильямса может значить по отношению к Премудрости Святой Троицы, ее воплощению во Христе — Творце, Промыслителе, Спасителе, Исполнении всего.
Но «София» женского рода!
Я думаю, очень опасно брать слова в их семантическом значении и делать богословские выводы. Насколько знаю, слово «Дух» в сирийском языке женского рода. На многих языках «премудрость» женского рода, но есть слова, которые в трех разных языках принадлежат трем разных родам: в таком случае где оно богословски верно, а где — ересь?
Следует быть осторожными, потому что очень часто в самом образе больше истины, чем в наших интеллектуальных построениях на основе образа. Возьмите другой образ: «Церковь» — женского рода. Скажем, Ерм
[197] видел ее в видении как молодую женщину с седыми волосами, он говорит ей: «Каким образом у тебя молодое лицо и седины старой женщины?». И она отвечает: «У меня вечная юность Божия и премудрость Божия». Вот Церковь в женском образе. Вместе с тем Церковь — Тело Христово. Где здесь женское? Знаете, очень трудно далеко развивать эти образы. Каждый из них истинен на своем месте. Все творение есть Невеста Христова, да, и в то же время все творение должно быть включено во Христа.
Скажите: как соотносятся душа и психика?
Знаете, до известной степени вопрос просто в словах, потому что о человеке можно говорить как о двучастном или трехчастном существе, в терминах дихотомии или трихотомии. Можно сказать: человек состоит из души и тела, подразумевая под душой все, что не есть тяжелая материальность. Можно сказать: у человека есть тело, душа, то есть психика, и дух, то есть его высшая связь с Богом. Скажем, апостол Павел говорит в терминах трихотомии. Если ограничить значение слова «душа» нашими психическими свойствами, тогда можно сказать, что мы опытно познае{'}м Бога духом, но осознае{'}м этот опыт в своей душевности. То, что происходит на уровне духа, мы не осмысливаем интеллектом. Мы общаемся в духе. Мы осознае{'}м это и можем как-то выразить, когда оно достигло нашего сознания. И то и другое отражается на нашем физическом состоянии. Все, что мы сознае{'}м, входит в область нашей душевности. Сознание совпадает с нею. Но есть и другие способы восприятия. Мы воспринимаем вещи физически и находим им выражение в мысли, а потом в слове или в образах. На другом уровне мы общаемся в духе, но осознае{'}м это и находим тому выражение. Так что это переходная функция или, лучше сказать, часть нас, потому что, разумеется, я понимаю, что нет разрыва между этими элементами, но часть очень специфическая. И я помню, как старец Силуан в одном из своих писаний говорит, что благодать Божия достигает нас сначала в духе, и когда мы ее приняли и дали ей пропитать нас, она достигает психики, души, душевности. А после того достигает и нашего тела, и благодать Божия как бы заполняет нас целиком. Насколько помню (я могу и ошибаться, так как читал его очень давно), так он объясняет нетленность мощей — что благодать Божия дошла до тела.
Преображение предполагает внутреннее изменение или излияние извне?
В рассказе о Преображении я вижу несколько моментов. Первое — то, что это был миг, когда любовь вспыхнула, как костер, и то был момент, когда Христос говорил с Моисеем и Илией о Своем распятии. Он говорил с ними о Своей предельной жертве, которая выражала предельную полноту, крайнее напряжение Его любви к роду человеческому и к Богу. Это первое. В этот момент все в Нем, Его Божество, Его человечество, его человеческая душа, Его человеческая плоть, составные части жертвы, самопожертвования, достигли полноты Любви. И еще меня поражает, что когда это произошло, то просиял не только лик или руки Христа, или Его тело, но и самые Его одежды сделались белы, светоносны, потому что и они были охвачены и включены в эту тайну спасающей любви. Это сходится с тем, что я говорил, мне кажется, ранее о том, что материальность этого мира потенциально сродни Богу. И вот что я вижу в Преображении: вспышка Божественной любви в момент ее жертвенной самоотдачи, которая преображает все, что должно быть принесено в жертву, в «купину неопалимую», если хотите другой образ.
Это обратная сторона грехопадения?
Да, зачаточно, потому что оно совершается, становится реальным через реальную смерть Христа на Кресте, через реальное попрание ада, реальное Воскресение и реальное Вознесение. И тогда происходит нечто: во всем тварном мире один Человек способен быть вождем и руководителем всей твари к ее полноте. В этот момент Он — подлинный Адам, который одержал победу, не просто подлинный Адам, который пришел одержать победу. Победа одержана. В каком-то смысле победа уже настала, уже в нашей среде, она одержана и совершенна в Нем. И все, что остается — принять в ней участие.
Родство человека с материей: только через неодушевленную природу или свою роль сыграли и обезьяны?Простите за грубую постановку вопроса…
Не вижу тут ничего грубого. Если вы посмотрите в глаза шимпанзе, вы увидите тысячелетнюю мудрость, о которой я могу только мечтать. Но оставляя шимпанзе в стороне, думаю, тут две вещи. С одной стороны, все тварное может узнать свою первооснову в материальности человека. С другой стороны, помимо это материальной вещественности человека, тварь может видеть в человеке, хотя и затуманенно, зачаточно, сияние Божественного присутствия. А во Христе они видят то и другое в полном откровении, в совершенстве, видят себя в совершенстве в материальности Христа и вместе с тем видят единство своей материальности с Богом, доведенное до совершенства, и видят себя такими, какими они призваны быть.
Христос изрек: «Не о всем мире молюсь», понимая под «миром» материалистическую, греховную часть человечества, которая не отозвалась на Его проповедь. Он не молился о всех в том смысле, что мир принадлежит «князю мира сего». Когда Он называет сатану «князем мира сего», это ли Он имеет в виду?
Я не могу с этим согласиться, потому что Христос пришел спасти погибшее. В последней беседе есть два места. В одном месте Христос говорит, что молится не о всем мире, но о Своих учениках (Ин 17:9). Это одна ситуация. В другом месте Он молится о спасении всех, кто уверует в Него (Ин 17:20), и затем Он отдает жизнь за спасение всего человечества. Это разные моменты, разные пункты беседы или разные ситуации на протяжении этих немногих часов, когда совершается наше спасение. Он не пришел спасти праведников, тех, кто не нуждается в спасении. Он пришел к тем, кто погибал. А за тех, кто особым образом принадлежал Ему, Он молился: Не возьми их от мира, но соблюди их от неприязни(Ин 17:15). Но за всех остальных Он отдал Свою жизнь, и отдавая ее, говорил: Отче, прости им, они не знают, что делают! (Лк 23:34).
II
Прежде чем продолжать, я хочу вернуться к одному пункту, о котором я говорил в прошлый раз, а именно к тому, что человек, то есть человеческое существо в его целокупности, составляет одно со всем тварным миром и с Богом.
Мы читаем в Библии, что Господь слепил человека из праха земного и вдохнул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою (Быт 2:7). Я уже сказал о том, как важно сознавать, что человек не был сотворен в виде последней стадии эволюции, в виде прогрессии от праха земного к растительному миру и затем к животному миру, венчающей все наиболее совершенным творением. Напротив, человек бы сформирован из первичного материального вещества этого мира, и, как сформированный из самой земли, самого праха, самой глины, из которой все существа были сделаны, вызваны, он сродни всему тварному миру. Как я сказал, он принадлежит всему — от малейшего атома до величайшей галактики, и всякий предмет в тварном мире может видеть себя в нем. И когда Бог вдунул в него дыхание жизни, сделал его живой душой, не только живым существом, но существом, которое обладает приобщенностью Богу, то в нем, через него весь мир в зародыше, зачаточно сроднился Богу.
Но этого было недостаточно в том смысле, что человек еще не был в полноте тем, к чему был призван. Это было только начало. Он был создан в состоянии невинности и должен был дорасти до святости, но не тварной святости, не совершенства, которое было бы вершиной того, чем тварное существо может быть, не переросши своих естественных масштабов. Человек должен был раскрыться позже с полнотой, которую только зачаточно мы можем видеть в начальном человеке, в первом человеке. И это мы видим в Господе Иисусе Христе, Наследнике всей человечности, Который Своим человеческим телом сродни всему материальному, Своей человеческой душой сродни всему человечеству, и Который, будучи Богом по природе, Своим Божеством наполняет плоть, соединен плоти совершенно, нераздельно, без какого-либо умаления повергающей нас в трепет Божественной святости. В Нем явлен человек — но не только человек, но и весь мир может видеть себя в Нем.
Но тот факт, что человек был сотворен из праха земного, позволяет нам понять, может быть, глубже, на другом уровне, значение таинств. Весь мир был потенциально святым: святым святостью Божией, святым по существу как возможность, благодаря вселению Божию. Весь мир, материальный и другой, был предан в руки врага падением Адама. Адам был стержневым моментом встречи между Самим Богом и всем тварным, и, отпав от Бога, он лишил весь тварный мир этой возможности врасти в совершенное приобщение.
Я уже приводил слова апостола Павла, что все творение стонет по явлению сынов, детей Божиих (Рим 8). В Иисусе из Назарета вся тварь узнала Человека, совершенного и подлинного, Человека в его полноте, который должен был повести все творение к его исполнению. Вся тварь стонет под тяжестью человеческого греха, человеческого безумства. Даже в вещах таких очевидных, как экология, мы видим результат человеческого безумия. Но когда Бог стал человеком, в Нем все окружающее могло вернуться в прежнее состояние и быть приведено в новое соотношение с Богом.
Чудеса Ветхого и Нового Завета являются действиями Божиими, посредством которых тварь высвобождается из порабощения, наложенного на нее предательством человека. И когда мы приносим Богу материальные элементы этого мира, воду Крещения, масло Елеопомазания, миро Миропомазания, хлеб и вино Евхаристии, но также и слова, произнесенные за Бога, в Его собственное имя — и слово, и звук, и материальное выражение высвобождаются и возвращаются в первозданную гармонию, существовавшую до падения. Результаты, плоды падения преодолены. И в руках Христовых, потому что Христос есть и совершенный Человек, и подлинный Бог воплощенный, твари могут быть исполнены Божиим присутствием, и поистине приобщаются области Божественной. И так, через эту первобытную, трепетную, священную материю, как бы обновленную, возрожденную Воплощением и возвратом Богу того, что Ему принадлежит, мы снова встречаем и свою первобытную природу, и святость Бога, сообщаемую нам через Него.
Так что таинства — путь, этим путем мы встречаем самих себя в первобытной, потенциальной святости, данной нам, и в фактической, совершенной святости, осуществленной Христом и во Христе. Мне кажется очень важно, чтобы мы это понимали: что во Христе все становится новым, делаясь тем, что оно есть по существу, и восходя на уровень того, чем оно призвано быть. И мир приобщается Богу всеми путями, на которые я указал в прошлый раз и, в частности, таким дивным путем.
Теперь: в Библии существует два рассказа о сотворении Адама. Ученые анализировали эти два текста, и некоторые или многие из них пришли к заключению, что это две различные версии того же события. Но древний Израиль и отцы Церкви не так читают эти отрывки. Они читают их как два различных рассказа, указывающих на две различные стадии в судьбе человека. Сначала Бог слепил человека из праха земного и вдохнул в него дыхание жизни, и человек стал душою живой (Быт 2:7). Прежде мы видели, что Бог создал человека по Своему образу и подобию,мужчину и женщину сотворил Он их (Быт 1:27). Из свидетельства тех, кто знает языки, ясно, что на еврейском языке мужчина и женщинане означает, что Он создал мужскую и женскую особь, но что Он сотворил мужскую и женскую природы. И целый ряд древних писателей наряду с множеством древних нехристианских религий видят в этом первом творческом действии возникновение целостного человеческого существа. Этого человека можно все еще рассматривать в категориях хаоса, о котором мы говорили в прошлый раз, человека единого, содержащего в себе все возможности того, что станет мужчиной и женщиной. Я не хочу употреблять слово «андрогин», потому что в нашем опыте, в мире, каким мы его видим, андрогин — это существо развитое и одновременно наделенное физическими характеристиками мужеского и женского существа. В человеческих категориях это уродство. Но я имею в виду, что согласно 27-му стиху первой главы книги Бытия, человек есть существо еще не определенное. Да, это существо человеческое, полностью человеческое, но, как первобытный хаос, содержащее внутри себя полюсы, которые позже разовьются, обретут индивидуальность и введут в мир единое существо, которое есть человек в двух лицах — Адам и Ева, мужчина и женщина.
Возникновение этой двойственности, этой двоицы не является односторонним действием Божиим. Это действие, связанное с постепенным ростом, постепенным раскрытием внутри неопределенного существа свойств — и я не говорю лишь о физических свойствах, но о всей многосложности характерных черт, составляющих мужчину и женщину, мужскую и женскую особь. И в момент, когда человек созрел для разделения на два рода, Бог привел все существа, Им сотворенные, к Адаму, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей (Быт 1:19—20).
Вы знаете, что в Ветхом Завете и в древних религиях вообще имя совпадает с самим существом
[198]. Знать имя, подлинное имя существа, равносильно тому, чтобы знать самую сущность твари. Мы не знаем этих сущностных имен. Только Бог их знает. Мы знаем друг друга, и мы знаем предметы тварного мира под условными названиями, именами предметов. И когда дело доходит до людей, то это — имена святых, фамилии, клички, которыми мы просто пользуемся в разговоре или в том, как мы относимся друг ко другу, чтобы иметь возможность говорить между собой друг о друге и относиться в личном порядке, иначе мы не имели бы имени для человека, названия для предмета.
В книге Откровения есть отрывок, где нам говорится, что в конце времен, когда Бог одержит Свою победу, всякий входящий в Царство получит имя, которого никто не знает, кроме Бога и получающего или получающей его (Откр 2:17). Это имя — единственное, неповторимое имя, которым Бог знает всякую тварь и всякая тварь знает себя. Это — способ выразить единственность взаимоотношения, существующего между Богом и каждой тварью, не коллективной толпой, но неповторимыми существами, каждое из которых полностью, совершенно, всеконечно единственно в своем роде. Не есть ли это имя — то слово, которое Бог произносит, когда Он вызывает, любовью призывает в бытие всякую тварь? Не есть ли это то слово, которое слышится извечно или во времени и приводит в самое бытие тварь? Не есть ли это ви{'}дение Божие, облекающееся в плоть? Не есть ли это (возвращаясь к образу, который я употребил в прошлый раз) божественный свет, становящийся цветом, и цвет, становящийся материальной реальностью?
И вот, когда мы читаем, что Адам был поставлен перед лицом всякой твари, Богом сотворенной, и назвал имя ей, это означает, что он достиг такой зрелости, которая позволила ему видеть сущность каждой твари и дать ей имя, выражающее эту сущность. Совершенно очевидно, что нет человеческого языка, на который мы могли бы сослаться. Адам не говорил ни по-еврейски, ни по-гречески, ни даже по-английски. То, что он произносил, было словом, вызывавшим отзвук в самой сердцевине твари, которую он называл, и слово это исходило от Бога не как наружный дар познания от Бога, но как часть, как результат (и я напомню вам, что «Адам» означает «прах», «земля») Адамова общения со своим Творцом, своим Богом.
И оказавшись перед лицом всех тварей, Адам впервые увидел, что он один, что во всем творении не было никого, кто был бы ему напарником, никого, кому он мог бы сказать «ты». Он был как бы «я» без собеседника своего собственного рода, на своем собственном уровне (я не говорю о том, как он соотносился с Богом). И в тот момент, когда он обнаружил изнутри той зрелости, которой достиг, что он один, пришло время Богу исполнить Свое творческое действие, но опять-таки не односторонне, а как результат возрастания Адама в новую зрелость. О, это не было зрелостью, которую мы находим во Христе, но это было нечто в том же направлении.
И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились (Быт 2:21—25).
Я хотел бы привлечь ваше внимание к ряду выражений в этом отрывке. Прежде всего, самое простое из них: взял одно из ребер его. Это не описание: слово может значить «ребро», может значить «сторона». Это может быть разделение, отделение двух половин, а не просто изъятие ребра и оформление из него нового существа. Это гораздо больше соответствует святоотеческому восприятию человеческого существа: оно содержало всю мужественность и всю женственность, которые были разделены и теперь стоят каждое на своих собственных правах.
Есть еще одно выражение, которое, думаю, мы должны поставить под вопрос, хотя мы всегда его повторяем и у большинства переводчиков оно так и стоит:
И навел Господь крепкий сон на Адама. Один из древних переводчиков с еврейского языка употребляет слово «обморок», «кома», чтобы указать на то состояние, в которое был приведен Адам. «Кома» означает состояние бессознательности, состояние, при котором человек над собой не имеет власти, не имеет обычного сознания, в котором мы живем. И действительно, в своем роде оправданно переводить это как «крепкий сон». Но если обратиться к другим переводам, к Септуагинте
[199], который особенно интересен, потому что это перевод на греческий с еврейского, сделанный до Христа и потому не окрашенный никакой про- или антихристианской тенденцией, то там употребляется слово «экстаз». (К слову сказать, славянский текст употребляет слово «исступление», которое означает точно то же, что «экстаз».) Вы можете спросить себя — и меня, — в чем, собственно, разница. В этом состоянии человек за пределами, вне себя или своего обычного, нормального состояния. Разница между крепким сном, комой и экстазом, исступлением очевидна. Кома, крепкий сон — это состояние, когда человек ниже себя. Он — физическое присутствие, но психически, духовно, психологически он как бы ниже собственного уровня. Нет сознания, есть лишь физическое, материальное присутствие. Если же употребить слово «экстаз», здесь тоже утрата самосознания, понятого как сознание себя, самососредоточенность, но здесь оно больше себя, а не меньше себя.
И рождение Евы есть событие, в котором Адам, достигший предела того, чем была незрелая еще сложность изначального человека, перерос себя, как бы стал больше, чем он был, или, вернее, стал более полно тем, чем он был. Но такую полноту невозможно содержать в пределах одного человеческого существа, и возникает в бытие Ева. Элизабет Бер-Сижель в одной статье говорит как бы шутливо (она слишком скромна, чтобы облечь это в богословское утверждение): если можно сказать, что человек — венец животного мира, то почему не сказать, что женщина — увенчание мира человеческого? В такой форме, я думаю, это не совсем удовлетворительно. Но я думаю, совершенно удовлетворителен тот факт, что с возникновением Евы, с рождением Евы от Адама или, если предпочитаете, с высвобождением двух потенциалов, человек достиг своей полноты, своего совершенства. Он стал тем, чем должен был быть.
Английские слова man и woman удобны для того, чтобы сказать: это кость от кости моей, плоть от плоти моей. Она назовется woman, потому что взята от man. На еврейском языке это слова «иш» и «иша», и можно видеть, что тот же параллелизм существует и здесь. Она не полностью отличное, иное существо. Она существо, которое есть женственность мужеского, тогда как он — мужественность женского. Это не новое имя и не имя, подобное тем именам, которые Адам дал всем другим тварям. Он впервые осознал, что он — это он, и она — это она, но притом он и она являются в двух лицах единой человеческой реальностью, переросшей начальное недифференцированное состояние и достигшей новой полноты, нового исполнения.
И здесь мы можем вернуться к тем словам, когда Бог говорит: Создадим человека по образу Нашему. В прошлый раз я подчеркивал тот факт, что Бог говорит во множественном числе, и здесь мы видим, что это множественное становится видимой, сотворенной реальностью: Триединый Бог и двоица, которая впоследствии разовьется в человечество, в единство во множественности, как Бог Един в Трех Лицах. И вместе с этим это не два противополагаемых индивидуума. Это не сотворение существа, которое может осознать себя как чуждого, отчужденного, полностью отличного от другого. Это не начало разделенности, как бы атомизации человечества, это установление лицом к лицу двух лиц, законченных, хотя все еще призванных развиваться, расти, созревать, выполнить многосложную судьбу человечества тем же образом, каким все сотворенное развивалось, созревало и ожидало своего исполнения. Адам мог теперь сказать «ты», и Ева могла сказать «ты» существу, которое одновременно не было им или ею, и все же дивным, неизреченным образом было им или ею. Глядя друг на друга, они видели свое отражение и откровение одного другому. Они видели друг друга не как чужаков, но также и не как зеркальное отражение, как нереальность. Друг во друге они могли созерцать собственную реальность со всей «густотой», со всей убедительностью реальности. И потому что было такое восприятие, потому что для Евы Адам был каким-то образом ею самой (я подчеркиваю «каким-то образом») и соответственно Адаму Ева была каким-то образом им самим, они могли видеть друг друга нагими и не стыдиться: стыд приходит, когда два существа смотрят друг на друга как на чуждых, разных, как на чужаков, не только отличных, но чуждых.
Выше, в 18-м стихе, мы читаем:
И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника[200]. Опять-таки эта фраза может привести в недоумение, потому что когда мы слышим «помощник», мы воспринимаем, что это означает попросту: кто-то, кого можно послать с поручением или кто может выполнить нечто под руководством или по приказанию. Существуют переводы, передающие иной нюанс, другое значение. Это значение в следующем: «создадим кого-то, кто будет стоять плечом к плечу, лицом к лицу с человеком, с Адамом». «Плечом к плечу» означает равенство без подчеркивания верховенства или подчиненности. Это обозначает двух совершенных партнеров, напарников. И есть переводы, употребляющие самое это слово «партнер», «напарник». «Лицом к лицу» означает, что, глядя друг на друга, они видят свою собственную полноту в другом. Экстаз, который описан в стихе 21, есть это ви{'}дение одного и другого, ви{'}дение друг друга и пребывание в этом общении зрения — и я не говорю о глазном зрении, но о внутреннем ви{'}дении — будучи за пределами самих себя и единосущно друг со другом. И вот почему стих 24 говорит:
Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть, где «одна плоть» не означает тело, но единое существо.
На этом я закончу свою беседу. В следующий раз я буду говорить о Древе Познания и Древе Жизни, о падении и его последствиях и, вероятно, коснусь ряда вещей, связанных с Воплощением, со Христом. И на этом закончатся эти три беседы, неполные, потому что я хотел бы пойти за пределы этих вопросов, к другим элементам соотношения между мужчиной, женщиной, Богом, падением, спасением и их судьбой, но это можно будет, может быть, сделать в другой раз
[201].
Ответы на вопросы
Разве не вытекает из слов Писания, что женщина сотворена из сущности мужчины?
Если позволите начать слегка неблагочестиво, я вспомню мать отца Сергия. Она яростно стояла за Устав, Типикон, Правила, и в какой-то момент прямо-таки умирала от сердечной слабости, потому что запостилась до того, что ее организм сдавал. Доктор обратился ко мне: «Можете ли убедить ее что-нибудь есть?». Я подумал и сказал, что попробую. И сказал ей: «Мать Алексия, вы исключительно хорошо готовите. Как вы думаете: можно ли сделать мясо из овощей?». Она посмеялась надо мной и ответила: «Отец Антоний, что за глупость. Конечно же нет!». И я сказал: «Тогда ешьте бифштекс, потому что корова ела траву и сама не может быть ничем иным, как травой». И мне кажется, такого рода сотворение из мужеской сущности женский сущности было бы вмешательством Творца в Божие творение, было бы отрицанием того, что Он создал первоначально. Так что я больше верю в такой расцвет и разделение на две половины, которые не расстаются, — они разделяются, приобретают собственное бытие и тем не менее едины, как две половины одной реальности, как говорит Шопенгауэр, одна личность в двух лицах. Каждый сам по себе — полное лицо, но вместе они — одна личность.
Лет двадцать назад у меня был разговор в Женеве за чаем с двумя русскими епископами и одним богословом и еще кем-то о возможности или невозможности рукоположения женщин. Разговор был долгий, представлялись всевозможные доводы. И когда в конце разговора оказалось, что от доводов ничего не осталось, в качестве конечного, окончательного ответа я услышал: «Этого никогда не было в прошлом и, значит, никогда не будет в будущем». Это очень неубедительно. И к какому бы выводу мы ни пришли, его невозможно строить на такого рода логике. Так что мы должны думать и думать, быть совершенно открытыми с тем, чтобы быть готовыми принять самый неожиданный вывод, принять самый неожиданный ответ, продумывая, вчитываясь в Писания, глубоко вглядываясь в личности святых и грешников, и т. д.
III
Во второй главе книги Бытия мы находим следующие слова: Произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла (Быт 2:9). И я хочу сказать нечто об этих двух деревьях. Я не собираюсь делать никаких мистических выкладок о них. То, что будет сказано, касается не столько деревьев, сколько того факта, что они приносят плод, и человек может есть от плода этого дерева, и что эти деревья дают познание добра и зла или дают жизнь.
Я хотел бы несколько остановиться на этой идее познания. Как мы познаем вещи? Мы познаем вещи, получая от них ведение и воспринимая это ведение. Мы познаем, воспринимая их сущность и отождествляя эту сущность с самими собой, но также в большей или меньшей мере отождествляясь с пищей, которую принимаем. Вы, может, помните старое высказывание немецкого философа-материалиста Фейербаха, который сказал, что человек есть то, что он ест. Можно продолжить эту мысль в христианских категориях (что, вероятно, глубоко бы его ранило), сказав: «Да, в это мы верим: вкушая Тело Христово, испивая от чаши Крови Христовой, мы становимся причастниками Христова человечества и Христова Божества. Мы становимся причастниками всего, что Христос есть и по человечеству и по Божеству».
И вот когда мы думаем о древе жизни и о древе добра и зла и о плодах их, перед лицом которых находился человек, мы можем думать в этих категориях: познание может быть приобретено причастностью к тому, что такое эти плоды. В том, что касается внешнего мира, наше познание его многосложно. Мы получаем ведение через наши чувства от всего, что нас окружает. Ведение это принимается, накапливается, неосознанно или сознательно обрабатывается, анализируется, организуется. И это восприятие проецируется на окружающий мир, придавая ему структуру, форму, смысл. И когда это произошло, опять-таки начинается как бы второе зрение. Мы видим, слышим, воспринимаем нашими чувствами новые вещи, принимаем их в сознание, перерабатываем, и внутри нашего сознания, так же как и в подсознательной жизни, они выливаются во все расширяющееся и углубляющееся познание. Но это расширяющееся и углубляющееся познание, то, как мы принимаем ведение о вещах, впитываем его, идентифицируем его, в данном случае очень важно. Дело было вот в чем: питаясь тем, что сообщал ему Бог, человек все более, со все большей глубиной, чистотой и совершенством становился причастником познания, которое Бог имеет о Себе, потому что Бог сообщал Себя и открывал Себя в этом даре Себя, но также узнавал и раскрывал значение и сущность собственной человеческой природы и сущности всего сотворенного мира. Бог в Своей мудрости был единственным, Кто знал до самого дна и глубины сущностную природу вещей. Оставаясь единым с Богом, Адам мог называть по имени твари Божии изнутри своей причастности Ему. Наше призвание — быть причастными Богу силой Святого Духа и нашим единством со Христом таким образом, что однажды — и это слова апостола Павла — мы познаем Бога, как мы познаны Им (1 Кор 13:12): взаимное знание сопричастности.
И это было предложено человеку: быть причастным Божественному познанию, быть причастным Божественной жизни, коротко говоря, быть причастным Богу таким образом, чтобы все познание, которым Бог обладает и какое может сообщить, было разделено человеком. Это познание преображало его, вело к той полноте, которую я только что описывал, позволяло ему познавать так, как он сам познан, или вело к состоянию, о котором Апостол говорит: Бог будет все во всем (1 Кор 15:28).
Но есть другой путь, которым человек может познавать тварный мир: погружаясь в него, участвуя с тварным в его тварности. Это, я думаю, означает образ плода от древа познания: познание тварного вне Творца, познание тварного не только как тварей, но тварей все еще в становлении, все еще в формировании, все еще несовершенных — не в том смысле, что в них была трещина, но было еще несовершенство, они еще не были тем, чем были призваны стать.
Вы помните, что призвание человека, который принадлежит одновременно Божественному миру и материальному миру, было — через познание имен всех тварей, то есть их сущностного бытия, — вести их в глубины Божии, сделать так, чтобы они также участвовали в тайне Божией. Таким образом, у человека был выбор. Дар свободы есть страшный дар, потому что он позволяет человеку разрушить себя и повлечь за собой в разрушение весь мир, который ему поручен. Но в то же самое время этот дар свободы и эта возможность выбора есть абсолютное условие для реальных взаимоотношений, тем более взаимоотношений любви. Святой Максим Исповедник в одном из своих сочинений сказал, что Бог может все сделать, кроме одного: Он не может заставить человека любить Его, потому что любовь — это высшая свобода.
Итак, человек стоит перед двумя возможностями познания: с одной стороны, погрузиться в Бога, общаться с Ним, уходить все глубже в Божественную тайну, в свет Божий и во тьму Божию и, с другой стороны, пытаться приобрести познание тварного в категориях общения, погружаясь полностью в тварное помимо Творца. Вот выбор. Можно было ожидать, что по спонтанному движению человек без колебания последовал бы зову Божию, зову любви, рванулся в Божественную открытость, последовал из света в свет, из сияния в сияние, из славы в славу.
И это выражено с большой силой в одном из Ветхозаветных чтений о Христе, где нам говорится, что Дева родит сына, Сына, Который будет Эммануилом, Богом среди нас, и Который, прежде чем различит добро от зла, изберет добро. Этого нет в классической английской версии, но есть в тексте Септуагинты199 (Ис 7:15—16). Да, перед Сыном Божиим, ставшим Сыном Человеческим, в Его человечности, которая с первого момента была исполнена Божества, стоял выбор, но Он избрал без колебания или ошибки путь Жизни, общение с Отцом, единство с Ним. Но Адам первых дней творения был еще незрелым, и чтобы достичь святости, которая есть попросту зрелость, чтобы перерасти свою невинность в общение со святостью Божией, должен был сделать выбор. Иначе он был бы просто вовлечен в святость помимо собственной свободной воли.
И тут мы видим внешнее воздействие — сатаны, врага, дьявола, представленного здесь змием. Человек не отвернулся бы вольной волей от любви, не будь он обманут. Сатана есть враг, тот, кто лжет. Он — лжец par excellence
[202]. Он обманщик, и он тоже тот, кто убивает. Трагедия лжи не заключается в том, что наше познание неточно и тем самым неточно все наше внутреннее отношение к вещам, трагедия лжи заключается в том, что паутина лжи создает нереальный мир, мир, который не существует, куда попав, жертве лжи остается только умереть, потому что жить можно лишь причастием к реальности и участием в жизни реальности. Но чем больше мы уходим в нереальность лжи, тем больше мы углубляемся в ситуацию, в которой не может быть жизни, только смерть. Но для того, чтобы быть действенной, ложь должна представлять видимость правды. Поэтому змий говорит Еве: да, Бог сказал вам, чтобы вы не ели плодов этого дерева, потому что вы тогда станете, как Он, зная добро и зло (Быт 3:4).
Бог призвал Адама и Еву, призвал человека в полноте его существа, человеческого существа, стать участником Его природы, быть участником того, что Он есть. Ветхий Завет провозглашает: вы боги (Пс 81:6). Поэтому змей не подсказывает человеку взбунтоваться. Змей подсказывает, что они могут выполнить намерение Самого Бога, вкусив плод древа познания, — и тогда они обретут познание. И вместо того чтобы погрузиться в Бога и сказать: «Уйди от меня, сатана», Адам и Ева принимают ложь наивно, в простоте, но ошибочно и тем самым теряют возможность быть полностью в Боге и погружаются в материю, в сущность мира, но без Бога, — не то чтобы материя была без Бога, но они входят в нее обезбоженными.
Очень важно нам понять, что случается дальше, не только с точки зрения взаимоотношений между Адамом и Евой, но с точки зрения взаимоотношений между мужчиной и женщиной, с точки зрения взаимоотношения между всеми людьми, когда, как со всеми нами случается, мы потеряли Бога в большей или меньшей мере. Ева оборачивается к Адаму и вовлекает его в трагедию, на пороге которой находится сама. Я говорю «на пороге», потому что если вы согласились с тем, что я сказал в прошлый раз, что сотворение Евы, рождение Евы было расцветом полного человеческого существа, исполнением человека, тогда вы поймете, что одна из половин не может погибнуть без другой. Одна из половин не может быть вовлечена в глубины материальности без другой, которая не может сделать ничего иного, как разделить то, что случилось с первой, потому что они — одно. И Адам не может сделать ничего другого, кроме как согласиться быть заодно с ней, на лучшее или на худшее, или же героическим жестом обнять ее и привести ее перед Бога и сказать: спаси нас, мы погибаем… И я сознательно употребляю множественное число: спаси нас — потому что никто из них не может погибнуть без другого, не потому что они — одно в механическом смысле, но потому что они — одно существо и не могут быть разделены, ибо связаны экстазом рождения, видением цельности и любовью.
Затем случается следующее: Бог предстает перед ними. Адам и Ева прячутся от лица Божия, потому что впервые они отвернулись от Него и искали знания жизни вне Его, даже не в самих себе, но в материальности этого мира, из которой они возникли с такой славой.
Где ты, Адам? И Адам отвечает:
я наг, и я спрятался (Быт 3:9—10) (к этому я вернусь через минуту). Он спрятался, потому что, согласно канону святого Андрея Критского
[203], он больше не облечен славой, сиянием благодати; он больше не в том сиянии, которое покрывало его наготу. Он наг. Ничто не закрывает его от зрения Евы, и ничто не защищает ее от глаз Адама. И они чувствуют, что теперь ничто не защищает их от взора Божия и от всего тварного.
А кто сказал тебе, что ты наг? И тут начинается процесс, который повторяется во всех человеческих ложных взаимоотношениях: процесс «козла отпущения». Адам говорит: Жена, которую Ты дал мне, дала мне есть от этого плода. Тут двойное обвинение: он выдвигает свою напарницу в падении как виновницу, как непосредственную причину, и он обвиняет Самого Бога как первопричину падения. Ты дал мне эту жену, она дала мне этот плод: на ней ответственность за наше теперешнее положение, но вся ответственность на Тебе. Не Ты ли ее сотворил? Не Ты ли посадил в саду это проклятое древо познания? На ком же вина?.. И Господь не защищается, Он принимает унижение, оскорбление, обвинение. Он обращается к Еве и говорит: кто сказал тебе? И снова: змей. Змей не существовал бы, если бы Ты не сотворил его, — эта тварь, которая ползет по земле, которая не может подняться над прахом, эта тварь, которая не знает ничего, кроме праха. Ты сотворил его, и он теперь низвел нас на свой уровень, уровень творения, но творения, воспринятого без Тебя.
Но как это могло случиться? Что случилось между Адамом и Евой, между Богом и человеком? Человек знал Бога ви{'}дением. Он знал Его, как говорит Евангелие от Иоанна, как Свет (Ин 1:9). Он знал Его как Того, Кто призвал его в жизнь актом любви. Он знал Его как Того, Кто давал ему Себя неограниченно, радостно. Он знал Его как расцвет жизни, как видение красоты, как ключ гармонии всего тварного. В каком-то смысле у человека не было имени для Него, у него был только опыт Его. Слово «Бог» на английском языке происходит от готского, до-германского корня, который означает: «Тот, перед Которым падаешь ниц в поклонении». Это не имя, это опыт. То же происхождение можно вывести греческому слову Teos. Вместе с тем у Него как бы другое имя или Он переживается как другой опыт: Он — Тот, Кем все сотворено, все вещи сотворены и существуют в Нем, через Него. Вне Его тварь не существует, не живет, не развивается, не растет, не созревает, не преображается.
Вот что знал человек о Боге в начале, когда не был ничьим пленником, когда обладал всецелым пониманием, родившимся из опыта и из встречи. И, с другой стороны, может быть, позволительно сказать, что Бог был для человека единственным предельным «Ты», то есть бесконечно близким и предельно иным. Это равновесие между совершенной близостью и совершенной инаковостью и было совершенным равновесием отношений. Вы знаете, что случается когда мы хотим в совершенстве увидеть статую или любое произведение искусства, или предмет, лицо, дерево. Мы должны занять в пространстве идеальную точку — ту точку, с которой мы можем видеть как можно более совершенно целое и вместе с тем как можно более совершенно любую деталь. Если мы слишком приблизимся, мы потеряем целое, если отойдем слишком далеко, мы потеряем детали. Когда мы слишком близко, мы видим только текстуру камня. Когда мы слишком далеко, мы видим только бесформенную массу. Но есть точка, которая есть и совершенная близость, и совершенное отстояние. Это я имею в виду, когда говорю о восприятии предельной, совершенной инаковости Бога и в то же время о Его совершенной, предельной близости. То же могло быть верно во взаимоотношении между Адамом и Евой. Когда, будучи в исступлении, Адам как бы родил Еву и оказался лицом к лицу с ней, он не увидел ее как эманацию своего существа или свою проекцию, он увидел ее как полноценную личность с полной и совершенной инаковостью и одновременно настолько единую с ним, что она была на тварном уровне «ты». Бог — «Ты» на Божественном уровне.
В момент падения, потеряв эту приобщенность к Богу, мужчина оказывается в совершенно новой ситуации по отношению к женщине, и vice versa, она по отношению нему. Они больше не видят друг друга едиными в Боге и едиными в благодати, они видят друг друга как иного. Один древний писатель говорит, что до падения Адам мог смотреть на Еву и сказать: она — мой alter ego, другой я сам, и Ева могла сказать то же. С падением связь нарушена. Они смотрят друг на друга и каждый говорит: я — ego, я — это я, а вот alter, другой. Возможно, этим объясняются подлинно трагические слова, которые Бог произнес, когда совершилось падение: Вот, человек стал как Один из Нас… Он больше не по образу Святой Троицы, двоица, два во едином. Да, их двое, но единство утрачено. И все-таки образ Божий, запечатленный однажды в человеке, не разрушен. И все-таки взаимоотношение мужчины и женщины, как бы оно ни было повреждено, остается как несовершенная любовь, несовершенное единство, которое нашло выражение в другом трагическом слове Божием: И влечение твое будет к твоему мужу, и он будет господствовать над тобой (Быт 3:16).
Что-то аналогичное в тех же самых категориях мы находим в Афанасиевом Символе веры, когда святитель Афанасий говорит о Лицах Святой Троицы: Отец есть Бог, Сын есть Бог, Святой Дух есть Бог, однако не три Бога, но Один Бог
[204]. А тут перед нами встает ужас двоих, которые остаются подлинно человеками, но поврежденными. Ничто не может стереть образ Божий. Ничто даже не может разбить единство, существующее между ними, хотя и с трещиной. Они — как треснутое зеркало, но они все же отражение Бога Единого в Троице.
И вот наше положение. Они обнаруживают, что наги. Утрачена слава Божественного общения, приобщенности, утрачено также ви{'}дение друг друга как совершенной и полноценной личности. Они видят друг друга как иного. Это — начало трагедии, потому что дальше трагедия будет возрастать, разрастаться. Ева родилась от исступления Адама. Каин, их перворожденный ребенок, родится, когда Адам познает свою жену. Экстаз означал быть вне себя, «познать свою жену» означало самосознание в пределах тварного: самосознание без предварительного экстаза. И перворожденный после падения — Каин.
На этом я закончу свою беседу, и в следующий раз я хотел бы рассмотреть разные стадии распада взаимоотношения между мужчиной и женщиной и последствия этого распада: убийство Авеля Каином, убийство Ламехом своих врагов и так далее.
Ответы на вопросы
Для начала я вернусь к вопросу, который был мне поставлен в разговоре и на который я не стал отвечать в частном прядке. Мне было сказано, что я как будто принимаю сказанное в начале книги Бытия как факты. Разве это не миф?
В нашем разговорном языке мы называем мифом что-то неправдивое. Технически говоря, значение слова «миф» не таково. Отец Сергий Булгаков, говоря о начале книги Бытия, сказал, что это следовало бы назвать метаисторией — в том смысле, что речь идет о действительных событиях, но они принадлежат миру, которого больше не существует, и выражены на языке того мира, в котором мы живем. Мы ничего не знаем о том мире, который был до грехопадения, но знаем о основоположных событиях, которые описаны в Библии: творение мира, сотворение Адама, рождение Евы, грехопадение и его последствия. Наше историческое знание начинается с конца Райского сада. Но я отношусь ко всему предшествующему как к выражению в терминах падшего мира того, что происходило прежде падения. У нас нет языка, на котором говорить об этом, нет ни образов, ни знания.
С другой стороны, совершенно ясно, что язык, на котором говорится об этом периоде, не мог быть языком этого периода. Вот для примера: Господь говорит: Если съешь этого плода, смертью умрешь (Быт 2:17). Бог не мог так сказать, пока смерти еще не было, это было бы бессмысленно. Но это единственный способ для нас передать это событие или понять, что Бог сделал некое предостережение. Так что термин отца Сергия Булгакова, «метаистория», мне кажется очень подходящим. Это история в том смысле, что то, о чем идет речь, действительно происходило, но это не описание, как именно оно происходило, не отчет, не дословная передача того, что было сказано. И однако, оно передает действительные события. Вот все, что я могу сказать об этом, и вот почему я говорю об этом реалистично, не воображая, что был сад, было два дерева и т. д., но переводя все в те выражения, которые я употреблял.
Существование зла в мире — один из трудных вопросов для верующего…
Библия не дает нам описания, как возникло зло. Но мы верим, по слову Писания, что Бог зла не сотворил (ср. Прем 1:14). Зло не есть альтернатива добру, которое сотворил Бог. Возвращаясь к тому, что уже было сказано: когда Библия говорит о
дереве познания добра и зла — такое словоупотребление было бы невозможно тогда. Объяснения этому даются разные. Во-первых, высказывается предположение, что помимо материального мира, который мы знаем, и человека, Бог сотворил мир духов, ангелов. Мы применяем к ангелам Божиим — а теперь и демонам — слово «дух», то же самое слово, которое относим к Богу:
Бог есть дух (Ин 4:24). Но это слово невозможно понимать одинаково в обоих случаях. Когда мы говорим «Бог есть Дух», мы хотим сказать, что в Нем нет ничего материального. Когда мы говорим об ангелах или демонах как о духах, мы говорим, что он созданы из чего-то гораздо более тонкого, чем мы, что по сравнению с нами они — точно ветер по сравнению с камнями. Ветер тоже материален, и однако в нашем восприятии он — нематериальная реальность. Есть замечательное место в рассказе Эдгара По «Магнетическое откровение»
[205]. Там человек приведен в состояние магнетического сна, и его спрашивают: «Что ты видишь?». Он отвечает: «Я вижу Бога». «Он — чистый дух?» — «Нет». — «Ты хочешь сказать, что Он материален?» — «Нет». — «Тогда что же Он такое?» — «Он — за пределом и материи и духа». И я думаю, в этом отличие Бога от тех, кого мы называем духами Божиими.
Были сделаны разные попытки объяснить, каким образом ангелы, созданные совершенными — не в том смысле, что они уже достигли полного совершенства, но в том, что они были созданы без изъяна, — превратились в злые существа. И объяснения эти, если не ошибаюсь, делятся на две категории. Одна теория предполагает, что ангелы Божии были поставлены перед видением человека, его призвания стать причастником Божественной природы и того факта, что Сам Бог приобщится тварности чрез вочеловечение. И они оказались не в состоянии принять такое видение. Они восприняли это как кощунство: Бог не может там поступить, Бог — сама недостижимая святость, Он не может соединиться с тварью, и тварные существа не могут возвыситься до такой степени причастности тому, что есть Бог. Они усомнились в Боге и отвергли Его волю. Это один способ описать грехопадение. Другой относится более непосредственно ко Христу: им дано было увидеть, как Сын Божий распинается на кресте и умирает. И это так их потрясло, что опять-таки они это отбросили со всем своим пылом. В обоих случаях можно сказать, что их пыл был благороден, но подорвал их цельность, потому что не был уравновешен, откорректирован безграничной верой, то есть доверием к Богу и Его Премудрости.
Еще одно представление о падении ангелов состоит в том, что после сотворения человека они обнаружили, что человек должен стать другом Божиим, и пришли в ужас от того, что не они будут самые близкие к Богу существа, несмотря на то что их природа столь утонченная и они так близки к Богу.
Есть и другие теории. Одна из них мне представляется наиболее убедительной, хотя я не думаю, что хоть какая-то теория полностью соответствует истине. Я не могу вспомнить, кто из писателей древности указал в этом направлении и кто позднее развил его мысль, поэтому я изложу вам эту теорию собственными словами.
И в отношении человека, и в отношении всех тварных существ можно по справедливости сказать, что они были сотворены без порока, без примеси зла, несовершенства, но все они были призваны к еще большему совершенству. Ангелы Божии должны были возрастать от славы в славу, от совершенства в совершенство, пока их приобщенность Богу не станет столь полной, сколько это возможно для твари. Но в процессе такого возрастания две вещи должны были происходить: на каждом этапе — и это относится к нам так же, как к ангелам Божиим, — перед нами, перед ними открывалась возможность возрастания от великолепия к большей красоте, от славы к славе, от полноты общения к большей приобщенности, но на каждом этапе, чтобы достичь следующего, тварь должна была отказаться от уже достигнутой, уже имеющейся полноты и красоты. Надо было твари быть готовой как бы расстаться с тем, что уже так прекрасно, так совершенно, чтобы двинуться дальше в неведомое, перейти от относительного света сегодняшнего дня к тому, что пока представляется тьмой, неведомым. И в какой-то момент некоторые из ангелов достигли такой степени, такого уровня красоты, гармонии, что почувствовали: как можно расстаться с этим и идти далее в неведомое? Что если я потеряю всю это великолепную красоту и окажусь лишенным ее, и не приобрету ничего взамен? И в тот момент, когда они засмотрелись на себя, вместо того чтобы перенести взор с себя на Бога, устремляться к Богу, когда стали, остановившись, заглядываться на себя, они отпали от полноты приобщенности, того уровня полноты, которого уже достигли.
До известной степени можно провести аналогию с началом Евангелия от Иоанна, когда нам говорится, что Слово было у Бога и Слово было Бог (Ин 1:1). В греческом тексте слова, переведенные «было у Бога», προς τον Θεον, означают «к Богу». Это динамичное устремление как бы от Себя к Отцу. И этот отказ от себя, забвение о себе и порыв, устремленность к Тому, Кто Единственный — полнота, совершенство, жизнь, красота, — трагический акт, потому что он означает забыть себя, умереть себе, чтобы жить Богом и в Боге.
Вот некоторые из объяснений, которые были даны падению ангелов, и Библия ставит нас перед фактом, что есть ангелы света, есть ангелы тьмы, есть враг, противник. Может быть, стоит упомянуть, что падший архангел был Люцифер, ангел света, тот, кто достиг наибольшего совершенства, наивысшей красоты, кто, оглядываясь вокруг, не видел никого, с кем бы он мог сравниться, кроме Бога. И он застыл в плену собственной красоты и, подобно Нарциссу из греческой мифологии, умер в самосозерцании.
Почему змей обратился к Еве, а не к Адаму? Изображает ли это ситуацию так, что женщина более открыта?
Я только и делаю, что признаюсь, что не могу ответить на ваши вопросы. Я пометил себе вопросы и постараюсь не только продумать их, но и почитать — только думать недостаточно, и попытаться понять, потому что мне никогда не случилось задаться этим вопросом. Мне кажется, слишком легко исходя из ситуации настоящего дня, сегодняшнего ви{'}дения мужчины и женщины делать заключения, проецировать их назад. Поступать так очень опасно, потому что это приведет к тому, что мы внесем в до-греховный период понятия и категории нашего сегодняшнего времени. Так что я хотел бы поступить с осторожностью, а не отвечать немедленно. Я постараюсь найти ответ, то есть не выдумать его, но действительно найти сколько-то честный ответ.
Библия говорит о змие. Насколько буквально это можно толковать?
Что касается этого пункта, я не стал бы отчаянно цепляться за текст и говорить, что то была действительно змея, змей. Змей представляется существом, которое ползает в прахе, неспособно подняться, его движения извилисты, оно жалит смертельно: эти свойства и были спроецированы на несчастную тварь как наиболее соответствующий образ. В других местах Священного Писания и в творениях отцов и в богослужебных текстах говорится не о змее как гадюке или гремучей змее, а о большом драконе, чудище, с мыслью, что это существо несет разрушение, полностью погружено в материальность.
Здесь змея — образ, если хотите, икона падшего ангела. Невозможно думать, что было существо вроде наших теперешних змей, совершенно злое. Но в падшем мире, где писалась Библия, змей олицетворял убийство и разрушение, и потому был взят таким прообразом. Вспомните, например, рассказ о казни змеями (Чис 21:6—9). В мире, в котором жили евреи, змеи были одной из главных опасностей, они несли смерть, и поэтому когда им понадобилось описать искусителя, разрушителя, они воспользовались тем образом, который был доступен, под руками, так сказать.
То есть это был один из «зверей полевых», это образ?
Мне представляется трудным перейти какой-то рубеж, потому что мы переносим на многое готовые образы. Например, если мне скажут «гиена», я немедленно вижу нечто вероломное, предательское: посмотрите только, какая у нее походка. На самом деле, когда мы видим вероломного, неискреннего человека, который движется вкрадчиво, мы говорим: вот, вот! — и проецируем неискреннего человека на несчастную гиену, которая никак не виновата в том, что у нее передние лапы короче задних. На какой-то ступени символы и образы уже не действуют. Они что-то указывают, дают намек, и это все, чем они могут нам помочь. Опять-таки змей назван «хитрым». Если взять староанглийский язык, «хитрый» имеет не то значение, какое имеет сегодня. О Боге говорится, что Он «хитрый»: это просто значит, что Он творческий, изобретательный
[206]. В этом отношении приходится быть осторожным со словами.
IV
Сегодня я буду говорить на тему, которая, мне кажется, важна для того, чтобы мы могли продумать вопрос отношений между мужчиной и женщиной в истории после падения и во Христе как эсхатологическом явлении, то есть в ситуации, получающей разрешение во Христе и через Христа, уже развивающейся и ожидающей своего свершения.
Во второй главе книги Бытия нам говорится, что в седьмой день Бог почил от дел Своих (Быт 2:2). Означает ли это просто, что Он бросил мир на произвол судьбы? Совершенно очевидно — нет, потому что в этот день Он поручил мир заботе человека. Человеку было заповедано трудиться над садом Едемским (Быт 2:15), и ясно, что сад — это не место, не физическая местность, это взаимоотношение, это стояние по отношению к Богу и к тварному миру. Человек был поставлен вождем всего космоса из материальности в духовность. Венский Кардинал Кёниг написал небольшую книжку, которая называется «Час Человека», именно на эту тему: о том, что в седьмой день Бог поручил человеку продолжить и завершить Его труд. И вся история является этим седьмым днем, пока не придет время, когда в восьмой день Господь Иисус Христос вернется судить живых и мертвых, когда созиждется новое небо и новая земля и начинается новое время (2 Пет 13:3; Откр 21:1).
Для того чтобы вести тварный мир к его назначению, человек должен был глубоко погрузиться в Бога, во всецелое общение с Богом, обнаружить в этой тайне общения замысел Божий, различать пути Божии и вести всякую тварь к исполнению, которое задумал Бог, и которое, как логос, пребывает в сердце всякой твари и всего космоса. Это предполагало единство с Богом, все возрастающую приобщенность и врастание в Бога.
Мы видели, как этот план был не то что побежден змием, но столкнулся с противодействием змия. Я уже упоминал в прошлый раз, что образ змия важен тем, что змий представляется на взгляд как тварь, знающая только прах, он от праха питается, никогда не может подняться над прахом, извивается в нем, никогда не движется прямо, и в опыте человека он является смертоносным присутствием. Падение человека было действием обольщения сатаны, врага. Вы знаете, что слово «сатана» на еврейском языке означает «обвинитель на суде». Но тем самым он также и враг — враг Божий, враг человека, враг жизни, враг всего, что задумал Бог, враг Божией реальности.
А греческое слово, которым Септуагинта заменила слово «сатана» — diabolos, состоит из двух корней: один из них означает того, кто разбрасывает в разные стороны. Он — тот, который рассеивает и разделяет. В этом смысле как враг он с ложью пришел в сад, в гармонию единства между Богом и человеком и в полную гармонию и цельность творения. Он не звал человека восстать против Бога, потому что связь любви и доверия, существовавшая между Богом и человеком, не потерпела бы такого прямого нападения. Он только употребил самые мысли и заветы Бога, чтобы обмануть человека. Человек был призван войти во все возрастающее единение с Богом. И вот что предлагает змей: почему бы не сократить путь? Почему бы не применить ваш ум, вашу изобретательность, ваше творчество, чтобы достичь немедленно и прямо того, чего Бог хочет, чтобы вы достигли? Ведь Он хочет, чтобы вы достигли этого, и оставляет вас свободными найти путь… Тут змий привносит ложь и действительно является лжецом par excellence.
У нас есть тенденция преуменьшать значение лжи, потому что наша жизнь состоит из приближений, из компромиссов. Но ложь в своей основе, по существу, это попытка, удачная или нет, всецелая или частичная попытка заменить реальность миражом, чем-то, что не вполне реально и не вполне истинно. И в конечном итоге, совершенная ложь заключается в том, чтобы создать несуществующую, призрачную реальность и втянуть в нее живые твари, которые обнаружат, что в этом мираже нет воды, чтобы напиться, нет оазиса, где бы укрыться от солнца, и что это место, где можно только умереть. И поэтому тоже он, лжец, зовется убийцей и отцом всякой лжи (Ин 8:44): не потому, что он предлагает нам ложь побольше или поменьше, но потому что он нас учит быть не вполне правдивыми. Ведь в корне всякой лжи лежит попытка создать нереальность для разрушения Божией реальности. Все, что Божие, все, что реальное, ложью подрывается.
И в результате оказалось, что, как я пытался показать в пошлый раз, человек, обманутый сатаной, вместо того чтобы возрастать в акте всецелой веры, всецелого доверия, всецелой самоотдачи, радостного посвящения себя Богу, повернулся для исполнения своего призвания к тому, что предлагал змей, к тому, что мы могли бы назвать естественными средствами: к разуму, к изучению тварного мира, вместо того чтобы врастать в разум Бога Самого. И в результате, отвернувшись от Бога, он все больше погружается, врастает в прах, из которого был взят. Вместо того чтобы участвовать в познании Бога, вместо прямого познавания изнутри Бога, он начал мучительно, с запинками познавать элементы этого мира уже не такими, какие они есть, но искаженными, больше не направленными динамично к их цели, — расстроенный, раздробленный, беспорядочный мир. И это разложение все время возрастало на протяжении первых эонов или столетий.
Библия рассказывает, как смерть постепенно овладела человечеством. Если вы посмотрите на поколение сынов Адамовых или на поколение сынов Сифовых, вы можете увидеть, как возраст каждого из них постепенно сокращается, будто смерть приобретает все большую силу, и жизнь становится короче и короче, во всяком случае, с нашей точки зрения (Быт 5). «Короче и короче» — очень относительное понятие, потому что самый молодой из них умер в возрасте примерно 960 лет. Налицо явное сокращение. Но это попутное замечание. Результат же этого разложения, этой раздробленности опыта, познания распространяется на всякую тварь в тварном и нетварном мире, постольку поскольку в это замешан человек, — и когда я в данном случае говорю «человек», я имею в виду «мужчина и женщина», anthropos, всецелое человеческое существо.
Прежде всего — отношение с Богом. Вместо все возрастающего приобщения, жизни все более и более общей, приобретения все больше и больше разума Божия и познания путей Божиих, которые повели бы все творение к его исполнению, Бог в человеческом опыте становится внешней величиной. Это трудно себе представить воображением, но думаю, что можно попытаться понять, что же случилось, при помощи слов.
В начале книги Бытия Бог как Творец называется словом Элогим. Это множественное от слова Эл, общего обозначения Бога, Божества. И это указывает на две вещи одновременно: есть Единый Бог, Который есть Бог, и этот Бог не есть арифметическая монада, но имеет сложность. Кроме того, отношения между человеком и Богом были отношением «я и Ты». Другими словами, они не нуждались в прилагательном, в описании. Человеческое «я» стояло перед единственным Другим, единственным «Ты». И в языках, где есть различие между «я» и «ты» (I и Thou), «Ты» употребляется, чтобы указать две вещи: тотальную, полную, предельную инаковость — и бесконечную близость. Предельную инаковость в том смысле, что он или она, кого я зову «ты», не есть я, не отражение меня, не порождение меня. Это «ты» существует в своей полноте помимо меня. Я нахожусь лицом к лицу с кем-то, кто обладает всецелым, полным, настоящим существованием в самом себе, самой себе. С другой стороны, «ты» прилагается только к самым близким людям, например членам одной семьи: к отцу, к матери, к брату, к сестре. И таким образом двое содержат эту тайну всецелой взаимной инаковости и единства в отношении, которое есть полное единство двоих.
И если мы постараемся представить себе, как это «я» и «ты» прилагалось к Адаму и Еве, мы можем представить их себе стоящими лицом к лицу с Тем, Чье державное творческое слово вызвало их в бытие. Они возникают из небытия, как я подчеркивал в своей первой беседе, чтобы оказаться лицом к лицу с Тем, Кто в акте любви возлюбил их в бытие, чтобы дать им Себя Самого неограниченно, всецело, и Кто принял их с той же полнотой, с какой давал Себя им, так, чтобы они были в Нем, и Он в них, в нас.
Но в то же самое время Он — Тот, Кто трансцендентен всякому представлению, Кого нельзя попросту рассмотреть, анализировать. Он познается как Тот, перед Которым склоняешься в почитании. Слово «Бог», как я указывал неоднократно, в германском корне означает того, перед кем простираешься в молитвенном поклонении. И то же самое можно проследить в одном из возможных ответвлений греческого слова Teos, которое может означать либо творца, либо просто того, перед кем преклоняешься.
И еще, когда думаешь о древних языках, которые, может быть, сохранили несколько больше, чем современные языки, окраску первозданного опыта, то существует санскритское слово bhága, означающее Божество, означающее: «вседовольный», тот, у которого есть все и который есть все. Так что это, может быть, и было восприятием, которое о Боге могло иметь Адам-Ева, зарождающееся или установившееся перед Богом человеческое существо.
Но что же случилось, когда человек отвернулся от Бога, от причастности Ему, то есть от единственного пути, которым можно познать Бога, и вернулся обратно в прах, откуда был взят? Первое, как говорит французский пастор Ролан де Пюри: отвернувшись от Бога, человек потерял Бога и мог только умереть, потому что отрезал себя от источника жизни. Второе: в этот момент установилось расстояние между ним и Богом. Было ли оно большое, маленькое, бесконечное — не важно. Это был раскол, разделение, и это тоже было отчуждение. Но по милости Божией, потому что Бог вложил в Свои твари логос, ДНК, искру Божественной мудрости, которая станет толчком в их продвижении к своей цели и своему исполнению, при этом отчуждении, при удалении человека от Бога, силой связи, сплоченности между Богом и человечеством, Богом и каждой из Его тварей оставалась отчаянная тоска по утраченному раю. По раю, опять-таки не как по месту, из которого можно быть исключенным, но как по взаимоотношению, которое пришло к концу и все же помнится в глубине души, во всецелом глубинном опыте каждой твари и человечества и передается из рода в род, из поколения в поколение как плач по совершенству, чувство утраты, желание снова встретить Того, Кто был покинут, предан, отвергнут, но Кого невозможно забыть.
И в этот момент мы находим нечто очень интересное в словоупотреблении о Боге. Все слова о Боге после падения — это слова, указывающие на расстояние. Я уже упомянул Эл и Элогим. Это слово, которым евреи обозначали богов языческого мира, ложных богов. Они были богами, просто потому что им поклонялись, им молились, их боготворили, потому что им приносились жертвы. Но то не был Бог, по Которому они тосковали. Они отвергали этих богов. Они считали их антибогами, бесовским присутствием, обманным отвлечением от реальности подлинного и единственного Бога. И затем стали употребляться другие слова: Всевышний. Всевышнего можно было обозначить либо словом, либо жестом. Еще в XIX веке в Сибири существовало языческое племя, у которого не было слова, обозначающего Бога, потому что они чувствовали, что невозможно употребить человеческое слово, чтобы обозначить всецелую святость, нечто, что было полностью, всецело Божественным. Когда в разговоре они хотели указать, что говорят о Боге, они делали паузу и поднимали руку к небу, чтобы обозначить Всевышнего, Того, Кто за пределом слов, выше всего.
И теперь еще одно чувство прибавилось к взаимоотношению с Богом: чувство расстояния, в котором присутствует чувство трепета, чувство Божественного, таинственного, чего-то слишком великого, чтобы ему предстоять, страх Бога. Вспомните слова Писания: Страшно впасть в руки Бога живого (Евр 10:31). Вспомните слова столь многих провидцев Ветхого Завета, которые говорили: увы, я видел Бога, я должен умереть (ср. Исх 33:20). Такая встреча несовместима с тем, чтобы продолжать жить жизнью падшего мира. Приходилось либо умереть и быть с Богом, либо умереть и быть отвергнутым и вступить в шеол, который был местом предельного и безнадежного отсутствия, разлуки.
И больше того: слово, которое мы употребляем в Библии —
Иегова, Ягве, это не слово в том смысле, что так читаются четыре буквы: йод, ге, вав, ге (YHVH), которыми в Ветхом Завете обозначается Бог. Их нельзя прочитать и произнести, потому что среди этих букв нет гласных и нет возможности расшифровать слово. Было предложено несколько прочтений этих букв, но ни одно из них не достоверно. Но есть удивительный отрывок у еврейского писателя Маймонида, Моисея бен Маймуна, в Испании XII века, в котором он говорит две вещи. Он вспоминает рассказ о молодом ученике, который в присутствии своего учителя встал и начал молиться: «О Боже, Ты всесилен, Ты велик, Ты свят…» И учитель остановил его и сказал: «Перестань богохульствовать; как только ты прибавляешь еще одно прилагательное, ты уменьшаешь Бога, потому что ты Его ограничиваешь человеческими понятиями»
[207].
И развивая эту мысль, Маймонид говорит, что подлинное прочтение йод, ге, вав, ге было доступно только одному человеку в Израиле: то был Первосвященник текущего года, он знал, как произносить это слово. Во время великих богослужений, когда народ стоял в храме и возносил славословие Богу, приносил Ему жертвы, возносил молитвы, Первосвященник склонялся со своей галереи и неслышно произносил священное Имя. И, говорит Маймонид, это Имя, содержавшее в себе всю тайну Бога, недоступную больше ни для кого и которой обладал единственный человек — потому что Бог не мог оставить Свое творение, — это Имя текло, как кровь, через молитвы народа. И эти молитвы, которые были, как мертвая плоть, становились живым телом, трепетали жизнью и восходили к престолу Божию силой, животворящей силой Животворящего Имени Того, Кто есть Господь, Кто есть Всевышний, но Кто, в то же самое время, словами более позднего писателя, ближе к человеческой душе, чем душа к самой себе.
Но это расстояние между Богом и человеком создавало также искушение, то же искушение, которое рождается вхождением в материальность и отождествлением себя с материальностью все больше и больше и больше: желание достичь Бога теми же естественными средствами, которые человек старался приложить, чтобы постичь тайну тварного мира, хотя ее можно было найти только в сердце Бога, только в разуме Божием и никак иначе. История Вавилонской башни — образец этого. Человечество хотело достичь Того, Кто назывался Всевышним, Того, Кто жил на небесах, Того, Кто был над всем. И люди начали строить башню, которая достигла бы небес. Была ли это физическая башня или интеллектуальная попытка достичь выше и выше и выше, в бесконечность, где пребывает Бог, — неважно. Важно то, что это была попытка человеческими, земными, тварными средствами выйти за пределы тварного к Творцу, вырваться в запредельность.
Что же тогда случается с человеком? Опять-таки мы можем узнать что-то из употребляемых слов. В начале книги Бытия нам говорится, что Адам был сотворен из земли, из праха земного. Позже, когда после падения Господь говорил с ним, Он сказал: Земля ты еси, и в землю отыдешь (Быт 3:19). И Адам вошел в историю как Адам. Его имя — «прах». Это не имя его призвания, это не имя, которое Бог произнес, чтобы вызвать его из небытия и поставить на нескончаемый путь общения с Ним. Это описательное имя того, что случилось с ним. «Земля еси» — вот имя Адама в истории.
И затем, когда мы думаем о Еве, то во второй главе книги Бытия мы видим, как Адам говорит: Она кость от кости моей, плоть от плоти моей. Она будет называться женщина, потому что взята от мужа (Быт 2:23). Она будет иша, потому что взята от иш. Она будет называться она, потому что взята от он, — все это аналогии слов. И она перестала быть она, потому что перестала быть ты, что в тварном мире противоположно я, которое есть Адам, и vice versa. Она получает имя: она названа Евой, но получает это имя, когда ее перворожденный приходит в мир. Она называется Евой, что происходит от еврейского слова, означающего «жизнь». Она — источник, начало жизни в тварном мире по линии человечества.
Когда они были «я» и «ты», они видели один другого как alter ego,
другой я сам. Я цитировал вам писателя древности, который сказал, что после падения каждый из них воспринимал самого себя, самую себя как ego, я, как противоположность alter, другой, другая. До этого они могли смотреть друг на друга и видеть друг друга в славе совершенной красоты. В «Войне и мире» Толстого есть удивительный отрывок, он не предназначается быть толкованием книги Бытия, но является удивительно вдумчивым комментарием на видение любви. Нам говорится, что Пьер видел себя отраженным в глазах Наташи, но свободным от всего, что в нем было дурного. Ничего, кроме его красоты, гармонии и цельности не было в том, как она его видела
[208]. Это — видение alter ego. Мы не так видим друг друга.
И затем, что касается природы, что касается тварного мира, опять-таки мы читали во второй главе книги Бытия, что Бог привел все твари к человеку и он всем им дал имена (Быт 2:19—20). И я подчеркивал, что в древней мысли имя и предмет, им обозначаемый, сливаются, сосуществуют. Имя и есть предмет или личность. Знать имя означало знать тайное существо личности. Только Бог знает имя каждого из нас. Только Адаму было дано посмотреть на каждую тварь Божию и назвать ее. И тут мы видим снова то же явление во всей Библии, сквозь всю человеческую историю. Все твари названы именами как бы описательными или такими, чтобы отличить одну тварь от другой, но название не говорит о существе твари. В человеческих категориях у нас фамилии, общие многим, у нас имена, которые могут быть какие угодно, у нас прозвища, которые могут быть немножко более личными. Но ни одно из них не говорит о единственности человека, когда мы называем его «господин такой-то», «сударыня такая-то» или любым другим именем. Эти имена утрачены, нет возможности прорваться к ним. Только в Боге мы можем обнаружить или приблизиться к имени тварей Божиих.
Когда мы думаем о том, что случилось, мы обнаруживаем странную двойственность, странную раздвоенность. С одной стороны — беспорядок, раскол, распадение тварного мира по отношению к Богу и к самому себе. И когда я говорю «распад», я имею в виду почти этимологическую утрату цельности. Цельность распалась.
Это же мы находим и в природе. Природа и человек больше не могут общаться, потому что только в Боге это общение возможно. Бог говорит Адаму: теперь земля проклята (то есть впадает в состояние скорби, бедствия из-за тебя) и произрастит тебе терния. Тебе надо будет возделывать землю, чтобы она давала тебе пищу, потому что она не будет больше давать ее свободно как акт любви и как бы давая тебе долю твою (Быт 3:17—19).
Дальше приходит потоп. Мир потерял ключ гармонии, который есть Бог. Он также потерял своего вождя, которым должен был быть человек. И раздробленность возрастает. Потоп приходит в очень решающий момент. Нам говорится, что в этот момент, перед потопом Бог посмотрел на человечество и сказал: эти люди стали плотью (Быт 6:3), они обратились в материальность. Они настолько дали себя поглотить материальностью, настолько отчуждились, настолько отделились от Бога, что ничего в них не осталось, кроме потенциальности, — реальности не осталось. И в этот момент случается потоп. Человечество больше не в состоянии держаться как единое целое, потому что оно больше не заодно с Богом, — и врывается потоп.
И затем настает следующая стадия, о которой так больно читать. В девятой главе книги Бытия, после потопа, Ною, его семье и всем животным, спасшимся от потопа, дается новая возможность существования. Но тут Бог говорит нечто очень страшное. Он говорит Ною: все твари отданы тебе, они будут тебе в пищу, а ты будешь им в страх (Быт 9:2—3). Вот крайний предел ужаса, который человеческий грех внес в тварный мир своим собственным предательством.
Но вернемся к человечеству. Что мы видим? Мы видим — я уже говорил об Адаме и Еве и не буду к этому возвращаться — Каина и Авеля. Каин трудится на земле, Авель — пастух. Не есть ли это начало того, что мы находим в притче Христа о тех, кто были званы на трапезу царя и начали отказываться (Лк 14:18—20)? Первый сказал: я купил клочок земли, я должен его обработать. Но толкование говорит, что он думает, будто обладает клочком земли, тогда как он стал пленником этой земли. Земля держит его в плену, он не свободен оставить ее даже для того, чтобы пойти на пир Царя Небесного. Второй говорит: я купил пять пар волов, я должен испытать их. У меня есть задача в жизни, у меня есть функция в жизни, я не могу эту задачу бросить, чтобы идти на пир, бросив дело. Считайте, что я не приду… И третий говорит: у меня невеста, у меня собственная радость, зачем мне чья-то другая?.. Все это — полная плененность у материальности, у собственного занятия, у собственной радости, у собственного удовлетворения, собственного удовольствия.
Второй убийца, с которым мы встречаемся, это Ламех. Ламех — тот, кто говорит, что отомстит семь раз семьдесят за каждую обиду своему обидчику (Быт 4:24). Каин — человек, который был пленником праха и следовательно, ненавистником всякого, кто сказал бы: нет, только не прах. Я хочу быть свободным. Я хожу перед Богом. Я на земле странник, не поселенец… В случае Ламеха мы видим месть, активную ненависть и убийство. Глядя на потомков Каина, мы видим, что они — изобретатели всех ремесел и искусств, и они тоже пускают все более глубокие корни оседлости на земле.
Я уже упоминал Вавилонскую башню. Теперь этот распад, этот раскол, это движение прочь от Бога — явление не только личного порядка. Таковы не только Адам, Ева, Каин, Ламех, те, которые стали плотью, последующие поколения в большей или меньшей мере. Здесь нечто большее.
Начиная с Авраама, между Богом и человеком был установлен завет, означавший, что Бог будет вождем, руководителем, Господом избранного народа Израильского, и что в ответ на это Израиль будет полностью Ему послушен, посвятит все свое существование служению Богу, молитвенному поклонению Богу и исполнению Его путей и Его воли. И мы видим, что это продолжается через весь период, который мы называем временем патриархов. Это продолжается и в период судий. И тут случается первая катастрофа. Во времена Самуила израильтяне смотрят на его сыновей, ожидая, что один из них унаследует функцию судьи или вождя Израильского, и находят, что они недостойны. И вместо того чтобы довериться Богу, Который из ничего может сделать Своего вестника, Который может избрать из народа кого угодно, чтобы быть вождем Своего народа, они обращаются к Самуилу и говорят: мы хотим быть, как всякий другой народ. Мы хотим, чтобы ты дал нам царя. Мы хотим земной обеспеченности. Мы хотим, чтобы невозможно было случиться никакому несчастью. Мы не можем довериться Богу, Его попечению о нас, Его заботе о нашем благополучии. Мы хотим благополучия земного, такого благополучия, которое мы видим у других народов. И Самуил поворачивается к Богу и говорит: они отвергли меня, что мне делать? И Господь говорит: не тебя они отвергли, но Меня. Дай им царя, но предупреди их о том, что этот царь сделает с ними. И в книге Царств следует целый отрывок, в котором Самуил описывает им, под руководством Божиим, что значит быть подвластными, быть порабощенными земному царю, вместо того чтобы быть ведомыми Тем, Чей закон — совершенная свобода в истине и любви (1 Цар 8).
Но на этом дело не кончается. Проходят века. Иудея, Палестина под властью римлян. Приходит время, когда Иисус начинает Свое служение. Затем приходит конец, и перед лицом Пилата, когда Пилат говорит: Царя ли вашего распну? — первосвященники кричат: не имеем царя, кроме Кесаря (Ин 19:15). Они отвергают царя даже их собственной крови, царя их народа. Они отказались быть ведомыми одним Богом, теперь они отказываются от руководства Человеком, который из народа Божия. Они соглашаются быть ничем иным, как маленькой народностью под властью, под руководством языческого царя. Это — конец теократии, конец того, что Богу на земле зримо принадлежит народ, определяемый какнарод. Теперь наступает время другого народа: он — Христово тело, народ, рожденный верой, рожденный от Христа и от действия Святого Духа.
Но это не означает, что вне Завета ничего больше не остается. Вспомните слова Священного Писания, что меньшее благословляется бо{'}льшим (Евр 7:7). После получения Завета, Авраам, принявший Завет, встречен царем Салимским, царем мирного града Мелхиседеком, чье имя означает «праведный царь», царь, являющий собой праведность, и Авраам получает его благословение (Быт 14:18). Авраама благословляет тот, кого мы бы назвали языческим царем, потому что праведность, святость не заключена в рамках только Завета, праведность, святость предложены всякому, кто отдаст себя в полное послушание Живому Богу.
Но между мужчиной и женщиной устанавливается новое взаимоотношение. Я уже сказал, что вместо того, чтобы быть «я» и «ты», alter ego, теперь они как бы лица, противостоящие друг другу. Они обнаруживают, что наги, потому что они больше не едины. Они — две противоположности, лицом к лицу друг с другом, не признают своего единства, они не узнают себя друг во друге. И теперь наступает другой элемент трагедии и победы. Бог говорит, что мужчина будет господствовать над женщиной и влечение женщины будет к мужу (Быт 3:16). На первый взгляд это ужасно: чудовищная ситуация, которая господствует на протяжении истории, и мы рассмотрим ее в следующей беседе. Но на другом уровне это — сплачивающая сила в ситуации разъединения. Это единственная возможность, чтобы два существа, которые не могут больше соединиться в совершенной отдаче, любви и экстазе, держались вместе голодом друг по другу, притягательностью друг ко другу, выражаемой различными путями.
И как мы видим, что имена Бога указывают на тоску по Боге, на отношение к Богу, ставшему далеким, как мы видим, что отношение Адама и Евы друг ко другу является одновременно разделенностью и тоской друг по другу, когда природа отчуждена от своей изначальной цельности, так же мы видим, что все это одновременно, на другом уровне, на уровне праха земного созидает сплоченность такую, которую уже не разъединить. Любовь, бывшая совершенной свободой, полной самоотдачей, уже не та, но она выживает как любовь. И один из отцов Церкви мог сказать, что брак, то есть взаимоотношение любви между мужчиной и женщиной, есть таинство Ветхого Завета в самом сильном смысле этого слова, которое выжило как таинство в падшем мире, и в Израиле и в языческом мире, потому что мир не может жить без сакраментального взаимоотношения как между существами, так с Богом и в Боге.
Ответы на вопросы
Адам один давал имена всем живым существам. Уже тут утверждается, что женщина должна молчать, не участвовать в решениях общественных задач?
Я не думаю, что это как-то связано с предписанием женщинам молчать, потому что невозможно дать предписание тому, кто еще не существует. Библия ясно говорит, что все твари были приведены к Адаму, чтобы он дал им имена, и тогда-то он и обнаруживает, что он один. Все другие твари имели как бы пару, мужскую и женскую половину, и в этот момент Адам с ясностью осознал нечто. Он вырос в зрелость, которая позволила родиться Еве, но он должен был сам обнаружить, что это случиться. Так что это не было односторонним действием Бога, Который в какой-то момент сказал: «Что же, пора предоставить Адаму жену». Это был момент, когда настала зрелость, и при встрече с другими тварями пришло ее осознание. Имена давал всечеловек, anthropos, в котором содержались две крайние возможности. Можно сказать, что имена давала Ева, так же как Адам.
Индусское понятие «майи» аналогично православному взгляду на тварный мир?
Мне кажется, есть разница. «Майя» — иллюзия, тогда как ложь — искаженная и использованная во зло часть полуправды, приукрашенная так, чтобы казаться реальной. Мы только что беседовали с отцом Василием, и я приведу вам пример, о котором мы говорили. Когда Христос был на суде у Пилата, Пилат спросил: отпустить ли вам Иисуса или Варавву (Мф 27:17)? Для нас, в наших современных языках это просто два имени, но на еврейском языке «бар абба» означает «сын отчий». То есть «Освободить ли Единородного Сына Бога Отца или этого человека по имени „сын отчий“?». И тут ложь: выбор сделан как бы на том же самом слове. И то же самое относится ко всем случаям, когда мы обольщены злом. Нам не говорят: вот зло, соверши его. Нам говорится: вот более короткий путь к добру, вот способ достичь того, к чему ты стремишься, более простым, более легким путем… И постепенно целый мир строится, который не соответствует реальности, неверен фактам, в большой степени обманный, и в нем можно только умереть.
В какой мере живой человек способен отрешиться от своей греховной природы и бескорыстно созерцать Божий мир?
Можно рассматривать тварный мир двояким образом. Помните место из Писания: Небеса поведают славу Божию (Пс 18:2). Можно смотреть на все тварное с чувством восторга, благоговения и пытаться познать, открыть, как все действует, существует, живет. Или можно отнестись к предмету, к материи этого мира, как будто проводишь посмертное исследование, вскрытие мертвого тела. И мне видится тут большая разница. Действия могут быть очень похожими, а подход очень разный. Действительно, древний мир открывал для себя величие Божие, открывал мудрость, открывал красоту, гармонию, открывал смысл и еще многое другое через созерцание всего видимого, осязаемого, ощутимого. Но из рассказа книги Бытия получаешь впечатление, что Адам отождествляется с тварным миром, погружается в него и уже не способен видеть его, потому что сам стал его частью, частицей. Чтобы быть в состоянии видеть некую ситуацию, надо, с одной стороны, быть внутри нее, с другой — не быть частью, частицей ситуации. Если вы частица ситуации, вы не можете смотреть на нее. И я думаю, в этом вся разница. Адам, погрузившись в материю, больше не может видеть ее вне себя, он — часть этих бурлящих возможностей, но и пленник их, он не может смотреть как бы созерцательным взором.
Из того малого, что я знаю о науке, я думаю, что великие ученые обладают способностью, с одной стороны, рассматривать вещи детально, анализировать, работать с ними и вместе с тем сохранять созерцательное чувство удивления. Я открыл для себя физику, химию, биологию в университете, и одновременно я открыл Евангелие и Достоевского, и помню, как одно подкрепляло другое, и как я видел в учении Мориса Кюри и других о физике развертывающуюся картину творения Божия. Это не были мистические переживания в том смысле, что я не подменял физические факты чудесами, но это ви{'}дение все росло, расширялось, углублялось. И чем больше углубляешься, тем шире открывается горизонт, и тем больше поводов удивляться, и тем больше новых возможностей для открытий, словно идешь ко все расширяющемуся горизонту. И мне кажется, это возможно, только если ты сам не входишь составной частицей в то, что изучаешь. Можно смотреть на бушующее море, стоя на берегу, но невозможно смотреть на бурю, если сам тонешь в ней. И мне кажется, с Адамом произошло то, что он стал тонуть. Погрузившись в тот прах, которым сам был, он уже не был способен смотреть на него из другой ситуации, когда, будучи в Боге, он мог смотреть на все тварное, зная, что он принадлежит тварности, но не поглощен ею.
Может ли грех послужить к чему-нибудь доброму?
Знаете, Ириней Лионский в месте, которое я теперь не могу найти (в свое время была очень интересная статья Оливье Клемана об этом в «Вестнике Русского Экзархата»)
[209], говорит, что даже грехопадение и опыт зла и разработка проблемы зла, отвержение того, что разрушительно в зле, может быть путем спасения. Зло не имеет того абсолютного измерения или качества, какое есть в добре, — в том смысле, что нет добра отдельного от Бога. Тогда как зло — область тварного и падшего мира, так что, вырастая в Боге, можно начать различать,
что есть добро,
чтозло, где тьма, где свет. Так же как здоровый человек или нравственно здравый человек отвергнет определенные вещи, а человек с порчей, будь то физической или нравственной, будет колебаться и порой сделает выбор в пользу зла.
Как вы относитесь к тому, как Достоевский изображает человека?
Я не специалист по Достоевскому, но мое впечатление от Достоевского то, что во всем своем творчестве он описывает борьбу людей, но никак не может описать победу, потому что именно этого он сам так и не достиг в себе. Всю свою жизнь он боролся и боролся с крайностями, и когда он пытается изобразить человека, который одержал победу, результат очень слабый, безвкусный, даже не сахар, а сахарин. Возьмите старца Зосиму
[210]: это очень неудачный образ Тихона Задонского, который был мощной фигурой. А здесь все слащаво. Много в нем трогательного и хорошего, но оно нереально, потому что в себе Достоевский этого не видит. С другой стороны, Достоевский всегда старался описывать людей, как они есть, не святых, достигших святости, и не грешников (за исключением, может быть, Ставрогина)
[211], доведших себя до погибели. Он всегда показывает людей, которые борются в многосложности своей собственной души и в окружающих влияниях. И то знание, которое мы приобретаем, и то, что нам открывается, я думаю, очень важно: все учит нас не спешить выносить суждение и называть кого-то светлым, кого-то темным, а знать, что свет и во тьме светит, и тьма не может его принять, но не может и погасить (Ин 1:5). И что нельзя сосредоточиться на свете и пропустить без внимания тьму, потому что это будет разрушительно для человека, которого мы безусловно почитаем, не видя в нем хрупкость, слабость или зло.
Христос говорит, что в будущем веке не женятся и не выходят замуж…
Я думаю, то, о чем говорит Христос, это ситуация после конца света: это не просто продолжение того, что случается в этом мире. Христос говорит не о том, скажем, что люди, которые не были в браке, теперь уже не найдут в вечности жену или мужа. Я также не думаю, что Он говорит, что взаимоотношения, создавшиеся во время земной жизни, распадутся. Нет, они останутся такие, какие есть, и раскроются таким образом, что не упраздняют единственность этих взаимоотношений, но и не исключают приятие другого, не отвергают другого. Я как-то употребил фразу, которую нашел случайно (как большую часть того, что в моих словах бывает верно), что когда два человека любят друг друга, они могут принять третьего, только если эти двое так едины, что составляют одно и принимают второго. И это невозможно, если они принимают третьего как два отдельных человека, в сочетании тройного или треугольного взаимоотношения. Только если они едины, они могут встретить другого как «ты», а не «его» или «ее» в лице третьего человека.
Является ли таинством только церковный брак?
Видите ли, таинство можно определять двумя способами: определением, которое дается в катехизисе или в богословской мысли, или так, как пишет о таинствах целый ряд духовных писателей: что таинство — действие Божие во спасение людей. И относительно того примера, который вы даете, есть место в Кодексе Безы, хранящемся в одной из библиотек Кембриджа, где говорится: «Спросили Христа, когда придет Царство Божие. И Он ответил: Царство Божие уже пришло там, где двое — уже не двое, но одно». Он не сказал: когда совершится служба в церкви, или когда будет сделана запись в гражданской конторе. Он говорит о чуде: двое стали едины во взаимной самоотдаче и приятии одного другим. И я помню книгу профессора Катанского, в которой он пишет, что под влиянием Запада и также по практическим соображениям мы говорим о семи таинствах, но можно сказать, что любое действие Божие, которое вносит божественное измерение в какую-либо ситуацию, можно рассматривать как таинство. И он упоминает, что в определенную эпоху насчитывалось двадцать два таинства
[212]. То же самое и профессор Ильин много лет тому назад говорил мне, что любое действие Божие, которым восстанавливается цельность или создается ситуация, принадлежащая вечности, можно рассматривать как таинство. Он говорил: любое чудо Божие есть нерегулярное таинство, то есть таинство, совершенное не в соответствии с предусмотренными путями и способами. Оно, если хотите, вторжение Бога в ситуацию, которое возводит ее с земного уровня на уровень небесный.
Что означает «вечный» и «вечность»?
Мы употребляем слово «вечный» по отношению к чему-то, чему не будет конца. Но если поставить себе вопрос, существует ли что-то подобное, ответ будет: нет ничего бесконечного, нет бесконечности, кроме Бога и в Боге. Так что вечность означает погруженность в Бога, означает — быть в единении с Богом, вырастать в приобщенность Богу. Можно говорить о временно{'}м аспекте: начинается это теперь уже и развивается, но по сути это то, как мы общаемся с Богом и Бог общается с нами.
Размножение человеческого рода — результат человеческого греха?
Скажу сразу, что у меня нет мнения по этому поводу, но мне известно, что среди отцов и духовных писателей нет единства по этому вопросу. Есть гимн о браке, кажется, Григория Богослова. Большинство древних писателей говорят о том, что зачатие как мы теперь его знаем, связанное с желанием, с обладанием, с физическим голодом и вожделением, не имело бы места в раю, но ничто не исключает своего рода отношение, подобное появлению Евы, когда нам говорится, что на Адама нашел экстаз и появилась Ева. Думаю, можно разделить писателей на две крайности: одни видят красоту и значение брака, другие по причинам аскетическим отрицаются его. Но я не думаю, что это справедливый или обоснованный комментарий к тому, что мы находим в Ветхом Завете, тем более в Новом Завете.
V
В прошлой беседе я остановился на том, что после падения вся история развивается уже не в свете Божием, но в сумерках, в полутьме, где все становится двусмысленным, призрачным, где вещи не всегда предстают такими, каковы они есть. И в то же время мы знаем из Священного Писания, из начала Евангелия от Иоанна, что свет светит и во тьме и что хотя тьма не может принять свет, она не может и погасить его (Ин 1:5). Есть китайская пословица, что вся тьма мира не может погасить самой малой свечки. И вот мы живем в мире, в котором присутствуют тьма и свет. Продолжая эту аналогию, можно сказать, что там, где есть источник света, тьма пронизана этим светом. Мы, может быть, неспособны признать это, почуять это нашими чувствами, но одно совершенно точно: где есть самомалейший источник света — там тьма неполная уже. И этот источник света существует. Он существует на всех уровнях.
Бог не оставил мир. Люди, возможно, потеряли Бога из вида, могут быть неспособны на общение с Ним в свободе всесторонней встречи, совершенной самоотдачи Бога и человека в этом общении. Но Бог здесь. Он здесь, и это можно уловить многообразными путями. В первую очередь, в Священном Писании, где описано время после падения, мы видим, что Бог открывает Себя. Он открывает Свою Личность так, что человек, неспособный прорваться к Нему, встречается с Ним на своем собственном уровне.
Мы видим, что у патриархов, у судей и у святых всех времен есть знание о Боге. И это знание о Боге является в основном тем, что Сам Бог заявляет: Я есмь Сущий, Я — Тот, Который есть (Исх 3:14). Это предел того, что можно сказать о Боге помимо тайны приобщения, когда знаешь так, как ты познан. И это присутствие Бога, невидимое, подчас едва уловимое, подкрепляется обещанием со стороны Бога и тоской со стороны человека. Потеряв Бога, человек ранен голодом, ранен жаждой. Он как бы содержит в себе пустоту такую глубокую, такую бездонную, что ничто не может ее заполнить, кроме Бога. И это создает и укрепляет тоску, жажду, голод, иногда отчаяние, когда человек кричит к Богу: приди! Приди, Господи! О, как долго, Господи, как долго!..
Но есть и обетование. Господь не оставляет Свое творение, и мы неоднократно можем уловить это присутствие. Оно может быть как бы подчеркнуто словами Исайи пророка, кажется, в 7-й главе его пророчества, когда в Божие собственное имя он обещал, что родится ребенок и что имя этого ребенка будет Еммануил (Ис 7:14). «Еммануил» по-еврейски означает «с нами Бог», «Бог посреди нас». Это обетование, которое оправдывает тоску, но есть тоже реальное присутствие. Как часто мы видим в Ветхом Завете провидца, пророка, святого, который встречается с Богом лицом к лицу или касается края одежды Его, и возглашает: увы, я видел Бога, я должен умереть! (ср. Исх 33:20). Так восклицают несколько святых Ветхого Завета.
В некоторых отрывках мы тоже видим это присутствие Божие, непостижимое, за пределом понимания. Вспомните рассказ о юношах, брошенных в печь огненную царем Вавилонским. Царь приходит, чтобы посмотреть, как они гибнут в пламени, и восклицает: что это? Не бросил ли я троих людей в цепях в пещь огненную? И вот я вижу четырех, свободных от оков, и один из них — Сын Божий? (Дан 3:91—92).
Есть также чувство уверенности, что Бог придет и встанет рядом с человеком для его спасения. В 9-й главе книги Иова мы слышим, как Иов восклицает из глубины своей муки: где тот, который встанет между моим судьей и мной? И в одном тексте прибавлено: кто положит свою руку на свое плечо и на мое плечо (Иов 9:33)? Кто — тот, который пойдет на этот шаг, займет место в сердцевине конфликта между Богом и человеком? Кто, согласившись быть между двоих, в точке, где сосредоточено все напряжение конфликта, прострет свои руки, положит свою руку на плечо Божие и на плечо человека, удержит их вместе и соединит их? Это было сказано за столетия до Воплощения, и в то же время это было видение вещей грядущих.
Так, Бог присутствует. И Дух Божий дышит, продолжает дышать и в Ветхом Завете и даже вне его. Благодать Божия простирается повсюду, достигает пределов истории, пределов человечества на протяжении веков. И таким образом, познание Бога, которое стало актом тоски и которое также коренится в Божественном обетовании, находит выражение в двух вещах. Это, с одной стороны, вера, что означает — доверие Богу, несмотря на все трагедии мира, несмотря на все, что случается, несмотря на чувство мира осиротевшего, брошенного, мира, который стал темным и страшным, — вера как уверенность, что Бог пребывает верным и что поэтому человечество, мир поддерживается Его присутствием, Его заботой, Его провидением. И, с другой стороны, послушание, верность Божиему слову и верность тоже тому, что Бог вложил в сердца и жизнь людей. Послушание Его слову в Ветхом Завете, в заповедях, во всем, что было передано святыми Божиими, подвижниками духа людям, но тоже и послушание закону Божию, запечатленному, по слову апостола Павла, в сердцах людей (Рим 2:15), закону Божию, вписанному в нас, потому что это закон нашего существа, закон нашего существования, потому что это единственная сила, которая движет нами согласно нашему призванию. Описание этого вы можете найти в 11-й главе послания к Евреям.
Так что здесь взаимосвязь между Богом, которая, с одной стороны, покоится на уверенности, а с другой стороны, пребывает в сумерках. Это больше не непосредственное ви{'}дение: можно видеть только через затемненное стекло — но можно видеть (1 Кор 13:1). Есть знание, и знание опытное, потому что опыт веры не есть просто доверчивость наивности. В писаниях святого Макария Египетского есть отрывок, где он старается описать момент, когда опыт становится верой. Он говорит, что в начале мы проходим через личный, прямой опыт присутствия Божия, мы касаемся края Его ризы. Так или иначе, мы становимся уверены в Его существовании, Его близости, Его величии, Его святости. Мы исполнены Божественным трепетом, мы склоняемся до земли и преклоняемся перед Ним. Но затем этот момент проходит. Опыт больше не настоящий, не непосредственный, но уверенность, что это было, что событие было опытно пережито, остается с нами. Это замечательное описание, потому что нет такой вещи, как слепая вера. Есть вера, уверенность, да, но она всегда коренится в чем-то. Это «что-то» может быть очень исключительно мощным опытом, как, например, опыт апостола Павла на пути в Дамаск (Деян 9). Это может быть нечто плавное и нежное, как глас хлада тонкавечернего ветерка, о котором говорит пророк Илия (3 Цар 19:12). Это может быть прикосновение к краю Его ризы (Мк 6:56), но есть рядом с нами кто-то, кто знает больше и говорит нам, чья это риза и что это прикосновение может означать в нашей жизни. И есть, в пределе, Божие собственное слово, слово Бога, говорящего о Себе и говорящего нам то, чего никто не может знать, кроме Него.
Но есть также и присутствие Святого Духа. Я упомянул тихий, спокойный, тонкий голос, который касается нашего сердца, освежает нас, дает нам абсолютную уверенность. Не тот ли это голос, о котором Господь говорил Никодиму, когда Он сказал, что Дух дышит, где хочет (Ин 3:8)? Мы не знаем, откуда Он приходит и куда уходит, но одно мы знаем наверное: что нас освежило, обновило дыхание Духа, которое достигло до нас. И опять, этот опыт может быть очень простым, незатейливым опытом внутри нас — это внутренний стон, тоска, внутренний плач: приди, приди, Господи, не закосни! Доколе?.. Или это может быть (и это касается не только Нового Завета, но также, например, Осии пророка) крик к Богу, когда осознаешь, что Он — наш Отец. Это — зов к Тому, Кто любит, Тому, Кто спасает, Тому, к Кому мы можем обратиться и Который никогда не отвернется от нас.
И вот даже до Воплощения есть чувство, что Бог посреди нас. Воплощение делает Бога осязаемым, видимым. Воплощение дает Богу человеческое лицо и человеческое имя, но Он таинственно присутствует на протяжении всей истории. Его образ начертан в каждом из нас, веруем мы или не веруем. И этот образ является движущей силой, которая созидает нашу судьбу и наше становление, верующие ли мы или неверующие, потому что во всех нас запечатлен этот дивный образ Божий.
Но сумерки также распространяются и на взаимоотношения человека и окружающего мира. Я уже процитировал вам слова Божии, страшные слова после потопа, когда Ною говорится, что все твари даны ему в пищу: они будут в пищу вам, вы будете им в страх (Быт 9:2—3). И раньше не сказал ли Бог Адаму, что потому что тот отвернулся от Бога, потому что тот больше не может общаться с тварным миром в Боге и через Него, мир теперь впадает в состояние бедствия и уже не способен принести человеку все, что мог принести в акте самоотдачи, акте любви. Человек должен будет обрабатывать землю, а земля будет взращивать терния и волчцы, и работать будет должен человек в поте лица своего (Быт 3:17—19). И мы видим это на протяжении истории. Мы видим потоп. Мы видим весь распад и раздробление мира, за что мы теперь активно ответственны. Мы сейчас ощущаем это в такой мере, в какой не могли ощущать еще несколько столетий назад. Мы разрушаем мир Божий, и мир Божий отвращается от нас, восстает на нас и несет нам трагедию в ответ на нашу утрату Бога и утрату общения с миром в мудрости Божией и святости Божией.
Кроме того, сумерки простираются и над человеческими взаимоотношениями. Я уже это упоминал. Я только укажу еще на одну или две вещи. Адам и Ева, когда они впервые встретились, видели друг во друге откровение самих себя и в то же время радикальную инаковость, которая делает любовь возможной. После падения это пришло к концу. Они больше не видят один другого как alter ego, но как alter противоположный ego, «другой» противоположный «мне». И они обнаруживают свою наготу. Кажется, святой Григорий Нисский, комментируя отрывок Ветхого Завета, где мы читаем, что Господь Бог сделал Адаму и Еве одежду кожаную и одел их, говорит об этом, что в начале человек обладал человеческой физической природой, похожей на ту, которая описывается у воскресшего Христа. С падением наступает непрозрачность, отяжеление, и человек становится пленником ограниченного состояния как души, так и тела.
В других категориях можно сказать, что в момент их создания, возникновения Адам и Ева были двумя личностями, persona. Теперь они стали индивидуумами
[213]. Невозможно противополагать одно другому абсолютно в том смысле, что индивидуум продолжает обладать свойствами личности. Они не теряют образа Божия. Они не перестают быть тем, чем Бог сделал их. И в то же время случается нечто трагичное. Когда мы хотим описать личность, мы можем знать личность только через причастность ей. Когда же мы думаем об индивидууме, мы можем описать индивидуума через свойства, общие всем индивидуумам, но которые сгруппированы специфическим образом, позволяющим опознать одного от другого. И внутри этого индивидуума, которого можно противоположить другому, которого мы узнаем по контрасту, по противоположности, есть личность, но надо иметь глаза, чтобы прозреть сквозь непрозрачность в глубину.
Вы помните, что в одной из наших бесед я привел отрывок из книги Чарльза Уильямса, где женщина, свободная от своего тела, смотрит на реку Темзу и видит ее сначала как слой грязной, тяжелой, жирной, отталкивающей, противной воды. Но потом, глядя глубже и глубже, эта женщина открывает все более светлые и светлые слои воды, и в сердце ее — чистую воду, а в сердцевине этой чистой воды, словами Чарльза Уильямса, воды, которые Христос дал самарянке (Ин 4)98. Это того рода зрение, которым надо обладать, чтобы сквозь непрозрачность индивидуума прозреть тайну личности и быть способным не только общаться, но и быть причастным. Но даже внутри личности существуют раздробленность, разлад. Мы все знаем, как наше сердце, наш ум, наша воля, наша плоть находятся в постоянном конфликте друг с другом. Короче, можно привести слова апостола Павла: зло, которое я ненавижу, я делаю, добро, которое люблю, я не делаю (Рим 7:15—25). Не есть ли это результат той разбитости, которая является нашим уделом?
Когда мы думаем о взаимоотношении, описанном словами третьей главы книги Бытия (Быт 3:16), мы видим, что между Адамом и Евой устанавливаются взаимоотношения, при которых мужчина властвует над женщиной, а женщина тяготеет к мужчине. Но если подумать о ситуации, в которой мы все находимся, — не правда ли, что в мужчине есть властвующее начало, но в женщине не только тяготение, но и способность победить мужчину, способность покорить и подчинить мужчину. И это взаимоотношение с обеих сторон есть результат падения. Мужчина и женщина не были созданы, чтобы одна покорялась, а другой командовал. Вот цитата из Стюарта Милля на тему подчинения женщин: «Неравенство прав между мужчинами и женщинами не имеет другого источника, кроме как закон сильнейшего. Было ли когда-либо господство, которое не казалось естественным для обладавшего им?». И чувство несправедливости этой ситуации не есть современное явление. Оно зародилось очень и очень давно. В сочинениях французского писателя Монтеня есть отрывок, очень ярко это выражающий: «Я говорю, что оба, мужчина и женщина, вылеплены из одной и той же формы. За исключением образования и обычая нет разницы между ними. Платон призывал их без различия к сообществу во всех науках, упражнениях, задачах и функциях войны и мира в своем государстве». Мы должны помнить, что положение, в котором мы находимся в мире и в какой-то мере — нет, в огромной мере — в Церкви, есть результат падения.
Изначально существует разрушительное взаимоотношение, и это разрушительное взаимоотношение есть результат страха, обид и желания подавить то, чего боишься. Это мы находим и в христианском обществе, и вне его. И поэтому для того, чтобы понять взаимоотношение мужчины и женщины в Церкви, надо вернуться назад, к началу Бытия, как я попытался сделать, потому что только там мы можем найти подлинное взаимоотношение, каким его возжелал Бог.
С Воплощением это взаимоотношение должно быть восстановлено. И оно не восстановлено отчасти потому, что мы принадлежим миру двусмысленности, миру греха, сумеречному миру. Но наш долг как христиан трудиться над восстановлением человечности между мужчиной и женщиной и между всеми частями общества. Вслед за апостолами, вслед за апостолом Павлом мы говорим, что Христос — новый Адам (1 Кор 15:45). Из всего, что мы читали и говорили об Адаме, вполне ясно, что Адам был sum total всего человечества, в котором от начала и до дня, когда Ева родилась от него, когда он достиг зрелости, сделавшей это возможным, содержались оба начала: женственность и мужественность.
Я думаю, что невозможно не согласиться, что то же верно и о Господе Иисусе Христе. Святой Григорий Богослов говорит, что то, чего Христос не взял на Себя, того Он не спас
[214]. Если Он не всецелый человек, содержащий всю тайну мужчины и женщины, то только та доля человечности, которую Он принял, может надеяться на спасение. Если во Христе мужчина и женщина не составляют вместе всецелую тайну человечества, то лишь часть человечества спасена, а другой просто не существует. И с этим мы не можем согласиться ни в каком случае, особенно когда думаем о Божией Матери и о воплощении Господа нашего Иисуса Христа, потому что именно из сумерек постепенно возникает та святость, та совершенная самоотдача, которая делает возможным для Сына Божия стать Сыном человеческим. Когда мы читаем в Евангелии от Луки или в Евангелии от Матфея родословную Христа (Мф 1:17; Лк 3:23—38), то ясно делается, что среди Его предков были святые, но были также и люди, о которых сомнения нет, что они были грешниками. И вместе с этим в них было нечто, что делало возможным не прервать линию, что не препятствовало родословную линию привести от Адама, от первого Адама ко второму Адаму через Матерь Божию. И тут мы находим то, о чем я уже упоминал: тоску по Боге, веру, то есть доверие Ему, борьбу, очень часто недостаточную и безуспешную, за то, чтобы выполнить Его волю, самоотдачу Ему, какой бы несовершенной она ни была, но всецелую в своем намерении. И даже грешники Ветхого Завета, являющиеся частью этой родословной Христа, не могли приостановить потока, который от Адама вел к Божией Матери. Поколение за поколением готовили плоть и душу, человеческую плоть и человеческую душу Христа для Воплощения. И шаг за шагом это утончавшееся человечество приближалось все больше и больше к Марии, Матери Божией, чтобы однажды завершиться в Ней. В Ней все человечество облеклось в свою тоску, свою веру, свое послушание, свою верность и свою способность совершенной самоотдачи и отдало себя Богу так, чтобы Бог мог отдать Себя человечеству.
В одном из своих сочинений святой Григорий Палама говорит, что Воплощение было так же невозможно без согласия Божией Матери, как оно было невозможно без положительной воли Отца. Это — всецелое, свободное сотрудничество без принуждения. Это был дар Себя со стороны Бога и всецелая отдача Себя со стороны Божией Матери. И когда мы думаем о человечестве Христа, то это человечество — Мариино, а Божество Его — Отчее. И, может быть, слишком смело так сказать, но я очень глубоко это переживаю: когда во время Литургии мы стоим перед освященными Дарами, хлебом и вином, ставшими Телом и Кровью Христа, мы предстоим Мариину человечеству, которое есть человечество Христа. Вот почему сразу после освящения Даров мы провозглашаем: Особенно же о Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной и славной Деве Марии, Приснодеве и Матери Божией… Мы созерцаем тайну Воплощения, но итог всего человечества до Нее — Ее человечество, утонченное, совершенное и в конце отданное и посвященное Богу.
И когда мы думаем о родословной, может быть, мы можем думать в категориях хлеба и вина, принесенных для освящения. Сначала это пшеница, которая растет из земли, той земли, которую грех человеческий предал во власть противника, предал так, что она больше не обладает дивной свободой тварей в Боге. А теперь вера человеческая берет немного от этой пшеницы и приносит ее в дар Богу, освобождает ее от рабства, возвращает ее Тому, Кто есть свобода всякой твари, и делает из нее хлеб, который называется Агнцем. И в этот момент он подобен деревянной доске, на которой будет написана икона. Затем приносятся молитвы, и из этого хлеба вырезается куб, который должен проображать Христа-Краеугольный Камень, Христа-Скалу, Христа Сына человеческого и Христа Сына Божия. И он заколается. И в этот момент он действительно становится иконой Воплощения Сына Божия, ставшего Сыном человеческим, распятым и закланным за спасение мира. Затем его полагают на престол, и он приносится Богу по-новому, приносится, предлагается Богу с молитвой, чтобы Дух Святой преложил, превратил этот хлеб в Тело Христово. И Дух Божий снисходит на него, и то, что было иконой, становится самой реальностью, воплощенным Христовым присутствием. Это, может быть, образ того, что мы можем видеть в родословной Христа: как человечество постепенно освобождает себя от собственного же предательства, приносит себя Богу, как дар, принимает заклание, чтобы стать свободным от рабства, и затем силой Святого Духа преображается и становится Церковью.
В следующий раз я хочу говорить с двух разных точек зрения о Церкви и о наших взаимоотношениях внутри Нее, о Церкви как идеале, как том,что она есть, и также как о реальности: исторической, трагической, мучительной, очень часто уродливой реальности, и о проблеме человеческих взаимоотношений, особенно мужчины и женщины внутри Церкви, на фоне того, что мы знаем и исповедуем о Матери Божией.
Ответы на вопросы
Почему Ева отозвалась на голос соблазнителя?
Думаю, в том, что вы говорите, интересно обозначена связь между змием в раю и Благовещением. Сатана, чьим образом является в раю змий, назван «обвинителем». А Святой Дух во многих переводах называется «Заступником». И это очень интересное соотношение. Это не единственный способ описать того и Другого. Diabolos — тот, кто сеет рознь. Он убийца, он лжец, он же и «клеветник», и мы видим его в образе, в роли врага-обвинителя в рассказе об Иове. Он предстает перед Богом и клевещет на Иова, будто тот праведен лишь потому, что это ему выгодно. Разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его? (Иов 1:9—10). На другом конце мы видим Духа Святого. Дух Святой — Защититель в том смысле, что Он Тот, Кого призывают в конфликтной ситуации и Кто встает за вас, Он — ходатай, «уполномоченный», хотя все эти слова никуда не годятся. Он — Тот, Кого призывают на помощь и Кто воздыханиями неизреченными (Рим 8:26) взывает к Богу, Он — Тот, Кто учит нас называть Бога Отцом, Он — Тот, Кто, по переводу Моффата, созидает в нас познание Христа и Его образ. Так что Он на самом противоположном конце шкалы.
Первая Ева заговорила с обманщиком, лжецом, сеющим рознь, который, совершив свое дело, становится обвинителем. А на другом краю мы видим Святой Дух, Который учит нас, побуждает нас, помогает нам взывать к Богу и содействует становлению образа Божия в нас. С другой стороны, как вы знаете, слово, употребленное в Новом Завете, может быть переведено по-разному. «Утешитель» — что это значит? Утешитель успокаивает нас в нашей разлуке со Христом, Который для нас, христиан, есть или должен быть нашей любовью, Тем, к Кому мы устремлены, Кто наш Спаситель, к Кому мы обращены благодарностью, Кто наша Радость. Вы наверно помните слова апостола Павла: Жизнь для меня — Христос (Флп 1:21). Он же — Тот Утешитель, Который подает силу, помогает нам в борьбе, помогает остаться верными, быть послушными не рабски, а творчески. И наконец, Он Утешитель в том смысле, что в сумерках истории Он уже дает нам радостную уверенность веры, зачаточного, еще несовершенного познания Христа и через Христа — познания Отца. Так что, да, вот два полюса, и как замечательно, что то и другое может быть выражено одной простой парой слов: один — обвинитель, Другой — Защитник.
Теперь о Еве. Ева получила свое имя, потому что, как говорит Ветхий Завет, она матерь всех живущих (Быт 3:20). Одно из возможных толкований еврейского слова, от которого оно происходит, — «жить». Она — источник жизни в том смысле, что в мире новой твари она как бы плодородная почва, которая приносит богатый плод. И к этому невозможно прийти логическим путем, проводя параллель: первый Адам появляется первым, за ним — Ева. В Новом Завете первой является Ева, Адам — вслед за Ней. К этому невозможно прийти на словах, но я не стану повторять то, что уже сказал о рождении Евы, о появлении Евы из Адама. Но она — та, которая приносит жизнь. Матерь Божия — Та, Которая вводит в мир вечную жизнь. Естественная жизнь уже была, и больше, чем естественная, потому что не существует «естественной» жизни в отдельности от жизни, в которой участвует Бог. Но жизнь, согласная с законами природы, продолжалась. Рождались дети, совершались браки и т. д. Но — Она приносит в мир вечную Жизнь воплощенную. В этом смысле Она — Ева. Вот, боюсь, все, что я могу сказать об этом. Если можете продумать и подвергнуть критике сказанное — сделайте это!
Как индивид становится личностью? Я где-то прочитал, что индивид может обрести индивидуальную личность только через общину?
Я никогда не думал в таком порядке, так что постараюсь благодаря вашему вопросу вырасти. Я думаю, не существует ни индивида в чистом виде, ни личности в чистом виде в том смысле, что одно исключало бы другое. В каждом индивиде, в каждом из нас, кто является ограниченной личностью, непрозрачной для внешнего мира, неспособной свободно выходить во вне иначе как желанием, жадностью, голодом и т. д., есть личность, какой ее задумал Бог. В каждом из нас есть личность, несущая в себе образ Божий. Есть живой образ Божий в нас.
Теперь: я вовсе не уверен, что невозможно пробиться к личности через состояние индивида, потому что у нас столько примеров святых, которые уходили пустыню и, возрастая в Боге, постепенно преодолевали все ограничения индивидуального бывания, которое есть последний предел разделенности, после чего невозможно дробиться дальше, и становились личностью. И однако, мне кажется, на это можно возразить, что это происходит тоже в терминах взаимоотношения, потому что когда вы соотноситесь с человеческой общиной вокруг вас, когда вы соотноситесь с Богом, ваша личность будет расти в рамках взаимоотношений, и постепенно будет преодолеваться состояние защиты, страха и самозамкнутости индивида. Это моя непосредственная реакция на ваш вопрос.
Нормально, чтобы быть в состоянии перерасти состояние индивида в личность, надо, чтобы кто-то признал вас как личность. Любого из нас признает Бог, но чтобы осознать это, требуется быть святым. Мы все любимы Богом, мы все признаны Богом, но насколько мы сознаем это до глубины бытия, насколько глубоко чувствуем? Зато все мы сознаем, признаны ли мы или нет хотя бы одним человеком, утверждает ли нас кто-то, одобряет ли. И здесь такое значение приобретают взаимоотношения в Ветхом Завете, в языческом мире, в Новом Завете. Это существенно, потому что только через признание и утверждение другим, через его внимание можно преодолеть собственную изолированность, внутренний плен, можно сломить стены, которые сам возвел или которые постепенно возникли вокруг нас от обстоятельств жизни, по которым нам пришлось защищаться, которые заставили нас искать убежища за стеной сада или в башне из слоновой кости. Но все мы признаны Богом и все можем — если только нам достанет способности, условий и мужества открыться Богу — начать двигаться в этом направлении.
Но немалая роль принадлежит, надо сказать, тем, с кем мы встречаемся, кто посмотрит на нас и скажет: «Ты меня не обманешь, ты не тот, каким кажешься снаружи, я вижу в тебе еще нечто». Я помню, отец Евграф Ковалевский в одной своей проповеди сказал: «Когда Бог смотрит на нас, Он не видит наши достижения или качества, которыми мы гордимся и которых может и не быть, но Он видит в нас Свой собственный образ во славе и неприкосновенности, готовый расцвести и все покорить».
Бремя, возложенное на Еву и на Адама, представляется разным по тяжести…
Я думаю, что основная трагедия одинакова для обоих в том смысле, что они знали друг друга как откровение самого себя и другого, и внезапно обнаруживают, что тот, кто был олицетворением полноты, исполнения, стал чужим, стал не-я, возникло взаимное отчуждение и взаимное отвержение наряду с тоской по единству, которую каждый из них выражает по-иному. Да, есть властвование Адама, но есть и другой аспект. Не знаю, насколько я прав, но передо мной стоит вопрос: сколько в мужчине осталось страха перед женщиной. Ведь все младенчество и раннее детство мальчик во власти женщин: матери, няни, еще кого-то, и постепенно он вырастает из этого. Но я не уверен, что не остается в нем где-то страха подчиненности и что, когда он дорастает до силы и власти, он в первую очередь не защищается, а как средство защиты сам берет власть над женщиной, подчиняет ее, подавляет ее. Это может быть результатом страха, порожденного ранними годами полной зависимости.
Но есть и другой аспект: и в Ветхом Завете, и на протяжении всей истории мы видим великих женщин. Если взять Ветхий Завет — жены патриархов или Юдифь из одноименной книги и т. д. Но мы находим также элемент, который страшит мужчину: тот факт, что, отдавая свое сердце, свою привязанность той, кого он любит, он становится ограничен, становится пленником своей любви. Типичный пример, самый яркий — Далида. Ее историю рассказывают детям в абсурдном виде: Самсон носил длинные волосы, и в этих волосах была его духовная сила. Далида остригла его, и Самсон лишился силы (Суд 16). Но что мы забываем или неразумно не рассказываем детям: носить длинные волосы было знаком посвященности Богу, а то, что он позволил себя остричь, означало, что он согласился не быть всецело посвященным Богу, служить Богу только в удобных ему пределах. И в этом смысле Далида — трагедия. И многие мужчины, возможно, чувствуют, что такая-то женщина в их жизни — Далида в том смысле, что из-за нее мужчина не может полностью посвятить себя или Богу (что редко), или увлекающему его делу, которое составляет все желание, стремление, страсть его жизни. И тут, мне кажется, они должны очень серьезно обратить внимание на себя. Потому что одно дело — всецело посвятить себя Богу и совершенно другое дело — отвергнуть кого бы то ни было, Еву или Далиду, ради какого-то дела. Достаточно ли важно, значительно дело, чтобы ради него отвергнуть человека, исключить его, подавить или угнетать?
Женщина часто хочет, чтобы над нею властвовали…
Знаете, я хотел коснуться проблемы любви, просто часы подсказали мне: «Стоп, осталось три минуты, ты не уложишься». Но любовь — очень и очень сложная вещь, у нее свои градации и оттенки. Если подумать об Адаме и Еве, как они видели друг во друге полноту их общего существа, не друг друга, а именно общего, то любовь состоит в полном, радостном даре себя другому и взаимно, в одновременном со-участии. Это тот образ, который мы находим в Евангелии, когда Иоанн говорит в самом начале: И Слово было у Бога (Ин 1:1). Греческий текст говорит: προς τον Θεον, что означает «к Богу». Оно не было у Бога статичным образом, вся Его устремленность была к Богу, желание быть с Ним, это и есть акт любви.
Но любовь в нашем словоупотреблении и в нашем опыте часто нечто гораздо более слабое. Знаете, в разговорной речи мы употребляет одно и то же слово, когда говорим «я люблю Бога» и «я люблю клубнику со сливками». Я люблю человека — что это значит? Если вы помните книгу
Screwtape Letters[215], там старый бес пишет своему племяннику в письме: «Я не могу понять
Врага (так он называет Бога). Он говорит, что любит людей — и дает им свободу. Вот я тебя люблю — это означает, что я хочу обладать тобою, хочу поглотить тебя, так чтобы вне меня тебя вовсе не осталось. Вот что я называю любовью». Это бесовская любовь, но до известной степени именно так мы любим друг друга: мы владеем теми, кого любим. Любовь очень редко дает любимому свободу, напротив, она создает связывающие отношения. Так вот, в Адаме и Еве была полнота свободы. В сумерках истории присутствуют все оттенки, которые я упомянул, и еще многие другие. И мы думаем о свободе (увы, я повторяю вещи, о которых некоторые из вас уже наслышаны по горло) как о способности делать выборы и держаться выбранного, что бы ни думали другие люди. Мы думаем о политических свободах, о независимости, об автономии. Но слово «свобода» (в английском языке) происходит от санскритского
prya, что значит в глагольной форме «любить» или «быть любимым», а как существительное — «мой любимый», «моя дорогая». И это прозрение ранних времен: когда человечество стало выражать свой опыт в словах, свобода означала взаимоотношение любви, совершенной любви, которая освобождает другого, а не порабощает его.
Была ли сексуальность до грехопадения?
Если мы говорим о мужчине и женщине, двух существах мужского и женского рода, конечно, в каком-то смысле сексуальность была. Если подразумевать под этим беспорядочные отношения жажды, обладания, похоти и т. д., то я бы сказал — нет. Все писатели и отцы, кого мне довелось читать, хотя знания мои ограниченны, сказали бы: нет. В начале 4-й главы книги Бытия говорится: Адам познал Еву, жену свою(Быт 4:1). Я читал этот текст в раввинистическом переводе, сделанном в Америке, там употреблено другое слово — «опытно испытал», что говорит о сознательном акте. Но согласно писаниям отцов, это должно было быть взаимоотношением в экстазе, а не опытным испытанием одного другим; но это все, что я могу сказать.
Что означает выражение «ходить перед Богом»?
Это библейское выражение, и я помню, как Феофан Затворник в одном из своих писаний говорит: мы должны, каждый из нас, научиться стоять лицом к лицу с Богом, и когда мы научимся стоять перед Богом, мы можем начать ходить перед Богом, то есть не только стоять в созерцании, учась общаться с Ним, учась сообщаться, но, установившись во взаимосвязи с Ним, дальше мы можем двигаться, действовать не только под Его взором, что просто объективный факт, но в гармонии с Его волей и Его мыслями, по слову апостола Павла, приобрести ум Христов (1 Кор 2:16) и поступать соответственно. Разумеется, это — идеал.
VI
Мы подошли к последней беседе, и я хочу подвести итог некоторым вещам, которые мы уже рассмотрели, и сделать последний шаг, который хотя будет достаточно пространно изложен, но останется неразрешенным, потому что у меня нет ответа на последний пункт моей речи.
Я сказал, кажется, в предыдущей беседе, что мы живем в мире, который есть результат падения, но и результат того, что Бог не оставил Свой падший мир, в большой мере сумеречный, где свет светит во тьме, и хотя тьма не принимает его, но и не сильна достаточно, чтобы разрушить свет. Этим я хотел подчеркнуть и старался сделать это, но, может быть, недостаточно ясно, что несмотря на то, что дьявол, разделитель, тот, который разбивает и разъединяет единство, тот, который дробит то, что может раздробить, — несмотря на то, что это произошло на всех уровнях, произошло и нечто иное, что имеет громадное значение. А именно: Бог создал все, чтобы все, все вещи были едины, чтобы все врастало во все большее, более совершенное, более славное единство через общение с Ним и врастание в то единство, которое есть единство Трех Лиц Святой Троицы в Едином Божестве.
И вот в падении и его результатах мы видим: что бы ни происходило, случается разбитость, разделенность, и она бывает восполнена, как бы скорректирована чем-то, что проистекает из разбитости, потому что в корне, в сердце всякого разбитого элемента таится тоска по единству, зов Божий, то вдохновение, которое Бог заложил изначала.
Когда мы думаем о том, как Бог и человек взаимоотносятся, — вспомните, что я говорил об утрате общения, также об утрате знания, об утрате взаимной радости: да, это есть, но утрата общения с Богом породила несколько вещей. Со стороны Бога, помните слова: вот человек стал как один из Нас, и как бы он не прикоснулся к древу жизни и не стал жить вечно (Быт 3:23), — это не было жестокой шуткой. Мы не можем представить себе Бога любви, произносящего слова с усмешкой. Нет, случилось то, что человек, то есть Адам и Ева, человечество, бывшее одной совершенной, гармонической единицей, распалось и одновременно осталось в своих отделившихся частях тем, чем было призвано быть. Образ Божий сохранился. Призвание осталось. Тоска по все растущему единству и врастанию в Бога осталась. И если бы человек сумел «поправить» свое состояние оторванности от вечности прикосновением, приобщением к древу вечной жизни, то эта оторванность была бы закреплена навеки и никогда не была бы быть исправлена. Смерть действительно — трагедия, смертность — трагедия, но смертность и смерть были даны нам как дар, который прерывает неправду, ошибку, греховное взаимоотношение, установившееся между духом человека и материальностью, и делает дух и тело человека свободными ответить в свое время по-новому на призыв к совершенству и величию.
В этом смысле есть выдающийся отрывок в сочинениях святого Исаака Сирина, который говорит, что тело человека так же значительно, как и душа и дух человека, что к телу человека нельзя относиться, как к предмету, лишь дополняющему душу и дух. И он говорит, что вечная судьба каждого из нас будет определена только после воскресения, потому что дух человека, душа человека, живущие после смерти, не имеют права понудить тело к воскресению, которого оно может и не желать. Это очень сильные слова, очень сильное указание на то, что самая материальность человека так же важна для Бога, как и дух, что человек есть единство души, духа и тела и что ни одна из этих частей не может определить судьбу других иначе как в полном согласии взаимной любви, взаимного принятия и общности.
Утрата общения с Богом также вылилась в чувство безнадежного одиночества, в чувство, что этот мир — осиротелый мир людей, оторванных друг от друга и от самого источника их единства, самого источника, самого кладезя жизни, из которого они пили, что это действительно страдание, но такое страдание, горе, одиночество, чувство осиротелости, которое вызывает голод, жажду, тоску. И это — сплачивающая сила посреди разбитости взаимоотношений. Это не отвержение Богом, которое сделало нас настолько отчужденными, что и возврата нет. Это разбитое взаимоотношение, которое может быть восстановлено, потому что Бог говорит: «Иди обратно», и мы отвечаем: «Мы жить не можем без Тебя. Как нам вернуться?».
Я говорил также об утрате имени Божия. Да, Имени Божиего, которое было «Ты», в самом глубоком смысле было жизненным общением, мы больше не имеем в том же смысле. Но Бог открыл Себя в начале двояко: как Творец — и это было первое откровение для всякой твари, приходившей в мир: всякая тварь была вызвана, любима, внесена, введена в существование Тем, Кто предстоял ей и предлагал Себя и все, что принадлежит Ему, все, что Он есть, Своим тварям. И Бог открылся также как Тот, Который предвосхищает существование всего, Кто есть Тот, Кто есть, не потому что Он был создан, не потому, что Он возник из небытия, не потому что Он возник в какой-то момент, а потому что Он есть,Он — само бытие. И это слово, оставшееся как Имя Божие из Ветхого Завета: Я — Сущий (Исх 3:14). Я Тот, Который есть, ho on греческого языка, «Сущий» славянского языка. И это — предел того, что запомнилось, того, что еще можно было вспомнить в падении. Но в то же время потеря тесной связи с Богом вела к чувству расстояния. И тогда были придуманы новые слова, чтобы указать, Кто Он есть. Расстояние привело к названию Бога Неприступным. Тот, Кто Свят, есть именно kadosh, есть Тот, Который Неприступен, Который за пределом38.
Замечательно, что в индийских Упанишадах есть слово, указывающее, что Он — за пределом и в нас одновременно. Это слово указывает на напряжение, указывает, что Он за пределом, что Он неприступен, что Он недостижим, что Он единственный знающий Себя и познаваемый внутри Себя. И вместе с этим Он как-то вышел вовне, достиг до нас, и у нас внутри есть что-то, что сродни Ему, и наша тоска по Нему есть уже своего рода знание Его. Но в то же самое время, в падшем мире Он — Творец, Он — неприступный Святой, Он — Всевышний, Он — Господь, у Которого вся сила и власть.
И опять-таки мы видим разлуку, которая выливается в новый крик о единении, в новую тоску по возвращении. И самая разлука создала положение, когда то, что можно было бы представить как плавное врастание в Бога, без чувства отчаянной нужды, которую тварь испытывает по Нему, стало чувством абсолютной нужды, нужды, которую ничто не может заполнить, кроме присутствия Божия, нужды, которая есть тоска всего существа. Можно желать других вещей, но тосковать таким образом можно только по Богу, потому что, словами Майкла Рамзея, внутри нас существует пустота такая огромная и такая глубокая, что ничто не может заполнить ее, кроме Бога. И у нас есть сознание этой пустоты, и у нас есть смутное чувство, что только Бог может заполнить ее.
Разбитость идет дальше, как я уже указывал, тем, как человек после падения соотносится с тварным миром. Его позвал змей, обманщик, лжец и убийца par excellence. Он позвал человека погрузиться в тварное для того, чтобы познать его изнутри, но тварное не могло быть познано изнутри кем-то, кто сам был составной частью этого тварного. Единственный, Кто мог знать тварное изнутри таким, каким тварное поистине является, это Бог. И Христос — единственный, Кто, будучи Богом, соучаствует в тварности тем, что становится Человеком и знает, что значит быть тварью, потому что Он может одновременно быть тварью и быть Богом, Который знает всю ее глубину и всю ее тайну. И таким образом, погрузившись в тварное, человек стал слеп к той тайне, которую являет собой тварь. И тем не менее он един с этим тварным миром по призванию. Человек, как я постарался показать в первой беседе, сотворен из первичного вещества этого мира, он не есть результат эволюции, последнего прыжка от наивысшего животного к человечеству. Нет, он был создан из основной материи тварного мира так, что он является участником всего, что создано из этой сотворенной первичной материи. И в этом смысле, будучи погруженным в нее, он также принадлежит всей ее судьбе. И это не только его собственная тоска, так все тоскует по Богу, по полноте, по полному расцвету своего существа, по становлению тем, чем оно призвано быть. Эту тоску человек испытывает отчаянно, испытывает так, как, может быть, материальный мир ее не испытывает.
Здесь я сделаю отступление, которое, возможно, относится к другому. Когда мы думаем о падении человека, то православные богослужебные книги говорят, что падение человека убило человека, но не убило Бога: оно
человекоубийственно, но не богоубийственно, читаем мы на Страстной неделе
[216]. Но в истории однажды случилось нечто еще более страшное. Когда Христос, Сам Бог, ставший участником тварности, умер на кресте, весь тварный мир оказался перед лицом ужаса, страха, что теперь не может быть спасения, не может быть полноты, что теперь настал конец. Это была тьма неизбывная, ад на веки вечные, потому что тварный мир видел в смерти Христа на кресте не только смерть Иисуса из Назарета, но и поражение Бога в Его плоти. И Воскресение было поистине событием космического масштаба, космического значения, больше даже, чем падение человека. Вся тварь могла ликовать, что она искуплена, что плоть Христова как образец всего материального вернулась к жизни, и Бог победил, и победа эта окончательная. Зло не может больше победить не только Бога, но даже и мир, созданный Богом.
И снова мы оказываемся в таком положении, когда Бог, человек и тварь переплетены и в борьбе и в содружестве. Борьба проявляется, когда Бог говорит Адаму, что потому что он отвернулся от Бога, потому что он отпал от своего призвания, ему надо будет возделывать землю, бороться с землей, почва не будет больше свободно, с любовью давать человеку все, в чем он нуждается. Ему придется насильно отбирать из земли всю нужную ему пищу (Быт 3:17—19). Это — борьба. Земля больше не признает в человеке своего вождя, свое собственное исполнение и поэтому сопротивляется ему и отвергает его, обращается к Богу, но мост между Богом и тварным миром теперь если не разрушен, то очень шаткий. Мир не может пересечь бездну по этому мосту, потому что мост стал ненадежным, и человеку приходится бороться, сражаться с этим миром, с этим материальным миром, который тоже стал несчастным, осиротелым, лишенным Бога из-за него. Мир стал для человека пищей после потопа даже в лице животных: они стали ему пищей и для них человек стал страхом. Между ними установилась борьба.
Но всякая борьба подразумевает не только противостояние сторон, но и связь обеих, и если позволите на минуту отвлечься, это напоминает мне рассказ моей бабушки о сражении, когда одна сторона победила другую, и после битвы, в темноте, солдат кричит: «Офицер, офицер, я взял пленника!». Офицер отзывается: «Ну веди его сюда!». И солдат отвечает: «Не могу, он меня слишком крепко держит». Вот в чем заключается положение. И это очень подходящий образ, потому что мы держим друг друга страстно, собственнически, подчас с ненавистью, но именно благодаря этому мы неразлучны там, где не можем быть связаны друг со другом узами взаимной любви и товарищества. Так вот — товарищество, любовь с одной стороны, борьба и взаимная конфронтация действуют в том же направлении, чтобы удержать мир в единстве и не дать ему прийти в распад окончательно, полностью, непоправимо.
И если говорить об Адаме и Еве, то мы видели, что случилось: оба были друг для друга исполнением. Они были совершенством человечества в его единстве. Ева была увенчанием этого единства для Адама, и она видела в Адаме венец для себя. И падение привело к тому, что можно выразить словом «индивидуализация». Они стали двумя отдельными индивидуумами. Вместо того чтобы быть, как я повторил уже несколько раз, alter ego, другим я сам, они теперь узнают себя как ego, я, а другого как alter, другой. Но даже и тут разделение, которое могло бы быть полным разрывом отношений, не попускается. Устанавливается новое взаимоотношение, взаимоотношение силы и желания, голода одного по другому, тяги одного к другому, одоления одного другим, обольщения. Каково бы ни было взаимодействие одного с другим, оно направлено на преодоление конечного поражения единства.
И в этом смысле даже случающееся зло является связующей силой. Одного только человека мы видим, который это отрицает, — это Каин, который говорит: я ли сторож брату моему? (Быт 4:9), когда он отверг, всеконечно отказался от самого существования Авеля и убил его. И однако даже и он не может избежать того факта, что человечество остается единым, и он остается частью его, и что в его жизни есть трагедия, которой нет простого решения. Смерть Авеля не освободила его от Авеля. Авель тут, как проблема бо{'}льшая, когда он убит, чем он был загадкой, когда он был в живых.
И затем, конечно, любовь. Я не упомянул любовь, потому что, как я сказал в прошлый раз, любовь — нечто бесконечно сложное. В совершенстве любви мы находим то, что было в начале: Бог, бывший свободным не делать этого, но в порыве любви вызывающий в бытие целый мир для того, чтобы дать Себя и все, что Его, этому миру в целости и каждой малейшей частице сотворенного мира в отдельности.
Так вот, любовь превозмогла. Любовь преодолела всю разбитость. Она стала несовершенной, она приобрела новые свойства тяготения, жадности, похоти, власти, собственничества и т. д., но это все же любовь. Это чувство, которое обращает одно существо к другому с ощущением дива, созерцательного видения красоты, с ощущением, что мое утоление, исполнение в другом, что я не самодовлеющ, что только в другом или в других можно искать исполнения и, может быть, найти его. Это не совершенная любовь, хотя в некоторых лицах Ветхого Завета мы находим совершенную любовь: совершенную любовь к Богу, совершенную любовь друг ко другу. Если подумать о совершенной любви к Богу, то вспомните жертвоприношение Исаака Авраамом (Быт 22). Быть способным на это означало любить Бога всем своим существом, потому что Авраам не только был готов убить своего сына, — убить своего сына означало убить самого себя, ранить себя так, как никто и ничто не могло ранить его. И мы находим в Ветхом Завете, образец за образцом, людей, которые умели любить до того, чтобы отдать себя полностью. Вспомните Руфь, которая сказала: Твой народ будет моим народом (Руфь 1:16).
Так что несмотря на все уродство, которое распространилось, и в падшем мире мы находим свет, который светит во тьме, и каждое отрицательное явление, каждая форма разбитости выливается в тоску и движение друг ко другу, несмотря на все, что отрывает нас друг от друга. У меня нет времени распространяться на эту тему, но я думаю, что каждый из нас знает это по опыту. Мы можем видеть, как происходит и как преодолевается эта отделенность от Бога, друг от друга в жизни святых Ветхого Завета, святых Нового Завета, всех подвижников духа.
Есть еще одна сторона, о которой я хочу сказать, и она очень важна для нашей темы. Тот факт, что все эти разрушительные силы не могут разрушить хотя бы тяготение к единству, имеет все же и отрицательную сторону. Свет светит во тьме, но тьма не может охватить его и в большой мере остается тьмой. Это положение тьмы можно выразить словами: сила, собственничество, обман и соблазн и порабощение, и это мы находим на протяжении всей истории. Мы находим это в социологических категориях в обществах, где рабовладельчество было принятым. И это длилось до нашей современной истории, несмотря на христианство. Мы встречаем это и в человеческих взаимоотношениях, мы встречаем это повсюду. И я нахожу особенно трагичным тот факт, что хотя наличие структур угнетения является с одной стороны и в основном результатом падения, но структуры эти развились в социологические нормы. То, что было и могло быть признано ничем иным, как грех, который следует преодолеть, стало в человеческом обществе принятой, нормальной общественной ситуацией. Иерархические взаимоотношения в племенах, царствах, религиях социологически закрепили право одного угнетать другого.
Тут, может быть, стоит заметить, что существует разница между двумя понятиями, которые мы постоянно смешиваем, — понятиями власти и авторитета. Власть состоит в умении одного существа принудить другое быть чем-нибудь или делать что-нибудь. Авторитет — способность одного существа (это может быть Бог, это может быть человек) произнести слова, которые звучат настолько глубоко правдивыми, что их нельзя отвергнуть, они принимаются без всякого колебания. Эти слова, может быть, и не будут выполнены без колебания, потому что они могут требовать от нас больше, чем мы способны сделать, но они обладают силой убедительности. Когда Петр говорит Христу: У Тебя глаголы вечной жизни (Ин 6:68), это не означает, что Христос держал речи о вечной жизни или описывал ее в заманчивых, привлекательных, убедительных словах. Он произносил слова, которые достигали самых глубин человека и вызывали к жизни вечность, которая покоилась в глубинах людей со времени падения. В этом заключается авторитет. И можно сказать — и я сказал бы это без колебания, — что у Бога нет власти в том смысле, что Он не применяет ее никогда, но у Него есть авторитет. Он произносит слова правды. Он говорит слова жизни. В основу Он кладет действия животворящие, спасительные, преображающие. Он никогда не принуждает, не насилует, не порабощает. Он оставляет нас свободными, потому что свобода в основном и по существу — взаимоотношение любви, когда один и другой отдают себя друг другу неограниченно в акте доверия и в акте великодушия, совершенной щедрости.
Так вот, вместо авторитета общество создало структуры силы. Это уже достаточно плохо в обществе, но я нахожу особенно чудовищным, что это охватило Церковь и заполонило Ее на всех уровнях. Если взглянуть на Церковь какой мы ее знаем на протяжении истории, мы увидим структуры силы и структуры подчиненности. Мы встречаем больше, чем авторитет: авторитет был бы освобождающим, сила же порабощает. Если вы возьмете положение женщины в Церкви, то это униженное положение, положение порабощения, положение, в котором женщина в подчинении иерархической системы, установленной и приводимой в действие мужчинами.
Одна из самых неприемлемых вещей, которую я нахожу в Церкви, — и сейчас я говорю достаточно откровенно, чтобы меня могли отлучить как еретика или, может быть, даже сжечь на костре полных трудов митрополита Антония, — что о Церкви говорят как о евхаристической общине. Под этим большинство людей разумеет, что это община, структура которой подобна структуре Литургии. Так вот, прежде всего это предельно неправильное употребление слова «евхаристический». Слово Евхаристия происходит от греческого слова харис, что означает благодать. Это общество, в котором преизбыточествует благодать, в котором благодать Божия изливается и в котором действующим началом является Божия благодать, а не сила людей, власть людей. Второе: слово «евхаристия», на современном греческом эвхаристо, означает «спасибо», так что евхаристия — это акт благодарности, это благодарность принесенная, благодарность ответная. И в древнеславянском, также как на древнегреческом, вы обнаружите, что слово «евхаристия» означает одновременно «благодарность» и «совершенный дар». Вот в чем дело. И когда мы говорим, что Церковь — евхаристическое общество, то это действительно так, если мы понимаем выражение в этом полном смысле: общество, в котором Божественная благодать изливается, дается даром, в котором люди с удивлением, в изумлении открывают себя так широко, так полно, как только могут, чтобы вместить ее столько, сколько могут, и которые считают, что это — величайший дар, который заслуживает величайшей благодарности. И величайший акт благодарности есть любовь. Но тогда что такое любовь? Любовь это то, что мы видим в начале творения. И любовь мы видим в учении Христа. Любовь — это отдача себя. Никто не имеет большей любви, говорит Христос, чем тот или та, которые готовы отдать свою жизнь за ближнего (Ин 15:13). Это — любовь.
Отдать свою жизнь не означает просто быть однажды убитым. Это означает полностью посвятить свою жизнь поклонению, служению, почитанию своего ближнего. И это нечто очень важное. Это то, чем является Церковь, если мы хотим говорить о Ней как о евхаристической общине, но далеко не той евхаристической общиной, какой мы видим ее в литургической форме, когда в нашем постоянно приниженном по сравнению с ранней Церковью понимании мы видим стадо спящих или блеющих овец, покорных, послушных, собравшихся, чтобы прислушаться к старшим, и затем трехэтажную иерархию с дьяконами, которые ведут молитву. «Миром Господу помолимся» — и овцы блеют «Господи, помилуй», они вводят народ в молитву, они приказывают ему: «теперь делайте это», «а теперь делайте то-то». И мы забываем, что дьяконы были избраны ранней Церковью для совершенно иных целей, а именно, чтобы быть глазами, руками и ушами сострадания, теми, кто заботится о вдовах, о нищих, о больных, о голодных, и были введены в литургическое служение, чтобы в тех же категориях быть поддержкой священника или епископа, чтобы помогать ему выполнять свое действие, и также чтобы быть любовью, состраданием Церкви к своему священнику или своему епископу в едином лице, которое будет заботиться о них. Но есть еще нечто более значительное: дьякон остается мирянином. Дьякона отпевают по чину мирянина, не священнослужителя. Дьякон — это мирянин, который представляет в алтаре всю общину. В нем община присутствует у Святого престола в алтаре. Так что он ничуть не выше верующих. Священник и епископ называются служителями. Христос говорит: Я среди вас как служащий (Лк 22:27). Чем выше вы рангом, тем ниже вы в служении.
Я помню, отец Софроний однажды сказал мне, что мы слишком часто воображаем, будто Церковь — это пирамида, стоящая на широкой основе, а вершина ее где-то очень высоко, тогда как в действительности Церковь — это перевернутая пирамида. Всем весом она покоится на одной Личности, имя которой — Иисус Христос, а затем идут другие пласты людей, которые не так низко, потому что они еще не способны нести тяготы друг друга так же совершенно, как Христос, как апостолы и как некоторые другие. Вот в чем заключается иерархия Церкви. И если мы думаем о иерархии Церкви как все возвышающейся пирамиде с вершиной, если это — идеал, тогда мы должны принять римокатолическое восприятие папы, потому что он тогда — главный епископ, высший иерарх, находящийся на вершине. Он стоит там, где один Христос может стоять. Вся наша иерархия — это иерархия вверх дном, когда те, которые должны быть рабами, слугами, те, которые кладут свою жизнь за других, те, которые несут бремя других, должны быть на самом дне, чтобы остальные могли жить и дышать, и расти и учиться, но не учиться тому, чему их учат другие, а учиться на примере того, что означает тело людей, отдающих свою жизнь за них.
Человек, как я сказал вам в начале беседы, был призван быть вождем всей твари в полноту, в глубины Божии, в такую полноту, которая соделает все творение прославленным веществом и духовным одеянием Бога. Человек отпал. Человек потерял эту способность, погрузившись в тварность и тем став ее пленником. И в этом диво Воплощения: Сам Бог соединяется с тварностью, и у твари теперь есть вождь. Тварный мир получил человека, и больше, чем человека, потому что в Воплощении не только человек искуплен и являет откровение всей своей полноты и совершенства, но весь тварный мир может смотреть на физическое присутствие Христа и узнавать свою собственную материальность восполненной, прославленной, сияющей Божеством, совершенной. И поэтому мы говорим о Воплощении как о явлении эсхатологическом, явлении конечном. Все, что должно случиться, уже произошло и теперь должно просто стать реальностью для всех, каждого и всего; но оно уже случилось. В нашем мире уже есть Христос воскресший и вознесшийся, и сидящий одесную Славы. Материальность этого мира через тело Христа воскресшего пребывает в самой сердцевине Святой Троицы. И в этом теле Христа весь материальный мир может смотреть в глубины Троицы и видеть там себя. Победа одержана. Слава наступила.
Но надо поставить еще один вопрос. Мы продолжаем быть священниками в творении. Роль священника — освящать все, отбирать все из власти сатаны и мертвости тварного мира, лишенного Бога, и приносить это Богу, и прежде всего — самих себя. Словами молитвослова, мы призваны соделать из наших душ и телес совершенную жертву Богу. И жертва не означает кровавое жертвоприношение, это означает что-то, что мы сделали священным и святым, где Бог может пребывать, чем Он может обладать, что может использовать, о чем Бог может радоваться и с чем может общаться. И в этом процессе, потому что это случается с нами в духе, в душе и в теле, мы привлекаем к Нему все нас окружающее.
Один из православных святых говорит, что мы можем совершить для окружающего нас тварного мира то, чего мы уже достигли для себя самих. Мы можем дать ему исцеление и цельность в той мере, в какой мы достигли благодатью и силой Божией цельности, дали Богу исцелить нас. Вот к чему мы призваны. Но есть Единственный, Кто уже достиг этого, — это Господь Иисус Христос, в Нем это уже совершено.
И сейчас я подхожу к очень важному моменту. В начале я подчеркивал и повторял со всей своей страстью, что Адам, призванный изначально к бытию, не был мужской особью, из которого непонятным чудом была вызвана женская особь, потому что если в нем не было женственности, женственность и не могла бы родиться из него. Я говорил, что Адам был сотворен как всецелый человек, содержащий все, что есть мужчина, и все, что есть женщина, всю мужественность и всю женственность, и что в момент экстаза, когда силой Божией Адам был приведен к чему-то большему, чем он сам был в своей ограниченности, родилась Ева.
И вот новый Адам — это Адам согласно этому образцу. Если Новый Адам, Господь Иисус Христос, не подобен первому Адаму, содержащему в себе все человеческое, все, что есть мужественность и все, что есть женственность — я прошу прощения за эти слова, у меня нет лучших, — тогда слова святого Афанасия Великого встают с разительной силой, потому что он говорит: чего Христос не взял на Себя, то Он не спас. Если Он не что иное, как мужеская особь, мужчина, то Он спас мужскую половину человечества, а женская половина вне спасения или может быть втянута в него посредством какого-то богословского ухищрения, но не органически, не реально. Нет, Христос содержал в Себе полноту того, что есть мужчина и женщина. Если мы говорим о Нем как о Первосвященнике твари, мы должны к тому же признать, что в Нем все, что является миром женщины, участвует в священной функции священства всей твари.
Я знаю, что нам могут напомнить целый ряд цитат из апостола Павла — которым можно противопоставить другие цитаты апостола Павла. Я знаю, что нам говорят, что Матерь Божия никогда не была священницей, нам говорят, что это — традиция Церкви и поэтому нельзя этого нарушать.
Если можно, я сначала скажу одно слово о традиции. Один американский римокатолический богослов сказал однажды в докладе о разнице, существующей между традицией и традиционализмом. Он говорит, что традиция — это живая вера Церкви с тех пор, как она началась, и живущая в тех, кто жив теперь. А традиционализм — память о том, что сделали или чему верили другие и что хранится мертвым наследием. Это не точная цитата, но такова была его мысль. Если мы обладаем традицией, происхождение которой мы не можем найти или не можем представитьåé raison d’être, обоснования, и смысла, мы не имеем права держаться за нее. Это традиционализм. Это — обусловливание ума, это старая привычка, это не живая вера и не живая жизнь Бога среди нас и внутри нас.
Теперь, что касается Божией Матери, если можно, я скажу следующее. Если понадобится, я могу расширить тему при ответах на вопросы. Неправда, что Она никогда не играла роли священника — не в том смысле, в каком мы в наши дни говорим о служении священника, совершающего Литургию или другие таинства. Разница между священством всех верующих и служением священника состоит в том, что все верующие призваны принести себя в совершенную жертву Богу и вместе с собой — все, к чему они прикасаются и с чем связаны. Служение священника имеет другое измерение. Это служение Христа и, в богословской терминологии, заступническая роль жертвы Христовой перед Богом, принесение спасительного подвига Христова Богу как основания для обновления тварного мира.
И вот, если посмотреть на жизнь Божией Матери, мы видим следующее. Она — Та, Которая является второй Евой. Она принесла в мир Того, Который есть Жизнь Вечная и Кто приносит жизнь вечную в мир. Она не просто «орудие» Воплощения. Она активно, действием совершенной веры и отдачи Себя сделала возможным для Жизни Вечной вступить в этот мир. Это — акт освящения, больший чем что-либо, что может быть сделано человеческим действием. А затем мы видим, как Она действует поистине как приносящая жертву. Вы помните принесение Христа во Храм — это исполнение заповеди, данной в Ветхом Завете, чтобы всякий мужской первенец, родившийся в еврейской семье, был принесен как жертва Богу в искупление, в память, дабы заплатить за смерть египетских первенцев, которые умерли в устрашение египтян, чтобы израильский народ был отпущен из рабства (Исх 12:29—32). Этих детей следовало приносить в обмен за тех детей, умерщвленных силой Божией, и Бог имел право жизни и смерти над ними всеми. В Ветхом Завете Он разрешал, чтобы всякий ребенок был заменен одним или двумя голубями, если родители были слишком бедны, или ягненком. Да, но Он имел право жизни и смерти, и на протяжении всей истории Он никогда не применял его. Только однажды Он принял Первенца израильской женщины. Это был первенец Девы по имени Мария, и этот ребенок был Единородным Сыном Божиим, ставшим Сыном человеческим. Он принял Его и привел этого Ребенка к смерти на кресте, чтобы Он умер искупительной смертью, так же как детям Израильским приходилось умереть или хотя бы быть принесенными во искупление детей египетских. Он умер искупительной смертью в том смысле, что Он умер от руки человеческой, потому что Он стоял за Бога против всех и всего, и Он умер смертью людей, нормальных, обыкновенных людей, в страшное мгновение, когда Он воскликнул: Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил? (Мк 15:34), приобщаясь, разделяя трагическую судьбу человечества, потерявшего Бога. Он умер от потери Бога всем человечеством. И Матерь Божия стояла там без единого слова протеста. Она приносила Своего Ребенка в это мгновение, как Она приносила Его, когда, зная, что Она делает, принесла Его в Иерусалимский храм. Она, может быть, из всех людей, мужчин или женщин, была великим Первосвященником нашего спасения, вместе с Господом Иисусом Христом, с Которым Она была едина волей, едина намерением и с Которым Она исповедовала единое действие. И было бы очень хорошо, чтобы православные, вместо того чтобы говорить бездумно, немножко больше задумались о месте женщин в Церкви, и если бы мы могли разрушить, раз и навсегда свести на нет и социологические структуры подавления, и богословские структуры подавления и дискриминации, которые я упомянул.
Нельзя ограничиваться, как постоянно делают, отсылками на предание Церкви. Церковное предание гораздо более богато и не так просто, как мы представляем. В истории Церкви есть много такого, что было ее законом в определенный момент, а затем ушло, или, наоборот, новое возникало. Возьмите нечто совершенно основное: церковную иерархию — дьяконы, священники, епископы. Я не сомневаюсь, что иерархия была создана под водительством Святого Духа. Но изначально ее не было, и если бы в тот момент обратиться к прошлому, люди могли сказать: «Нет, Христос избрал апостолов, ни дьяконов, ни клира не было». Вот вам один пример. С другой стороны, до сравнительно позднего времени епископы могли поставляться из женатого духовенства, теперь правило категорически не допускает этого. Есть целый ряд канонов, о которых никто и не слыхал, потому что они совершенно вышли из употребления. Например, канон предписывает отлучать от Церкви христианина, если он был в общественной бане. Есть канон, подвергающий запрещению того, кто обратился к врачу еврею. И множество канонов просто отложены, а позднее возникали новые правила, потому что Церковь не сложилась в первый век, а после застыла, окаменела, Церковь — тело, которое живет, меняется под действием собственного опыта, в силу собственной природы, точно так же, как младенец рождается, растет и меняется все время. Это не означает, что взрослый человек — полная противоположность или отрицание собственной юности. Это означает, что что-то происходит, то, что было в молодости, развивается, что-то должно вымереть ради того, чтобы другое могло развиться. Так что я не считаю принципиальным тот факт, что какие-то правила, считавшиеся абсолютно существенными, должны навсегда считаться таковыми. Кроме двух-трех примеров, которые я привел, есть множество другого. Я не призываю производить перемены просто потому, что они нам нравятся или удобны. Но мы должны вдумываться и задаваться вопросами: те правила, которые мы соблюдаем, действительно ли в нашей теперешней ситуации они соответствуют тому, чем учит Евангелие и ради чего Христос стал человеком? Я ничего не предрешаю, я выражаю со всей резкостью то, как сам переживаю, и вы вполне законно можете сказать, что мне недостает ни знаний, ни вдумчивости. Я сознаю, что мне надо думать еще и еще, чтобы я мог куда-то подвигаться с сегодняшней своей позиции. Но все православные и все православие как целое должно начать думать, думать глубоко, напряженно, ставить себе вопросы, ставить под вопрос самих себя, прежде чем сказать определенное «да» или «нет» на вопрос, который никогда раньше не вставал в Православной Церкви.
Ответы на вопросы
Подавление большей частью идет подсознательно. Почему мужчины бояться, что женщины получат возможность играть свою роль? Ведь всякий, кто представляет авторитет, является образом Христа…
Я совершенно согласен с вами. Мне кажется, это можно представить менее богословским, менее возвышенным образом. Когда я говорю, что священник — образ Христа, я подчеркиваю, что он не Христос, что он — образ, он стоит как исполнитель, но не он совершает службу, так сказать. Единственный совершитель всякого таинства — Сам Христос. Единственная сила, которая совершает таинство, — Святой Дух. Священник стоит как образ, он делает видимым невидимое, он произносит слова и совершает действия, которые указывают нам, что Бог совершает в данный момент. В каком-то смысле, когда я говорю, что священник — икона Христа, я имею в виду: «Поймите, что он не больше, чем икона. Он — дерево, линии и краски, но реальность за пределом всего этого». Вот моя реакция на такую «иконную» терминологию.
Можно, я добавлю одно. Я помню раввинистический рассказ: жена раввина говорит мужу: «Я так тебя люблю! В будущей жизни будет ли мне позволено лежать подножием у твоих ног?». И муж отвечает: «Венцом на голове моей будешь ты!».
Проповедовать, наставлять: разве женщины не могли бы делать это и без рукоположения?
Разумеется. В житиях святых мы видим множество женщин, которые были духовными наставницами, начиная с пустынниц IV, V, VI веков, и вплоть до наших дней, через всю историю христианства. Они могут делать все, что касается пастырской работы, и единственный спорный вопрос между церквами: может ли женщина совершать Евхаристию? В частности, Евхаристию, потому что на Тайной вечери совершитель ее был Христос, и подлинные события ее — Его Распятие, Его Воскресение, Его Вознесение. Но, как я уже говорил, является ли Христос мужчиной или Он — Всечеловек, то есть в Нем все человечество или мужская особь? И эта разница очень важная. Если принять, что Он стоял на Своем месте и действовал в силу того, что Он мужчина, тогда, действительно, нет речи о том, чтобы на Его месте стояла женщина. Но если Он — Новый Адам, содержащий в Себе все человечество, тогда Он действовал одновременно от имени мужчины и женщины в полном смысле слова.
Действительно, женщины выполняют в церкви все, что относится к благочестию. Вопрос стоит о том, почему им закрыт путь, открытый для мужчин, стать служителями таинств. Это вопрос, но он существует. А раз так, ему надо смотреть в лицо и так или иначе искать ему разрешения. Я не говорю, что вся Церковь скажет то, что я говорил сегодня или что я готов сказать, но я утверждаю, что Церковь должна подойти к нему гораздо более вдумчиво, прежде чем делать окончательные утверждения.
Я не могу принять Христа в виде женщины. Церковь — Его невеста…
Христос — Жених, и Церковь — невеста, но Церковь состоит не только из женщин, но и из мужчин, так что я тоже — невеста…
Почему мы начинаем с самого верха, со священства? Почему не начать с простых служб, не с таинств?
Давайте думать вместе.
Тело, дух, душа: целостность человеческой личности
Владимир Николаевич Лосский наряду с другими богословами подчеркивает тот факт, что с богословской точки зрения есть большая разница между «личностью», «персоной» и «индивидом». Индивид, как указывает само слово, — это последняя степень дробления. Можно говорить о человечестве, можно говорить о народах, можно говорить о расах, о семьях, но в конечном итоге остается единица, потому что если делить дальше, в конечном итоге останется не живой человек, а мертвое тело, труп — и душа покойника.
Индивид — это результат дробления. Мы все — индивиды в той мере, в какой чужды друг другу, разделены от Бога и потеряли внутреннюю цельность. Ни все человечество, ни каждый из нас в отдельности — мы не обладаем цельностью, и это приходится принимать в учет, когда мы думаем о самих себе, так же как когда думаешь о Церкви и о человечестве в целом. Невозможно иметь оптимистическое представление о Церкви и забывать, что и Церковь тоже раздроблена. Ни в ком из нас ум, сердце, тело, воля, наш порыв к Богу не сливаются в единый мощный поток жизни, тем более духовной жизни.
С другой стороны, мы говорим о личности, персоне, и это слово следует понимать верно. Первоначальное греческое слово испостась при переводе на латинский язык создало большую проблему. Греческое слово означает «твердое основание», нечто прочное, самую сущность вещей. Слово же «персона» в то время, когда был сделан этот перевод, означало нечто совсем другое. «Персона» в латиноязычном мире обозначало маску («личину») актера, которого можно было видеть и узнать благодаря этой маске, и слово personare означает «звучать через что-то». Но если думать о персоне как об актере в маске, вы же понимаете, что в этом понятии двойная неправда. С одной стороны, маска — не сам актер. С другой стороны, пьеса не есть реальность, это что-то выдуманное. Так что говорить о Трех Лицах Святой Троицы как о трех personaeпредставлялось чудовищным богохульством, ложью, потому что это ложное представление, и это ложь относительно самой сути вещей.
Но значение этого слова следует понимать, как обычно и понимается, как личность, персону, то есть человеческое существо, рассматриваемое как единая и полная реальность. Но эта персона, эта реальность — нечто гораздо более сложное, чем можно вообразить. Персона — не просто человеческое существо, достигшее цельности, в ком все конфликты вымерли или в достаточной мере устоялись, чтобы не являть нам ситуацию хаоса. Суть понятия «персоны» в том, что когда мы говорим о персоне, мы говорим о человеке в его глубинной сущности. В книге Откровения нам дан образ не такого употребления слова «персона», но того именно, о чем я говорю. Во второй главе есть место, где говорится, что в конце времен каждому будет открыто имя, которого никто не знает, кроме Бога и того, кто это имя получает (Откр 2:17), имя, которое выражает единственность этого человека, единственное, неповторимое взаимоотношение, которое существует между этим человеком и Богом и, как следствие, между этим человеком и каждым другим.
Если думать в таком плане, то ясно становится, как важно нам делать различие между «персоной» и «индивидом». Оставим в стороне общество, подумаем о Церкви. Мы все, люди, разделены в самих себе, раздираемся между добром и злом, разделение проходит между нашим умственным восприятием и нашим опытным знанием. Мы разделены между собой, потому что в значительной степени чужды друг другу. Мы не понимаем друг друга, мы не одобряем друг друга, другие нам не нравятся, мы не любим друг друга. И Церковь в целом, как бы она ни была едина в Боге, но в своих отдельных членах является разделенным телом.
И тем не менее в этом разделенном теле каждый отдельный член имеет таинственную сердцевину, которую определяет имя, — имя, которое ведомо только Богу и тому, кто получает его, имя, в котором выражена единственность этого человека. Когда апостол Павел в одном из своих посланий говорит, что мы несем святыню в разбитых сосудах (ср. 2 Кор 4:7), это очень ясный образ индивида и личности внутри Церкви и в жизни мира в целом. Мы несем святыню. Мы все обладаем этим именем, которого еще не знаем, потому что наша связь с Богом недостаточно глубока, мы не настолько в Боге, чтобы быть способными узнать наше имя. Мы все носим в себе образ Божий, запечатленный в нас, и однако не видим его. Мы не видим его в себе, в противном случае мы относились бы к себе с чувством благоговейного поклонения, как к чему-то, что свято, что дорого Богу, настолько свято, что его нельзя осквернить. Апостол Павел много пишет об этом. И в то же время мы таковы, мы обладаем этим образом, он в нас. И мы должны сознавать, что когда мы говорим о личности, персоне, мы говорим о том, что в каждом из нас единственно, свято, драгоценно. Но какая связь одной персоны с другой? Мы все хорошо знаем, какова наша связь (или отсутствие ее) друг с другом как индивидами. Но каким образом одна персона связана с другой, если нет ничего, что позволяет нам противоположить их?
Тут мы можем обратиться к образу, который много веков назад дал древний русский летописец, Нестор. Он говорит о народах, но то же можно отнести к отдельным людям: он говорит, что каждый народ обладает только ему присущим свойством, которое не может быть предметом противопоставления, которое абсолютно единственно и неповторимо, и потому народы могут жить бок о бок, не сталкиваясь, не сравнивая себя с другими. Взаимоотношение между персонами подобно связи голосов, которые в полной взаимной гармонии поют в хоре. Каждый голос единственный. Каждый голос обладает своим единственным качеством — и я говорю не о разнице между, скажем, басом и тенором, но в пределах каждой категории каждый голос обладает собственным качеством. Каждый из нас как персона обладает уникальностью, которая вместе с уникальностью каждого другого сливается в единый поток поклонения или порыв взаимной любви.
Так что когда мы говорим о человеческой персоне, мы должны понять, что говорим о самом святом в себе, о чем-то, что знает только Бог, об образе Божием не просто как о наложенной печати, но как о жизненной силе в нас, которая изменяет, преображает нас и постепенно, пусть и очень медленно, делает нас причастниками Божественной природы (2 Пет 1:4). И однако мы несем эту святыню в разбитых сосудах своей индивидуальности. Это очень важно нам помнить, потому что только в этом случае мы можем видеть следствия такого положения. Например, мы видим, что когда стараемся создать взаимоотношения, мы не можем создать их искусственно, не преодолев разбитость индивида.
Сейчас очень много говорят об общинной жизни. Но общинная жизнь предназначена для индивидов. Это попытка сделать жизнь возможной для множества существ, которые в конечном счете не связаны между собой в полной гармонии, в жертвенной любви, в отдаче себя друг другу. Вот основа общины. То же самое можно было бы сказать о демократических взаимоотношениях между людьми в одной стране или местности. Воля большинства, общий дух народа (что не то же самое, как единогласие, единодушие, к которому стремится Церковь) — вот состояние индивидов, которые стараются создать между собой возможный modus vivendi, которые стараются жить вместе, несмотря на взаимное напряжение и разделения, стараются найти общий язык, общий интерес, который бы связал их и позволил выжить. Это относится к народам и время от времени взрывается войнами, или к семьям, которые должны выживать, не доходя до взаимных столкновений, ведущих к насилию, разделению, разводу.
В Ветхом Завете мы читаем, что изначально был сотворен человек, человеческое существо (Быт 1:26). Некоторые отцы Церкви говорят, что Адам, взятый от земли, созданный из персти земной, из основного как бы вещества тварного мира, содержал в себе все возможности человека. Он не имел пола, он был «всечеловеком», и постепенно, по мере того как он созревал от невинности к святости, от младенческого состояния к взрослости, в нем происходила поляризация, потребовавшая разделения двух элементов. И пришел момент, когда Бог разделил это единое человеческое существо на два, но они оставались в полном единстве. В Ветхом Завете мы видим этот момент, когда Бог разделил первозданного человека на мужчину и женщину. Переводы, и английский и славянский, неудовлетворительны. Мы читаем, что Бог взял ребро Адама (Быт 2:21). Одного раввина как-то спросили: почему Бог взял ребро, а не голову, что могло бы быть полезнее, или руку, что также полезно? И раввин ответил: потому что ребро — та часть человека, которая ближе всего к сердцу. Так что, согласно такой терминологии, женщина была создана из того, что ближе всего к сердцу мужчины, но я не считаю это блестящим или единственно возможным объяснением! Очень часто в древних языках, во всяком случае в славянском, «ребро», «ребра» означает «бок». Это выражение понималось в том смысле, что Бог разделил надвое первоначально единое существо, разделил две половины. Те, кто знает французский язык, уловят, что можно говорить о côte и côté: côte означает «ребро», côté — бок, сторона. И когда Адам видит Еву лицом к лицу, он восклицает: это кость от костей моих, плоть от плоти моей. И дальше в переводе текст неясен; там говорится: она будет называться женою, ибо взята от мужа (Быт 2:23). Но в еврейском тексте употреблено слово, которое одинаково в мужском и женском роде: иш и иша. Я — иш, она — иша. Она — женская часть меня, я — ее мужская часть.
В этот момент они — одно нераздельное существо в двух лицах, потому что падение еще не разделило человечество от Бога и одно человеческое существо от другого. Есть место в писаниях святого Мефодия Патарского, которое на латинском языке звучит так: Адам смотрит на Еву и говорит: она — мой alter ego, другой я сам, указывая этим на полное, радикальное отличие и одновременно тождество. Говоря о падении и о разделении Адама и Евы, святой Мефодий говорит дальше, что когда они отпали от Бога, пропала сила, связывавшая их воедино. Адам смотрел на Еву, Ева на Адама, и каждый говорил: я — ego, он — alter, он другой, она другая. Они стали разбитой парой, и тут вступает понятие индивида. Оно будет расти и углубляться. Со временем оно станет все более разрушительным, но в этот момент оно возникло. Они — уже не двое в единстве человеческого существа. Они — две персоны, в которых возникла индивидуальность. Это трагический момент, потому что этой чете придется каким-то образом быть вместе, в противном случае они будут разлучены навсегда. Разделение всегда растет, разделение никогда не исчезает само по себе.
И Бог устанавливает между ними взаимное притяжение. Они влекутся один к другому психологически и физически. Они тоскуют друг по другу, потому что в глубинах своих чуют, что они — одно, составляют одно целое, хотя на опыте знают, что случилось нечто разделившее их. Кто-то из духовных писателей говорит, что мир не мог бы существовать без таинств, потому что таинство — та сила, которая связывает тварь с Богом и твари между собой. И с самого начала мира Бог установил брак: не тот брак, который мы знаем теперь как церковное, богослужебное действо, но как событие, которое приводит два существа, иначе разделенные, в единство, в ту степень единства, которая им доступна. Оно может быть полным, оно может быть частичным, оно может быть возрастанием в единство, полным красоты и славы. Но брак — единственное таинство, которое сохранилось в библейском мире и в языческом мире, не давая индивидам порвать всякую связь и человеческому роду окончательно разрушиться.
Между людьми может быть любовь совершенная, без жадности обладания, та любовь, которую описывает Христос: тот не любит истинно, кто не готов жизнь отдать за другого (Ин 15:13). Отдать жизнь не значит умереть, отдать жизнь — значит полностью, без ограничения истощить себя, отдать. Понятие о любви может порой быть очень двусмысленно. В книге Screwtape Letters К. С. Льюиса старый бес пишет о любви своему племяннику, который под его руководством овладевает бесовской наукой. И он пишет: я не понимаю, как это Враг (Врагом он называет Бога) говорит, что любит людей. Он же дает им свободу! Они могут делать, что хотят. Они могут принять Его или отвергнуть Его, они могут пойти за Ним или отвернуться от Него. Когда я говорю, что люблю тебя, я имею в виду, что хочу обладать тобой так, чтобы ничего в тебе не осталось бы вне моей власти. Когда я думаю о совершенной любви к тебе, я думаю о том, как бы поглотить и переварить тебя так, чтобы вне меня тебя не осталось…
Такова бесовская «любовь». Но в большей или меньше степени мы находим это в человеческих отношениях. Можно ли подумать о нас, о мне, о каждом из нас, за исключением великих святых, что человек посмотрел на другого и сказал: «Он (она) — другой я сам, мой alter ego. Я существую только в связи с ним, с ней. Я существую, только постольку поскольку я устремлен, направлен к этому человеку. Я существую только вместе с ним, ради него. Без него — меня нет». Потому что любовь — это. В начале Евангелия от Иоанна нам говорится: В начале было Слово, и Слово был у Бога (Ин 1:1). Греческий текст не говорит «у Бога». Там стоят слова προς τον Θεον, что означает: к Богу, не просто «с» Ним. Этим говорится, что Слово Божие устремлено к Отцу. Оно направлено к Отцу, потому что в Себе Самом, в отдельности от Отца не имеет ни raison d’être, ни смысла, ни присутствия, ни бытия.
Такова должна быть любовь между людьми, и не только та любовь, которая соединяет людей в браке. Я говорю о той любви, посредством которой люди могли бы быть связаны друг с другом, если бы в них персона преобладала над индивидом, если бы индивид не заслонял персону, если бы индивид не стоял подобно ширме, туману, через который надо пробиться, который надо развеять, чтобы увидеть, так, чтобы отношения были отношениями двух людей, а не двух хищников или паразитов, отношениями людей, которые существуют друг ради друга и не видят другой цели существования.
Это то, что апостол Павел испытывал по отношению ко Христу. Это то, что он чувствовал в Боге, во Христе, в своих отношениях с каждым другим человеком. Это то, что мы могли бы видеть в Церкви или что мы более или менее встречаем в Церкви, — Церкви не как церковной организации, но Церкви в ее сущности, Церкви как доме Божием. Принадлежать к Церкви означает быть в собственном Божием доме. У нас есть Отец. У нас есть Брат — имя Ему Иисус Христос, Живой и Единородный Сын Божий. Тот же Дух дышит в нас, Святой Дух Божий. У нас один ум — ум Христов, это выражение Священного Писания (1 Кор 2:16). Церковь — дом Божий, в котором мы живем и пользуемся всеми правами детей нашего Отца. Святой Ириней Лионский говорит, что придет время, когда, в полном единении со Христом и силой Святого Духа, мы станем уже не приемными детьми Божиими, но в Единородном Сыне, силой Святого Духа, мы, все человечество, станем единородным сыном Божиим,и Бог будет все во всем, говоря словами апостола Павла (1 Кор 15:28). Вот наше человеческое призвание.
В своем индивидуальном бывании мы обладаем телом, душой, духом, и каждый из этих элементов имеет свое место и свою роль, существенную роль в нашем становлении персонами, когда мы преодолеваем свою замкнутость в индивидуальности, в нашем отвержении другого.
Здесь я хотел бы попутно сделать одно замечание. Мы неизменно употребляем «Ты», когда обращаемся к Богу, потому что стремимся осознать и подчеркнуть тот факт, что в терминах «Я» и «Ты» мы утверждаем то именно, о чем я сейчас говорил. Мы говорим «ты» самому близкому, самому дорогому человеку, но когда мы говорим «ты», мы утверждаем полную, предельную инаковость этого человека, то, что он — «другой», и вместе с тем — его бесконечную к нам близость и нашу близость к нему. В Церкви мы — «ты» (или должны бы быть «ты») друг для друга, так же как Бог для нас — «Ты» и мы для Него — «ты», потому что Он знает тайное, таинственное имя, которое до конца совпадает с нами, а у нас нет имени для Него, потому что мы еще не знаем Бога так, как призваны знать Его. Апостол Павел говорит, что придет время, когда мы будем знать Бога так же, как сами познаны Им (1 Кор 13:12). Но пока что у Бога есть имя — Иисус, имя Бога, ставшего Человеком. В Нем мы видим откровение всего, чем может быть человек, потому что в Нем нам явлен истинный и совершенный Человек, в Его теле, в Его душе, в Его духе. Он — Человек, и мы можем от Него научиться тому, что значит быть человеком.
Мы все обладаем телом, и душой, и духом. Тело и дух — вот два основные фактора, которые соединяют нас с Богом и с тварным миром. Адам был сотворен из праха земного. Он не был результатом резкого скачка от животного к человечеству, он не есть последняя стадия эволюционного развития. Бог не сотворил его, превратив в человека самую совершенную и привлекательную обезьяну. Бог взял прах земной, так что человек во всем подобен всему сотворенному Богом. Мы состоим из того же вещества, что и каждый атом, и каждая галактика. Каждый атом и каждая галактика и все сущее между этими крайностями может узнать себя самое в нас, в нашем теле. И это не происходит, потому что мы отпали от Бога, потому что наши тела уже не являются знаком присутствия Божия и нашей укорененности в Боге.
После потопа Господь говорит Ною: отныне все живущее предано в твою власть. Они будут тебе пищей, а ты будешь для них ужасом (Быт 9:2—3). Вот какая создалась взаимосвязь, и вот откуда такая физическая отчужденность, и взаимная, и с остальным тварным миром. Пока мы не усвоили искупление, не воссозданы, не обновлены силой и благодатью Божией, мы остаемся чуждыми, хищниками в мире, который мы были призваны вести к полноте общения с Богом. Благодаря тому что мы одно, что наша плоть — одной природы со всем существующим, весь мир мог бы последовать за нами, если бы только мы следовали за Богом. Но мы не идем за Богом, либо идем за Ним, постоянно запинаясь, колеблясь, мы так неверны Ему. Нам очень важно осознать единство между нами и тварным миром, понять, насколько важен для тварного мира и для нас тот факт, что мы едины, навсегда неразлучны.
А на другом краю — наш дух. Когда был создан Адам, Бог вдохнул в него Свою жизнь (Быт 2:7). Дыхание Божие внутри нас и делает нас подобными Богу, и позволяет нам вырастать от эмпирического человечества в существа, исполненные Божества, которые из невинности вырастают в святость. От безгрешности Адама, через падение человека, через покаяние, через искупительное дело Христа, через наше единение с Ним мы вырастаем в единство с Богом и становимся причастниками Божественной природы (2 Пет 1:4).
И между телом и духом — человеческая душа. Душа — это наш ум, наши эмоции, все формы сознания, какие есть в нас. И это — уязвимое место нашей жизни, потому что сюда направлены все искушения. Дьявол не может искушать нашу плоть. Один из отцов Церкви сказал, что когда мы говорим о грехах плоти, мы говорим не о том, что плоть наша греховна, но о тех грехах, которые наша душа совершает против нашей плоти. Я голоден, потому что тело требует пищи, но я проявляю жадность, потому что душа делает выбор между тем, что кажется вожделенным, и прочим. Мой отец как-то сказал мне, когда я был молод: «Никогда не держи дома ничего „вкусненького“, никакой любимой пищи. Держи только то, что не особенно любишь, тогда будешь есть только потому, что голоден, а не от жадности». Во всех своих проявлениях наше тело чисто и естественно. Оно теряет естественность и чистоту через то, что на него проецирует душа, — жадность, похоть и т. д. Тут-то и действует дьявол, потому что он может подсказать: «Зачем есть хлеб, когда можно взять пряник? Почему не попользоваться тем-то и тем-то? (что не совсем незаконно, но без чего лучше бы обойтись). Тебе же будет приятно!». И навязывает это нашему телу, которое постепенно совращается душой.
Писатели древности говорили о душе как о той части человека, которой может коснуться и дьявол и Бог. Бог зовет нас к Себе, к совершенной любви, и Он доказал нам, что действительно любит нас настолько, что Сына Своего Единородного отдал на смерть, чтобы мы жили (Ин 3:16—17; 1 Ин 4:9—10). А дьявол тут же говорит нам: «Не верь Ему. Это будет когда-то, это только обещано. То, что я предлагаю, так привлекательно! Бери сразу!». Дьявол заманивает нас, Бог призывает нас. Дьявол дает обещания, которых никогда не исполняет. Бог говорит: приди, я люблю тебя! Ты увидишь, что способна сотворить любовь. Взгляни на Христа. Взгляни на Мою любовь. Взгляни на Младенца Вифлеемского, Который отдает Себя, Который — Сам Бог, отдающий Себя беспомощно, беззащитно. Он вверяет Себя тебе. И судьба человечества зависит от того, чточеловек выберет, куда устремится его душа. Приму ли я приманку одного или зов любви Другого? И затем мы видим все исполнившимся в лице Христа. Христос становится человеком. Он причастен в собственном теле всей материальности тварного мира. Все творение может глядеть на Него и сказать: «Вот чем я призвано стать. Вот ради чего меня создал Бог. Вот я, каким стремлюсь стать, чем я стало бы, если бы человек не предал меня».
Святой Феодор Студит говорит, что мир подобен прекрасному коню, которым правит пьяный всадник. Так видит себя мир. Мир — прекрасное творение Божие, а мы, кто был призван вести его к совершенству, не справились со своей задачей и продолжаем изо дня в день быть отступниками от своего призвания. Но не так со Христом. Он соединен с тварью, и в чистоте Своего тела, в совершенстве Своего тела Он может явить образ всего тварного. В Своей душе Он остался незапятнанным. Есть место у пророка Исайи, где говорится, что Младенец родится Израилю, и раньше чем Он сможет различить добро от зла, Он выберет добро, не потому что над Ним чудесный покров, но потому что в Нем Самом нет зла (Ис 7:16). И значит, нас направляет к злу только наша испорченность. В Нем нет порчи, и следственно душой, Своей человеческойдушой Он выбирает добро. Он — воплощенный Сын Божий, и Он открывает нам, чем может быть человек, чем призван быть человек, исполненный Божественного присутствия, исполненный благодати Божией, совершенный и в единстве с Богом.
Тело, дух, душа: целостность человеческой личности [217]
Владимир Николаевич Лосский наряду с другими богословами подчеркивает тот факт, что с богословской точки зрения есть большая разница между «личностью», «персоной» и «индивидом». Индивид, как указывает само слово, — это последняя степень дробления. Можно говорить о человечестве, можно говорить о народах, можно говорить о расах, о семьях, но в конечном итоге остается единица, потому что если делить дальше, в конечном итоге останется не живой человек, а мертвое тело, труп — и душа покойника.
Индивид — это результат дробления. Мы все — индивиды в той мере, в какой чужды друг другу, разделены от Бога и потеряли внутреннюю цельность. Ни все человечество, ни каждый из нас в отдельности — мы не обладаем цельностью, и это приходится принимать в учет, когда мы думаем о самих себе, так же как когда думаешь о Церкви и о человечестве в целом. Невозможно иметь оптимистическое представление о Церкви и забывать, что и Церковь тоже раздроблена. Ни в ком из нас ум, сердце, тело, воля, наш порыв к Богу не сливаются в единый мощный поток жизни, тем более духовной жизни.
С другой стороны, мы говорим о личности, персоне, и это слово следует понимать верно. Первоначальное греческое слово испостась при переводе на латинский язык создало большую проблему. Греческое слово означает «твердое основание», нечто прочное, самую сущность вещей. Слово же «персона» в то время, когда был сделан этот перевод, означало нечто совсем другое. «Персона» в латиноязычном мире обозначало маску («личину») актера, которого можно было видеть и узнать благодаря этой маске, и слово personare означает «звучать через что-то». Но если думать о персоне как об актере в маске, вы же понимаете, что в этом понятии двойная неправда. С одной стороны, маска — не сам актер. С другой стороны, пьеса не есть реальность, это что-то выдуманное. Так что говорить о Трех Лицах Святой Троицы как о трех personaeпредставлялось чудовищным богохульством, ложью, потому что это ложное представление, и это ложь относительно самой сути вещей.
Но значение этого слова следует понимать, как обычно и понимается, как личность, персону, то есть человеческое существо, рассматриваемое как единая и полная реальность. Но эта персона, эта реальность — нечто гораздо более сложное, чем можно вообразить. Персона — не просто человеческое существо, достигшее цельности, в ком все конфликты вымерли или в достаточной мере устоялись, чтобы не являть нам ситуацию хаоса. Суть понятия «персоны» в том, что когда мы говорим о персоне, мы говорим о человеке в его глубинной сущности. В книге Откровения нам дан образ не такого употребления слова «персона», но того именно, о чем я говорю. Во второй главе есть место, где говорится, что в конце времен каждому будет открыто имя, которого никто не знает, кроме Бога и того, кто это имя получает (Откр 2:17), имя, которое выражает единственность этого человека, единственное, неповторимое взаимоотношение, которое существует между этим человеком и Богом и, как следствие, между этим человеком и каждым другим.
Если думать в таком плане, то ясно становится, как важно нам делать различие между «персоной» и «индивидом». Оставим в стороне общество, подумаем о Церкви. Мы все, люди, разделены в самих себе, раздираемся между добром и злом, разделение проходит между нашим умственным восприятием и нашим опытным знанием. Мы разделены между собой, потому что в значительной степени чужды друг другу. Мы не понимаем друг друга, мы не одобряем друг друга, другие нам не нравятся, мы не любим друг друга. И Церковь в целом, как бы она ни была едина в Боге, но в своих отдельных членах является разделенным телом.
И тем не менее в этом разделенном теле каждый отдельный член имеет таинственную сердцевину, которую определяет имя, — имя, которое ведомо только Богу и тому, кто получает его, имя, в котором выражена единственность этого человека. Когда апостол Павел в одном из своих посланий говорит, что мы несем святыню в разбитых сосудах (ср. 2 Кор 4:7), это очень ясный образ индивида и личности внутри Церкви и в жизни мира в целом. Мы несем святыню. Мы все обладаем этим именем, которого еще не знаем, потому что наша связь с Богом недостаточно глубока, мы не настолько в Боге, чтобы быть способными узнать наше имя. Мы все носим в себе образ Божий, запечатленный в нас, и однако не видим его. Мы не видим его в себе, в противном случае мы относились бы к себе с чувством благоговейного поклонения, как к чему-то, что свято, что дорого Богу, настолько свято, что его нельзя осквернить. Апостол Павел много пишет об этом. И в то же время мы таковы, мы обладаем этим образом, он в нас. И мы должны сознавать, что когда мы говорим о личности, персоне, мы говорим о том, что в каждом из нас единственно, свято, драгоценно. Но какая связь одной персоны с другой? Мы все хорошо знаем, какова наша связь (или отсутствие ее) друг с другом как индивидами. Но каким образом одна персона связана с другой, если нет ничего, что позволяет нам противоположить их?
Тут мы можем обратиться к образу, который много веков назад дал древний русский летописец, Нестор. Он говорит о народах, но то же можно отнести к отдельным людям: он говорит, что каждый народ обладает только ему присущим свойством, которое не может быть предметом противопоставления, которое абсолютно единственно и неповторимо, и потому народы могут жить бок о бок, не сталкиваясь, не сравнивая себя с другими
[218]. Взаимоотношение между персонами подобно связи голосов, которые в полной взаимной гармонии поют в хоре. Каждый голос единственный. Каждый голос обладает своим единственным качеством — и я говорю не о разнице между, скажем, басом и тенором, но в пределах каждой категории каждый голос обладает собственным качеством. Каждый из нас как персона обладает уникальностью, которая вместе с уникальностью каждого другого сливается в единый поток поклонения или порыв взаимной любви.
Так что когда мы говорим о человеческой персоне, мы должны понять, что говорим о самом святом в себе, о чем-то, что знает только Бог, об образе Божием не просто как о наложенной печати, но как о жизненной силе в нас, которая изменяет, преображает нас и постепенно, пусть и очень медленно, делает нас причастниками Божественной природы (2 Пет 1:4). И однако мы несем эту святыню в разбитых сосудах своей индивидуальности. Это очень важно нам помнить, потому что только в этом случае мы можем видеть следствия такого положения. Например, мы видим, что когда стараемся создать взаимоотношения, мы не можем создать их искусственно, не преодолев разбитость индивида.
Сейчас очень много говорят об общинной жизни. Но общинная жизнь предназначена для индивидов. Это попытка сделать жизнь возможной для множества существ, которые в конечном счете не связаны между собой в полной гармонии, в жертвенной любви, в отдаче себя друг другу. Вот основа общины. То же самое можно было бы сказать о демократических взаимоотношениях между людьми в одной стране или местности. Воля большинства, общий дух народа (что не то же самое, как единогласие, единодушие, к которому стремится Церковь) — вот состояние индивидов, которые стараются создать между собой возможный modus vivendi, которые стараются жить вместе, несмотря на взаимное напряжение и разделения, стараются найти общий язык, общий интерес, который бы связал их и позволил выжить. Это относится к народам и время от времени взрывается войнами, или к семьям, которые должны выживать, не доходя до взаимных столкновений, ведущих к насилию, разделению, разводу.
В Ветхом Завете мы читаем, что изначально был сотворен человек, человеческое существо (Быт 1:26). Некоторые отцы Церкви говорят, что Адам, взятый от земли, созданный из персти земной, из основного как бы вещества тварного мира, содержал в себе все возможности человека. Он не имел пола, он был «всечеловеком», и постепенно, по мере того как он созревал от невинности к святости, от младенческого состояния к взрослости, в нем происходила поляризация, потребовавшая разделения двух элементов. И пришел момент, когда Бог разделил это единое человеческое существо на два, но они оставались в полном единстве. В Ветхом Завете мы видим этот момент, когда Бог разделил первозданного человека на мужчину и женщину. Переводы, и английский и славянский, неудовлетворительны. Мы читаем, что Бог взял
ребро Адама (Быт 2:21). Одного раввина как-то спросили: почему Бог взял ребро, а не голову, что могло бы быть полезнее, или руку, что также полезно? И раввин ответил: потому что ребро — та часть человека, которая ближе всего к сердцу
[219]. Так что, согласно такой терминологии, женщина была создана из того, что ближе всего к сердцу мужчины, но я не считаю это блестящим или единственно возможным объяснением! Очень часто в древних языках, во всяком случае в славянском, «ребро», «ребра» означает «бок». Это выражение понималось в том смысле, что Бог разделил надвое первоначально единое существо, разделил две половины. Те, кто знает французский язык, уловят, что можно говорить о côte и côté: côte означает «ребро», côté — бок, сторона. И когда Адам видит Еву лицом к лицу, он восклицает:
это кость от костей моих, плоть от плоти моей. И дальше в переводе текст неясен; там говорится:
она будет называться женою, ибо взята от мужа (Быт 2:23). Но в еврейском тексте употреблено слово, которое одинаково в мужском и женском роде:
иш и
иша. Я —
иш, она —
иша. Она — женская часть меня, я — ее мужская часть.
В этот момент они — одно нераздельное существо в двух лицах, потому что падение еще не разделило человечество от Бога и одно человеческое существо от другого. Есть место в писаниях святого Мефодия Патарского, которое на латинском языке звучит так: Адам смотрит на Еву и говорит: она — мой alter ego, другой я сам, указывая этим на полное, радикальное отличие и одновременно тождество. Говоря о падении и о разделении Адама и Евы, святой Мефодий говорит дальше, что когда они отпали от Бога, пропала сила, связывавшая их воедино. Адам смотрел на Еву, Ева на Адама, и каждый говорил: я — ego, он — alter, он другой, она другая. Они стали разбитой парой, и тут вступает понятие индивида. Оно будет расти и углубляться. Со временем оно станет все более разрушительным, но в этот момент оно возникло. Они — уже не двое в единстве человеческого существа. Они — две персоны, в которых возникла индивидуальность. Это трагический момент, потому что этой чете придется каким-то образом быть вместе, в противном случае они будут разлучены навсегда. Разделение всегда растет, разделение никогда не исчезает само по себе.
И Бог устанавливает между ними взаимное притяжение. Они влекутся один к другому психологически и физически. Они тоскуют друг по другу, потому что в глубинах своих чуют, что они — одно, составляют одно целое, хотя на опыте знают, что случилось нечто разделившее их. Кто-то из духовных писателей говорит, что мир не мог бы существовать без таинств, потому что таинство — та сила, которая связывает тварь с Богом и твари между собой. И с самого начала мира Бог установил брак: не тот брак, который мы знаем теперь как церковное, богослужебное действо, но как событие, которое приводит два существа, иначе разделенные, в единство, в ту степень единства, которая им доступна. Оно может быть полным, оно может быть частичным, оно может быть возрастанием в единство, полным красоты и славы. Но брак — единственное таинство, которое сохранилось в библейском мире и в языческом мире, не давая индивидам порвать всякую связь и человеческому роду окончательно разрушиться.
Между людьми может быть любовь совершенная, без жадности обладания, та любовь, которую описывает Христос: тот не любит истинно, кто не готов жизнь отдать за другого (Ин 15:13). Отдать жизнь не значит умереть, отдать жизнь — значит полностью, без ограничения истощить себя, отдать. Понятие о любви может порой быть очень двусмысленно. В книге Screwtape Letters К. С. Льюиса215 старый бес пишет о любви своему племяннику, который под его руководством овладевает бесовской наукой. И он пишет: я не понимаю, как это Враг (Врагом он называет Бога) говорит, что любит людей. Он же дает им свободу! Они могут делать, что хотят. Они могут принять Его или отвергнуть Его, они могут пойти за Ним или отвернуться от Него. Когда я говорю, что люблю тебя, я имею в виду, что хочу обладать тобой так, чтобы ничего в тебе не осталось бы вне моей власти. Когда я думаю о совершенной любви к тебе, я думаю о том, как бы поглотить и переварить тебя так, чтобы вне меня тебя не осталось…
Такова бесовская «любовь». Но в большей или меньше степени мы находим это в человеческих отношениях. Можно ли подумать о нас, о мне, о каждом из нас, за исключением великих святых, что человек посмотрел на другого и сказал: «Он (она) — другой я сам, мой alter ego. Я существую только в связи с ним, с ней. Я существую, только постольку поскольку я устремлен, направлен к этому человеку. Я существую только вместе с ним, ради него. Без него — меня нет». Потому что любовь —
это. В начале Евангелия от Иоанна нам говорится:
В начале было Слово, и Слово был у Бога (Ин 1:1). Греческий текст не говорит «у Бога». Там стоят слова
προς τον Θεον, что означает:
к Богу, не просто «с» Ним. Этим говорится, что Слово Божие устремлено к Отцу. Оно направлено к Отцу, потому что в Себе Самом, в отдельности от Отца не имеет ни raison d’être
[220], ни смысла, ни присутствия, ни бытия.
Такова должна быть любовь между людьми, и не только та любовь, которая соединяет людей в браке. Я говорю о той любви, посредством которой люди могли бы быть связаны друг с другом, если бы в них персона преобладала над индивидом, если бы индивид не заслонял персону, если бы индивид не стоял подобно ширме, туману, через который надо пробиться, который надо развеять, чтобы увидеть, так, чтобы отношения были отношениями двух людей, а не двух хищников или паразитов, отношениями людей, которые существуют друг ради друга и не видят другой цели существования.
Это то, что апостол Павел испытывал по отношению ко Христу. Это то, что он чувствовал в Боге, во Христе, в своих отношениях с каждым другим человеком. Это то, что мы могли бы видеть в Церкви или что мы более или менее встречаем в Церкви, — Церкви не как церковной организации, но Церкви в ее сущности, Церкви как доме Божием. Принадлежать к Церкви означает быть в собственном Божием доме. У нас есть Отец. У нас есть Брат — имя Ему Иисус Христос, Живой и Единородный Сын Божий. Тот же Дух дышит в нас, Святой Дух Божий. У нас один ум — ум Христов, это выражение Священного Писания (1 Кор 2:16). Церковь — дом Божий, в котором мы живем и пользуемся всеми правами детей нашего Отца. Святой Ириней Лионский говорит, что придет время, когда, в полном единении со Христом и силой Святого Духа, мы станем уже не приемными детьми Божиими, но в Единородном Сыне, силой Святого Духа, мы, все человечество, станем единородным сыном Божиим,и Бог будет все во всем, говоря словами апостола Павла (1 Кор 15:28). Вот наше человеческое призвание.
В своем индивидуальном бывании мы обладаем телом, душой, духом, и каждый из этих элементов имеет свое место и свою роль, существенную роль в нашем становлении персонами, когда мы преодолеваем свою замкнутость в индивидуальности, в нашем отвержении другого.
Здесь я хотел бы попутно сделать одно замечание. Мы неизменно употребляем «Ты», когда обращаемся к Богу, потому что стремимся осознать и подчеркнуть тот факт, что в терминах «Я» и «Ты» мы утверждаем то именно, о чем я сейчас говорил. Мы говорим «ты» самому близкому, самому дорогому человеку, но когда мы говорим «ты», мы утверждаем полную, предельную инаковость этого человека, то, что он — «другой», и вместе с тем — его бесконечную к нам близость и нашу близость к нему. В Церкви мы — «ты» (или должны бы быть «ты») друг для друга, так же как Бог для нас — «Ты» и мы для Него — «ты», потому что Он знает тайное, таинственное имя, которое до конца совпадает с нами, а у нас нет имени для Него, потому что мы еще не знаем Бога так, как призваны знать Его. Апостол Павел говорит, что придет время, когда мы будем знать Бога так же, как сами познаны Им (1 Кор 13:12). Но пока что у Бога есть имя — Иисус, имя Бога, ставшего Человеком. В Нем мы видим откровение всего, чем может быть человек, потому что в Нем нам явлен истинный и совершенный Человек, в Его теле, в Его душе, в Его духе. Он — Человек, и мы можем от Него научиться тому, что значит быть человеком.
Мы все обладаем телом, и душой, и духом. Тело и дух — вот два основные фактора, которые соединяют нас с Богом и с тварным миром. Адам был сотворен из праха земного. Он не был результатом резкого скачка от животного к человечеству, он не есть последняя стадия эволюционного развития. Бог не сотворил его, превратив в человека самую совершенную и привлекательную обезьяну. Бог взял прах земной, так что человек во всем подобен всему сотворенному Богом. Мы состоим из того же вещества, что и каждый атом, и каждая галактика. Каждый атом и каждая галактика и все сущее между этими крайностями может узнать себя самое в нас, в нашем теле. И это не происходит, потому что мы отпали от Бога, потому что наши тела уже не являются знаком присутствия Божия и нашей укорененности в Боге.
После потопа Господь говорит Ною: отныне все живущее предано в твою власть. Они будут тебе пищей, а ты будешь для них ужасом (Быт 9:2—3). Вот какая создалась взаимосвязь, и вот откуда такая физическая отчужденность, и взаимная, и с остальным тварным миром. Пока мы не усвоили искупление, не воссозданы, не обновлены силой и благодатью Божией, мы остаемся чуждыми, хищниками в мире, который мы были призваны вести к полноте общения с Богом. Благодаря тому что мы одно, что наша плоть — одной природы со всем существующим, весь мир мог бы последовать за нами, если бы только мы следовали за Богом. Но мы не идем за Богом, либо идем за Ним, постоянно запинаясь, колеблясь, мы так неверны Ему. Нам очень важно осознать единство между нами и тварным миром, понять, насколько важен для тварного мира и для нас тот факт, что мы едины, навсегда неразлучны.
А на другом краю — наш дух. Когда был создан Адам, Бог вдохнул в него Свою жизнь (Быт 2:7). Дыхание Божие внутри нас и делает нас подобными Богу, и позволяет нам вырастать от эмпирического человечества в существа, исполненные Божества, которые из невинности вырастают в святость. От безгрешности Адама, через падение человека, через покаяние, через искупительное дело Христа, через наше единение с Ним мы вырастаем в единство с Богом и становимся причастниками Божественной природы (2 Пет 1:4).
И между телом и духом — человеческая душа. Душа — это наш ум, наши эмоции, все формы сознания, какие есть в нас. И это — уязвимое место нашей жизни, потому что сюда направлены все искушения. Дьявол не может искушать нашу плоть. Один из отцов Церкви сказал, что когда мы говорим о грехах плоти, мы говорим не о том, что плоть наша греховна, но о тех грехах, которые наша душа совершает против нашей плоти. Я голоден, потому что тело требует пищи, но я проявляю жадность, потому что душа делает выбор между тем, что кажется вожделенным, и прочим. Мой отец как-то сказал мне, когда я был молод: «Никогда не держи дома ничего „вкусненького“, никакой любимой пищи. Держи только то, что не особенно любишь, тогда будешь есть только потому, что голоден, а не от жадности». Во всех своих проявлениях наше тело чисто и естественно. Оно теряет естественность и чистоту через то, что на него проецирует душа, — жадность, похоть и т. д. Тут-то и действует дьявол, потому что он может подсказать: «Зачем есть хлеб, когда можно взять пряник? Почему не попользоваться тем-то и тем-то? (что не совсем незаконно, но без чего лучше бы обойтись). Тебе же будет приятно!». И навязывает это нашему телу, которое постепенно совращается душой.
Писатели древности говорили о душе как о той части человека, которой может коснуться и дьявол и Бог. Бог зовет нас к Себе, к совершенной любви, и Он доказал нам, что действительно любит нас настолько, что Сына Своего Единородного отдал на смерть, чтобы мы жили (Ин 3:16—17; 1 Ин 4:9—10). А дьявол тут же говорит нам: «Не верь Ему. Это будет когда-то, это только обещано. То, что я предлагаю, так привлекательно! Бери сразу!». Дьявол заманивает нас, Бог призывает нас. Дьявол дает обещания, которых никогда не исполняет. Бог говорит: приди, я люблю тебя! Ты увидишь, что способна сотворить любовь. Взгляни на Христа. Взгляни на Мою любовь. Взгляни на Младенца Вифлеемского, Который отдает Себя, Который — Сам Бог, отдающий Себя беспомощно, беззащитно. Он вверяет Себя тебе. И судьба человечества зависит от того, чточеловек выберет, куда устремится его душа. Приму ли я приманку одного или зов любви Другого? И затем мы видим все исполнившимся в лице Христа. Христос становится человеком. Он причастен в собственном теле всей материальности тварного мира. Все творение может глядеть на Него и сказать: «Вот чем я призвано стать. Вот ради чего меня создал Бог. Вот я, каким стремлюсь стать, чем я стало бы, если бы человек не предал меня».
Святой Феодор Студит говорит, что мир подобен прекрасному коню, которым правит пьяный всадник. Так видит себя мир. Мир — прекрасное творение Божие, а мы, кто был призван вести его к совершенству, не справились со своей задачей и продолжаем изо дня в день быть отступниками от своего призвания. Но не так со Христом. Он соединен с тварью, и в чистоте Своего тела, в совершенстве Своего тела Он может явить образ всего тварного. В Своей душе Он остался незапятнанным. Есть место у пророка Исайи, где говорится, что Младенец родится Израилю, и раньше чем Он сможет различить добро от зла, Он выберет добро, не потому что над Ним чудесный покров, но потому что в Нем Самом нет зла82 (Ис 7:16). И значит, нас направляет к злу только наша испорченность. В Нем нет порчи, и следственно душой, Своейчеловеческой душой Он выбирает добро. Он — воплощенный Сын Божий, и Он открывает нам, чем может быть человек, чем призван быть человек, исполненный Божественного присутствия, исполненный благодати Божией, совершенный и в единстве с Богом.
Психология и духовный опыт [221]
Я не знаю, будет ли вам вообще интересно мое сообщение, потому что мне не вполне ясно, какая публика здесь собралась. Насколько я могу судить, вы не являетесь, так сказать, однородной массой, здесь собрались люди с разными убеждениями и наклонностями, так что, выступая перед вами, я иду на определенный риск. Несколько лет тому назад я как ведущий молодежной группы пригласил к нам на встречу секретаря Гуманистического общества. Он провел беседу (на мой взгляд, не совсем убедительную) на тему о том, что образованный и здравомыслящий человек не может быть верующим. Один из наших юношей, которому, полагаю, не хватило такта, спросил его в конце, что он думает обо мне: я необразован или, может быть, моя психика не в порядке? Узнав, что я имею медицинское образование, докладчик не решился настаивать на моей полной невежественности в научных вопросах и заключил: «Речь, несомненно, идет о психике». И сегодня я представляю вам себя именно как особый клинический случай. Я не буду пытаться что-либо доказывать, я только предложу вам кое-что рассмотреть.
Первое, о чем я хотел бы сказать, состоит в следующем. Когда мы говорим о предметах духовных, о вере в Бога, мы, конечно, тут же думаем о религии. Действительно, если речь идет о Боге, то совершенно естественно появляется мысль о религии. Но вера как феномен имеет отношение не только к Богу или области божественной. В 11-ой главе Послания к евреям мы находим очень интересное определение веры: вера есть уверенность в невидимом (Евр 11:1). При этом под «невидимым» автор явно не имеет в виду то, что просто не видимо глазами, он говорит о том, что неуловимо, что находится вне области наших чувств. Если принять такое определение веры, то мы будем вынуждены признать, что оно покрывает собой очень широкий спектр явлений. Есть целый ряд очевидных для нас вещей, целый ряд предметов, существование которых не требует опоры в наших ощущениях. Мне сразу приходят в голову две такие вещи — чувство прекрасного и любовь. Когда мы восклицаем: «Как это прекрасно!», то имеем в виду нашу внутреннюю реакцию на то, что предстало перед нами. И что интересно: это чувство прекрасного универсально, оно, вероятно, одно из самых универсальных явлений, хотя сам объект, который его вызывает и на который мы реагируем таким образом, может быть крайне разнообразным. В различные эпохи одни и те же творения могут восприниматься как прекрасные или совсем наоборот. Например, то, что теперь называется «готическим искусством», Рафаэль мог именовать так же, но вкладывать в это совсем другой смысл — искусство, достойное готов, то есть варваров. В наши дни люди ценят самые разнообразные формы прекрасного, которые часто несовместимы одна с другой, однако само чувство присуще всем. Это и есть акт веры в том значении, в котором употреблял это слово апостол Павел. Это уверенность, основанная не только на сенсорной реакции. Мы видим нечто и отзываемся, мы не взвешиваем при этом все «за» и «против», прежде чем назвать предмет или лицо красивым.
Более того, временами мы можем очень сильно расходиться во мнениях друг с другом. Один молодой человек, впрочем, не такой уж и молодой, учитывая, что у него двенадцать детей, как-то сказал мне: «Вы когда-нибудь видели человека красивее, чем моя жена?». Это заставило меня вспомнить одну персидскую притчу. Жил некогда великий поэт по имени Меджнун, который писал стихи о своей возлюбленной Лейле
[222]. И стихи эти обладали такой силой убеждения, что увидеть прекрасную Лейлу захотел персидский шах. Он позвал к себе Меджнуна и Лейлу и приказал ей открыть лицо. Далее в притче идет описание ее внешности и говорится: нос у нее был как у орла, губы — как у верблюда, глаза такие-то, уши сякие-то, в общем, нечто безобразное. Шах с негодованием посмотрел на Меджнуна и сказал: «Ты обманул нас, ты говорил, что она прекрасна, а она — само уродство». На что Меджнун ответил: «Нет, это не обман, но чтобы увидеть Лейлу прекрасной, надо иметь глаза Меджнуна».
Я думаю, в этом есть нечто. Это не просто иллюстрация к тому, что я пытался донести до вас. Чувство прекрасного не определяется тем, что можно описать с помощью цвета, линии, пропорций или форм. Это что-то другое. И то же самое, мне кажется, относится и к любви. Как объяснить, почему мы выбираем этого человека, а не того? Я не говорю о любви «ко всем», которая очень часто есть иллюзия, так как любить всех легче, чем любить того или другого конкретного человека. Мне вспоминаются слова пожилого священника: «Отец Антоний, — сказал он, — я заметил, что человек, который любит меня, подписывает свое письмо: „С любовью, такой-то“, а тот, кто не любит: „С любовью во Христе“». После чего я получил от него письмо, которое оканчивалось словами: «С должным уважением к Вашему сану». Так я узнал свое место.
Итак, почему мы реагируем на данного человека тем или иным образом? Ни черты лица, ни голос, ни что-либо осязаемое не имеют для нас особого значения. Очень часто сквозь то, что мы видим, или невзирая на то, что мы видим, наши чувства улавливают нечто особенное в человеке. Так что для меня вера в Бога — не нечто странное, неестественное, а часть человеческого опыта. Причем человеческого опыта, который касается не только Бога, а вообще свидетельствует об особенностях нашего восприятия. Несомненный факт: красота человека, которого я люблю, не может быть доказана. Примеры тому — и Лейла Меджнуна, и жена моего знакомого. Это не сопоставление всех «за» и «против», а непосредственная убежденность, которая временами может показаться странной, абсурдной, недопустимой. Вот почему я бы не стал отстаивать свою веру в Бога, я попросту исповедую факт своей веры, и для меня тут нет никаких сомнений.
Я знаю, что это не очень по-английски, но я не англичанин, поэтому просто перейду к личному опыту и коротко скажу, почему я верующий. Есть современный французский писатель, который был атеистом и пережил то, что на языке Евангелия называется «обращением». Он написал книгу «Бог существует, я Его встретил»69. Это же мог бы сказать и я. Я немного проиллюстрирую свои слова, а вы исходя из этого будете решать, психика ли у меня не в порядке или я полный невежда.
Я родился незадолго до Первой мировой войны, и мое детство прошло на фоне этой войны, русской революции и затем эмиграции. Все это означает, что никакого религиозного образования мне никто никогда не имел возможности дать. Мои родители были верующими, но у нас не было дома, я жил при школе, причем абсолютно безбожной, в самом этимологически прямом значении этого слова: Бог никак не был включен в жизнь школы, а то немногое, что я знал о религии, не могло по-настоящему приблизить меня к Нему. Со мной было три случая, о которых мне хочется упомянуть сейчас в нашем разговоре.
В начальной школе я учился в Австрии, и на первой неделе занятий настал урок Закона Божия. Мои родители записали меня как Orthodoxe, не подозревая, что в немецкоязычных странах это значит «ортодоксальный иудей». Православный христианин там называется «греко-православный». И меня отправили к раввину. Он взглянул на меня и спросил: «Почему ты без шапочки?». А я простодушно, мне было всего семь лет от роду, ответил: «Моя мама говорит, что нельзя в помещении покрывать голову, потому что там может быть распятие или икона». Он воскликнул: «Так ты маленький христианин?». Я сказал: «Да». «Вон отсюда!», — велел он, и я вылетел в коридор. Я был очень доволен, но мое счастье длилось недолго. Меня поймала директриса, сказала: «Ах, ты христианин! Я сейчас отведу тебя к католическому священнику». Я там уселся, священник стал спрашивать меня, кто я, что я, и когда выяснил, что я русский, православный, вскричал: «Маленький еретик в моем классе! Вон отсюда!». Так закончилось мое религиозное образование.
Родители совершили что-то вроде слабой попытки дать мне представление или какое-то впечатление о религии, взяв меня разок-другой в церковь в Страстную пятницу. И тут я сделал открытие, которое показывает, насколько я был далек от всякой мистики. Я обнаружил, что, стоит мне переступить порог церкви и глубоко вдохнуть воздух, напоенный ладаном, я прямо на месте падаю в обморок, и меня увозят домой. Таким образом, и эта последняя попытка приблизить меня к религиозной реальности привела к тому, что я от этой реальности сбежал. Соответственно, в подростковом возрасте я ничего не знал о Боге. Он просто не существовал в моем опыте. У меня и без этого было полно проблем — как не быть избитым, где поспать, что поесть, мне было недосуг беспокоиться о чем-то еще. Вы, наверное, не представляете себе, что значит для подростка не иметь ни дома, ни безопасности, ни обеда, ни защиты. Для меня это имело очень большое значение. Жизнь была суровой борьбой, и главной была непосредственная задача — так или иначе выжить.
Но затем наступил момент, когда распахнулись «райские двери»: мои мама и бабушка нашли небольшую квартирку в пригороде Парижа. Вы не представляете, что это было! Появилось первое в моей жизни место, где я имел право быть, куда я мог прийти и находиться. Там меня ждали, мне были рады. Там была дверь, была крыша над головой, и была любовь. Так должен выглядеть абсолютный рай, но, вероятно, уже тогда у меня проявились признаки психического расстройства, потому что после нескольких месяцев действительно невероятного счастья я обнаружил, что не могу выносить счастье, если в жизни нет содержания, нет цели, если жить — все равно что лакать сливки до скончания века. Меня привело в ужас бесцельное, пустое счастье. Вы можете истолковать это различным образом: сказать, например, что у меня действительно было неладно с психикой, или что это был метафизический кризис. Но что бы вы ни сказали, дело обстояло именно так. И поскольку я был мальчиком с очень конкретным мышлением, то я решил дать себе год, чтобы ответить на вопрос, имеет ли жизнь вообще какой-нибудь смысл, а если нет, то покончить с собой. За это время я действительно совершал некоторые попытки такого рода, например переходил парижские улицы с закрытыми глазами, надеясь, что меня задавят. Меня осыпали бранью и прогоняли, но так и не задавили ни такси, ни другие машины.
Так продолжалось до момента, когда, незадолго до Пасхи, наш молодежный руководитель отозвал меня (а я играл в волейбол, что было тогда страстью моей жизни) и сказал: «Пойдем, мы пригласили священника провести с вами, мальчиками, беседу». Я возмутился: «Ни за что! Я не верю в священников, не верю в Церковь, не верю в Бога, погода хорошая, и все!». Руководитель был человек умный, он не стал говорить мне, что беседа будет полезна для моей души, — я бы ответил, что души у меня нет и пользы ей быть не может. Он сказал: «Ты только представь, чтосвященник разнесет по Парижу, если никто из вас не придет на его беседу. Ты не можешь нас так подвести. Я же не прошу слушать — ты только пойди и сядь». Я подумал, что лояльность к моей группе этого требует, и пошел, сел в углу, и беседа началась.
Я был намерен не слушать, но к сожалению, священник говорил слишком громко, а то, что он говорил (позднее я обнаружил, что то был один из самых великих людей в русском православии)
[223], возмутило меня. У него явно не было никакого опыта с детьми. Он говорил о Евангелии, о евангельской любви, о том, что мы призваны быть кроткими и смиренными, и терпеливыми — все добродетели, которые подросток четырнадцати лет никак не ценит. Нас учили воинскому строю, воспитывали в воинском духе, а вовсе не в том, что Ницше назвал «религией рабов». Я прямо кипел возмущением, и по окончании беседы помчался домой, спросил у мамы, есть ли у нее Евангелие, получил его. И поскольку я слышал от докладчика, что Евангелий четыре, я сделал вывод, что одно из них короче других, и раз читать его — пустая трата времени, то взялся за самое короткое. И попал на Евангелие от Марка, которое резкое, ясное, живое и было написано в свое время под руководством апостола Петра для римского хулиганского молодняка.
И тут случилось — и это следующий этап моего умопомешательства, — что пока я читал Евангелие, между первой и третьей главой мне вдруг стало абсолютно очевидно, что Христос, в Кого я не верю, стоит по другую сторону стола, за которым я сижу. Я поднял взор, я ничего не видел, ничего не обонял, ничего не слышал, не было никаких чувственных ощущений, но уверенность была такая ясная, такая неколебимая, что я откинулся на стуле и произнес: «Так вот оно что». И эта уверенность не оставила меня в последующие десятилетия, она и сейчас со мной, как была в том далеком подростковом возрасте.
Это ничего не доказывает, потому что невозможно передать другому собственный опыт. Личное переживание одного человека ничего не доказывает тому, кто не испытал подобного. Я просто рассказываю вам о случившемся, чтобы объяснить, почему я верю в Бога и почему вера для меня — уверенность в невидимом, где ударение на «уверенность». Все это реально для меня не вследствие того, что меня так научили в детстве или позднее задурили мозги.
Затем мне пришлось все это осмысливать, потому что, как вы сами знаете, непосредственный опыт для вас истинен, но вокруг этого опыта многое наслаивается, что должно быть осмыслено, продумано, что требуется проанализировать, обсудить, принять или отвергнуть. Невозможно читать Евангелие и не задумываться, не ставить себе вопросы, не ставить Богу вопросы, не стараться узнать от других людей,
что то или другое сказанное в Евангелии значит для них, как они это понимают. Так что я читал дальше, ставил себе вопросы, отвечал на них удовлетворительно или нет, слушал других людей и собирал все это. И когда позже я был в медицинской школе, когда я оказался на полтора года студентом в Salpêtrière
[224], а затем в Университетской психиатрической клинике, я ставил себе совершенно конкретные вопросы о том, каково место моих психологических реакций на то, что я считал объективным фактом: мою встречу со Христом, в которой я был абсолютно уверен, как если бы я встретил лицом к лицу человека.
И тогда мне постепенно стало ясно, что любой опыт, который мы называем духовным, мы воспринимаем и в своей психике, потому что если он не дойдет до сознания или не станет осознанным переживанием, которое мы можем контролировать, он как бы не существует для нас, он проходит сквозь нас бесследно. Так что мне ясно представилось, что любое духовное переживание становится субъективно реальным только тогда, когда достигает области нашей психики, психологии. Означает ли это, что затронута бывает только область психики? В этом был весь вопрос: существует ли мой опыт помимо, так сказать, некоего «наития»? Я проверял это всеми доступными мне способами. Я читал, моими учителями были заслуженные психологи и психиатры; скажем, Пьер Жанэ — мимо этого имени не пройдешь, от него я узнал все, что знаю (хотя, может быть, не все усвоил) о Фрейде и всем подходе по этой линии. И я пришел к выводу, что духовный опыт достигает нас и становится реальным для нас в пределах нашего сознания, нашего ума и порой каким-то образом достигает и нашего физического существа. Но при всем этом я не считал тогда и теперь не считаю, будто духовный опыт можно свести к психологической буре или что психологическую бурю можно свести к чистой физиологии. Помнится, французский физиолог и врач Кабанис утверждал, что мозг вырабатывает мысли точно так же, как печень вырабатывает желчь. Но позднее наука доказала, что здесь иной процесс, все гораздо более тонко, сложно. И я уверен, что можно быть верующим человеком, не отказываясь от рассудительного и вдумчивого подхода и к собственному опыту, и к свидетельству других людей.
Также я считаю, что очень важно относиться к собственным переживанием критически, не воспринимать легковерно все подряд потому лишь, что это случилось с нами. И вместе с тем важно не отвергать что-либо потому только, что оно не поддается реконструкции, рациональному истолкованию: нечто может быть разумным, хотя и не рациональным. Мне кажется, к этому приводит вся психологическая деятельность: результаты не строятся просто как логические выводы, все гораздо более сложно.
Дальше я подошел к вопросу сомнения. Что такое сомнение? Следует ли бояться сомнения? Мой отец приучил меня смотреть тому, что встречается, прямо в лицо, встречать все без страха. Он считал: то, что подлинно, выдержит любое исследование и критическое обсуждение. Если же встреченное просто развеется, как дым, то чем скорее это произойдет, тем лучше. Поэтому я старался осмыслить все, что происходило со мной, скажем так, в порядке духовного опыта. И очень важное место в этом принадлежит сомнению.
Так часто верующий, встречаясь с сомнением, теряется, пугается, как будто сомнение может разрушить или уничтожить самую реальность того, в чем он убежден, что составляет суть его жизни. Мне очень помогло оценить важность вопрошания то, что я занимался научной работой под руководством одного из Кюри, затем в медицинской школе. Ведь для ученого важно не то, чего он достиг, что открыл сегодня, — ему важно то, что на самом деле есть, что бы он ни думал. Ученый начинает с того, что собирает факты, строит из них модель, теорию, гипотезу. Но если он честный ученый, то, построив ее, первым делом он начинает ставить вопрос: где изъян? Потому что идти дальше можно только тогда, когда обнаружено слабое место конструкции или новый факт, который не вписывается в построенную модель. И тогда я обнаружил, что точно так же можно относиться к вере: каждый раз, как вы подходите к более полному ви{'}дению — а это непременно должно произойти, если вы хотите охватить свой опыт умственно и эмоционально, — вы должны поставить себе вопрос: в чем мое представление недостаточно, какие данные чужого опыта могут сокрушить, разрушить мою модель? И затем радоваться: моя модель разбита, потому что мое представление о Боге, о духовной жизни, о человеке было недостаточно, реальность намного превосходит мое прежнее представление.
И это, я думаю, лежит на грани психологии и духовности, потому что это действие производится умственно или, если предпочитаете, психологически, включая опыт, который приносит сердце, приносит ум, опыт, который приходит к нам от окружающего мира. Но цель — обнаружить с наибольшей полнотой то, что есть на самом деле, реальность. И мне кажется, что в наши дни невозможно игнорировать никакой человеческий опыт, так же как нельзя игнорировать неосязаемый мир, в котором мы живем. Мы не воспринимаем непосредственно волны, никто из нас не переживает непосредственно то, чему нас учит физика, например о природе света. Есть целый мир неосязаемого: никто не видел атом, исследование идет на уровне дедукции, современная математика вся строится умозрительно. Поэтому я считаю, что честность ума — неважно, большого или малого, важна полная его честность — должна присутствовать там, где речь идет о вещах духовных, как она присутствует в других областях, но при этом не стоит обманываться, будто непременно придешь к окончательному выводу. Потому что окончательный вывод, может быть, и придет (хотя я в это не верю), но придет не раньше, чем вы сможете проанализировать, на каком основании вы любите кого-то или почему вы так отзываетесь на нечто прекрасное. Точно так же невозможно до конца проанализировать тот опыт, который некоторые из нас называют духовным опытом.
Ответы на вопросы
Как вы понимаете, что такое бессознательное и какова его роль в психической жизни человека?
Начну с другого. В начале книги Бытия нам говорится, что Бог создал мир, и в тот момент творение представляло собой хаос, и из этого хаоса, в процессе постепенного созревания, возникало все. Можно представить это иначе: Бог вызывал из этого хаоса все, что было способно возникнуть как нечто прекрасное. Мне кажется, бессознательное очень похоже на этот хаос, и если вы стараетесь отсечь хаос, вы можете отсечь и то, что позднее могло бы возникнуть не в уродливой форме, хотя, пока оно в области хаоса, оно, возможно, и уродливо. Это несколько похоже на зародыш во чреве (разумеется, слово «уродство» тут неприменимо): если он появится на свет преждевременно, он еще не то, чем должен был быть, это не ребенок, он нежизнеспособен. Но если дать ему время созреть, вырасти, стать тем, чем до{'}лжно, он рождается способным стать человеком в полном смысле слова. И мне кажется, бессознательное — такая глубина, где присутствует все то, что мы получаем наследственно, что мы невольно воспринимаем от разных влияний — все это оседает там, но еще не готово пробудиться в полной зрелости, не готово к тому, чтобы быть вызвано на поверхность, потому что незрело. Вы знаете, что я не психолог, но я воспринимаю бессознательное именно так: это нечто очень драгоценное, очень значительное. Разумеется, есть опасность отправить обратно в хаос то, что уже оформилось и могло бы жить, уже созрело и могло бы развиваться дальше. Иногда это делается неосознанно, но иногда человек так поступает, потому что его страшит то, что он видит. И следует воспитывать в себе готовность встретить что бы то ни было, вглядеться, стать лицом к лицу, не судить, а оценить, и знать, что все это открылось нам в меру нашей способности понять. Не знаю, ответил ли я хоть сколько-то на ваш вопрос?
Вы сказали, что невозможно передать другому свой собственный опыт. Но человеческая культура предполагает накопление и передачу опыта. Как, по вашему мнению, можно решить это противоречие?
Я думаю, опыт, в первую очередь — это непосредственное переживание без интеллектуального оформления. Скажем, кто-то влюбился: это событие. Требуется какое-то время, чтобы вглядеться в него, осознать, осмыслить, что происходит — ну, в пределах своего понимания. Но затем, когда вам хочется передать то, что вы поняли, как я уже сказал, вы не можете передать опыт как таковой, но можете передать что-то, что сами узнали благодаря этому опыту, и для этого требуется найти слова или иной способ передачи. Если вы употребляете слова, то значение этих слов ограниченно, смысл их будет понят только теми людьми, которые хоть в какой-то степени разделяют ваш опыт. Недостаточно поискать в словаре подходящее слово. Можно передать переживание посредством музыки или настроением, которое позволит уловить переживание, можно передать его линиями и красками, искусством в любых формах. И на каждом шагу вы проецируете свой опыт в слова, линии, краски или звуки, но все это воспринимается другим человеком и воспринимается не так, как вы это передали, потому что, скажем, слова могут иметь для вас одно значение — и имеют другое значение для другого человека. И я не подразумеваю грубое недопонимание, недоразумение, но более тонкие оттенки, отзвуки.
Приведу пример: есть стихотворение Гуго фон Гофманшталя31, где он говорит о словах и кончает так: слов много, но когда я произношу слово «печаль», оно доходит до многих окружающих, что-то говорит каждому, потому что каждый сколько-то испытывал печаль... Так что нужно общее опытное основание даже для того, чтобы понимать самые простые слова, или воспринять звуки музыки, или понять то, что передается, новы, зритель или слушатель, воспримете и поймете по-своему, не так, как он или она. И если вы принадлежите группе людей, которые сколько-то разделяют общий опыт, тогда можно развить общий язык, но он будет иметь смысл только в рамках данной группы людей. Как только вы попробуете предложить его другим, он умирает, становится как бы учением, навязываемым людям, у которых нет ничего общего с ним. Этот язык не родился в их среде.
Есть еще один способ передавать опыт: во всех религиях присутствует ритуал. Не знаю, стоит ли мне говорить то, что я собирался сказать, потому что вы знаете об этом гораздо больше, чем я, но я представлю вам, как я это понимаю. В ритуале можно создать символы, которые всем доступны, понятны достаточно, чтобы стать хотя бы дверью или окном, если не самим содержанием. С другой стороны, когда нечто передается людям в состоянии молитвы, то есть в предстоянии перед Богом с открытостью, оно доходит до людей гораздо глубже, чем если бы люди читали то же самое на странице книги. Православное богослужение построено как драма — в том смысле, какой этому слову придавался в Древней Греции: там не было актеров и зрителей, все были вовлечены в драматическую ситуацию, где некоторые участники передавали нечто, но отзывались все. Вот еще возможность.
Но если все это верно в рамках определенной общины, это может не быть верным, если попытаться предложить это другим людям. И в этом опасность институализировать вещи, сами по себе гибкие, заставить людей принять определенные взгляды, потому что так их выразили люди лучшие их самих. Знаете, есть замечательное место у одного из древних писателей, Марка Подвижника; он говорит: если даже Бог станет перед тобой и скажет исполнить что-то, на что твое сердце не может отозваться и сказать «Аминь!», — не делай этого, потому что Богу нужен не твой поступок, Ему нужна гармония между тобой и Им… И я думаю, институция может быть оградой для того, что могло бы быть потеряно, так же как библиотека хранит и бережет книги, но библиотека сама по себе или даже печатные книги ни к чему, если их не читают. А невозможно читать с пониманием, если книга никак не созвучна читателю. Ответил ли я на ваш вопрос?
Возникало ли когда-нибудь у вас желание обратиться к психотерапевту? Как вы решаете свои проблемы?
Мой отец сказал мне несколько вещей, которые важны для меня. Одна — что нет такого положения, из которого честный человек не может выйти с честью, если он не боится за свою шкуру. Второе: в ситуациях не внешних (немецкая оккупация, война, или что-то в этом роде, или даже болезнь), а внутренних: сомнение, страх, смущение, не следует стараться забыть о них, а надо смотреть им в лицо, видеть подлинный их масштаб, стараться по мере возможности решить эту проблему. Если решения нет, отложить: может быть, мы еще недостаточно зрелы для решения в данный момент, но не надо забывать или скрывать проблему. Ее надо держать про запас как важный шаг вперед. Это требует, мне кажется, некоторой интеллектуальной честности, сколько-то мужества, но оно того стоит. В тот момент, когда вы обнаружили, что если так поступать, это дает плоды, вы можете смотреть в лицо проблеме. И это мне кажется очень важным. Очень часто я встречаюсь с тем, что человек боится посмотреть в лицо самому себе или своим проблемам и обращается к кому-то, кто может дать ответ, и таким образом уходит от усилия или от опасности, или от риска сделать это самостоятельно. И мне кажется, это неполезно: в результате люди становятся неспособными справляться с самими собой или с внешними вызовами, будь то интеллектуальными или другими.
Должен ли священник специально учиться, чтобы помогать людям? Как вам кажется, какова основная проблема современного человека?
Я совершенно уверен, что мы все должны учиться друг у друга: в области веры — из опыта и даже формулировок иных вероисповеданий. Кроме того, верующие должны прислушиваться, по каким причинам другие не верят. И диалог очень важен, лишь бы он не выливался (это не случается при психоанализе, но бывает при отношениях между, скажем, священником и молодым человеком) в зависимость, своего рода интеллектуальную зависимость, которая не дает человеку созреть и достичь свободы.
Это одно. Я вижу очень много людей (вы можете сказать: бедные, лучше бы они пошли к психоаналитику, но странным образом множество людей приходят ко мне со своими проблемами). Так вот, очень мало кто из людей верит в себя — не нелепым образом, когда человек говорит: я все могу, я умен, я то, я се, — но мало кто верит, что он имеет высшую ценность и значение. И первое, что приходится говорить очень многим: смотри, ты не веришь в себя, ты не любишь себя — в этом все дело. Вот, у нас был разговор. Неужели и теперь ты не видишь, что я не стал бы терять на него времени, если бы не верил, что в тебе есть что-то, ради чего стоит потратить время и силы и общение. Если я могу верить в тебя, то тем более в тебя верит Бог. И ты должен научиться из этого верить в себя, верить, что в тебе есть нечто, имеющее высшую ценность, нечто драгоценное, значительное. И если ты не научишься любить себя — не глупым образом, не снисходя и потакая всем своим желаниям, а открыв, что в тебе есть нечто великое и ценное, знаешь, как золото или серебро в породе, ты ничего не сможешь сделать. Тебя можно научить вести себя определенным образом, так же как дрессируют собаку или лошадь, но не таково назначение человека, да даже и собаки.
Мне кажется, очень важно, чтобы люди учились делиться. Но чтобы делиться, они должны думать, потому что когда человек приходит и говорит: «Можете ли помочь мне?», — и я спрашиваю: «В чем именно?», и слышу в ответ: «Сам не знаю!», — это не очень-то облегчает задачу ни мне, ни ему. Разумеется, из этого положения можно выйти, но следует учить людей не заниматься самоанализом, потому что самоанализ невозможен, нельзя быть одновременно субъектом и объектом. Но надо учить людей быть честными с самими собой, уметь сказать: «Вот как я себя вижу». И быть готовым услышать в ответ: «Ничего-то ты не понимаешь. Ты считаешь себя гением, а ты дурачок; а может быть, ты много лучше того, чем себя видишь». Мне кажется, разница между психоаналитиком, консультантом, священником и т. д. не принципиальна — с той оговоркой, что очень часто священник является необученным советчиком, который сам не знает, куда идет и куда ведет другого, психоаналитик или подготовленный консультант по крайней мере хоть что-то знает. Вот почему, скажем, при подготовке священников здесь я уделяю много времени тому, чтобы научить их думать и слушать и понимать. И когда они спрашивают меня: «Что вы подразумеваете под слушанием, что это за отношение?», мой ответ заимствован из американской детской книжки: на мой взгляд, он очень соответствует древнему учению о созерцательной молитве. Он гласит:
В лесу жила-была премудрая сова. Преостро видя все, скупилась на слова; Скупясь же на слова, все слышала и знала. Ax, если бы она для нас примером стала!
Если это принять за руководство к поведению, вы обнаружите, что чем больше вы молчите и слушаете, тем больше вы слышите, и слышите не только произнесенные слова, но гораздо больше. Так что стоит учить людей, если они призваны к тому, чтобы принимать людей на исповеди или для беседы. Одной доброй воли недостаточно.
Как вам кажется, на что в первую очередь должен обращать внимание психотерапевт, чтобы суметь помочь человеку?
Вот перед вами человек во всей его многосложности, со всем его хаосом и тем, что вышло из этого хаоса, всем, что ранило этого человека. Что я могу ему сказать? с чего этот человек может начать путь к себе, к тому, чтобы найти себя?
Приведу вам пример того, как я сам иногда поступаю, — разумеется, это не универсальный совет и способ. Я предлагаю человеку взять Евангелие и читать его без всякой специально «благочестивой» цели, просто читать. Как правило, при этом обнаруживаются три рода мест, отрывков. Есть места, которые никак нас не трогают. Сказанное никак не относится к нам, эти места нас не ранят, но и не привлекают. Есть другого рода места, на которые мы отзываемся отрицанием, говорим (если мы вполне откровенны): нет, этого я принять не могу, или: это меня превосходит…
Но есть и такие места, о которых мы можем сказать словами эммаусских путников: не горело ли в нас сердце наше? (Лк 24:32). И я говорю людям: ищите вот такие места, и когда евангельский отрывок ударит вас в самое сердце, так что вы ощутите свет, радость, раскроетесь душой, — вы обнаружите две вещи: вы обнаружите, что вы с Богом одного духа, одного сердца, что вы знаете о Боге что-то, чего не знали раньше, и что Бог открыл вам что-то о вас самих, чего вы тоже прежде не знали. Запомните это, тут вам открылось что-то очень подлинное о вас самих. Я бы сказал даже, в этом смысле открытие себя самого есть открытие Бога, и открытие Бога есть открытие себя самого.
Но это применимо, конечно, не только к Евангелию. Можно предложить для чтения или для обсуждения в беседе очень много самого разного материала. Только надо искать того, что затрагивает самые ваши глубины, о чем можно сказать: вот он я — настоящий, не тот поверхностный человек, каким я чувствую себя обыкновенно, вот то подлинное, что есть во мне.
Сейчас в психологии существует очень много различных направлений и школ, все они спорят между собой, каждая отстаивает свою правоту. Я знаю, что в Церкви также существуют разные течения. Что помогает вам находить общий язык между собой?
Я помню, кто-то задал вопрос: как бы вы описали православное учение, православие данной конкретной церкви? И ответ был такой: оно подобно ночному небу. В нем — звезды, собранные в созвездия. Глядя на них, можно видеть свой путь на земле. Но важно то, что между созвездиями есть огромные пространства, это пространство имеет такое же важное значение, как сами звезды, потому что если собрать все звезды вместе в одну сверкающую огненную массу, то не останется созвездий, которые освещают наш путь на земле. Должны быть такие проблески, вот в чем все дело.
И если вспомнить, что Христос говорит: Я есмь истина (Ин 14:6), это очень важно. Он не говорит, что истина — то или иное, истина — это Личность, что бы это ни значило. Я не пытаюсь объяснить, что это значит. Но истину невозможно вместить в слова, это не учение, это не теория, ничто такое, это отношения с Тем, Кто есть Истина в полном смысл слова, вот и все. И мне кажется (при том что могут быть разногласия, но они не затрагивают самую суть), что в сердцевине этого переживания — наше чувство, что мы едины, заодно.
Может быть, в притче, которую вы нам рассказали, Меджнун оттого так странно понимал красоту, что просто сам страдал нарциссизмом? Как вы думаете?
Мне кажется, восприятие Лейлы у Меджнуна было не на уровне эстетики. Он полюбил ее, полюбил человека, а не ее черты, и черты осветились ее личностью настолько, что он видел только красоту личности и не замечал уже черты ее внешности. Поэтому он говорил о красоте, а не о внешних чертах. А шах, который не прозревал внутреннюю красоту личности, видел только внешние черты.
Я не могу рассуждать о нарциссизме, потому что никогда не думал на эту тему в таком плане, но мне кажется, что в тот момент, когда вывидите человека не просто как предмет рядом с вами, но видите в глубину, черты меняются, потому что изменились взаимоотношения. Древний писатель Мефодий Патарский сказал: пока юноша никого не любит, вокруг него мужчины и женщины. Как только он влюбился, есть невеста — и другие люди… И я думаю, это же самое случается во многих ситуациях, не только при влюбленности, но когда что-то, оказывается, изменилось. Знаете, это как лампа. Смотришь на погасшую лампу и думаешь: ничего в ней нет примечательного. Зажжешь лампу — и она ожила светом, и ты восклицаешь: «Какая красота!». Или окна с витражами, рисунком цветного стекла: сами по себе они совершенно обычные, но стоит лучу света коснуться их — и они становятся сияющим откровением красоты. Вот таким мне представляется рассказ о Меджнуне и Лейле.
Ваша оплата и оплата ваших священников, наверное, зависит от пожертвований. Часто ли вам приходится использовать свою власть, чтобы, например, собрать нужную сумму?
Оставим в стороне вопрос моей оплаты. Но я, как один из самых бедных членов прихода, имею право спрашивать с более состоятельных людей, чтобы они были щедры по отношению к менее обеспеченным. Сам я ничего с этого не имею, и поэтому мне не стыдно просить. Но это так, в скобках.
Что касается власти, мне кажется, следует четко различать — и это очень важное различие — власть и авторитет. Власть заключается в том, что ты можешь навязать другим свою волю. Авторитет — ситуация, когда то, что ты говоришь или делаешь, настолько убедительно, что оно оказывает воздействие. Скажем, Христос: я не вижу в Нем никакой власти. Я не говорю о власти над бесами или Его способности исцелять, это не действия всевластия, но Он никогда не действует с позиции силы. Он говорит — и вы вольны принять то, что Он говорит, или отвергнуть. Если вы принимаете Его слова, вы открываетесь дальше, к большему пониманию, к возрастанию жизни, если отвергаете — вы не осуждаетесь сразу, потому что пока вы живы, вы не застыли, вы меняетесь.
Я бы сказал, что в каком-то смысле для Церкви благо, когда она бессильна, когда ее воздействие все обусловлено содержащимся в ней откровением красоты, истины, или смиренного служения, или мужества, и т. п. Церковь гонимая была убедительна, Церковь, обладающая силой, никогда не бывает убедительна. В каком-то смысле я не вправе так выражаться, потому что я живу на Западе. Но это не только мое мнение, я знаю людей в России, которые думают точно так же: проповедь доходчива из ситуации предельной хрупкости, бессилия. Мне кажется, здесь уместно привести место из апостола Павла. Он просил о силе, и Христос ответил ему: довольно тебе благодати Моей, ибо Моя сила в немощи совершается (2 Кор 12:9). Речь не идет о расслабленности, о робости, а о такой открытости, отданности, которая дает место Божию действию.
У постели больного [225]
Вы меня так тепло встретили, но мне придется для начала попросить прощения в первую очередь за то, что я вообще здесь оказался. Я был врачом в течение десяти лет, но учился тридцать пять лет назад и безнадежно отстал от жизни. Кроме того, после речей на кристально-чистом и прекрасном английском языке вам придется выносить рассуждения человека, который говорит по-английски как иностранец, и для многих это, скорее всего, окажется тяжелым испытанием. И наконец, хотя, вероятно, это главное: я не чувствую себя вправе произносить эту речь в память доктора Киссена, поскольку не был знаком с ним лично и все мое знание о нем почерпнуто из того, что я читал, и от впечатлений, которые я вынес из некоторых его писаний. Так что я даже не могу достойно почтить его личность или его медицинские или научные труды, я всего лишь собираюсь говорить на тему, которая, думаю, имела бы значение для него, и говорить на эту тему таким образом, который не вызвал бы его возражений.
Когда мы говорим о заботе, об уходе за человеком, мы должны постоянно помнить — и вероятно, вы это сознаете лучше, чем я, — что каждый человек всегда является частью системы, и следовательно, невозможно говорить о нем, будто он «сущность в себе». Всякий раз, как мы так поступаем, когда думаем о людях в отдельности, в изоляции, по контрасту, в противоположении, будь то к группе, которой они принадлежат, или к любому другому индивиду, мы придаем этому слову самый возможно худший смысл.
Одна из проблем, с которыми мы сталкиваемся в медицинской практике, состоит в том, чтобы никогда не позволить человеку попасть в категорию индивида, последнего предела деления, дробления и отделенности, предела, за которым невозможно больше делить на элементы того, с кем мы имеем дело, иначе как окончательно разрушив его. Я хотел бы рассмотреть этот вопрос заботы о человеке с разных точек зрения.
Мне кажется, очень важно нам помнить, что подготовку людей к критической ситуации следует начинать, когда кризиса еще нет. Нельзя готовиться к значительным событиям жизни, требующим подвига, просто ожидая и надеясь, что если возникнет драматическая ситуация, человек найдет в себе самом или в своем окружении достаточно мужества, поддержки, способности и силы справиться с этой ситуацией. Так что я думаю, что очень важно начинать заботиться об умирающем, когда человек еще достаточно здоров, еще не охвачен болезнью, когда он в полноте владеет всей свой силой, всей ясностью ума, всеми своими способностями. Это означает, что люди смогут встречать испытание, болезнь, смерть мужественно и в полноте своих сил, если в течение всей жизни они научились жить полно и насыщенно, вместо того чтобы жить с гнетущей мыслью о болезни или уничтожении. В этом смысле наше отношение к жизни, значение, которое мы придаем своему существованию и, в конечном итоге, исчезновению, существенно важно. Если для нас важнее всего просто выживание, биологическое существование, извлечение из жизни всех удовольствий или возможностей, какие она может дать нам, — перед нами огромная область огорчений и тревоги: боязнь потерь в любой области, боязнь потери физической цельности, потери близких, дорогих нам людей, потери умственной силы, потери всего, в чем для нас заключен смысл жизни.
Одной из главных вещей, которой люди моего поколения, выросшие в условиях русской революции, эмиграции и последующих лет, научились от старшего поколения, было убеждение, что наше биологическое, физическое существование не имеет никакого значения ни для кого, включая нас самих, и что оно приобретает значение от того, ради чего мы живем и ради чего готовы умереть. Если мы не живем в такой уровень, мы всю жизнь будем стремиться сохранить нашу физическую цельность, нашу душевную безопасность. Мы так и не начнем жить, окажется робкими, бесполезными паразитами в жизни. Это, я думаю, имеет первостепенное значение и для того чтобы жить нормальной, обычной, здравой жизнью, и для поведения людей, которым предстоит встретиться с болезнью.
Отдельно скажу о страдании. Мы живем сейчас, по-моему, в трусливой и мягкотелой цивилизации. Люди боятся страдания и не готовы встретить его, посмотреть ему в лицо. В результате люди не только все больше прибегают к транквилизаторам и другим лекарственным средствам, но кроме того, страх страдания превосходит само страдание, потому что жить в страхе страдания гораздо тягостнее, чем действительно встретить терпимое страдание. Разумеется, я не говорю о тех степенях страдания, которые выше человеческой выносливости. Но надо помнить и то, что человеческая выносливость гораздо больше, чем нам обычно представляется. Из опыта концентрационных лагерей, тюрем и госпиталей мы знаем, что люди оказываются в состоянии вынести гораздо больше, чем сами ожидали, когда они вырастают в полную меру своего человеческого достоинства, в полную меру своего человечества. Так что я настоятельно призывал бы воспитывать людей в ценностях жизни, которые достойны Человека, достойны Общества и достойны самой Жизни. И затем воспитывать способность встречать страдание мужественно, храбро, относясь к страданию как к школе, как к возможности вырасти во весь рост того, что составляет подлинную меру Человека. Иначе мы никогда не найдем покоя, потому что страх страдания всегда будет больше, чем непрочная безопасность текущего момента. Страдание, болезнь, любой кризис может случится неожиданно в любой момент, и если у нас нет защиты от них, они нас раздавят.
Вторая сторона вопроса заботы о человеке, на которой я хотел бы остановиться, — это посещение больных. Посещение больного может быть благим делом; оно же может оказаться сущим наказанием для больного. Я знаю, что Евангелие учит нас, что посещать больных добродетельно. Я знаю тоже, что применять евангельские советы и заповеди следует с рассуждением и любовью и что очень часто любовь, которую мы выразили, посетив больного, могла быть выражена гораздо лучше, если бы мы дали ему возможность побыть в покое. Мне случалось болеть, и чтобы не оказаться жертвой любвеобильных посещений друзей, я вешал на свою дверь записку, которая некоторых очень обидела. Там говорилось: «Вот цитата из жизни святого Арсения Великого. Знатная женщина из Константинополя отправилась посетить его в пустыне и сказала: „Ах, отче, дай мне заповедь, которую я могла бы исполнять всю свою жизнь!“. И Арсений ответил: „Вот тебе заповедь, и помни, что ты сама обещалась не нарушать ее. Всякий раз как услышишь, что Арсений в одном месте, отправляйся в другое“»
[226].
Кроме того, что любовь должна удерживать нас от посещения людей, которые прекрасно обошлись бы без этих тягостных, утомительных, изматывающих морально визитов, есть целая наука или искусство посещать не только когда вы священник, но и если вы просто друг или родственник. Мне кажется, посетитель часто мог бы значительно содействовать процессу выздоровления, помогая больному быть серьезным, собранным, полностью обладать жизнью с той мерой напряжения, на какую он способен, помогая не быть рассеянным, опустошенным. Вы прекрасно знаете, какие опустошающие могут быть разговоры, сколько сил уходит на некоторых посетителей. Я убежден, что священники, молодые и старые, должны научиться, а врачей, сестер и родственников следует учить вот чему: встречу с человеком или визит к больному может свести на нет пустая болтовня, потому что пациент часто пользуется ею как дымовой завесой, чтобы укрыться от необходимости быть серьезным, выразить тревогу, быть подлинным и реальным. Чем больше вы прибегаете к легкой болтовне, чем больше допускаете это, тем менее реальным становится пациент, тем меньше у него власти над жизнью, над болезнью, над собственным выздоровлением. Одна из вещей, которым очень трудно научиться, но самая, может быть, полезная, — это способность посетителя сесть и сидеть спокойно. Это подразумевает две вещи: с одной стороны, ваш родственник, ваш друг или тот, о ком вы заботитесь, должен сознавать, что вы пришли на любое время, вы никуда не торопитесь, вы совершенно тут, присутствуете. Вы прекрасно знаете, как отличается посещение, когда посетитель присаживается и выражение его лица ясно показывает, что у него десять минут времени и он ждет, когда они истекут, чтобы сказать: «Ну, мне пора!». Очень часто оказывается, что мы глядим вокруг, оглядываем его соседей, и тот, к кому мы будто бы пришли, понимает, что на самом деле мы вовсе не с ним. Да, физически мы тут, но умом мы где-то бродим, думаем еще о предыдущем пациенте или уже о следующем, или о чем-то, что мы должны или собирались сделать… Если вы кого-то посещаете, пусть ему будет совершенно ясно, что все то время, какое у вас есть — пусть это пять минут, — принадлежит совершенно, безраздельно ему, что в течение этих пяти или скольких-то там минут ваши мысли не заняты ничем другим на свете, нет в мире человека важнее, чем тот, с которым вы находитесь.
И кроме того, научитесь молчать. Упраздните болтовню глубоким, собранным, человеческим, подлинным молчанием. Научиться молчать непросто. Сядьте удобно, возьмите пациента или вашего друга за руку и скажите: «Как я рад быть с тобой!». И погрузитесь в молчание, будьте с ним, не выстраивайте между ним и собой целый мир неуместных слов или пустых эмоций. Подарите ему радость вашего присутствия, пусть он знает, что для вас быть с ним — радость. И тогда вы обнаружите то, что я часто встречал за последние тридцать или сорок лет: что в какой-то момент человек способен говорить, но говорить серьезно, с глубиной, говорить то немногое, что достойно быть сказанным. И вы обнаружите нечто еще более поразительное: что вы и сами способны на это.
Еще одно последнее, но это займет немножко дольше: это вопрос подготовки к смерти неизлечимо больных или людей, которые приближаются к смерти от старости.
Во-первых, позвольте обратить ваше внимание на то, что подготовка к смерти относится не только к тем, за кем мы ухаживаем в госпиталях или на дому. Она относится к каждому из нас, потому что каждый из нас и все мы поражены общим неизлечимым недугом — смертностью, и чем скорее мы взглянем в лицо этому факту, чем раньше осознаем, что мы все в процессе умирания с того момента, как начинаем жить, тем лучше. Есть большое преимущество в том, чтобы уметь видеть трагедию заранее, быть готовым к тому, что придет. Я не хочу сказать, что можно прорепетировать собственную смерть, но совершенно очевидно, что можно продумать многое из того, с чем придется встретиться, а если оно приходит нежданно-негаданно, то расстраивает нас гораздо больше. Так что, я думаю, надо учиться встречать смерть.
Обучение это, мне кажется, должно быть двоякое. Во-первых, если вы верующий, вы должны учиться готовиться не к смерти, а к полноте жизни. А если вы действительно неверующий, если действительно думаете, что после смерти ничего нет, тогда вы должны радостно и спокойно готовиться к тому, что наступит момент, когда развяжутся все узелки и вы станете частью этой полной покоя и гармонии, богатой Природы.
Вероятно, я не стал бы говорить так с русскими, но англичанам (вернее, британцам — среди нас есть шотландцы) я скажу: когда я приехал в эту страну двадцать лет назад, я был глубоко и, должен сказать, неблагоприятно поражен отношением здесь людей к смерти. Умереть было почти что неприлично. К смерти относились как к чему-то, чего не сделаешь друзьям и родственникам, если действительно внимателен к ним, это недостойно благовоспитанного человека. Но уж если до этого дошло, если уж вы допустили такой непристойный поступок, то с ним надо справиться как можно быстрее и эффективнее, притом профессионально. Детей уводят, семья сидит в гостиной за чаем, приходят служащие похоронного бюро, делают свое дело, тело удаляют, и друзья, родственники и, может быть (в очень смелых семьях), дети увидят позже только гроб, внутри которого невыразимый ужас. С точки зрения воспитательной я нахожу это разрушительным, и из того, что я видел, считаю, что так оно и есть.
Лет десять назад меня позвали в дом, где скончалась глубоко любимая бабушка. Семья была в сборе, за исключением детей. И я спросил, где дети. «О, мы отослали их из дома». «Почему же?». «Ну, не могут же они видеть смерть». Я спросил, почему. «Потому что они знают, что это такое». На меня произвело большое впечатление, что дети лет шести-восьми знают, что такое смерть, и я спросил родителей, что же они знают. «Они недавно нашли в саду крольчонка, растерзанного кошками, так что они знают, что такое смерть». Я сказал: «Неужели вы считаете, что для них будет здоровым воспоминанием на всю жизнь такая картина о смерти? Что каждый раз при виде гроба им будет представляться, что внутри этот невыразимый ужас — полурастерзанное тело любимого человека?». Мы долго спорили, и наконец родители сказали мне: «Ну, если вы готовы взять на себя ответственность, отведите детей к бабушке, но последствия лежат на вас». Я послал за детьми, они несколько растерялись, когда вернулись и узнали, что бабушка тем временем умерла. Я повел их к двери ее комнаты и сказал: «Бабушка умерла». Мальчик спросил: «Что это значит?». Я ответил: «Помните, она так часто говорила, что хотела бы умереть и снова быть вместе с дедушкой. Вот это и произошло. А теперь пойдем посмотрим, как это выглядит». Мы вошли, постояли немного, и затем один из них сказал: «Так вот смерть! Как это прекрасно!». Я думаю, что в большинстве своем дети отреагируют именно так.
Это не просто предположение, я это знаю, потому что в православной Церкви заупокойная служба совершается у открытого гроба и все, кто пришел в храм, на прощание целуют усопшего. Так что наши дети с самого раннего возраста приходят, видят тело, дают ему последний поцелуй и узнаю{'}т, что в смерти нет ни уничтожения, ни невыразимого ужаса. Я думаю, что если бы взрослые могли воздержатся от того, чтобы вносить в ум и в сердце детей собственные нездоровые представления и эмоции, дети были бы гораздо более здоровы. Я знаю детей, воспитанных таким образом, — они относятся к смерти с уважением и с чувством благоговейной радости. Я не хочу сказать: с чувством удовольствия или веселья, но с таинственным чувством подъема, какое бывает, когда мы встречаемся с чем-то величественным, пусть и трагичным.
Другой момент этого воспитания к смерти: пока мы не приобрели нездорового к ней отношения, мы способны думать о ней из полноты жизни как о событии нашей жизни, которое можно встретить, пережить и прожить до конца. Вспомните, как дети играют в войну: они стреляют, падают, кричат: «Теперь твоя очередь быть убитым! Нет, лежи, ты убит, не шевелись!». Они учатся, узнают, до какого напряжения могут довести воображаемую трагедию, которая для них столь же реальна, как будто пережитая фактически, только в ней нет реальных опасностей.
И наконец, проблема умирающего и тех, кто его окружают. Я повторю некоторые вещи, о которых уже говорилось на сегодняшней встрече. Во-первых, я совершенно согласен с тем, что большинство людей знает, что смерть идет, и из-за того, что мы боимся говорить об этом, в результате создается ужасающее одиночество и горестное положение. Позвольте, я поведу себя совершенно не по-английски и скажу нечто личное. Моя мать умерла от рака. Она умирала в течение трех лет, и эти годы мы прожили вместе, она умерла дома; и я могу изложить некоторые выводы, то, чему я тогда научился. Когда обнаружилось, что у нее рак, врач сказал: «Конечно, вы ей ничего не скажете»; и я ответил: «Конечно, я сразу ей скажу». Он сказал: «Тогда вы и отвечайте», и я сказал: «Да, я беру ответственность на себя». Я пошел к ней и все сказал. Из этого я научился вот чему: в тот момент, когда барьер молчания сломлен, можно сообща, вместе встретить тоску, страх и смертную тревогу. Очень часто за эти три года я приходил к матери и говорил: «Мне больно, что ты умираешь», и она прикасалась своей рукой и укрепляла меня. В другое время ей случалось сказать: «Мне страшно, и мне так горестно расставаться с тобой». Тогда я поддерживал ее, как мог. В результате ни она, ни я ни в какой момент не были замкнуты, закрыты друг от друга, не должны были в одиночку справляться с тем, с чем справиться в одиночку невозможно.
Еще другому я научился, сравнивая и размышляя, что нет такого человек, который просто в силу своей функции должен сказать другому о грядущей смерти. Вот что я имею в виду: ни священник, ни хирург, ни семейный врач, ни медсестра, ни муж не должен сказать просто в силу своего положения как такового. Сказать пациенту должен тот человек, который в состоянии это сделать, готов сказать и остаться с ним, и нести эту тяготу с ним вместе. Обычно невероятно трудно сказать пациенту, потому что ты как будто наносишь удар и сбегаешь. Кто-то приходит, собирается с силами, сообщает пациенту, тот потрясен, поражен и тут же слышит: «Сейчас я принесу вам хорошую чашечку чая». И с этими словами тот, кто нанес удар, уходит, отсутствует минут пять или десять, именно те пять или десять минут, которые — сущий ад и глубочайший пик кризиса. Затем появляется чай, начинается легкая беседа, и момент упущен. Если вы готовы сказать, вы должны быть готовы сразу же нести весь груз и не стараться уйти от него, не стараться уменьшить его, не искать дешевого облегчения. Нет. Оставайтесь подлинными, оставайтесь правдивыми, абсолютно реальными, абсолютно верными до предела страдания, горя. Разделите все это. Разделенное страдание даст больше силы, чем любая искусственная помощь. Это я видел во время болезни моей матери. Несколько раз она мне говорила: «Я умираю, и мы никогда не были так счастливы». Между нами была правда, была реальность, мы полностью делили все. Я не пытаюсь сказать вам, что это было легко, но это был творческий подход, в этом была глубина, и таким образом мы могли встретить все.
Тут я хотел бы заметить, что мы недооцениваем величие человеческого духа. Мы не ожидаем, что люди, с которыми мы имеем дело, проявят мужество, человечность в полном смысле. Нам часто кажется, что они слишком слабы и неспособны встретить испытания. Это неверно. В людях гораздо больше величия и силы, чем нам представляется, и когда неожиданная трагедия поражает людей, мы так часто видим, что они вырастают в такую меру величия, какой мы и не предполагали в них. Мы должны помнить, что люди способны на величие, на мужество, но не в отрыве от других, не в одиночку, не в тех условиях, которые создаются, когда человек то переносит страдание, то погружен в одиночество. Они нуждаются в крепких связях человеческой общности, где каждый готов нести тяготу других. И тот, кто болен, несет, вероятно, тяготу других в большей мере, чем нам представляется, и дает им мужество и глубину.
Я не хочу сказать, что можно подходить одинаково к каждому и любому пациенту. Тут нужна вдумчивая рассудительность. И вот что мне кажется важным: неправильно говорить о подготовке к смерти. В контексте веры подготовка должна быть к жизни. Вот что я имею в виду. Когда я встречаю человека, который идет к смерти или, возможно, не оправится от болезни, я не начинаю разговор со слов: «Смерть за плечами, будь храбрым, мужественным, готовым встретить ее». Я говорю пациентам — и не жду, чтобы сказать это, чтобы они были на смертном одре, но задолго до того, как смерть поселилась в них, задолго до того, как они ощутят ее разлагающее, разрушительное действие, — я говорю: «Видите ли, каждая болезнь — момент, когда прекращается для нас суета жизни, момент, когда мы можем вглядеться в жизнь и разобраться, что в ней временное и недостойное жизни и нас самих; и что в ней есть глубокое, значительное и должно остаться навсегда. Вот займитесь этим». И потом в течение долгого времени мы этим занимаемся, так что постепенно все в человеческой жизни, что ведет к смерти и разрушению как физическому, так и духовному — ненависть и все отрицательные чувства, — постепенно исключается через встречи с теми, кого мы обидели, через прощение тех, кого мы ненавидели и т. д. Так что в конце концов больной постепенно приводится к состоянию, когда осталась в нем только любовь, сочувствие, участливость и полнота жизни. Разумеется, есть и остатки слабости, несовершенства, но перевешивает все жизнь. Я видел, как это совершалось, во время работы в госпиталях, на войне, и за все годы с тех пор. Мы должны готовить людей к тому, чтобы они осознали, что смерть не означает просто потерю жизни, совлечение земной жизни, но облечение в вечность. Конечно, не с каждым можно так разговаривать, но, несомненно, можно сделать гораздо больше, чем мы делаем.
Думаю, на этом я остановлюсь. Уход за больным — комплексная забота, которая охватывает всех, кто составляет общественную группу, небольшую семейную группу и более широкие круги, охватывающие гораздо больше. Каждый отдельный член этой группы должен бы получать такое воспитание в жизни, воспитание в мужестве и осмысленности. Только если мы составляем группу людей, стоящих за некие ценности, а не просто за существование, только если мы научим всех, и молодых, и пожилых, что жизнь и ее ценность измеряются тем, ради чего мы живем и готовы умирать, а не давлением крови или общим состоянием здоровья, только если в ежедневных буднях люди готовы встречать большие и мелкие затруднения и проблемы смело, с мужеством и творчески, можно думать о том, как помочь и в главном испытании жизни — в последней или продолжительной болезни. Если мы сумеем это сделать, мы поможем не только самому больному, но людям на протяжении всей их жизни. Их жизнь будет стремиться к полноте, их жизнь будет проходить смело и мужественно, бесстрашно, не будет зависеть от того, что слишком мелко, мельче человеческой меры и масштаба. Это я считаю самым существенным, если мы хотим проявить настоящую, подлинную, творческую и животворную заботу о человеке, когда дело доходит до болезни.
У постели больного 225
Вы меня так тепло встретили, но мне придется для начала попросить прощения в первую очередь за то, что я вообще здесь оказался. Я был врачом в течение десяти лет, но учился тридцать пять лет назад и безнадежно отстал от жизни. Кроме того, после речей на кристально-чистом и прекрасном английском языке вам придется выносить рассуждения человека, который говорит по-английски как иностранец, и для многих это, скорее всего, окажется тяжелым испытанием. И наконец, хотя, вероятно, это главное: я не чувствую себя вправе произносить эту речь в память доктора Киссена, поскольку не был знаком с ним лично и все мое знание о нем почерпнуто из того, что я читал, и от впечатлений, которые я вынес из некоторых его писаний. Так что я даже не могу достойно почтить его личность или его медицинские или научные труды, я всего лишь собираюсь говорить на тему, которая, думаю, имела бы значение для него, и говорить на эту тему таким образом, который не вызвал бы его возражений.
Когда мы говорим о заботе, об уходе за человеком, мы должны постоянно помнить — и вероятно, вы это сознаете лучше, чем я, — что каждый человек всегда является частью системы, и следовательно, невозможно говорить о нем, будто он «сущность в себе». Всякий раз, как мы так поступаем, когда думаем о людях в отдельности, в изоляции, по контрасту, в противоположении, будь то к группе, которой они принадлежат, или к любому другому индивиду, мы придаем этому слову самый возможно худший смысл.
Одна из проблем, с которыми мы сталкиваемся в медицинской практике, состоит в том, чтобы никогда не позволить человеку попасть в категорию индивида, последнего предела деления, дробления и отделенности, предела, за которым невозможно больше делить на элементы того, с кем мы имеем дело, иначе как окончательно разрушив его. Я хотел бы рассмотреть этот вопрос заботы о человеке с разных точек зрения.
Мне кажется, очень важно нам помнить, что подготовку людей к критической ситуации следует начинать, когда кризиса еще нет. Нельзя готовиться к значительным событиям жизни, требующим подвига, просто ожидая и надеясь, что если возникнет драматическая ситуация, человек найдет в себе самом или в своем окружении достаточно мужества, поддержки, способности и силы справиться с этой ситуацией. Так что я думаю, что очень важно начинать заботиться об умирающем, когда человек еще достаточно здоров, еще не охвачен болезнью, когда он в полноте владеет всей свой силой, всей ясностью ума, всеми своими способностями. Это означает, что люди смогут встречать испытание, болезнь, смерть мужественно и в полноте своих сил, если в течение всей жизни они научились жить полно и насыщенно, вместо того чтобы жить с гнетущей мыслью о болезни или уничтожении. В этом смысле наше отношение к жизни, значение, которое мы придаем своему существованию и, в конечном итоге, исчезновению, существенно важно. Если для нас важнее всего просто выживание, биологическое существование, извлечение из жизни всех удовольствий или возможностей, какие она может дать нам, — перед нами огромная область огорчений и тревоги: боязнь потерь в любой области, боязнь потери физической цельности, потери близких, дорогих нам людей, потери умственной силы, потери всего, в чем для нас заключен смысл жизни.
Одной из главных вещей, которой люди моего поколения, выросшие в условиях русской революции, эмиграции и последующих лет, научились от старшего поколения, было убеждение, что наше биологическое, физическое существование не имеет никакого значения ни для кого, включая нас самих, и что оно приобретает значение от того, ради чего мы живем и ради чего готовы умереть. Если мы не живем в такой уровень, мы всю жизнь будем стремиться сохранить нашу физическую цельность, нашу душевную безопасность. Мы так и не начнем жить, окажется робкими, бесполезными паразитами в жизни. Это, я думаю, имеет первостепенное значение и для того чтобы жить нормальной, обычной, здравой жизнью, и для поведения людей, которым предстоит встретиться с болезнью.
Отдельно скажу о страдании. Мы живем сейчас, по-моему, в трусливой и мягкотелой цивилизации. Люди боятся страдания и не готовы встретить его, посмотреть ему в лицо. В результате люди не только все больше прибегают к транквилизаторам и другим лекарственным средствам, но кроме того, страх страдания превосходит само страдание, потому что жить в страхе страдания гораздо тягостнее, чем действительно встретить терпимое страдание. Разумеется, я не говорю о тех степенях страдания, которые выше человеческой выносливости. Но надо помнить и то, что человеческая выносливость гораздо больше, чем нам обычно представляется. Из опыта концентрационных лагерей, тюрем и госпиталей мы знаем, что люди оказываются в состоянии вынести гораздо больше, чем сами ожидали, когда они вырастают в полную меру своего человеческого достоинства, в полную меру своего человечества. Так что я настоятельно призывал бы воспитывать людей в ценностях жизни, которые достойны Человека, достойны Общества и достойны самой Жизни. И затем воспитывать способность встречать страдание мужественно, храбро, относясь к страданию как к школе, как к возможности вырасти во весь рост того, что составляет подлинную меру Человека. Иначе мы никогда не найдем покоя, потому что страх страдания всегда будет больше, чем непрочная безопасность текущего момента. Страдание, болезнь, любой кризис может случится неожиданно в любой момент, и если у нас нет защиты от них, они нас раздавят.
Вторая сторона вопроса заботы о человеке, на которой я хотел бы остановиться, — это посещение больных. Посещение больного может быть благим делом; оно же может оказаться сущим наказанием для больного. Я знаю, что Евангелие учит нас, что посещать больных добродетельно. Я знаю тоже, что применять евангельские советы и заповеди следует с рассуждением и любовью и что очень часто любовь, которую мы выразили, посетив больного, могла быть выражена гораздо лучше, если бы мы дали ему возможность побыть в покое. Мне случалось болеть, и чтобы не оказаться жертвой любвеобильных посещений друзей, я вешал на свою дверь записку, которая некоторых очень обидела. Там говорилось: «Вот цитата из жизни святого Арсения Великого. Знатная женщина из Константинополя отправилась посетить его в пустыне и сказала: „Ах, отче, дай мне заповедь, которую я могла бы исполнять всю свою жизнь!“. И Арсений ответил: „Вот тебе заповедь, и помни, что ты сама обещалась не нарушать ее. Всякий раз как услышишь, что Арсений в одном месте, отправляйся в другое“»226.
Кроме того, что любовь должна удерживать нас от посещения людей, которые прекрасно обошлись бы без этих тягостных, утомительных, изматывающих морально визитов, есть целая наука или искусство посещать не только когда вы священник, но и если вы просто друг или родственник. Мне кажется, посетитель часто мог бы значительно содействовать процессу выздоровления, помогая больному быть серьезным, собранным, полностью обладать жизнью с той мерой напряжения, на какую он способен, помогая не быть рассеянным, опустошенным. Вы прекрасно знаете, какие опустошающие могут быть разговоры, сколько сил уходит на некоторых посетителей. Я убежден, что священники, молодые и старые, должны научиться, а врачей, сестер и родственников следует учить вот чему: встречу с человеком или визит к больному может свести на нет пустая болтовня, потому что пациент часто пользуется ею как дымовой завесой, чтобы укрыться от необходимости быть серьезным, выразить тревогу, быть подлинным и реальным. Чем больше вы прибегаете к легкой болтовне, чем больше допускаете это, тем менее реальным становится пациент, тем меньше у него власти над жизнью, над болезнью, над собственным выздоровлением. Одна из вещей, которым очень трудно научиться, но самая, может быть, полезная, — это способность посетителя сесть и сидеть спокойно. Это подразумевает две вещи: с одной стороны, ваш родственник, ваш друг или тот, о ком вы заботитесь, должен сознавать, что вы пришли на любое время, вы никуда не торопитесь, вы совершенно тут, присутствуете. Вы прекрасно знаете, как отличается посещение, когда посетитель присаживается и выражение его лица ясно показывает, что у него десять минут времени и он ждет, когда они истекут, чтобы сказать: «Ну, мне пора!». Очень часто оказывается, что мы глядим вокруг, оглядываем его соседей, и тот, к кому мы будто бы пришли, понимает, что на самом деле мы вовсе не с ним. Да, физически мы тут, но умом мы где-то бродим, думаем еще о предыдущем пациенте или уже о следующем, или о чем-то, что мы должны или собирались сделать… Если вы кого-то посещаете, пусть ему будет совершенно ясно, что все то время, какое у вас есть — пусть это пять минут, — принадлежит совершенно, безраздельно ему, что в течение этих пяти или скольких-то там минут ваши мысли не заняты ничем другим на свете, нет в мире человека важнее, чем тот, с которым вы находитесь.
И кроме того, научитесь молчать. Упраздните болтовню глубоким, собранным, человеческим, подлинным молчанием. Научиться молчать непросто. Сядьте удобно, возьмите пациента или вашего друга за руку и скажите: «Как я рад быть с тобой!». И погрузитесь в молчание, будьте с ним, не выстраивайте между ним и собой целый мир неуместных слов или пустых эмоций. Подарите ему радость вашего присутствия, пусть он знает, что для вас быть с ним — радость. И тогда вы обнаружите то, что я часто встречал за последние тридцать или сорок лет: что в какой-то момент человек способен говорить, но говорить серьезно, с глубиной, говорить то немногое, что достойно быть сказанным. И вы обнаружите нечто еще более поразительное: что вы и сами способны на это.
Еще одно последнее, но это займет немножко дольше: это вопрос подготовки к смерти неизлечимо больных или людей, которые приближаются к смерти от старости.
Во-первых, позвольте обратить ваше внимание на то, что подготовка к смерти относится не только к тем, за кем мы ухаживаем в госпиталях или на дому. Она относится к каждому из нас, потому что каждый из нас и все мы поражены общим неизлечимым недугом — смертностью, и чем скорее мы взглянем в лицо этому факту, чем раньше осознаем, что мы все в процессе умирания с того момента, как начинаем жить, тем лучше. Есть большое преимущество в том, чтобы уметь видеть трагедию заранее, быть готовым к тому, что придет. Я не хочу сказать, что можно прорепетировать собственную смерть, но совершенно очевидно, что можно продумать многое из того, с чем придется встретиться, а если оно приходит нежданно-негаданно, то расстраивает нас гораздо больше. Так что, я думаю, надо учиться встречать смерть.
Обучение это, мне кажется, должно быть двоякое. Во-первых, если вы верующий, вы должны учиться готовиться не к смерти, а к полноте жизни. А если вы действительно неверующий, если действительно думаете, что после смерти ничего нет, тогда вы должны радостно и спокойно готовиться к тому, что наступит момент, когда развяжутся все узелки и вы станете частью этой полной покоя и гармонии, богатой Природы.
Вероятно, я не стал бы говорить так с русскими, но англичанам (вернее, британцам — среди нас есть шотландцы) я скажу: когда я приехал в эту страну двадцать лет назад, я был глубоко и, должен сказать, неблагоприятно поражен отношением здесь людей к смерти. Умереть было почти что неприлично. К смерти относились как к чему-то, чего не сделаешь друзьям и родственникам, если действительно внимателен к ним, это недостойно благовоспитанного человека. Но уж если до этого дошло, если уж вы допустили такой непристойный поступок, то с ним надо справиться как можно быстрее и эффективнее, притом профессионально. Детей уводят, семья сидит в гостиной за чаем, приходят служащие похоронного бюро, делают свое дело, тело удаляют, и друзья, родственники и, может быть (в очень смелых семьях), дети увидят позже только гроб, внутри которого невыразимый ужас. С точки зрения воспитательной я нахожу это разрушительным, и из того, что я видел, считаю, что так оно и есть.
Лет десять назад меня позвали в дом, где скончалась глубоко любимая бабушка. Семья была в сборе, за исключением детей. И я спросил, где дети. «О, мы отослали их из дома». «Почему же?». «Ну, не могут же они видеть смерть». Я спросил, почему. «Потому что они знают, что это такое». На меня произвело большое впечатление, что дети лет шести-восьми знают, что такое смерть, и я спросил родителей, что же они знают. «Они недавно нашли в саду крольчонка, растерзанного кошками, так что они знают, что такое смерть». Я сказал: «Неужели вы считаете, что для них будет здоровым воспоминанием на всю жизнь такая картина о смерти? Что каждый раз при виде гроба им будет представляться, что внутри этот невыразимый ужас — полурастерзанное тело любимого человека?». Мы долго спорили, и наконец родители сказали мне: «Ну, если вы готовы взять на себя ответственность, отведите детей к бабушке, но последствия лежат на вас». Я послал за детьми, они несколько растерялись, когда вернулись и узнали, что бабушка тем временем умерла. Я повел их к двери ее комнаты и сказал: «Бабушка умерла». Мальчик спросил: «Что это значит?». Я ответил: «Помните, она так часто говорила, что хотела бы умереть и снова быть вместе с дедушкой. Вот это и произошло. А теперь пойдем посмотрим, как это выглядит». Мы вошли, постояли немного, и затем один из них сказал: «Так вот смерть! Как это прекрасно!». Я думаю, что в большинстве своем дети отреагируют именно так.
Это не просто предположение, я это знаю, потому что в православной Церкви заупокойная служба совершается у открытого гроба и все, кто пришел в храм, на прощание целуют усопшего. Так что наши дети с самого раннего возраста приходят, видят тело, дают ему последний поцелуй и узнаю{'}т, что в смерти нет ни уничтожения, ни невыразимого ужаса. Я думаю, что если бы взрослые могли воздержатся от того, чтобы вносить в ум и в сердце детей собственные нездоровые представления и эмоции, дети были бы гораздо более здоровы. Я знаю детей, воспитанных таким образом, — они относятся к смерти с уважением и с чувством благоговейной радости. Я не хочу сказать: с чувством удовольствия или веселья, но с таинственным чувством подъема, какое бывает, когда мы встречаемся с чем-то величественным, пусть и трагичным.
Другой момент этого воспитания к смерти: пока мы не приобрели нездорового к ней отношения, мы способны думать о ней из полноты жизни как о событии нашей жизни, которое можно встретить, пережить и прожить до конца. Вспомните, как дети играют в войну: они стреляют, падают, кричат: «Теперь твоя очередь быть убитым! Нет, лежи, ты убит, не шевелись!». Они учатся, узнают, до какого напряжения могут довести воображаемую трагедию, которая для них столь же реальна, как будто пережитая фактически, только в ней нет реальных опасностей.
И наконец, проблема умирающего и тех, кто его окружают. Я повторю некоторые вещи, о которых уже говорилось на сегодняшней встрече. Во-первых, я совершенно согласен с тем, что большинство людей знает, что смерть идет, и из-за того, что мы боимся говорить об этом, в результате создается ужасающее одиночество и горестное положение. Позвольте, я поведу себя совершенно не по-английски и скажу нечто личное. Моя мать умерла от рака. Она умирала в течение трех лет, и эти годы мы прожили вместе, она умерла дома; и я могу изложить некоторые выводы, то, чему я тогда научился. Когда обнаружилось, что у нее рак, врач сказал: «Конечно, вы ей ничего не скажете»; и я ответил: «Конечно, я сразу ей скажу». Он сказал: «Тогда вы и отвечайте», и я сказал: «Да, я беру ответственность на себя». Я пошел к ней и все сказал. Из этого я научился вот чему: в тот момент, когда барьер молчания сломлен, можно сообща, вместе встретить тоску, страх и смертную тревогу. Очень часто за эти три года я приходил к матери и говорил: «Мне больно, что ты умираешь», и она прикасалась своей рукой и укрепляла меня. В другое время ей случалось сказать: «Мне страшно, и мне так горестно расставаться с тобой». Тогда я поддерживал ее, как мог. В результате ни она, ни я ни в какой момент не были замкнуты, закрыты друг от друга, не должны были в одиночку справляться с тем, с чем справиться в одиночку невозможно.
Еще другому я научился, сравнивая и размышляя, что нет такого человек, который просто в силу своей функции должен сказать другому о грядущей смерти. Вот что я имею в виду: ни священник, ни хирург, ни семейный врач, ни медсестра, ни муж не должен сказать просто в силу своего положения как такового. Сказать пациенту должен тот человек, который в состоянии это сделать, готов сказать и остаться с ним, и нести эту тяготу с ним вместе. Обычно невероятно трудно сказать пациенту, потому что ты как будто наносишь удар и сбегаешь. Кто-то приходит, собирается с силами, сообщает пациенту, тот потрясен, поражен и тут же слышит: «Сейчас я принесу вам хорошую чашечку чая». И с этими словами тот, кто нанес удар, уходит, отсутствует минут пять или десять, именно те пять или десять минут, которые — сущий ад и глубочайший пик кризиса. Затем появляется чай, начинается легкая беседа, и момент упущен. Если вы готовы сказать, вы должны быть готовы сразу же нести весь груз и не стараться уйти от него, не стараться уменьшить его, не искать дешевого облегчения. Нет. Оставайтесь подлинными, оставайтесь правдивыми, абсолютно реальными, абсолютно верными до предела страдания, горя. Разделите все это. Разделенное страдание даст больше силы, чем любая искусственная помощь. Это я видел во время болезни моей матери. Несколько раз она мне говорила: «Я умираю, и мы никогда не были так счастливы». Между нами была правда, была реальность, мы полностью делили все. Я не пытаюсь сказать вам, что это было легко, но это был творческий подход, в этом была глубина, и таким образом мы могли встретить все.
Тут я хотел бы заметить, что мы недооцениваем величие человеческого духа. Мы не ожидаем, что люди, с которыми мы имеем дело, проявят мужество, человечность в полном смысле. Нам часто кажется, что они слишком слабы и неспособны встретить испытания. Это неверно. В людях гораздо больше величия и силы, чем нам представляется, и когда неожиданная трагедия поражает людей, мы так часто видим, что они вырастают в такую меру величия, какой мы и не предполагали в них. Мы должны помнить, что люди способны на величие, на мужество, но не в отрыве от других, не в одиночку, не в тех условиях, которые создаются, когда человек то переносит страдание, то погружен в одиночество. Они нуждаются в крепких связях человеческой общности, где каждый готов нести тяготу других. И тот, кто болен, несет, вероятно, тяготу других в большей мере, чем нам представляется, и дает им мужество и глубину.
Я не хочу сказать, что можно подходить одинаково к каждому и любому пациенту. Тут нужна вдумчивая рассудительность. И вот что мне кажется важным: неправильно говорить о подготовке к смерти. В контексте веры подготовка должна быть к жизни. Вот что я имею в виду. Когда я встречаю человека, который идет к смерти или, возможно, не оправится от болезни, я не начинаю разговор со слов: «Смерть за плечами, будь храбрым, мужественным, готовым встретить ее». Я говорю пациентам — и не жду, чтобы сказать это, чтобы они были на смертном одре, но задолго до того, как смерть поселилась в них, задолго до того, как они ощутят ее разлагающее, разрушительное действие, — я говорю: «Видите ли, каждая болезнь — момент, когда прекращается для нас суета жизни, момент, когда мы можем вглядеться в жизнь и разобраться, что в ней временное и недостойное жизни и нас самих; и что в ней есть глубокое, значительное и должно остаться навсегда. Вот займитесь этим». И потом в течение долгого времени мы этим занимаемся, так что постепенно все в человеческой жизни, что ведет к смерти и разрушению как физическому, так и духовному — ненависть и все отрицательные чувства, — постепенно исключается через встречи с теми, кого мы обидели, через прощение тех, кого мы ненавидели и т. д. Так что в конце концов больной постепенно приводится к состоянию, когда осталась в нем только любовь, сочувствие, участливость и полнота жизни. Разумеется, есть и остатки слабости, несовершенства, но перевешивает все жизнь. Я видел, как это совершалось, во время работы в госпиталях, на войне, и за все годы с тех пор. Мы должны готовить людей к тому, чтобы они осознали, что смерть не означает просто потерю жизни, совлечение земной жизни, но облечение в вечность. Конечно, не с каждым можно так разговаривать, но, несомненно, можно сделать гораздо больше, чем мы делаем.
Думаю, на этом я остановлюсь. Уход за больным — комплексная забота, которая охватывает всех, кто составляет общественную группу, небольшую семейную группу и более широкие круги, охватывающие гораздо больше. Каждый отдельный член этой группы должен бы получать такое воспитание в жизни, воспитание в мужестве и осмысленности. Только если мы составляем группу людей, стоящих за некие ценности, а не просто за существование, только если мы научим всех, и молодых, и пожилых, что жизнь и ее ценность измеряются тем, ради чего мы живем и готовы умирать, а не давлением крови или общим состоянием здоровья, только если в ежедневных буднях люди готовы встречать большие и мелкие затруднения и проблемы смело, с мужеством и творчески, можно думать о том, как помочь и в главном испытании жизни — в последней или продолжительной болезни. Если мы сумеем это сделать, мы поможем не только самому больному, но людям на протяжении всей их жизни. Их жизнь будет стремиться к полноте, их жизнь будет проходить смело и мужественно, бесстрашно, не будет зависеть от того, что слишком мелко, мельче человеческой меры и масштаба. Это я считаю самым существенным, если мы хотим проявить настоящую, подлинную, творческую и животворную заботу о человеке, когда дело доходит до болезни.
Друг друга тяготы носите [227]
Владыко, я служу в Москве не только на обыкновенном приходе, но и при хосписе. Мне приходится исповедовать умирающих, с ними беседовать, сидеть при них. Хоспис в России — сравнительно новое дело. Вы неоднократно говорили об отношении к смерти, о пастырском подходе к умирающим, но ваши слова адресованы в основном людям на Западе. Можете ли сказать о специфике служения в хосписе именно в России, не только в духовном, но и в практическом плане?
Ваш вопрос для меня труден тем, что мне не приходилось посещать в России больницы и хосписы. Но умирающих я видел очень много в течение тех лет, когда был студентом на медицинском факультете, потом на войне, потом практикующим врачом в Париже, затем и священником. Мне кажется, что одна из вещей, которые надо всегда помнить: нельзя давать человеку умирать одиноким, с чувством, что доктор, священник, родные — все решили: больше ничего нельзя сделать, пусть себе умирает… Мне кажется, очень важно, чтобы умирающий знал, что его не оставят.
Впервые я пережил, как важно такое присутствие, когда был совсем молодым студентом. Умирала старая, под сто лет, женщина. Она умирала дома, родные не знали, как справляться с ситуацией, поэтому ее поместили в хорошую спальню и оставили одну, а сами занимались своим делом. Но у них все-таки было чувство, что нельзя ей дать просто так умереть, — ведь это происходило не мгновенно, и меня попросили с ней посидеть. Разговаривать с ней было невозможно, потому что она уже не слышала и не видела сознательно. Она лежала совсем спокойно. И в какой-то момент (может быть, я ошибался, но мое восприятие было таково) вдруг я почувствовал, что она умирает. И тут две или три вещи случилось подряд. Она начала метаться, и мне было явно, что она вошла в область тьмы и окружена вражьими силами, которые ее стараются напугать и взять в плен. Я тогда начал молиться: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его…» — всю эту молитву. И вдруг ее метанье прекратилось, и по выражению ее лица стало совершенно ясно, что она вошла в область света, будто ангелы Божии ее окружили. Это не то, что я видел, а то, что отражалось на ее лице. Она лежала и светлела, был покой и радость на ее лице; и в какой-то момент она умерла. И у меня очень сильно сознание, что когда человек умирает, это не мгновение, когда тело уже жить не может, и душа, «как птичка», вспорхнет и ее не будет, — это какой-то процесс, когда за пределом нашего обычного сознания человек начинает входить в контакт с иным миром. Самый близкий к земле мир, кроме наших ангелов-хранителей и святых, — это те темные силы, которые хотят нас поработить, потом уже свобода приходит.
А дальше, во время войны у меня было много случаев, когда привозили раненых, кому уже медицина не могла помочь. Мне вспоминается один молодой солдат из крестьян, который был смертельно ранен. Я им занимался как врач, но в какой-то вечер мне захотелось с ним побыть, посидеть. Я пришел в палату. Другие раненые спали, а он лежал с открытыми глазами. Я подошел, спрашиваю: «Как ты себя чувствуешь?». — «Я сегодня умру». — «Тебе страшно?» — «Умереть мне не страшно, но мне страшно умирать одному». — «Один ты не умрешь. Я с тобой буду сидеть, до момента, когда ты перейдешь из временной жизни в вечную». Он сказал: «Это невозможно, это может длиться часами, и вы не можете часами сидеть насквозь всю ночь рядом со мной!» — «Могу!». Он подумал, говорит: «Да, но я все равно этого знать не буду. В какой-то момент потускнеет мое сознание». — «Мы вот что сделаем. Я сейчас сяду рядом с тобой и мы будем разговаривать. Ты можешь мне рассказывать про мать, про жену и детей, про свою ферму, про свои поля, про животных, которые там пасутся, будешь мне все рассказывать, что сейчас наполняет твое сердце. В какой-то момент ты начнешь уставать, тебе станет утомительно разговаривать, но ты еще сможешь на меня смотреть. Тогда я возьму тебя за руку, и ты возьмешь меня за руку, и мы будем так сидеть. Ты будешь лежать молча, глядя на меня, и я буду тоже глядеть тебе в глаза. В какой-то момент ты еще ослабеешь, глаза твои закроются, и тогда у нас будет одна точка соприкосновения: я буду изредка пожимать твою руку, чтобы ты знал, что я тут, а ты в ответ будешь пожимать мою руку. И так постепенно мы пройдем через врата смерти». И мы так час-другой сидели. Изредка он пожимал мою руку: тут или не тут? В ответ я пожимал его руку: да, я тут. В какой-то момент его рука открылась: он умер.
И это у меня осталось как воспоминание о том, насколько важно, когда человек умирает, ему не остаться в одиночестве. Причем, как я уже сказал, не в том смысле, чтобы вокруг него толпились люди, что-то делали, а чтобы до него доходило: он не одинок. Пока он слышит, пока он видит, все хорошо. А в какой-то момент он должен чувствовать твою руку, твое тело. Когда он пожмет твою руку, нужно ответить, чтобы он знал, что ты здесь, и только тогда его оставить, когда он отпустит твою руку, перестанет дышать и уже будет мертв.
Я не знаю, насколько это осуществимо в обстановке любой больницы или хосписа, но поскольку это возможно, будь то дома, будь то в больнице, это надо делать. Причем совершенно не обязательно, чтобы это делал священник — это может быть любой человек, кто готов передать умирающему сознание, что он не оставлен и что разлуки нет. Тогда в самый момент смерти он, отпуская твою руку, будет знать, что нет разлуки, ему незачем будет это доказывать.
Мне кажется, что бывает — человек действительно желает одиночества, и есть опасность навязывать себя умирающему, когда он действительно хочет быть один с собой и с Богом. Что вы скажете?
Я согласен, что так бывает. Возьмите хотя бы кончину старца Силуана. Когда он был при смерти, монах, который за ним смотрел, его ненадолго оставил по каким-то делам, и в этот момент, когда старец остался один с Богом, он и перешел из времени в вечность. И я думаю, что бывают люди, которые созрели к состоянию: теперь я могу с тобой расстаться, я могу тебя на прощание поцеловать или пожать руку — в зависимости от того, кто вы и кто он — и теперь оставь меня. Я сейчас буду со Христом и хочу только с Ним быть, и так уйти в вечность, туда, где Он есть… Но это, мне кажется, довольно редко встречается. Хотя у меня опыт только Запада в этом отношении, причем главным образом французского Запада, где большинство солдатиков были, в общем, неверующие. В России положение другое, потому что очень у многих людей, даже если они конкретно неверующие или не конкретно верующие, есть это измерение иного мира.
Если человек скажет: «Я хочу умереть только со Христом», ему можно ответить: «Хорошо, я тебя оставлю, но я оставлю тебе тоже колокольчик, на случай если вдруг тебе станет страшно быть одному». Или (если колокольчика нет): «Я тебе дам тарелку, ты можешь ее уронить на пол, чтобы я услышал зов». Потому что человек может в эту минуту чувствовать, что ему так хорошо быть со Христом, а через полчаса вдруг ему станет страшно одиночества, ему понадобится или дружба, или молитва, или просто физическое присутствие. И надо дать возможность человеку быть одному, и как-то следить за тем: он все еще счастлив в своем одиночестве и единстве со Христом или вдруг ему стало страшно? Потому что сознание присутствия Божия не обязательно нарастает. Бывает то, что отец Софроний как-то назвал «метафизический обморок»: вдруг ты теряешь Бога. Бог тут, но ты Его будто потерял.
В хоспис приходят добровольцы, готовые помогать больным и персоналу. Часто меня спрашивают: что делать с умирающим человеком, как говорить с ним? Я всегда отвечаю: ничего не говорить, молчать, благоговейно подходить к человеку, не навязывая разговора, особенно о Боге, о Церкви. Я думаю, что такие разговоры нужны в свой момент, в свое, в другое время…
Да, в другое время или как ответ на вопрос. Но нельзя умирающему навязывать то, о чем он не просит. Человек, который с умирающим находится, может молиться про себя.
Иногда человек, особенно в России, не может чувствовать Бога в Церкви, для него все чуждо в ней: таинства, причастие, исповедь и т. д. Но мне кажется, что человек может чувствовать Бога в культуре, в музыке, в поэзии, в природе. С умирающим человеком надо говорить не только про Церковь, но про его жизнь, его интересы. Конечно, исповедоваться, причащаться важно, но не менее важно дать человеку возможность говорить о себе и благодарить за то, что есть в его жизни. Часто приходится слышать от людей: «Я так несчастлив, моя жизнь такая страшная, такая ужасная». Но мне не верится, что у человека не было хоть одного момента счастья в жизни. Как вы считаете? Я думаю, что очень важно, чтобы человек говорил о том счастье, которое было, особенно когда ему предстоит смерть.
Я с вами согласен, что надо дать человеку вспомнить все прекрасное или красивое, или доброе, что было в его жизни. Жизнь сложная, и наслаивается на сознание и добро и зло, и радость и горе, а в какие-то моменты то или другое преобладает. Скажем, когда человек страдает, он не обязательно может думать о лазурном небе.
Это может быть некстати, но я вам расскажу. Одно время наш военный госпиталь стоял недалеко от лагеря немецких военнопленных. Там был молодой немецкий хирург, который по закону имел право оперировать немцев. И вот одного немца привезли с огромным нарывом на ноге. Я этому врачу сказал: «Вы будете, конечно, оперировать, а я ему дам анестезию». Он ответил: «Он солдат и мужчина, он без анестезии обойдется». — «Это будет дико больно!» — «Ничего, выдержит». Он взял скальпель, взрезал ногу. Солдат сначала закричал от боли, потом стал ругаться, потом стал этого хирурга ругать, потом стал проклинать его за свое страдание. Когда все кончилось, когда он был забинтован, он вытянулся под караул в постели и говорит: «Господин хирург, я у вас прошу прощения за то, как я вас проклинал». И хирург ему ответил: «Это ничего. Знаете, боль выражается степенями. Вначале ты кричал, потом ругался, а когда боль дошла до предела, ты меня стал проклинать, а если было бы еще хуже, ты Бога проклинал бы. Это все в порядке вещей».
С этим приходится считаться: человек может начать с того, что будет стонать, а кончить тем, что будет проклинать Бога. Это ничего не говорит о его духовном состоянии, это говорит только о том, что у него нет слов, чтобы выразить свою боль. Поэтому если кто-нибудь находится при таком больном, он не должен смущаться, не должен уговаривать: «Как ты можешь! Ты мне только что говорил, что ты верующий, а сам…» Нет, это просто крик, который громче, громче, громче. И мне кажется, что надо уметь принимать больного, какой он есть. Слишком поздно ему навязывать какие-то убеждения или подходы. Бог его как такового любит.
Мне вспоминаются слова Иринея Лионского, который сказал, что слава Божия есть живущий человек, а жизнь человека есть созерцание Бога. То есть каждый связан с Богом уже тем, что он человек, как икона… Не важно, какие у него личные убеждения, взгляды или даже отсутствие убеждений.
Человек остается человеком. Если продолжать ваше сравнение с иконой: мы дивимся на прекрасную икону. Но с какой болью и благоговением мы относимся к иконе, которая была злом изуродована. Мы ее не выкидываем, мы на нее смотрим как на раненого. Так же можно смотреть на человека. Он — икона, но изуродован. Он может даже богохульствовать, кричать, но это все выражение боли и растерянности, а сам он остается иконой.
Другой вопрос. Установлен диагноз: у человека рак. Можно ли об этом говорить больному?
Есть люди, которым можно сказать. Есть люди, которых, если скажешь, это подорвет настолько, что они не смогут справляться с собой. Но я пришел к убеждению за многие годы, что с людьми надо говорить не о смерти, а о жизни. Если человек верующий, с ним можно говорить о вечной жизни, хотя даже верующему это не так просто. Но можно говорить: «Сейчас твое тело вымирает, твое тело в болезненном состоянии. А посмотри, сколько у тебя в душе осталось любви к некоторым людям, хоть к одному человеку: к матери, к жене, к ребенку, к другу, сколько в тебе есть воспоминаний о всем светлом, что у тебя было в жизни». И помочь человеку собрать все светлое, что у него в жизни было. Потому что когда человек болеет, конечно, естественная тенденция думать только о плохом, о темном, о болезненном. Но если ему помочь из прошлого как бы неводом вынести все прекрасное, что когда-либо было, то он будет умирать по-иному. Он будет умирать со светом, который у него был в жизни, а не с тьмой, которая в жизни у него была. Это не обязательно ему поможет вступить в вечную жизнь радостно, но поможет ему думать, что это от него никогда не уйдет. Боль уйдет, ссоры уйдут, расставание уйдет, а это отложилось неотъемлемо, это уже вечная жизнь во мне. Это для полуверка достаточно. Для верующего это может пойти дальше, конечно. Ему можно говорить: «Разве ты не помнишь, как ты молился, как ты переживал то или другое в Боге?».
Но даже человек, который на краю веры или не знает, что он верующий, может переживать смысл и красоту. И мне кажется, что мы часто забываем, что в конечном итоге, Бог — это предельная красота. Это слово понятно каждому. Когда говоришь: «Бог есть истина», — а что такое истина? Пилат уже как давно это спросил. А если говоришь: «Бог — это же такая красота! Посмотри, сколько вокруг тебя красоты. Это только отблески того, что Бог собой представляет» — это человеку доступнее. Это мне помогло несколько раз в общении с умирающими, так что я вам это передаю.
Года два назад в хосписе скончалась женщина по имени Татьяна. Она выдавала себя за неверующего человека, но сказала, что хотела бы со мной поговорить. Мы начали говорить о политике, о телевидении, о всем, что угодно, кроме как о Боге и о Церкви. Однажды в разговоре о музыке она сказала, что ее любимая музыка — это Шестая симфония Чайковского. Мы немножко порассуждали об этом, и в конце концов она сказала: «Да, если Бог есть, то я Его слышу в этой симфонии». Когда она слушала эту симфонию, для нее это было своего рода причастием. Дело кончилось тем, что она в конце концов по-настоящему причастилась. Так что я думаю, что путь к Богу разный. Не всегда нужен строго церковный подход в нашем понимании как священнослужителей, надо исходить из того места, где сам человек стоит, а не из того места, где стоишь ты.
Мне хотелось бы поговорить о самом моменте смерти. Для многих это что-то страшное. В службе отпевания смерть называется таинственной. Но таинство для верующих людей — это что-то красивое, замечательное, благодатное. Мне не раз приходилось быть свидетелем момента смерти человека, и чувствовалось, что это благодатный момент, хотя вокруг слезы, страдание, есть этот момент разлуки с человеком. Как это сочетается?
Я думаю, что мы забываем, что таинство это что-то таи{'}нственное, то есть что-то, что мы постигаем на поверхности или на какой-то глубине, но за чем стоит нечто нам непостижимое. И поэтому смерть действительно таинство. Мы воспринимаем телесную смерть, мы воспринимаем все, что душевно, психологически с ней связано. А за этим есть встреча с Богом, — но этого мы не способны человеку передать. Может быть, мы сумеем в другом порядке ему передать сознание, чувство общения с Богом, но мы не можем через смерть идти в этом направлении. Если брать западное слово, sacramentum, это нечто священное, нечто непостижимое. Объяснить человеку, в чем заключается смерть, так же невозможно, как объяснить человеку, в чем заключается Причащение Святых Даров. Это можно пережить, испытать, но объяснить словами — нет, нельзя. Можно сказать: «Когда я причастился, я прикоснулся к ризе Божией», или: «Я встретил Бога на какой-то глубине», но это все, что можно сказать, и только сам человек может сказать. Смерть действительно таинственна, мы не знаем, в чем она заключается. То есть разлучение души от тела — это очень просто сказать, но как бывает, что человек вдруг, как цветок, расцветает и оказывается в райском саду? как случается, что человек прорвался через ограниченности времени и пространства и телесности и оказывается в мире бестелесности в каком-то смысле, бесконечности, лицом к лицу с Богом — Каким он Его постичь может? Человек может встретить Бога как Христа воплощенного и воскресшего. Или, еще не дойдя до этого, встретить Его как Свет, к Которому идет…
В основном в хосписе люди пожилые, у которых жизнь уже состоялась, прошла. Но встречаются люди молодые, умирали от рака люди двадцати лет, даже моложе. У вас есть советы, как подходить к ним, как говорить о той жизни, которая не состоялась? Казалось, впереди много лет, полных счастья, будет учеба, работа, семья… Всего этого уже не будет. Это очень трудно…
Знаете, иногда молодому легче умереть, чем старому. Старый часто влечет за собой груз всей жизни, у него есть очень многое, чего жалеть, и многое, что его пугает: как я вступлю в вечность с этим уродством? — говоря церковно: с грехами своими. А молодому человеку, который еще не успел в такой мере нагрузиться греховностью, можно сказать: «Ты молод, ты сейчас входишь в область вечной молодости. Твоя молодость на земле раненая, изуродованная болезнью. Болезнь отпадет, останется только молодость».
У меня ответа настоящего нет, я просто с вами делюсь тем, что сам мог бы сказать или что случалось сказать…
В заключение я хотел бы вас попросить сказать несколько слов работникам хосписа, медсестрам, добровольным помощникам и, конечно, главному врачу Вере Васильевне Миллионщиковой.
Когда вы мне поставили вопрос, сразу блеснула мысль, вернее, слова апостола Павла: друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов (Гал 6:2). Дело врача, дело сестры милосердия, дело всех тех, которые окружают своей заботой, состраданием и любовью больного, — нести его тяготу. То есть с ним разделить эту тяготу, не то что истерически переживать с ним то, чего сам не испытываешь, а быть с ним рядом, не учить его, а разделять с ним его тревогу, но не отчаяние. «Да, я понимаю, что тебе страшно, но не бойся, потому что я видел много смертей, я встречал многих людей, которые вошли в вечную жизнь. Не бойся!».
А кроме того, когда ты привязан к тому человеку, который умирает, молодому пациенту, которого просто жалко, не надо обороняться, не надо защищаться, стараться «не переживать», для того чтобы было легче тебе работать. Надо быть готовым до предела болеть душой, до предела со-страдать этому человеку. При этом бремя ложится уже не на его одно плечо, а на два: на его и на твое. На словах это очень трудно выразить, но вот пример. Когда я был студентом первого курса и впервые оказался в хирургическом отделении, там умирал молодой человек, весь покрытый гнойными язвами. Он был в отдельной палате, потому что от его тела была старшая вонь. Старшая сестра меня к нему повела в порядке обучения (я только начинал медицину). И этот молодой, лет девятнадцати, человек ей сказал: «Сестра, я сегодня умру. Мама не успеет прийти до моей смерти. Поцелуйте меня за нее на прощание». Она сжалась от отвращения, ответила: «Нам не разрешается целовать больных!» — и вышла вон. А за дверью заплакала: «Какой ужас! Мне так отвратительно было бы его поцеловать, что я отказалась». Я пошел к нему и сказал: «Знаешь, я не мама, но я мог бы быть тебе братом. Давай простимся, как братья, а я твоей маме расскажу», — обнял его и поцеловал. И тогда он сказал: «Теперь я могу спокойно умирать».
Вот что я хотел сказать о сострадании. Это не: «Ах, ах! Бедненький! Голубчик мой!». Это просто: ты мне не противный, я твоей болезни не боюсь.
Огромное спасибо за ваши замечательные слова. Все ваши книги есть в хосписе, ваш дух там. Если вы приедете в Россию, обязательно приходите к нам!
С радостью! У меня нет слов сказать, как я благодарен Богу, что те беседы, которые я здесь веду, оформляются в книги, до каких-то людей доходят и, судя по тому что мне пишут, что-то им приносят. Я всегда мечтал вернуться в Россию и там трудиться. Это не случилось. Я мечтал тоже что-то делать для того, чтобы русским людям было легче и лучше. Единственное, что я могу сделать, — эти беседы, эти книги. Я страшно благодарен за то, что вы их читаете!
Друг друга тяготы носите 227
Владыко, я служу в Москве не только на обыкновенном приходе, но и при хосписе. Мне приходится исповедовать умирающих, с ними беседовать, сидеть при них. Хоспис в России — сравнительно новое дело. Вы неоднократно говорили об отношении к смерти, о пастырском подходе к умирающим, но ваши слова адресованы в основном людям на Западе. Можете ли сказать о специфике служения в хосписе именно в России, не только в духовном, но и в практическом плане?
Ваш вопрос для меня труден тем, что мне не приходилось посещать в России больницы и хосписы. Но умирающих я видел очень много в течение тех лет, когда был студентом на медицинском факультете, потом на войне, потом практикующим врачом в Париже, затем и священником. Мне кажется, что одна из вещей, которые надо всегда помнить: нельзя давать человеку умирать одиноким, с чувством, что доктор, священник, родные — все решили: больше ничего нельзя сделать, пусть себе умирает… Мне кажется, очень важно, чтобы умирающий знал, что его не оставят.
Впервые я пережил, как важно такое присутствие, когда был совсем молодым студентом. Умирала старая, под сто лет, женщина. Она умирала дома, родные не знали, как справляться с ситуацией, поэтому ее поместили в хорошую спальню и оставили одну, а сами занимались своим делом. Но у них все-таки было чувство, что нельзя ей дать просто так умереть, — ведь это происходило не мгновенно, и меня попросили с ней посидеть. Разговаривать с ней было невозможно, потому что она уже не слышала и не видела сознательно. Она лежала совсем спокойно. И в какой-то момент (может быть, я ошибался, но мое восприятие было таково) вдруг я почувствовал, что она умирает. И тут две или три вещи случилось подряд. Она начала метаться, и мне было явно, что она вошла в область тьмы и окружена вражьими силами, которые ее стараются напугать и взять в плен. Я тогда начал молиться: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его…» — всю эту молитву. И вдруг ее метанье прекратилось, и по выражению ее лица стало совершенно ясно, что она вошла в область света, будто ангелы Божии ее окружили. Это не то, что я видел, а то, что отражалось на ее лице. Она лежала и светлела, был покой и радость на ее лице; и в какой-то момент она умерла. И у меня очень сильно сознание, что когда человек умирает, это не мгновение, когда тело уже жить не может, и душа, «как птичка», вспорхнет и ее не будет, — это какой-то процесс, когда за пределом нашего обычного сознания человек начинает входить в контакт с иным миром. Самый близкий к земле мир, кроме наших ангелов-хранителей и святых, — это те темные силы, которые хотят нас поработить, потом уже свобода приходит.
А дальше, во время войны у меня было много случаев, когда привозили раненых, кому уже медицина не могла помочь. Мне вспоминается один молодой солдат из крестьян, который был смертельно ранен. Я им занимался как врач, но в какой-то вечер мне захотелось с ним побыть, посидеть. Я пришел в палату. Другие раненые спали, а он лежал с открытыми глазами. Я подошел, спрашиваю: «Как ты себя чувствуешь?». — «Я сегодня умру». — «Тебе страшно?» — «Умереть мне не страшно, но мне страшно умирать одному». — «Один ты не умрешь. Я с тобой буду сидеть, до момента, когда ты перейдешь из временной жизни в вечную». Он сказал: «Это невозможно, это может длиться часами, и вы не можете часами сидеть насквозь всю ночь рядом со мной!» — «Могу!». Он подумал, говорит: «Да, но я все равно этого знать не буду. В какой-то момент потускнеет мое сознание». — «Мы вот что сделаем. Я сейчас сяду рядом с тобой и мы будем разговаривать. Ты можешь мне рассказывать про мать, про жену и детей, про свою ферму, про свои поля, про животных, которые там пасутся, будешь мне все рассказывать, что сейчас наполняет твое сердце. В какой-то момент ты начнешь уставать, тебе станет утомительно разговаривать, но ты еще сможешь на меня смотреть. Тогда я возьму тебя за руку, и ты возьмешь меня за руку, и мы будем так сидеть. Ты будешь лежать молча, глядя на меня, и я буду тоже глядеть тебе в глаза. В какой-то момент ты еще ослабеешь, глаза твои закроются, и тогда у нас будет одна точка соприкосновения: я буду изредка пожимать твою руку, чтобы ты знал, что я тут, а ты в ответ будешь пожимать мою руку. И так постепенно мы пройдем через врата смерти». И мы так час-другой сидели. Изредка он пожимал мою руку: тут или не тут? В ответ я пожимал его руку: да, я тут. В какой-то момент его рука открылась: он умер.
И это у меня осталось как воспоминание о том, насколько важно, когда человек умирает, ему не остаться в одиночестве. Причем, как я уже сказал, не в том смысле, чтобы вокруг него толпились люди, что-то делали, а чтобы до него доходило: он не одинок. Пока он слышит, пока он видит, все хорошо. А в какой-то момент он должен чувствовать твою руку, твое тело. Когда он пожмет твою руку, нужно ответить, чтобы он знал, что ты здесь, и только тогда его оставить, когда он отпустит твою руку, перестанет дышать и уже будет мертв.
Я не знаю, насколько это осуществимо в обстановке любой больницы или хосписа, но поскольку это возможно, будь то дома, будь то в больнице, это надо делать. Причем совершенно не обязательно, чтобы это делал священник — это может быть любой человек, кто готов передать умирающему сознание, что он не оставлен и что разлуки нет. Тогда в самый момент смерти он, отпуская твою руку, будет знать, что нет разлуки, ему незачем будет это доказывать.
Мне кажется, что бывает — человек действительно желает одиночества, и есть опасность навязывать себя умирающему, когда он действительно хочет быть один с собой и с Богом. Что вы скажете?
Я согласен, что так бывает. Возьмите хотя бы кончину старца Силуана. Когда он был при смерти, монах, который за ним смотрел, его ненадолго оставил по каким-то делам, и в этот момент, когда старец остался один с Богом, он и перешел из времени в вечность. И я думаю, что бывают люди, которые созрели к состоянию: теперь я могу с тобой расстаться, я могу тебя на прощание поцеловать или пожать руку — в зависимости от того, кто вы и кто он — и теперь оставь меня. Я сейчас буду со Христом и хочу только с Ним быть, и так уйти в вечность, туда, где Он есть… Но это, мне кажется, довольно редко встречается. Хотя у меня опыт только Запада в этом отношении, причем главным образом французского Запада, где большинство солдатиков были, в общем, неверующие. В России положение другое, потому что очень у многих людей, даже если они конкретно неверующие или не конкретно верующие, есть это измерение иного мира.
Если человек скажет: «Я хочу умереть только со Христом», ему можно ответить: «Хорошо, я тебя оставлю, но я оставлю тебе тоже колокольчик, на случай если вдруг тебе станет страшно быть одному». Или (если колокольчика нет): «Я тебе дам тарелку, ты можешь ее уронить на пол, чтобы я услышал зов». Потому что человек может в эту минуту чувствовать, что ему так хорошо быть со Христом, а через полчаса вдруг ему станет страшно одиночества, ему понадобится или дружба, или молитва, или просто физическое присутствие. И надо дать возможность человеку быть одному, и как-то следить за тем: он все еще счастлив в своем одиночестве и единстве со Христом или вдруг ему стало страшно? Потому что сознание присутствия Божия не обязательно нарастает. Бывает то, что отец Софроний как-то назвал «метафизический обморок»: вдруг ты теряешь Бога. Бог тут, но ты Его будто потерял.
В хоспис приходят добровольцы, готовые помогать больным и персоналу. Часто меня спрашивают: что делать с умирающим человеком, как говорить с ним? Я всегда отвечаю: ничего не говорить, молчать, благоговейно подходить к человеку, не навязывая разговора, особенно о Боге, о Церкви. Я думаю, что такие разговоры нужны в свой момент, в свое, в другое время…
Да, в другое время или как ответ на вопрос. Но нельзя умирающему навязывать то, о чем он не просит. Человек, который с умирающим находится, может молиться про себя.
Иногда человек, особенно в России, не может чувствовать Бога в Церкви, для него все чуждо в ней: таинства, причастие, исповедь и т. д. Но мне кажется, что человек может чувствовать Бога в культуре, в музыке, в поэзии, в природе. С умирающим человеком надо говорить не только про Церковь, но про его жизнь, его интересы. Конечно, исповедоваться, причащаться важно, но не менее важно дать человеку возможность говорить о себе и благодарить за то, что есть в его жизни. Часто приходится слышать от людей: «Я так несчастлив, моя жизнь такая страшная, такая ужасная». Но мне не верится, что у человека не было хоть одного момента счастья в жизни. Как вы считаете? Я думаю, что очень важно, чтобы человек говорил о том счастье, которое было, особенно когда ему предстоит смерть.
Я с вами согласен, что надо дать человеку вспомнить все прекрасное или красивое, или доброе, что было в его жизни. Жизнь сложная, и наслаивается на сознание и добро и зло, и радость и горе, а в какие-то моменты то или другое преобладает. Скажем, когда человек страдает, он не обязательно может думать о лазурном небе.
Это может быть некстати, но я вам расскажу. Одно время наш военный госпиталь стоял недалеко от лагеря немецких военнопленных. Там был молодой немецкий хирург, который по закону имел право оперировать немцев. И вот одного немца привезли с огромным нарывом на ноге. Я этому врачу сказал: «Вы будете, конечно, оперировать, а я ему дам анестезию». Он ответил: «Он солдат и мужчина, он без анестезии обойдется». — «Это будет дико больно!» — «Ничего, выдержит». Он взял скальпель, взрезал ногу. Солдат сначала закричал от боли, потом стал ругаться, потом стал этого хирурга ругать, потом стал проклинать его за свое страдание. Когда все кончилось, когда он был забинтован, он вытянулся под караул в постели и говорит: «Господин хирург, я у вас прошу прощения за то, как я вас проклинал». И хирург ему ответил: «Это ничего. Знаете, боль выражается степенями. Вначале ты кричал, потом ругался, а когда боль дошла до предела, ты меня стал проклинать, а если было бы еще хуже, ты Бога проклинал бы. Это все в порядке вещей».
С этим приходится считаться: человек может начать с того, что будет стонать, а кончить тем, что будет проклинать Бога. Это ничего не говорит о его духовном состоянии, это говорит только о том, что у него нет слов, чтобы выразить свою боль. Поэтому если кто-нибудь находится при таком больном, он не должен смущаться, не должен уговаривать: «Как ты можешь! Ты мне только что говорил, что ты верующий, а сам…» Нет, это просто крик, который громче, громче, громче. И мне кажется, что надо уметь принимать больного, какой он есть. Слишком поздно ему навязывать какие-то убеждения или подходы. Бог его как такового любит.
Мне вспоминаются слова Иринея Лионского, который сказал, что слава Божия есть живущий человек, а жизнь человека есть созерцание Бога. То есть каждый связан с Богом уже тем, что он человек, как икона… Не важно, какие у него личные убеждения, взгляды или даже отсутствие убеждений.
Человек остается человеком. Если продолжать ваше сравнение с иконой: мы дивимся на прекрасную икону. Но с какой болью и благоговением мы относимся к иконе, которая была злом изуродована. Мы ее не выкидываем, мы на нее смотрим как на раненого. Так же можно смотреть на человека. Он — икона, но изуродован. Он может даже богохульствовать, кричать, но это все выражение боли и растерянности, а сам он остается иконой.
Другой вопрос. Установлен диагноз: у человека рак. Можно ли об этом говорить больному?
Есть люди, которым можно сказать. Есть люди, которых, если скажешь, это подорвет настолько, что они не смогут справляться с собой. Но я пришел к убеждению за многие годы, что с людьми надо говорить не о смерти, а о жизни. Если человек верующий, с ним можно говорить о вечной жизни, хотя даже верующему это не так просто. Но можно говорить: «Сейчас твое тело вымирает, твое тело в болезненном состоянии. А посмотри, сколько у тебя в душе осталось любви к некоторым людям, хоть к одному человеку: к матери, к жене, к ребенку, к другу, сколько в тебе есть воспоминаний о всем светлом, что у тебя было в жизни». И помочь человеку собрать все светлое, что у него в жизни было. Потому что когда человек болеет, конечно, естественная тенденция думать только о плохом, о темном, о болезненном. Но если ему помочь из прошлого как бы неводом вынести все прекрасное, что когда-либо было, то он будет умирать по-иному. Он будет умирать со светом, который у него был в жизни, а не с тьмой, которая в жизни у него была. Это не обязательно ему поможет вступить в вечную жизнь радостно, но поможет ему думать, что это от него никогда не уйдет. Боль уйдет, ссоры уйдут, расставание уйдет, а это отложилось неотъемлемо, это уже вечная жизнь во мне. Это для полуверка достаточно. Для верующего это может пойти дальше, конечно. Ему можно говорить: «Разве ты не помнишь, как ты молился, как ты переживал то или другое в Боге?».
Но даже человек, который на краю веры или не знает, что он верующий, может переживать смысл и красоту. И мне кажется, что мы часто забываем, что в конечном итоге, Бог — это предельная красота. Это слово понятно каждому. Когда говоришь: «Бог есть истина», — а что такое истина? Пилат уже как давно это спросил. А если говоришь: «Бог — это же такая красота! Посмотри, сколько вокруг тебя красоты. Это только отблески того, что Бог собой представляет» — это человеку доступнее. Это мне помогло несколько раз в общении с умирающими, так что я вам это передаю.
Года два назад в хосписе скончалась женщина по имени Татьяна. Она выдавала себя за неверующего человека, но сказала, что хотела бы со мной поговорить. Мы начали говорить о политике, о телевидении, о всем, что угодно, кроме как о Боге и о Церкви. Однажды в разговоре о музыке она сказала, что ее любимая музыка — это Шестая симфония Чайковского. Мы немножко порассуждали об этом, и в конце концов она сказала: «Да, если Бог есть, то я Его слышу в этой симфонии». Когда она слушала эту симфонию, для нее это было своего рода причастием. Дело кончилось тем, что она в конце концов по-настоящему причастилась. Так что я думаю, что путь к Богу разный. Не всегда нужен строго церковный подход в нашем понимании как священнослужителей, надо исходить из того места, где сам человек стоит, а не из того места, где стоишь ты.
Мне хотелось бы поговорить о самом моменте смерти. Для многих это что-то страшное. В службе отпевания смерть называется таинственной. Но таинство для верующих людей — это что-то красивое, замечательное, благодатное. Мне не раз приходилось быть свидетелем момента смерти человека, и чувствовалось, что это благодатный момент, хотя вокруг слезы, страдание, есть этот момент разлуки с человеком. Как это сочетается?
Я думаю, что мы забываем, что таинство это что-то таи{'}нственное, то есть что-то, что мы постигаем на поверхности или на какой-то глубине, но за чем стоит нечто нам непостижимое. И поэтому смерть действительно таинство. Мы воспринимаем телесную смерть, мы воспринимаем все, что душевно, психологически с ней связано. А за этим есть встреча с Богом, — но этого мы не способны человеку передать. Может быть, мы сумеем в другом порядке ему передать сознание, чувство общения с Богом, но мы не можем через смерть идти в этом направлении. Если брать западное слово, sacramentum, это нечто священное, нечто непостижимое. Объяснить человеку, в чем заключается смерть, так же невозможно, как объяснить человеку, в чем заключается Причащение Святых Даров. Это можно пережить, испытать, но объяснить словами — нет, нельзя. Можно сказать: «Когда я причастился, я прикоснулся к ризе Божией», или: «Я встретил Бога на какой-то глубине», но это все, что можно сказать, и только сам человек может сказать. Смерть действительно таинственна, мы не знаем, в чем она заключается. То есть разлучение души от тела — это очень просто сказать, но как бывает, что человек вдруг, как цветок, расцветает и оказывается в райском саду? как случается, что человек прорвался через ограниченности времени и пространства и телесности и оказывается в мире бестелесности в каком-то смысле, бесконечности, лицом к лицу с Богом — Каким он Его постичь может? Человек может встретить Бога как Христа воплощенного и воскресшего. Или, еще не дойдя до этого, встретить Его как Свет, к Которому идет…
В основном в хосписе люди пожилые, у которых жизнь уже состоялась, прошла. Но встречаются люди молодые, умирали от рака люди двадцати лет, даже моложе. У вас есть советы, как подходить к ним, как говорить о той жизни, которая не состоялась? Казалось, впереди много лет, полных счастья, будет учеба, работа, семья… Всего этого уже не будет. Это очень трудно…
Знаете, иногда молодому легче умереть, чем старому. Старый часто влечет за собой груз всей жизни, у него есть очень многое, чего жалеть, и многое, что его пугает: как я вступлю в вечность с этим уродством? — говоря церковно: с грехами своими. А молодому человеку, который еще не успел в такой мере нагрузиться греховностью, можно сказать: «Ты молод, ты сейчас входишь в область вечной молодости. Твоя молодость на земле раненая, изуродованная болезнью. Болезнь отпадет, останется только молодость».
У меня ответа настоящего нет, я просто с вами делюсь тем, что сам мог бы сказать или что случалось сказать…
В заключение я хотел бы вас попросить сказать несколько слов работникам хосписа, медсестрам, добровольным помощникам и, конечно, главному врачу Вере Васильевне Миллионщиковой.
Когда вы мне поставили вопрос, сразу блеснула мысль, вернее, слова апостола Павла: друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов (Гал 6:2). Дело врача, дело сестры милосердия, дело всех тех, которые окружают своей заботой, состраданием и любовью больного, — нести его тяготу. То есть с ним разделить эту тяготу, не то что истерически переживать с ним то, чего сам не испытываешь, а быть с ним рядом, не учить его, а разделять с ним его тревогу, но не отчаяние. «Да, я понимаю, что тебе страшно, но не бойся, потому что я видел много смертей, я встречал многих людей, которые вошли в вечную жизнь. Не бойся!».
А кроме того, когда ты привязан к тому человеку, который умирает, молодому пациенту, которого просто жалко, не надо обороняться, не надо защищаться, стараться «не переживать», для того чтобы было легче тебе работать. Надо быть готовым до предела болеть душой, до предела со-страдать этому человеку. При этом бремя ложится уже не на его одно плечо, а на два: на его и на твое. На словах это очень трудно выразить, но вот пример. Когда я был студентом первого курса и впервые оказался в хирургическом отделении, там умирал молодой человек, весь покрытый гнойными язвами. Он был в отдельной палате, потому что от его тела была старшая вонь. Старшая сестра меня к нему повела в порядке обучения (я только начинал медицину). И этот молодой, лет девятнадцати, человек ей сказал: «Сестра, я сегодня умру. Мама не успеет прийти до моей смерти. Поцелуйте меня за нее на прощание». Она сжалась от отвращения, ответила: «Нам не разрешается целовать больных!» — и вышла вон. А за дверью заплакала: «Какой ужас! Мне так отвратительно было бы его поцеловать, что я отказалась». Я пошел к нему и сказал: «Знаешь, я не мама, но я мог бы быть тебе братом. Давай простимся, как братья, а я твоей маме расскажу», — обнял его и поцеловал. И тогда он сказал: «Теперь я могу спокойно умирать».
Вот что я хотел сказать о сострадании. Это не: «Ах, ах! Бедненький! Голубчик мой!». Это просто: ты мне не противный, я твоей болезни не боюсь.
Огромное спасибо за ваши замечательные слова. Все ваши книги есть в хосписе, ваш дух там. Если вы приедете в Россию, обязательно приходите к нам!
С радостью! У меня нет слов сказать, как я благодарен Богу, что те беседы, которые я здесь веду, оформляются в книги, до каких-то людей доходят и, судя по тому что мне пишут, что-то им приносят. Я всегда мечтал вернуться в Россию и там трудиться. Это не случилось. Я мечтал тоже что-то делать для того, чтобы русским людям было легче и лучше. Единственное, что я могу сделать, — эти беседы, эти книги. Я страшно благодарен за то, что вы их читаете!
Кончается пролог… [228]
Владыка, как вы определили бы дело, делание епископа в Церкви?
Епископ в первую очередь — пастырь душ человеческих. Это означает, что епископ должен молиться за священников, за паству, молиться о всех их нуждах и обстоятельствах, потому что без этого живого молитвенного предстательства за народ христианский он не исполняет своего епископского служения. Второе — непосредственное пастырство, совершение богослужений, Евхаристии, когда он возглавляет евхаристическое собрание и является иконой, динамичным, живым образом Христа и одновременно знаменует собой (потому что единственный Тайносовершитель евхаристической Литургии будущего века — Сам Христос), что евхаристическая Литургия, которую мы совершаем на земле, — еще только предизображение грядущей, ожидаемой полноты. И очень важно епископу помнить, что он одновременно являет собой присутствие и то, что полноты еще нет, что еще качествует несовершенство, он знаменует собой, что все совершаемое еще не достигло полного расцвета…
Мы в мире еще непреображенном…
Вот именно! Опять-таки в плане непосредственного пастырского служения я принимаю исповедь людей, я веду беседы в собственном приходе и в других местах; в приходе теперь бывает, перед Рождеством и перед Пасхой, два говения в год на русском языке и два на английском, и подобные же встречи с молодежной группой. И кроме того, каждый Божий день в среднем по десять часов я принимаю людей, как православных, так и неверующих, которые приходят со своими проблемами. Раньше я принимал людей по восемнадцать часов в день, так продолжалось лет пятнадцать, теперь я просто физически уже не в состоянии это делать.
Вот, кажется, основное. И кроме этого, служение епископа как пастыря предполагает особую его связь со священниками. Большинство священников здесь в Англии — это мальчики моей воскресной школы. Я их знаю всю жизнь, они меня знают всю жизнь (я уже двадцать пять лет на этом приходе). Они не просто формально представляют своего епископа в данном приходе, у нас общая жизнь, которую я им передал, постольку поскольку сам ее воспринял и постольку поскольку они сами открылись Евангелию. Два-три раза в год у нас бывают собрания духовенства, мы постоянно встречаемся в своем служении. В Англии к этому добавляется миссионерская работа, не в смысле прозелитизма, а так, как апостолы понимали свое дело: как провозглашение Евангелия. Я проповедую в неправославных храмах, я проповедую или веду беседы в христианских миссиях («христианских» в самом общем смысле слова, вне вероисповедных различий), выступаю в университетских; я проповедую на улице…
Остановитесь, пожалуйста, на этом пункте, Владыко. Во Франции этого не существует, это действительно более привычно для Англии.
Это более привычно, потому что обусловлено законом. Во Франции разрешается проповедовать на улице, только если получить разрешение поставить палатку, какую-то крышу, но это сразу ставит людей перед выбором: кто-то придет, кто-то нет. А тут можно пойти, как я делал в Лондоне и в Глазго, в доки или на улицы любого города, стать на любом месте, и если кто-то готов слушать, начинаешь говорить, вот и все!
Разумеется, есть практическая сторона дела: например, если вы станете на улице и начнете говорить в пустоту, вас примут за сумасшедшего и все будут проходить мимо! Если вы хотите чего-то добиться, надо, чтобы два-три человека пришли с вами и стали, так сказать, изображать толпу. Мы так сделали в Оксфорде, и я нашел этот опыт очень интересным. Со мной пришла группа студентов, мы поставили на ступеньках университетской библиотеки трехметровое распятие, студенты стали лицом ко мне и я начал говорить, обращаясь к ним. Видя, что трое человек слушают четвертого, двое или трое прохожих остановились. Тогда три моих первых слушателя стали зазывалами. Они обращались к прохожим и говорили: «Посмотрите-ка, вон там стоит чудак и говорит. Пойдите послушайте, может быть, его слова вас заинтересуют!».
Через полчаса набралось человек тридцать или сорок, они стояли на расстоянии метра друг от друга, дело было в январе и был собачий холод. Тогда я прервал свою речь и сказал им: «Мы сейчас сделаем опыт, первый опыт человеческой общности. Станьте ближе друг к другу, так, чтобы физически соприкасаться и обмениваться животным теплом. Может быть, это приведет к тому, что вы станете обмениваться и духовным теплом». Они сгрудились, встали ближе. Через некоторое время я сказал: «Теперь проявите общинную любовь. Тем, кто стоит в середине, тепло со всех сторон. У тех, кто сзади, мерзнет спина. Поменяйтесь-ка местами!».
Они рассмеялись?
Они рассмеялись, но поменялись местами! И на протяжении недели у меня собиралась группа человек в семьдесят-восемьдесят. Но первые слушатели уже были ученые, они становились тесно, потом переходили из середины к краям. Так что за неделю все эти люди, которые сначала молча стояли на расстоянии метра друг от друга, перезнакомились, потому что им пришлось физически соприкоснуться и дышать в спину соседу, чтобы согреваться. Между ними возникла человеческая взаимосвязь. Ну, и кроме того, я-то продолжал проповедовать свое!
Именно там у меня случился первый мой контакт с хиппи…
Расскажите! Они слушали ваши проповеди?
Я говорил в течение около двух часов с половиной. Я говорил час о вопросах веры, потом часа полтора шел свободный обмен мнениями. В какой-то день толпа, ну, эти семьдесят или восемьдесят человек, раздвигается, ко мне подходит молодой человек и говорит: «Почему вы не ходите на наши собрания?». Я ответил: «А почему бы мне на них ходить?» — «Ну, вы же совсем, как мы. Лохматый, бородатый, одеты как никто, какая-то бляха висит на груди, чем вы от нас отличаетесь?».
Это была отдельная встреча, контакт. Но я регулярно проповедую в университетах. Так, в прошлом году в Кембридже четыре воскресенья подряд к нам собиралось около тысячи двухсот студентов, так что есть отклик на то, что мы имеем сказать. И плюс к этому я веду занятия в медицинских школах. Уже несколько лет растет движение за то, чтобы к той помощи, которую больным оказывают в плане физическом, по возможности подключить помощь духовную и психологическую. В силу того что по образованию я профессиональный врач, ко мне обратились с просьбой (и такие просьбы есть все время) проводить беседы о проблеме страдания в плане медицинской этики либо по вопросу, который труден и для студентов без всякого опыта, но и для опытных медиков — о подготовке к смерти. Как приготовить к смерти того, о ком вы знаете (он может это знать или не знать), что он умрет? Так, чтобы его смерть была по возможности победой или совершилась в покое, в успокоенности, не стала крушением всей его жизни.
Сами студенты просят о таких лекциях?
Просят ассоциации врачей и медсестер или подобные группы. Есть так называемая Лондонская медицинская группа, куда входят врачи, сестры, студенты, а также священники или монахини, которые связаны с медицинской работой. Но эта проблема встает и для тех госпиталей, которые никак не связаны с религией, и для ассоциаций, члены которых не специально интересуются вопросами религии. Верующий вы или нет, у вас больные, вам каждый день приходится иметь дело с умирающими, и какой вы ни на есть блестящий медик, вам нужны ответы, которых у вас нет. Вы их ищете. У каждого есть частичный ответ, зачаточный ответ, и мне кажется важным, чтобы можно было поделиться эти опытом или этим поиском.
Существует ли нечто подобное во Франции?
В Англии бесконечно больше открытости в этом смысле, потому что есть своего рода сосуществование мнений и направлений, и различных группировок, которые принимают друг друга. Тогда как во Франции гораздо меньше разнообразных групп (во всяком случае, официально), которые терпимы по отношению друг к другу, гораздо больше антагонизма и агрессивности, что часто мешает сойтись по основоположным проблемам.
Можем ли мы, не являясь медиками, тоже спросить вас, как можно помочь другим встречать смерть? И как помочь в этом самим себе?
Первое, что существенно важно в христианском мире (но это верно и для неверующих): готовить людей к смерти, учить их встречать смерть на протяжении всей жизни. Не ждать для этого момента, когда они уже умирают, то есть стоят лицом к лицу с неведомым ужасом. Мне кажется, что в обоих случаях, и для верующих и для неверующих, существенно важно, чтобы мысль о смерти стала привычной.
Почему же нас не учат умирать? У тибетских буддистов есть, кажется, упражнения для того, чтобы научить хорошо умирать?
Я не думаю, что можно научиться умирать. Но что можно сделать, например, так это помочь понять, что мысль о смерти содержит не только страх неведомого и ужас перед Судом. Страх неведомого присущ абсолютно всем. Ему подвержен не только неверующий. Многие верующие стоят перед неведомым. Какова бы ни была ваша вера, какие бы образы ни помогали вам думать о смерти, она все равно остается неизвестной, глубочайшей, полной тайной. А страх Суда искажает все умонастроение верующего, потому что к страху потустороннего добавляется страх встречи с Богом.
Первое, чему мы должны научиться сами и учить других, это думать, по примеру древних подвижников, что только перед лицом смерти жизнь приобретает все свое величие и глубину. Настоящее мгновение приобретает абсолютную ценность, постольку поскольку оно может оказаться единственным или последним. Если бы мы, собравшиеся ради этого интервью, сознавали, что в нашем распоряжении только настоящий миг и что в следующий миг каждый из нас или один из нас может умереть, как бы мы относились друг к другу — с каким вниманием, с какой горячностью! Все, что мы говорим или делаем, мы старались бы сказать и сделать так, чтобы каждое слово, каждый жест, все было бы вершиной отношений, а не черновиком, который будто бы будет доведен до совершенства в будущем — чего никогда не происходит, потому что мы без конца пишем новые черновики и никогда дело не доходит до чистовой тетради.
Я пережил это совершенно очевидно, когда умирала моя мать. Все, что говорилось или делалось, могло оказаться последним словом, последним жестом. Каждое сказанное слово, каждое движение должно было выражать совершенство отношений, вернее, благодаря этому жесту, этому слову отношения должны были становиться все более совершенными. Если бы мы думали о смерти как об элементе, который придает ценность, вносит измерение абсолюта в самые мелкие поступки (мы все ждем великих событий, чтобы оказаться на высоте, но на самом деле жизнь состоит из мелких событий, которые могут быть источником радости или, напротив, лишить отношения всякой ценности), если бы мы думали о смерти как о том, что придает всему ценность, это уже было бы нечто очень значительное.
Еще нечто, что представляется, вероятно, слишком уж простым, но что уходит корнями в одну из вечерних молитв, в молитву святого Иоанна Дамаскина
[229], это то, что наш уход в сон является как бы притчей, образом нашего ухода в смерть! Мы засыпаем и теряем сознание, мы оказываемся совершенно беззащитными перед внешним миром. Мы до конца отдались. Мы засыпаем в акте полного доверия и настолько к этому привыкли, что даже не думаем об этом. Но заснуть действительно означает отдаться в руки Божии и больше
не быть до завтрашнего дня, иначе как в Его руке.
«В руки Твои, Господи, предаю дух Мой»…
Именно! Если бы мы почаще сознавали, что каждый вечер мы упражняемся в том, чтобы уходить в забвение, в бессознательное состояние и в полную зависимость от Бога, нам было бы гораздо легче научиться и в большем масштабе проходить через эту отдачу себя, предавать себя в руки Божии, принимать забвение, потерю сознания и нашей способности самим определять свою жизнь. Вот еще нечто очень простое, что принадлежит нашему ежедневному опыту и совершенно просто, как еда.
С другой стороны, в молодости можно думать о смерти с такой открытостью ума и сердца, какой часто нет у пожилого человека. Потому что когда переходишь какой-то предел физического возраста (я сейчас думаю не о том возрасте, который исчисляется годами, а об определенном состоянии тела), в какой-то момент ощущаешь в себе действие смерти. И в этот момент гораздо труднее думать о смерти спокойно, потому что смерть тогда воспринимаешь как нечто угрожающее — разве что вы приветствуете ее приход.
Это не обязательно случается в старости…
Разумеется нет, но всегда настает момент, когда это случается, разве что вас унесет смерть от несчастного случая, выхватит вас, когда вы еще молоды и наслаждаетесь своим прекрасным здоровьем. Если думать о смерти, пока вы еще молоды, можно думать о ней в терминах благовестия апостола Павла. В жизни каждого из нас бывают моменты, когда кажется, что интенсивность жизни такова, что она сейчас разорвет все узы, и можно жить в полноте только благодаря тому, что разорвется жизнь временная, телесная. Блажен тот, кто встретит смерть в такой момент. Вас преисполняет радость, и преисполняет именно потому, что ее не может вместить ваше тело, ваш ум, ваше сердце. У нас то и дело бывают такие моменты, как бы прорывы из нашей ограниченности, и именно так рассматривает смерть апостол Павел: как облечение в вечность, а не как совлечение времени, пространства и всех их ограничений.
И еще: есть воспитание в зрелости. Для многих из нас старение означает обветшание…
…Деградацию?
Вот именно. А ведь оно могло бы быть переходом к другим ценностям. Вы наверно помните это место у Виктора Гюго, из «Спящего Вооза».
Тот возвращается к первичному истоку, Кто в вечность устремлен от преходящих дней. Горит огонь в очах у молодых людей, Но льется ровный свет из старческого ока
[230].
Так вот, если быть готовым к тому, что наше пламенение станет светом, старение было бы победой. А мы стараемся не дать угаснуть пламени, и нам не приходит в голову мысль дать место свету, которого ничто не может затушить. Такое воспитание из зрелости к старости должно научить человека отпускать, не держать судорожно все, что он любил, чем дорожил в молодости, чтобы после периода зрелости достичь старости во всей ее красоте.
Вся жизнь ведь состоит из «умирания» и «возвращения к жизни». Ребенок, который становится подростком, теряет какие-то черты, но приобретает новые. Так что у нас с ранних лет есть опыт смерти, но такой смерти, которая приносит новую жизнь, перерастание прежней. Я помню, мой отец говорил мне: «Научись в течение жизни ждать свою смерть, как юноша ждет прихода своей невесты». Этому можно научиться, если жить в полную силу и уметь видеть постоянное перерастание, которое является результатом вымирания каких-то элементов, чтобы могли родиться и до конца развиться другие черты. Если осознать, что одно умирает ради того, чтобы жило другое, то оказывается, что это не просто потеря: исчезновение одного — необходимое условие, чтобы обрести новое.
И когда понимаешь, что всю жизнь учишься этому, тогда обретаешь способность жить полно и переживать глубоко, побеждать свои страхи, перерастать ограниченность, и тогда живешь счастливо, и с интересом, и в покое, до момента, вернее, включая и момент смерти.
В этот момент кончается пролог, взлетаешь — и Бог встречает тебя…
Библиография
Сокращения
АО Альфа и Омега. Ученые записки Общества для распространения Священного Писания в России. Москва. ББИ Библейско-Богословский институт. Москва. Б. г. Без указания года издания. Б. м. Без указания места издания. ВСЦ Всемирный Совет Церквей. ВЭ Вестник Русского Западноевропейского Патриаршего Экзархата. Париж. ДК Духовна култура (София). ЖМП Журнал Московской Патриархии. ИК Илимский Ковчег (Усть-Илимск, Иркутской епархии). МВ Московские ведомости. МПЖ Московский психотерапевтический журнал. МЦВ Московский церковный вестник. ПМ Православни мисионар (Болгария). ПО Православная община. Москва. Препр. Препринт (малые полиграфические формы). РМ Русская мысль. Париж, Париж—Москва. СПГ Сибирская православная газета. Тюмень. ЦВ Церковный вестник. Москва. ЦиВ Церковь и время. Москва. ЦОВ Церковно-общественный вестник. Москва. BO Bulletin Orthodoxe. Paris. BBC British Broadcasting Corporation. London. CEE Conseil Œcuménique des Eglises. FSAS Fellowship of Saint Alban and Saint Sergius. Great Britain. JMP Journal of Moscow Patriarchate. ROC Russian Orthodox Cathedral. London. RODS Russian Orthodox Diocese of Sourozh. Great Britain. S. a. Sine anno. S. l. Sine loco. SO Stimme der Orthodoxie. Berlin. SOP Service Orthodoxe de Presse. Paris. SPCK Society for Promoting Christian Knowledge. StVSP Saint Vladimir’s Seminary Press. New York. WCC World Council of Churches.
Именной указатель
В список не вошли действующие лица Священного Писания, мифологические и литературные персонажи (о них сделаны соответствующие примечания), а также люди, упомянутые только в подписях под фотографиями и редакторских примечаниях. Дни памяти святых Православной церкви указаны по старому стилю. Сокращения: вмц. — великомученица, вмч. — великомученик, мч. — мученик, мц. — мученица, о. — отец, прп. — преподобный, прпмц. — преподобномученица, св. — святой, Св. Писание — Священное Писание, свт. — святитель, сщмч. — священномученик.
Аввакум Петрович (1620 или 1621 — 1682), протопоп, глава старообрядчества, писатель. Выступил против реформы патриарха Никона. В 1666—1667 осужден на церковном соборе и сослан в Пустозерск, где 15 лет провел в земляной тюрьме. Вместе с несколькими единомышленниками сожжен по царскому указу. В число сочинений А. входят автобиографические труды, уникальные для всей древнерусской литературы по образному и простонародному языку, глубине и правдивости психологических характеристик и реалистическому изображению действительности («Житие» и письма), истолковательные беседы на Св. Писание, челобитные царям, полемические и проповеднические послания. Старообрядцами белокриницкого согласия почитается священномучеником, официальная канонизация состоялась в 1916. Память в Неделю, следующую после празднования Отцам VII Вселенского собора.
Августин Блаженный, Аврелий (354—430), епископ, христианский мыслитель и писатель, величайший представитель латинской патристики. Уроженец Северной Африки, преподавал риторику на родине и в Медиолане (Милане), прошел через увлечения скептицизмом и манихейством, затем неоплатонизмом, пережил обращение, крещен свт. Амвросием Медиоланским на Пасху 387. С 395 епископ города Гиппона в Северной Африке. Огромное по количеству сочинений и их размаху творческое наследие А. состоит главным образом из догматических богословских трактатов, полемических по задачам и форме. В трактатах против манихеев («Против Фортуната», «Против Фаста», «Против Секунда») он утверждает святость Ветхого Завета, сотворенность мира и основную благодать бытия, против донатистов («О крещении против донатистов» и др.) — экклезиологическое единство (totus Christus, букв. «весь Христос»), против пелагиан («О благодати и свободе воли» и др.) — необходимость свободной благодати, не заслуженной человеком любви Божьей в деле его спасения. Здесь А. учит о предопределении и «произвольной благодати», избирающей спасенных из тьмы погибающих (massa damnata, букв. «про{'}клятая масса»), в чем резко расходится с православной догматикой. Важнейший труд А. «О Граде Божием» в 22 книгах, написанный под впечатлением от разгрома Рима ордами Алариха в 410, посвящен диалектике истории. Гомилии А. и комментарии на Псалмы и Евангелие от Иоанна посвящены не только экзегезе, но выражают личное благочестие А. Еще более лична его «Исповедь», автобиография, уникальная на фоне античности в изображении духовного становления. Память 15 июня.
Алексий (Елевферий Бяконт), митрополит Московский и всея России (1292—1378), свт. Родился в семье боярина, рано почувствовал призвание к иночеству. Был пострижен игуменом Стефаном, братом прп. Сергия Радонежского. В 1350 поставлен епископом Владимира-на-Клязьме, по смерти митрополита Феогноста в 1354 стал его преемником на Московской кафедре. Много сил положил на примирение княжеских междоусобиц и церковных смут. Ездил в Золотую орду, где по его молитве исцелилась от слепоты супруга хана, Тайдула. Основал несколько монастырей, был связан духовной дружбой с прп. Сергием Радонежским, которого хотел видеть своим преемником.
Алексий I (Симанский Сергей Владимирович) (1877—1970), патриарх Московский и всея Руси с 1945.
Алексий II (Ридигер Алексей Михайлович) (1929—2008), патриарх Московский и всея Руси с 1990.
Алексия (Гаккель), монахиня (? — дек. 1969), мать протоиерея Сергия Гаккеля.
Анатолий (Кузнецов) (р. 1930), архиепископ Керченский, викарий в Сурожской епархии. Окончил Московскую духовную академию. Рукоположен в дьякона (1954), в священника (1956). Принял монашество (1960). В 1972 хиротонисан в епископа Виленского и Литовского. По выбору митрополита Антония Сурожского назначен (1990) викарием Сурожской епархии с титулом епископа Керченского; с 1993 архиепископ.
Ангелус Силезиус (в миру Иоганн Шеффлер) (1624—1677), немецкий поэт-мистик, священник, член ордена миноритов. Родился в протестантской семье, в 1653 принял католичество. Один из самых одаренных поэтов контрреформации, автор более 200 духовных стихотворений, в основном собранных в книгу философских изречений в стихах «Херувимский странник» (1675).
Андрей Критский (ок. 660 — ок. 740), прп., византийский проповедник и церковный поэт, создатель и мастер нового жанра гимнографии — канона. Уроженец Дамаска, был монахом в Иерусалиме, дьяконом в Константинополе, окончил жизнь архиепископом города Гортины на Крите. Наиболее известное его произведение — «Великий канон», состоящий из 4 канонов по 9 песней, в которых мотив личного покаяния сопоставлен со всей ветхо- и новозаветной историей. Память 4 июля.
Антоний Великий (251—356), прп., христианский аскет, основатель монашества, один из первых пустынножителей Фиваиды (Египет). В 18 лет, услышав призыв Христа раздать все и следовать за Ним (Мф 19:21), раздал имущество и удалился от мира. Около 20 лет провел в уединении, затем основал монашескую общину и через несколько лет вновь удалился в пустыню, но выходил в мир для защиты православия от арианства. Имел множество учеников. Его аскетические наставления вошли в Добротолюбие. Житие А. В., составленное свт. Афанасием Великим (см.) оказало огромное влияние на всю дальнейшую историю монашества и на развитие христианской литературы. Память 17 января.
Арий (?—336), ранневизантийский богослов, ересиарх. Сочинения А. не сохранились.
Арсений Великий (354 — 449 или 450), прп., христианский подвижник. Знатный, превосходно образованный византиец, воспитатель сыновей императора Феодосия, после пережитого духовного потрясения в 394 оставил двор и стал монахом египетской пустыни. В Скитском Патерике приводится много изречений А. В. Его житие составил прп. Феодор Студит (см.). Память 8 мая.
Арский Кюре — см. Вианне, Жан-Мари.
Афанасий Великий, Афанасий Александрийский (ок. 296—373), свт., ранневизантийский богослов и церковный деятель, епископ города Александрии. Вдохновитель непримиримой борьбы против арианства, пламенный защитник независимости Церкви от империи, неоднократно отправлявшийся в ссылку за свои убеждения. Усилия А. В. привели к победе православия на I Вселенском соборе в 325. Оставил много богословских, догматических сочинений. Память 18 января, 2 мая.
Афанасий (Нечаев) (1886—1943), архимандрит, духовник митрополита Антония. Окончил духовную семинарию. После периода неверия и духовных исканий был послушником на Старом Валааме. Оттуда был направлен в Свято-Сергиевский богословский институт в Париже. В 1926 принял постриг и рукоположение от митрополита Евлогия (Георгиевского) (см.). Остался в немногочисленной группе русских верующих, под руководством митрополита Вениамина (Федченкова) (см.) сохранивших каноническую верность Московскому Патриархату. С 1933 был настоятелем Трехсвятительского подворья в Париже. Во время немецкой оккупации помогал движению Сопротивления, укрывал от гестапо евреев.
Афанасьев, Николай (1893—1966), выдающийся православный богослов, протоиерей. Покинул Россию в ноябре 1920. Окончил в 1925 богословский факультет Белградского университета. Принимал участие в работе РСХД (см. прим. на с. *). С 1930 работал в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже, в религиозно-педагогическом кабинете, основанном протоиереем Василием Зеньковским, читал лекции в указанном институте по каноническому праву и греческому языку. Рукоположен в 1940. Под влиянием протоиерея Сергия Булгакова занялся исследованием проблем догматики и экклезиологии. В центре его богословия — мысль о Церкви как о неиерархическом евхаристическом собрании. В его трудах впервые глубоко проанализирована структура Древней Церкви и показана возможность усмотреть ее тождество во все исторические эпохи. Труды: Каноны и каноническое сознание. Париж, 1933; Трапеза Господня. Париж, 1952; Служение мирян в Церкви. Париж, 1955; Церковь Духа Святого. Париж, 1971.
Бердяев, Николай Александрович (1874—1948), русский религиозный философ-экзистенциалист. Один из участников сборника «Вехи». В 1922 был выслан из России, умер в Париже. Утверждал свободное персоналистическое понимание христианства, иногда в абстрактно-метафизическом ключе («Опыт эсхатологической метафизики»), но чаще в антропологическом и историческом. Человек понимается им богословски как соработник Творца («Смысл творчества»), этически — как носитель этики искупления, эсхатологически или историософски — как участник наступающей эпохи завета Духа («О рабстве и свободе человека»). Был также проницательным политическим мыслителем («Истоки и смысл русского коммунизма»). Исповедовал православие и был вдохновенным церковным писателем, но не принадлежал ни к какой богословской школе. Оставил духовную автобиографию «Самопознание». Один из самых влиятельных русских мыслителей XX в.
Бер-Сижель, Елизавета (1907—2005), православный французский богослов. Родилась в Эльзасе, росла в протестантской среде. Окончила философский факультет в Страсбурге, Независимый протестантский богословский факультет в Париже. Докторская диссертация посвящена Александру (архимандриту Феодору) Бухареву. В конце двадцатых годов встретилась с кругом русских эмигрантов и с православием, «открытым западной мысли и диалогу с другими церквами»: П. Евдокимов, В. Лосский, братья Ковалевские. В 1932 приняла православие и вместе с архимандритом Львом Жилле (см.) стояла у истоков первого франкоязычного православного прихода. Во время войны — участник межконфессиональной группы борцов с нацизмом, которая потом превратилась в одну из первых ячеек экуменического движения во Франции. Постоянный участник съездов Англикано-православного содружества св. Албания и прп. Сергия (Англия). В 1970—1990 читает лекции в Свято-Сергиевском богословском институте и Высшей экуменической школе (Париж), в Экуменическом институте Тантур в Иерусалиме и др. Один из главных занимавших ее вопросов: место женщины в Церкви; этой теме посвящены книги: Le ministиre de la femme dans l'Eglise (Cerf, 1987) (русск. изд.: Служение женщины в Церкви. М., ББИ, 2001) и L'ordination des femmes dans l'Eglise orthodoxe, в сотрудничестве с епископом Каллистом (Уэром) (Cerf, 1998) (Русск. изд.: Рукоположение женщин в Православной церкви. М., ББИ, 2000).
Бернанос, Жорж (1888—1948), французский католический писатель, публицист.
Берто, Жан Батист Пьер Леонар (1798—1879), католический епископ г. Тюлль (Франция), участник I Ватиканского собора, горячий сторонник провозглашения католического догмата о папской непогрешимости.
Блум, Борис Эдуардович (1882—1931), отец митрополита Антония.
Блум, Ксения Николаевна (урожденная Скрябина) (1889—1958), мать митрополита Антония.
Бонхёффер, Дитрих (1906—1945), немецкий богослов, лютеранский пастор. Участвовал в экуменическом движении, активно боролся с нацизмом. За участие в движении Сопротивления был арестован (1943) и казнен во Флоссенбурге в 1945. Создал оригинальное богословие, исходящее из убеждения, что современный мир, впитавший культурные достижения нового времени, не нуждается в Боге как в ответе на неразрешимые вопросы и отныне Бога можно найти не в догматах и храмах, а в гуще человеческих страданий. Его учение, изложенное им не систематически в письмах из тюрьмы, оказало огромное влияние на послевоенное христианское богословие.
Борель, Эмиль (1871—1956), французский математик и политический деятель, иностранный член-корреспондент АН СССР (1929). Труды по математическому анализу, теории функций, математической физике и теории вероятности.
Борис, страстотерпец (?—1015), князь ростовский, сын великого князя Владимира Святославича (см.). Вместе с младшим братом Глебом (см.) был убит по приказу сводного брата Святополка Окаянного. Борис и Глеб — первые русские святые; чин «страстотерпцев» возник впервые в русском православии. Память 2 мая, 24 июля.
Бубер, Мартин (1878—1965), еврейский религиозный философ и писатель. Активный участник сионистского движения и еврейского культурного возрождения. Жил в Германии. С приходом к власти нацистов был отстранен от преподавания. В 1938 переехал в Израиль, стал профессором Иерусалимского университета и до самой смерти жил в Иерусалиме. Вместе с Ф. Розенцвейгом перевел еврейскую Библию на немецкий язык. Открыл европейской культуре мир хасидизма (см. прим. на с. *), вольно пересказав по-немецки хасидские рассказы и написав об этом мистическом движении несколько исследований. Наибольшее влияние на христианское богословие XX в. оказала его небольшая книга «Я и Ты» (1923), в которой он своеобразным поэтическим языком формулирует философию диалога. В религиозном аспекте эта философия утверждает, что в отношениях между человеком и Богом Бог для человека и человек для Бога всегда являются «Ты», равноправным, непосредственно данным опыту лицом в диалоге, а не «Оно» — объектом абстрактных размышлений или манипуляций. Габриель Марсель назвал это положение Б. для религиозной мысли открытием, равным ньютоновскому.
Булгаков, Сергей Николаевич (1871—1944), русский богослов, философ, православный священник (с 1918). В юности увлекался идеями марксизма, отошел от него и вернулся к православию. Один из участников сборника «Вехи». В 1917 как представитель мирян присутствовал на Поместном соборе Русской православной церкви. С 1923 в эмиграции, был одним из вдохновителей РСХД (см. прим. на с. *), деканом Свято-Сергиевского богословского института в Париже и активным участником экуменического движения. Создатель оригинальной целостной богословской системы, стремящейся укоренить тварный мир в Боге посредством действия Софии Премудрости Божьей, которую Б. наряду с Вл. Соловьевым (см.) и о. Павлом Флоренским (см.) считал живой связью между тварью и Творцом. Основные труды: Философия хозяйства; Свет невечерний; Купина неопалимая; Друг Жениха; Трилогия «О Богочеловечестве» («Агнец Божий», «Утешитель», «Невеста Агнца»).
Ван Бурен, Пауль Мэтьюз (1924—1998), американский протестантский богослов, один из ведущих представителей богословского течения «смерти Бога» (см. прим. на с. *).
Василий Великий, Василий Кесарийский (ок. 330—379), свт., ранневизантийский церковный деятель, богослов и писатель, глава каппадокийского богословского кружка, в который входили его ближайший друг Григорий Богослов (см.), младший брат Григорий Нисский (см.) и др. Родился в состоятельной семье, получил блестящее философское и риторическое образование. С 370 архиепископ Кесарии Каппадокийской. На этом посту он развил широкую практическую деятельность, построив целый город благотворительных учреждений, прозванный в народе Василиадой. Одновременно трудился над объединением сил православной оппозиции официально насаждаемому арианству, продолжая дело Афанасия Великого (см.). Подготовил окончательную победу православия на II Вселенском соборе (381), но не дожил до него. Сочинения В. В., как правило, написанные по какому-либо конкретному поводу и не содержащие сложных философских рассуждений, характерных для других каппадокийцев, сохраняют непреходящее значение благодаря глубине и отчетливости догматических определений (в особенности «Трактат о Святом Духе» и «Шестоднев»). Создатель одного из трех принятых в настоящее время в Православной церкви чинов Божественной литургии. В памяти Православной церкви остался как один из трех величайших Отцов, «трех святителей». Память 1 января и 30 января.
Василий (Осборн) (р. 1938), епископ Сергиевский, в 2003—2006 управляющий Сурожской епархией. Специалист по древним языкам, принял православие в 1963, во время обучения в университете (Буффало, затем Цинциннати, США). Окончил богословский факультет Оксфордского университета, докторская диссертация посвящена Татиану Сирийскому. В 1969 митрополитом Антонием рукоположен в дьякона, служил при Амплфорт-колледже в Йоркшире (Англия). В 1971 устроил православный храм и воскресную школу в студенческом общежитии в Оксфорде. С 1973 священник, настоятель Благовещенского храма в Оксфорде. С 1980 редактор епархиального журнала Sourozh, глава епархиальной комиссии по переводу богослужебных текстов на английский. В 1991 овдовел. В 1993 по ходатайству митрополита Антония по пострижении в монашество хиротонисан в епископа Сергиевского, второго викария Сурожской епархии. В связи с уходом на покой митрополита Антония (за пять дней до его кончины) 30 июля 2003 назначен управляющим Сурожской епархией. Неоднократно посещал Россию, выступал с лекциями и докладами. Автор многих статей, из которых некоторые издавались в переводе на русский язык, и двух сборников проповедей. В 2006 перешел в юрисдикцию Константинопольского Патриарха. В 2010 г. сложил с себя сан.
Вениамин (Федченков) (1880—1961), митрополит. Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии. В эмиграции с 1920. Инспектор Свято-Сергиевского богословского института в Париже. После перехода митрополита Евлогия (Георгиевского) (см.) под юрисдикцию Константинопольского патриарха остался в подчинении Московскому Патриархату, в 1931 основал Трехсвятительское подворье в Париже. С 1933 Экзарх Русской православной церкви в США, во время второй мировой войны много потрудился для организации помощи России. В 1948 вернулся в Россию. Скончался на покое в Псково-Печерском монастыре.
Венсан де Поль — см. Винсент де Поль.
Вианне, Жан-Батист Мари (Арский кюре) (1786—1859), св. Католической Церкви, французский священник, служил в местечке Арс. К нему стекались тысячи людей, в последние годы жизни он исповедовал по 16—18 часов в день. Его служение по своему характеру сравнимо с русским старчеством. Причислен Католической Церковью к лику блаженных в 1905, канонизирован в 1925. День памяти 4 августа.
Вильямс Ч. — см. Уильямс Ч.
Винсент де Поль (Венсан де Поль) (1581—1660), св. Католической Церкви, французский священник. Проповедовал и служил среди бедноты. Совершая поездки по разным местностям Франции, повсюду основывал благотворительные миссии и учреждения, впоследствии объединенные в конгрегацию лазаристов. Основал также конгрегацию сестер милосердия. В 1729 причислен Католической Церковью к лику блаженных, в 1737 — к лику святых. День памяти 27 сентября.
Висер’т Хуфт, Виллем Адольф (1900—1985), первый секретарь Всемирного Совета Церквей, видный деятель экуменического движения.
Виталий (Устинов) (1910—2006), митрополит и первоиерарх Русской православной церкви заграницей. При отступлении Белой армии эмигрировал в Константинополь, затем в Югославию. Поступил в монастырь прп. Иова Почаевского, в г. Владимирова на Карпатах. Пострижен в 1939. В 1941 рукоположен в сан иеромонаха. С 1947 по 1951 настоятель прихода в Лондоне. В 2001 написал прошение Синоду об уходе на покой, которое было принято, но через некоторое время аннулировал свое прошение, вследствие чего Русская православная церковь заграницей разделилась на две части: одна продолжала считать своим главой митрополита Виталия, другая — избранного на его место митрополита Лавра.
Владимир Святославич, (в крещении Василий) (?—1015), св. равноапостольный, великий князь киевский. В 988—989 ввел христианство на Руси. Память 15 июля.
Галактион Емесский (Финикийский), мч. Пострадал в царствование Деция. Память 5 ноября.
Гаррет, Анна Ивановна (урожденная Даддингтон) (1913—1997), староста Успенского собора в Лондоне, занимавшая этот пост с 1974 до конца дней. В юности — руководитель, наряду с Андреем Блумом, будущим митрополитом Антонием, в летних молодежных лагерях во Франции.
Георг VI (1895—1952) король Великобритании с 1936.
Георгиу, Виргил (1916—1992), румынский франкоязычный писатель, православный священник (с 1963). С 1948 жил во Франции.
Глеб, страстотерпец (?—1015), князь муромский, сын великого князя Владимира Святославича (см.). Убит по приказу сводного брата Святополка Окаянного. Вместе с братом Борисом (см.) почитается заступником земли русской. Память 2 мая, 24 июля, 5 сентября.
Гоголев, Михаил (р. 1949), протоиерей, клирик Сурожской епархии.
Горичева, Татьяна Михайловна (р. 1947), православный философ и эссеист. Родилась в Ленинграде. Участница феминистского движения в Ленинграде. В 1980 выслана из СССР. Редактировала альманах «Беседы». После 1985 вернулась в Россию, живет в Санкт-Петербурге.
Го{'}торн, Натаниел (1804—1864), американский писатель-романтик.
Гофманшталь, Гуго, фон (1874—1929), австрийский писатель-неоромантик.
Григорий Богослов, Григорий Назианзин (ок. 330 — ок. 390), свт., ранневизантийский церковный деятель, богослов, проповедник и поэт. Получил блестящее философское и риторическое образование, которое завершил в Афинах, где подружился с Василием Великим (см.). Член каппадокийского кружка. Был епископом Сасимы, затем Назианза. В 379 был призван на епископство в Константинополь для борьбы с арианством и в 381 председательствовал на II Вселенском соборе, в том же году сложил с себя высокий сан и вернулся на родину. Как мыслитель сложился под влиянием платонизма, но как богослов достиг максимальной самостоятельности и отточенности догматических формулировок во всех вопросах, связанных с пониманием и почитанием Святой Троицы. Его «Пять слов о богословии» способствовали утверждению православного понимания Святого Духа как третьего Лица Святой Троицы. Также большое значение имеют его христологические сочинения, особенно его понимание обо{'}жения человека через причастность к обоженному уму Иисуса Христа-человека. Его литературное наследие, в особенности автобиографическая Песнь, надгробное слово о Василии Великом (см.) и письма, относясь к лучшим образцам византийской словесности, представляют собой первый в истории Церкви памятник внутренней жизни личности. Многие тексты Г. Б. вошли в состав православного богослужения. В памяти Православной церкви остался как один из трех величайших Отцов, «трех святителей». Память 25 января и 30 января.
Григорий Нисский (ок. 330 — ок. 395), свт., ранневизантийский церковный писатель, богослов и философ, епископ г. Ниса. Младший брат Василия Великого (см.) и друг Григория Богослова (см.), вместе с ними входил в каппадокийский кружок. Первоначальное образование получил под руководством Василия. Еще в большей мере, чем другие члены кружка, испытал влияние Платона и христианского платонизма Оригена, но остался на почве твердого православия. Ревностно отстаивал учение о Святой Троице на II Вселенском соборе и в продолжавшихся послесоборных спорах в Константинополе. В своих сочинениях, в основном написанных в последние годы жизни, сформулировал принципы христианского учения о Троице («Большое огласительное слово»), христологии («Против Евномия» в 12 книгах — самое большое и тщательное из византийских антиарианских сочинений), антропологии («Об устроении человека» — уникальный для византийского богословия труд, посвященный целиком этой проблеме) и др. Особняком стоят его экзегетические сочинения, построенные по принципу восхождения человеческой души к мистическому соединению с Богом («Жизнь Моисея», «Толкование на Песнь Песней»). В области эсхатологии придерживался учения Оригена об апокатастасисе и философски обосновал его. В памяти Церкви остался как величайший из богословов-философов, «отец отцов». Память 10 января.
Григорий Палама (1296—1359), свт., византийский богослов, митрополит г. Фессалоники. Систематизировал мистико-аскетическую традицию Византии (в особенности исихазм), дав ей окончательное философское и догматическое оформление. В полемике с Варлаамом Калабрийским защищал учение о нетварности фаворского света и в связи с этим сформулировал учение о Божественных энергиях, отличных от существа Бога. Память 14 ноября и в Неделю вторую Великого поста.
Гюго, Виктор Мари (1802—1885), французский писатель-романтик.
Даниелу, Жан (1905—1974), французский католический богослов, член ордена иезуитов (с 1929), кардинал (с 1969). Историк Церкви, преимущественно раннего христианства и ранней патристики. Впервые показал огромную роль иудаизма эпохи Второго Храма в становлении христианского богословия. Основатель наиболее авторитетной в научном мире серии изданий оригинальных текстов раннехристианских, патристических и средневековых писателей с французским переводом и комментариями — Sources Chretiennes.
Декарт, Рене (1596—1650), французский философ и математик. В основе философии Д. — дуализм души и тела, «мыслящей» и «протяженной» субстанции. Человек — связь безжизненного телесного механизма с душой, обладающей мышлением и волей («Мыслю, следовательно существую»). В учении о познании Д. — родоначальник рационализма. Основные труды: Рассуждение о методе; Начала философии.
Досифей (1721—1776), старец. Подвизался в затворе в Киево-Печерской лавре. Благословил Прохора Мошнина, будущего прп. Серафима, идти в Саровскую обитель. После кончины обнаружилось, что под именем инока Досифея скрывалась подвижница благочестия Дарья Тяпкина.
Достоевский, Федор Михайлович (1821—1881), русский писатель.
Евлогий (Георгиевский) (1868—1946), митрополит, глава послереволюционной русской православной диаспоры в Западной Европе. Окончил Московскую духовную академию. Принял монашество в 1895. Иеромонах (1895). Епископ Люблинский, викарий Холмско-Варшавской епархии (1903), епископ Холмский и Люблинский (1905). Член 2-й и 3-й Государственной Думы, от депутатства в 4-й Государственной Думе отказался. Архиепископ Волынский и Житомирский (1914). Участник Всероcсийского Церковного Собора 1917—1918, где был сторонником восстановления патриаршества. Покинул Россию в 1920. В 1921 назначен патриархом Тихоном управляющим русскими Западноевропейскими приходами (митрополит, 1922), занимал эту должность вплоть до кончины в 1946 (с 1931 в юрисдикции Константинопольского Патриархата, в 1945 воссоединился с Московским Патриархатом). Один из основателей и первый ректор (1925—1946) Свято-Сергиевского богословского института в Париже. Под омофором Е. развивалась деятельность РСХД (см. прим. на с. *), «Православного Дела» матери Марии. Был сторонником академической свободы богословских исследований, принимал активное участие в контактах с инославными христианами (в частности, был председателем православно-англиканского Содружества св. Албания и прп. Сергия). Посмертно изданы его воспоминания (Путь моей жизни. Изложение Т. Манухиной. Париж, 1947. 2-е изд.: М., Крутицкое подворье; Московский рабочий, 1994).
Евфимий (Кононов) (?—1964), архидьякон, служил на Трехсвятительском подворье Московской патриархии в Париже. Пострижен в 1914. Рукоположен в дьякона в 1918.
Елевферий (Богоявленский) (1870—1940), митрополит. Окончил Петербургскую духовную академию (1904). Епископ Ковенский (1911). Оказался в эмиграции в Литве в связи с изменением государственных границ. Митрополит Виленский и Литовский. До второй мировой войны окормлял эмигрантские приходы, подчинявшиеся митрополиту Сергию (Страгородскому) (см.).
Ельчанинов, Александр Викторович (1881—1934), православный священник, педагог. Уже в юности переживал духовные искания и стремился к служению в церкви, был другом Павла Флоренского (см.). С 1921 в эмиграции, принимал участие в деятельности РСХД (см. прим. на с. *). Как духовник оказывал очень большое влияние на эмигрантскую молодежь. Дневники и письма Е. после его смерти собраны в книгу «Записи», открывающую даже неискушенному читателю возможность заглянуть в духовную жизнь подлинного христианина.
Епистимия Емесская (Финикийская), мц. Пострадала в царствование Деция. Память 5 ноября.
Ерм (Герма, Ерма), неизвестный христианский писатель II в., которому приписывается авторство раннехристианского сочинения «Пастырь», входящего в корпус творений мужей апостольских. Это сочинение, представляющее собой серию видений и их мистических толкований, оказало большое влияние на становление христианской Церкви. Иногда Ерм отождествляется с Ермом, упомянутым в Рим 16:14, а иногда, в соответствии с «Каноном Муратори», с неким Ермом — братом римского епископа Пия, но под этими отождествлениями нет надежной научной базы.
Ефрем Сирин (ок. 306—373), прп., раннесирийский богослов, поэт-гимнограф, классик сирийской литературы. Родился в Низибии в христианской семье, был рукоположен в дьякона, но отказался стать священником и епископом. В 363 после захвата Низибии персами убежал в Эдессу, где прожил до самой смерти и основал христианскую школу. Его богословие, отразившееся как в экзегетических и аскетических трактатах, так и в большей мере в песнопениях, частично вошедших в сирийские литургии, необычайно оригинально. Оно практически не затронуто влиянием греческой культуры и главным образом построено на библейском мышлении, а также связано и с послебиблейской иудейской мыслью. Его отличает радикальное представление о реальности зла и о царственной свободе человека выбирать между добром и злом. Отстаивал учение о Святом Духе как о Третьем Лице Святой Троицы, понимая обо{'}жение как приобщение Святому Духу, прежде всего в Евхаристии. Его книги, в особенности стихи, переводились на множество языков. В Сирийской Церкви почитается как «господин», «пророк», «учитель мира», «столп Церкви» и «арфа Святого Духа». Память 28 января.
Жанэ, Пьер (1859—1947), французский психолог и психопатолог.
Зандер, Лев Александрович (1893—1964), русский философ и богослов, общественный деятель. Генеральный секретарь РСХД (см. прим. на с. *), профессор и один из основателей Свято-Сергиевского богословского института в Париже, видный участник экуменического движения, один из руководителей Содружества св. Албания и прп. Сергия.
Заханевич, Василий (1899—1939), православный священник. В эмиграции в Болгарии, затем во Франции. Служил на разных приходах, последний — Трехсвятительское подворье в юрисдикции Московской патриархии.
Игнатий Богоносец (ок. 35 — ок. 107), сщмч., по преданию, второй епископ Антиохии. При императоре Траяне в связи с возмущением народа в Антиохии был арестован, отправлен под конвоем в Рим и там казнен. Во время путешествия написал 7 посланий. В этих посланиях содержится по существу первая христология (учение о предвечном Слове-Сыне), первая экклезиология (учение о единстве епископа и народа) и первое мистическое учение о мученичестве (Послание к Римлянам). Послания входят в корпус творений мужей апостольских. Память 29 января, 20 декабря.
Ильин, Владимир Николаевич (1891—1974), русский богослов, музыковед, педагог. С 1919 в эмиграции, с 1925 профессор Свято-Сергиевского богословского института в Париже.
Иоанн (Вендланд) (1909—1989), митрополит Ярославский и Ростовский. В 1936 пострижен в монашество, рукоположен в иеродьякона, затем в иеромонаха. В 1958 хиротонисан в епископа Подольского; представитель Русской православной церкви при Патриархе Антиохийском. С 1960 — Экзарх Московской Патриархии в Центральной Европе, затем — в Северной и Южной Америке.
Иоанн Дамаскин (ок. 650 — до 754), прп., византийский богослов, философ, церковный поэт. Возможно, происходил из арабской христианской семьи. Получил энциклопедическое образование. Выступал как ведущий идейный противник иконоборчества, систематизировал наследие ранневизантийской церковной мысли. Главное сочинение И. Д. — «Источник знания» — представляет собой свод философских и богословских сведений, выросший на почве православного аристотелизма. В памяти Церкви И. Д. остался прежде всего как гениальный поэт, творец песнопений на упокоение души, ему также приписываются около 64 канонов, в том числе Пасхальный канон, каноны на Рождество Христово, на Богоявление, на Вознесение, а также Октоих. Память 4 декабря.
Иоанн Златоуст (ок. 347—407), свт., архиепископ Константинопольский, ранневизантийский церковный деятель, проповедник (за красноречие он и получил прозвище), гимнограф. Родился в Антиохии в аристократической семье, получил блестящее образование. Став священником в 386, приобрел большую известность как проповедник. Его проповеди уникальны по стремлению воплотить в жизнь Византийской империи раннехристианский нравственный и социальный идеал в его наиболее радикальных формах, вплоть до общности имущества и освобождения рабов. В 398 против своей воли был избран архиепископом Константинополя. Здесь он открывал больницы и приюты, обращался ко двору, столичной знати и клиру с призывом служить бедным, как служат литургию («нищий как священник, второй Христос»). Обличая ереси, отказывался от помощи светской власти в борьбе с ними. Все это вызвало недовольство императрицы Евдоксии и верхушки клира, и в 403 И. З. был лишен сана и отправлен в ссылку, где вскоре умер. Литературное наследие И. З. огромно. Сохранились 804 проповеди И. З., а также толкования на Св. Писание, признанные образцом экзегетической проповеди. Создатель одного из трех принятых в настоящее время в Православной церкви чинов Божественной литургии. В памяти Православной церкви остался как один из трех величайших Отцов, «трех святителей». Память 27 января, 30 января, 14 сентября и 13 ноября.
Иоанн Кассиан (ок. 360 — после 430), прп., основатель монашества в Галлии. Странствовал по монастырям и скитам Египта, изучая правила и обычаи монашества, позднее поселился в Массилии (Марселе), где основал мужской и женский монастыри. Благодаря страннической жизни, греческому и латинскому образованию и равной укорененности в восточной и западной духовной традиции, сумел органично перенести на Запад восточное понимание монашества. Написал 12 книг «О постановлениях киновий палестинских и египетских», которые были использованы св. Бенедиктом как основа для составления монашеского устава, и 24 «Собеседования» с египетскими отцами-пустынниками. Память 29 февраля.
Иоанн Колов, прп., египетский пустынник первой половины V в., ученик прп. Пимена Великого, наставник прп. Арсения Великого (см.). Память 9 ноября.
Иоанн Кронштадтский (Сергиев Иоанн Ильич) (1829—1908), св. праведный, протоиерей, духовный писатель. Был настоятелем Андреевского собора в Кронштадте. Пользовался огромной популярностью как проповедник, духовник и целитель, обладал даром прозорливости. Среди его обширного наследия наиболее известна книга «Моя жизнь во Христе». Память 20 декабря.
Иоанн Лествичник (ок. 570 — ок. 649), прп., византийский христианский писатель, монах-отшельник. Около 40 лет провел в пустыне, в конце жизни был избран настоятелем монастыря на Синае. Автор аскетико-дидактического трактата «Лествица, возводящая к небесам» о 30 ступенях на пути духовного самосовершенствования и о подстерегающих монаха духовных опасностях. Этот трактат, представляющий собой синтез опыта многовековой монашеской традиции, получил широчайшее распространение. Память 30 марта и в Неделю четвертую Великого поста.
Иоанн Мосх (ок. 550 — между 619 и 634), византийский духовный писатель. Вместе со своим учеником Софронием, будущим патриархом иерусалимским, путешествовал по монастырям Египта, Синая, Антиохии. Составил сборник рассказов о жизни отцов-пустынников, известный под названием «Луг духовный», оказавший большое влияние на всю позднейшую христианскую культуру (в том числе и на русскую литературу).
Ириней Лионский (ок. 130 — ок. 200), сщмч., первый христианский богослов после апостольского века, епископ г. Лиона. Родился в Малой Азии, учился у епископа Поликарпа Смирнского, который был непосредственным учеником Иоанна Богослова. По преданию, был замучен во время гонений Септимия Севера. Из его обширного литературного наследия (он автор первого христианского сборника проповедей, множества посланий, примиряющих различные церковные конфликты, в особенности между Востоком и Западом) целиком дошло до нас в латинском переводе «Против ересей» в 5 книгах. В этом сочинении И. Л. впервые формулирует понятие о церковном Предании, то есть о личной связи с Господом через апостолов как критерии правоверия. Он приравнивает Предание по авторитетности к Св. Писанию (в которое у него впервые входит не только Ветхий, но и Новый Завет). В учении о рекапитуляции («возглавлении») он придает истории смысл постепенного участия всего человечества в воплощении Сына Божьего, так что она должна завершиться всецелым обо{'}жением твари. Память 23 августа.
Исаак Сирин, Исаак Ниневийский (ум. в конце VII в.), прп., христианский сирийский писатель, монах-отшельник. Около 676, уже будучи монахом и признанным духовным наставником, был избран епископом г. Ниневии, однако из-за несогласия некоего пришедшего к нему на суд заимодавца, следуя Евангелию, потерпеть долг оставил кафедру и вернулся к отшельничеству. Ослепнув в конце жизни, пришел в монастырь Раббан Шаббур, где продиктовал по-сирийски свои труды. Вскоре после его смерти они были переведены на множество языков. В его «Словах подвижнических» углубленный аскетический психологизм, впитавший в себя всю традицию монашеской духовности, сочетается с уникальным пониманием состояния просветленного созерцания как «возгорения сердца» о всей твари, даже о гадах и бесах. Это выражается в молитвенном (хотя и не догматическом) чаянии всеобщего спасения. В этом И. С. оказал влияние не только на афонское, коптское и др. монашество, но и на светскую культуру, в первую очередь на русскую литературу (в особенности на Достоевского) и русских религиозных мыслителей XIX—XX вв. Память 28 января.
Иустин Философ, Иустин Мученик (ок. 100 — ок. 165), св., раннехристианский апологет. Родился в Палестине в состоятельной крестьянской семье латинского происхождения, писал по-гречески. Вел жизнь странствующего философа, ок. 130 обратился в христианство, основал в Риме христианскую философскую школу. С шестью учениками был казнен по доносу завистника. Его учение, более всего выраженное в двух обширных апологиях, описывает христианство как наилучшую, истинную философию. Испытал влияние платонизма и Стои, в связи с чем учил, что каждое человеческое существо таит в себе семя предвечного Слова. В «Диалоге с Трифоном Иудеем» (его третье сохранившееся сочинение) выстраивает образцы языческой мудрости и еще более «образы» Библии как предвестия Воплощения. Апологии также содержат ценные сведения о первохристианстве. Память 1 июня.
Кабанис, Пьер (1757—1808), французский философ, врач. Утверждал, что мышление — такой же продукт мозга, как желчь — продукт печени.
Катанский, Александр Львович (1836—1919), профессор Санкт-Петербургской духовной академии по кафедре догматического богословия (1867—1896). Основные труды: Догматическое учение о семи церковных таинствах. СПб., 1877 (докторская диссертация); Очерк истории литургии нашей Православной церкви. СПб., 1868; Очерк истории древних национальных литургий Запада. СПб., 1870; Учение святых Отцов церкви трех первых веков о таинствах. СПб., 1879.
Кёниг, Франц (1905—2004), кардинал, католический богослов, библеист. В 1956—1985 венский архиепископ. Сторонник диалога с Восточными Церквами, одна из ключевых фигур II Ватиканского собора.
Клеман, Оливье (р. 1921), французский православный богослов. Родился в атеистический семье. По образованию историк. Внутренний поиск привел К. к христианству. Под влиянием В. Лосского, П. Евдокимова крестился в Православной церкви. Профессор Свято-Сергиевского богословского института. Внес значительный вклад в исследование отцов древней Церкви, поставил их в контекст современности. Своими трудами, в частности книгой «Беседы с патриархом Афинагором», содействовал знакомству западных церквей с Православной церковью и богословием.
Ковалевский, Евграф Евграфович (1906—1970), богослов, священник, иконописец, церковный музыкант. С братьями Максимом и Петром (см.) в эмиграции с 1920. Основатель и ректор Православного института св. Дионисия в Париже. Церковный реформатор и новатор, отошел от канонического общения с Русской православной церковью, объявив себя епископом Иоанном, главой «Православной церкви Франции».
Ковалевский, Максим Евграфович (1903—1988), церковный и музыкальный деятель, композитор, математик.
Ковалевский, Петр Евграфович (1901—1978), доктор историко-филологических наук. Руководитель РСХД (см. прим. на с. *). Активный участник церковной общественной жизни русского Парижа.
Константин Великий, Флавий Валерий (ок. 285 — 337), св. равноапостольный, римский император. Положил конец гонениям на христианство, сначала включив его в ряд признаваемых государством религий (Миланский эдикт, 313), а затем провозгласив государственной религией Рима. Объединил под своей властью римскую империю и перенес столицу в Византию — Константинополь (330). Активно участвовал в делах церкви, вникал в догматические споры, созвал I Вселенский собор в 325 и, еще не будучи крещен (крестился перед смертью), председательствовал на нем. Издал ряд эдиктов, проникнутых духом христианской благотворительности: смягчил уголовное и налоговое право, облегчил условия рабства, запретил детоубийство и проч. Дал церкви многочисленные привилегии. Назначил воскресенье официальным праздничным днем. Подготовил почву для византийской концепции императора как главы церкви. Память 21 мая.
Кюнг, Ханс (р. 1928), католический священник, либеральный богослов. Профессор католического богословия в Тюбингенском университете (1960), директор созданного при университете Института экуменических исследований (1963). Советник на II Ватиканском соборе. Позднее выступал с критикой доктрины и практики папской учительной непогрешимости. В 1979 лишен Ватиканом права преподавать католическое вероучение. Продолжил работу в Институте экуменических исследований вплоть до своей отставки в 1996. В 1980—1990-е обращается к исследованию мировых религий и проблем межрелигиозного диалога. Один из вдохновителей создания «всемирной этики». Русские переводы книг К. «Быть христианином» (1974) и «Существует ли Бог?» (1978, русск. пер. 1982) распространялись в самиздате, но позднее переизданы не были.
Кюри, Морис (1888—1946), французский физик, автор работ по флуоресценции, фотолюминесценции, радиологии. Племянник Пьера Кюри.
Лактанций, Луций Цецилий Фирмиан (ок. 250 — ок. 325), христианский писатель, философ, апологет. Родился в языческой семье, получил классическое образование, был придворным ритором в Никомедии — резиденции Диоклетиана (там, еще до гонений, обратился в христианство), а затем при Констанции Хлоре. Был учителем сына Константина Великого (см.) Криспа. Самое значительное из его сочинений — апологетический трактат в 7 книгах «Божественные установления», в котором он опровергает принципы языческой философии и доказывает истинность христианства. Будучи личным свидетелем гонений Диоклетиана, его отречения, гражданской войны и торжества Константина, составил одно из первых сочинений христианской историографии, небольшой трактат «О смерти преследователей».
Лев (Жилле) (1893—1980), архимандрит. Монах-бенедиктинец, был принят в общение с Православной церковью митрополитом Евлогием (Георгиевским) (см.) в 1928. Один из зачинателей франкоязычного православия, сотрудник матери Марии (см.). С 1938 жил в Англии, был духовным руководителем Содружества св. Албания и прп. Сергия.
Ленин (Ульянов), Владимир Ильич (1870—1924), политический деятель, первый руководитель советского государства.
Лесков, Николай Семенович (1831—1895), русский писатель.
Ли, Иоанн (Lee) (р. 1938), протоиерей. Рукоположен в священника митрополитом Антонием в 1979. С 2003 по 2006 настоятель Лондонского Успенского собора.
Лосский, Владимир Николаевич (1903—1958), русский богослов, историк церкви. В 1922 вместе с отцом Н. О. Лосским был выслан из России. В 1927 окончил Сорбонну. Во время второй мировой войны был активным участником движения Сопротивления. С 1942 — член Национального центра научных исследований, с 1949 — профессор догматики в Православном институте св. Дионисия в Париже. Активный член Содружества св. Албания и прп. Сергия. Автор книг по истории богословской мысли («Мистическое богословие Восточной Церкви», «Догматическое богословие» и др.) и небольших оригинальных богословских трудов, таких, как «Боговидение», «Богословие образа», «Господство и царство» и др. В своих трудах Л. систематизировал византийскую богословскую традицию, пользуясь достижениями историко-филологических методов, выявил своеобразие восточной богословской мысли и показал ее влияние на богословскую мысль Запада.
Льюис, Клайв Стейплз (1898—1963), английский филолог-медиевист, христианский писатель-апологет. Был одним из членов кружка «инклингов», в который входили Дж. Р. Р. Толкиен, Ч. Уильямс (см.) и др. Автор трактатов «Просто христианство», «Любовь», «Страдание» и др. Широкую популярность приобрели повести-притчи Л. «Письма Баламута», «Расторжение брака» и цикл сказок «Хроники Нарнии».
Маймонид, Моисей (Моше бен Маймон, Рамбам) (1135 или 1138 —1204), крупнейший еврейский философ-рационалист, комментатор Талмуда.
Макарий Великий, Макарий Египетский (ок. 300 — ок. 390), прп., христианский монах-отшельник, пресвитер. Примерно в возрасте 30 лет удалился в пустыню. Основал монашескую общину, ставшую центром египетского монашества. За кротость и смирение был прозван «отроком-старцем». Испытал заметное влияние Антония Великого (см.), был преданным сторонником Афанасия Великого (см.) в борьбе с арианством. Традиция приписывает ему 50 бесед и 7 слов, содержащих аскетические наставления. Некоторые наставления М. В. вошли в Добротолюбие. Память 19 января.
Максим Исповедник (ок. 580 — 662), прп., византийский богослов, монах, церковный деятель. По одной версии, происходил из знатной семьи и был секретарем императора Ираклия, а по другой — был сиротой и воспитывался в палестинском монастыре. При персидском вторжении бежал в Карфаген, где написал основные свои сочинения и прославился как непримиримый борец против монофелитства. Эта доктрина, представляющая собой более тонкий вариант монофизитства, утверждает наличие в Богочеловеке Христе лишь одной воли — Божественной. Она была продиктована имперской политикой, поскольку для борьбы с Персией, а затем с исламом Византия нуждалась в мире с восточными провинциями, исповедовавшими монофизитство. Единственным союзником М. И. в борьбе с имперским монофелитством был римский папа Мартин. В 653 они оба были арестованы и привезены в Константинополь; папа Мартин был сослан в Крым (где умер в 665), а М. И. в 662 подвергнут отсечению языка и правой руки и умер в ссылке на Кавказе. Защищаемое им православие победило через 18 лет после его смерти на VI Вселенском соборе. Философские взгляды М. И. окрашены сильным влиянием Дионисия Ареопагита, которое он уравновесил аристотелизмом. В своих многочисленных сочинениях, прежде всего в «Вопросоответах к Фалассию», «Сотницах о любви» и «Мистагогии» (мистическом комментарии к Божественной литургии), осуществил синтез восточной и западной богословской мысли, доказывая, что для искупительной жертвы Христа достаточно было не поглощения, но свободного согласия человеческой и Божественной воли, утвердил человеческое измерение в христианстве, неотменимость человеческой природы и непреложность ее будущего обо{'}жения. Память 21 января, 13 августа.
Мантуров, Михаил Васильевич (1796—1858), духовный сын прп. Серафима Саровского, помещик, строитель Дивеевского монастыря.
Мария Египетская (V в.), прп., отшельница. По преданию, была блудницей, присоединилась к паломникам, шедшим в Иерусалим, там под влиянием чуда (невидимая преграда не позволила ей войти в храм) пережила духовное возрождение и провела 47 лет в покаянии в заиорданской пустыне. Память 1 апреля и в Неделю пятую Великого поста.
Мария (Скобцова, в первом браке Кузьмина-Караваева, урожденная Пиленко, Елизавета Юрьевна) (1891—1945), прпмц., монахиня, поэт, богослов, общественный деятель. Родилась в Анапе, училась на философском отделении Бестужевских курсов в Санкт-Петербурге, входила в круг деятелей культуры Серебряного века, дружила с А. Блоком. Была членом партии социалистов-революционеров, в 1918 стала городским головой Анапы. С 1923 в эмиграции в Париже. Активная участница РСХД (см. прим. на с. *). В 1932 приняла монашеский постриг. Устроила несколько домов-общежитий и столовых для русских беженцев. В 1935 совместно с о. Сергием Булгаковым (см.), Н. Бердяевым (см.), Г. Федотовым (см.) и др. создала движение «Православное дело», сочетавшее в себе практическое служение людям и творческую культурную работу. Во время войны члены движения прятали и спасали евреев и бежавших военнопленных. В 1943 их арестовало гестапо. М. погибла в концлагере Равенсбрюк 31 марта 1945. Наследие М. до сих пор не полностью разыскано и опубликовано, но и то, что известно, весьма разнообразно как по форме (стихи, которые она продолжала публиковать будучи монахиней, стихотворные драмы-мистерии, художественная проза, воспоминания, многочисленные статьи и эссе), так и по содержанию (статьи затрагивают самые разные вопросы от положения русских безработных до мистики крестоношения Богоматери). Во всем этом разнообразии прослеживается единая тема о возможности преображения практической повседневности отдельного человека в богослужебное литургическое общение всех людей через радикальный отказ от себя. Канонизирована Константинопольским Патриархатом в 2004. Память 20 июля.
Марк Подвижник (Аскет) (IV в.), прп., игумен монастыря в Галатии, затем отшельник египетской пустыни. Оставил ряд аскетических и мистических сочинений («О крещении», «О покаянии», «О Мелхиседеке» и др.). Его подвижнические наставления вошли в Добротолюбие. Память в среду Светлой седмицы (Собор Синайских преподобных).
Марцинковский, Владимир Филимонович (1884—1971), христианский проповедник, миссионер, педагог. Руководил студенческими кружками по изучению Библии и христианской литературы, читал лекции о христианстве в университетах, на заводах, в тюрьмах. В годы революции участвовал в публичных диспутах с Луначарским и другими активными безбожниками. В 1923 был изгнан из СССР. С 1930 жил в Палестине, проповедовал Евангелие евреям и арабам, писал книги. До самой смерти был руководителем христианской общины в Хайфе.
Мермийо, Гаспар (1824—1892), католический епископ в Швейцарии, кардинал.
Мефодий Патарский (Олимпийский) (ум. ок. 311), сщмч., епископ, раннехристианский писатель. О его жизни сохранилось мало сведений. Известно, что он был епископом в Ликии и Тире, претерпел мученическую смерть при Диоклетиане. Один из первых противников Оригена. От его обширного наследия до наших дней дошло лишь немногое; по-гречески полностью сохранился только трактат-диалог «Пир десяти дев». Диалоги «О свободе воли, против валентиниан» и «О воскресении» сохранились в отрывках. Как богослов сложился под влиянием сщмч. Иринея Лионского (см.). В христологических и тринитарых формулировках предвосхитил догматику соборов IV—V вв. В этом, а также в реализме представления о телесности, моральном ригоризме и красоте слога напоминает Тертуллиана (см.), но свободен от его крайностей и, в отличие от него, как философ испытал влияние греческой философии, прежде всего Платона. Память 20 июня.
Милль, Джон Стюарт (1806—1873), английский философ и экономист, идеолог либерализма. Основатель английского позитивизма. Основные труды: Система логики; Основания политической экономии.
Моисей, авва, один из Отцов, о которых рассказывает Древний патерик. Биографических данных нет.
Монтень, Мишель де (1533—1592), классик французской литературы, философ-гуманист. Главный труд: книга эссе «Опыты».
Мотовилов, Николай Александрович (1809—1879), симбирский помещик и совестный судья, исцеленный прп. Серафимом Саровским (см.). Записал беседы с прп. Серафимом, впоследствии обработанные и изданные С. А. Нилусом.
Моуди, Дуайт Лаймен (1837—1899), американский миссионер, член Конгрегационной Церкви. Организовал ежегодные библейские студенческие конференции, ассоциацию по изданию дешевой религиозной литературы.
Моффат, Джеймс (1870—1944), библеист, специалист по Новому Завету. Его перевод Нового Завета (1913, пересмотренное издание в 1935) тяготеет к разговорному языку. Редактор 17-томного комментария к Новому Завету.
Назарий (Кондратьев Николай Кондратьевич) (1735—1809), настоятель Валаамского Спасо-Преображенского монастыря (1782—1801). Автор «Старческого наставления».
Нестор Летописец (конец XI — начало XII вв.), прп., монах Киево-Печерского монастыря, писатель. Автор житий Бориса и Глеба, Феодосия Печерского. Традиция приписывает ему авторство первой редакции «Повести временных лет». Память 28 сентября, 27 октября.
Николай (Велимирович) (1880—1956), свт., епископ Охридский и Жичский, духовный писатель. Сын сербского крестьянина. Окончил Белградскую семинарию, Бернский старокатолический факультет, философский факультет Оксфордского университета. После тяжелой болезни принял монашество. Во время первой мировой войны был послан правительством Сербии в Англию и США разъяснять общественности этих стран, за что борется Сербия. В 1920 хиротонисан в епископа Охридского. Своими трудами много содействовал религиозному пробуждению народа. Во время второй мировой войны по личному распоряжению Гитлера отправлен в концлагерь Дахау. После войны поселился в США. В 1991 его останки были возвращены на родину. Канонизирован Архиерейским собором Сербской православной церкви в 2003. Труды: Охридский пролог; Миссионерские письма; О Боге и людях; Феодул, или Раб Божий; Из окна темницы и др.
Николай (Еремин) (1892—1985), митрополит, Экзарх Патриарха Московского в Западной Европе в 1954—1963. Окончил Свято-Сергиевский богословский институт в Париже, служил при его храме дьяконом, затем священником. В 1945 пострижен в монашество. В том же году вместе со всем клиром вошел в юрисдикцию Московской Патриархии. Настоятель Трехсвятительского подворья в Париже. С 1953 — епископ Клишийский. В 1954 возведен в сан архиепископа и назначен Экзархом Патриарха Московского в Западной Европе. В 1960 возведен в сан митрополита с присвоением титула Корсунского. В 1963 по собственной просьбе уволен на покой.
Николай Кавасила (ок. 1320 — ок. 1390), византийский богослов. Жил в миру. Принимал участие в общественной жизни, окормлял многих духовных детей. Принадлежал к исихастской традиции богословия, распространял ее среди мирян, обогатил особым видением участия Матери Божией в Воплощении. Основные труды: Семь слов о жизни во Христе; Изъяснение Божественной литургии; Богородичные гомилии. В 1982 г. причислен Элладской Церковью к лику святых. Память 20 июня.
Николай (Ярушевич) (1892—1961), митрополит Крутицкий и Коломенский. Ближайший помощник Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского), затем патриарха, и патриарха Алексия (Симанского), председатель Издательского отдела Московской Патриархии, председатель созданного в 1946 Отдела внешних церковных сношений. Известный проповедник. В последний год жизни был отстранен от церковной деятельности.
Ницше, Фридрих (1844—1900), немецкий философ, предшественник экзистенциализма, поэт.
Павел Препростой, прп. Жил в IV в. Память 7 марта, 4 октября.
Паскаль, Блез (1623—1662), французский математик, физик, христианский философ и писатель.
Пафнутий Боровский (Парфений Иоаннович), прп. (ок. 1395 — 1479), игумен. Принял монашеский постриг в Покровском Высоцком монастыре, был избран настоятелем, несколько лет провел в пустыне, затем основал монастырь близ Боровска. Память 1 мая.
По, Эдгар Аллан (1809—1849), американский писатель-романтик, поэт, критик.
Пюри, Ролан де (1907—1976), французский протестантский пастор, писатель, ученик К. Барта. Родился в Женеве, участник антифашистского Сопротивления, укрывал евреев, в 1943 арестован гестапо и провел 5 месяцев в заключении. Известен главным образом «Тюремным дневником», написал также несколько богословских трудов.
Пьянов, Федор Тимофеевич (1889—1969), один из руководителей РСХД (см. прим. на с. *) сначала в Германии (1923—1927), а затем во Франции (1927—1935). К середине 1930-х стал помощником матери Марии (см.) и секретарем основанной ею церковной организации помощи русским эмигрантам «Православное дело». Принимал участие в Сопротивлении. В 1943 арестован гестапо вместе с о. Димитрием Клепининым. С 1945, после освобождения из лагеря, был директором русского дома престарелых в Нуази-ле-Гран под Парижем.
Рамзей, Артур Майкл (1904—1988), английский богослов, церковный деятель, педагог. С 1961 по 1974 — архиепископ Кентерберийский. Установил широкие экуменические связи, в том числе с патриархом Константинопольским Афинагором и папой Павлом VI. Участник движения Библейского богословия; завоевал широкую известность как автор трудов о духовной жизни, в которых он призывает христиан, особенно духовенство, к возрождению созерцательной молитвы.
Рафаэль, Санти (1483—1520), итальянский художник.
Рембрандт, Харменс ван Рейн (1606—1669), голландский художник.
Сартр, Жан Поль (1905—1980), французский философ-экзистенциалист, прозаик и драматург. Участник Сопротивления. В течение долгого времени член коммунистической партии Франции, затем вышел из нее. Основатель французского атеистического экзистенциализма, популяризатор философии Хайдеггера во Франции («Бытие и Ничто»). Один из самых влиятельных французских мыслителей ХХ в.
Серафим Саровский (Мошнин Прохор Исидорович) (1759—1833), прп., иеромонах, православный подвижник, старец. Родился в купеческой семье. В 1778 поступил в Саровскую обитель, в 1793 рукоположен. Всю монашескую жизнь провел в строгом посте, молитве и труде, долгие годы — в затворе. Преобразовал Дивеевскую обитель, духовно руководил Ардатовским и Спасо-Зеленогорским женскими монастырями. В последние годы к его келье стекалось множество людей разных сословий, чтобы получить наставление, совет, исцеление. В центре проповеди С. С. было учение о стяжании Святого Духа как цели христианской жизни. Он соединяет в себе черты глубокой традиционности со смелым пророческим обетованием нового — призывом к радости и явленной во плоти тайной преображения. После огромного перерыва — первый канонизированный святой, не имевший епископского сана, один из самых почитаемых святых нового времени. Причислен к лику святых в 1903. Память 2 января, 19 июля.
Сергий Радонежский (Варфоломей Кириллович) (между 1314 и 1322 — 1392), прп., подвижник, мистик, основатель общежительного монашества на Руси. Принадлежал к боярскому роду. Ок. 1335 устроил пустынь посреди глухого Радонежского бора, поставил там церковь Святой Троицы, принял монашеский постриг. Вначале жил в полном одиночестве и делил хлеб с медведем. Вскоре обитель стала разрастаться, и с 1354, понуждаемый братией, С. Р. стал ее игуменом и по совету Константинопольского патриарха Филофея принял в монастыре общежительный устав. Житие подчеркивает простоту С. Р., смирение и любовь к братьям, сообщает о чудесах и об избытке благодати, излившейся по его молитвам на монастырь и учеников. Созерцатель и отшельник по призванию, он тем не менее принял деятельное участие в жизни русской Церкви и народа: возродил монашество и содействовал освобождению Руси от татаро-монгольского ига. Богословие С. Р. не было им сформулировано в виде догматического учения и почти не выражено в словах, однако в нем творчески синтезировались троические богословские искания предыдущих веков. С. Р. открыл новый путь созерцания Божественного единства, который в совершенстве выразился в иконе Троицы его ученика прп. Андрея (Рублева), и воплотил это единство в совместном житии братьев в любви и единомыслии. Наиболее почитаемый русский святой. Причислен к лику святых в 1452. Память 5 июля, 25 сентября.
Сергий (Страгородский) (1867—1944), патриарх Московский и всея Руси.
Сесброн, Жильбер (1913—1979), французский писатель. Каждая его книга посвящена одной из болевых точек нашего времени.
Силуан Афонский (Антонов Семен Иванович) (1866—1938), прп., старец, подвижник. Родился в крестьянской семье, приехал на Афон, где был пострижен в мантию в 1896, в схиму — в 1911. Его учение, донесенное до читателя схиархимандритом Софронием (см.), содержит в себе все основные черты монашеской аскетической традиции, но дополняется требованием непрестанной молитвы за весь мир, любовью к врагам как критерием правоверия и ободряющим вниманием к духовному опустошению секуляризованного современника. Христос в видении сказал С. А.: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся». Причислен к лику святых Константинопольским патриархатом в 1988. Память 11 сентября.
Симеон Метафраст, св. (? — ок. 960), византийский агиограф. Написал и обработал множество ранее существовавших житий святых. Греческой церковью причтен к лику святых. Память 27 ноября.
Симеон Новый Богослов (949—1022), прп., византийский мистик, богослов, поэт. Родился в знатной семье, получил воспитание при константинопольском дворе. В 20 лет оставил двор и удалился в Студийскую обитель, ок. 980 стал игуменом монастыря св. Маманта в Константинополе. В 1005 был выслан из столицы, последние годы жизни провел в Малой Азии. С. Н. Б. занимает совершенно особое место в истории восточнохристианской духовной жизни. С одной стороны, он принадлежит к великой мистической традиции умного делания — Иисусовой молитвы, с другой — он единственный из средневековых православных мистиков, который говорит о собственном, личном внутреннем опыте, о своих видениях и противопоставляет духовный опыт мистической жизни традиционным церковным установлениям. В трудах С. Н. Б. (в первую очередь в «Божественных гимнах», но также и в «Деятельных и богословских главах») отразился опыт посетившего его озарения. В них также ярко выражен реализм христоцентрической мистики, в особенности реализм таинства. Память 12 марта.
Соловьев, Владимир Сергеевич (1953—1900), философ, поэт, публицист, родоначальник русской религиозной философии, создатель поэтического символизма, один из предшественников религиозного экзистенциализма. В центре философской системы С. находится религиозно-антропологическая проблема богочеловечества — личного и общественного спасения человека в сотрудничестве с Богом. Разрабатывая систему метафизических гарантий спасения, С. приходит к концепции положительного всеединства, «полной свободы составных частей в совершенном единстве целого». Гносеологический аспект этой концепции — теория «цельного знания», то есть познание Абсолютного. Единство всех живых элементов творения С. определяет мифо-поэтическим понятием мировой души, которую иногда отождествляет с Софией, а иногда характеризует как бессознательное стремление к единству, как потенциальную личность. София — вечно женственное начало Божества, мистическое тело Логоса — и вместе с тем идеальный совокупный человек. Этика и эстетика С. тесно связаны с философией эроса. Свобода человека реализуется во-первых в любви, а во-вторых — в нравственном поступке. Любовь осознается С. как спасение человеческой индивидуальности через жертву эгоизма благодаря перенесению центра личной жизни из себя в другого («Смысл любви»). В личности Христа С. видит свидетельство и гарантию окончательного торжества добра на земле. Основные труды: Критика отвлеченных начал; Чтения о богочеловечестве; Оправдание добра.
Софроний (Сахаров Сергей Семенович) (1896—1993), схиархимандрит. Афонский монах, ученик старца Силуана (см.), автор книги «Жизнь и учение старца Силуана. Писания старца Силуана». С 1960 руководитель монашеской общины в Англии.
Сталин (Джугашвили), Иосиф Виссарионович (1878—1953), руководитель советского государства в 1924—1953.
Тейяр де Шарден, Пьер (1881—1955), геолог, палеонтолог, философ, католический богослов, член ордена иезуитов, священник. Преподавал геологию в Католическом институте в Париже (1922—1926), но был отстранен за неортодоксальные воззрения. Долгие годы (с 1929) провел в Китае, где стал одним из открывателей синантропа близ Пекина. В 1946 вернулся в Париж и безуспешно пытался добиться разрешения опубликовать свои философские и теологические сочинения. С 1952 сотрудник Фонда антропологических исследований в Нью-Йорке, где и умер. Пытался осуществить синтез христианского учения и теории космической эволюции, развивая концепцию «христианского эволюционизма». Труды: Le Phйnomиne Humain (1946; русск. пер.: Феномен человека. М., 1987; полное изд. М., 2001); Le Milieu Divin (1957; русск. пер.: Божественная среда. М., Renaissanсe, 1992) и др.
Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — ок. 225), раннехристианский мыслитель и писатель, первый из великих богословов, писавший по-латыни. О жизни Т. почти ничего не известно. Он родился в языческой семье, жил в Карфагене, изучал юриспруденцию, обратился в христианство, в начале III в. примкнул к монтанизму, а затем основал внутри него собственное движение. Автор апологетических, догматических, полемических и аскетических трактатов, из них сохранился 31 трактат. Т. ввел важнейшие термины — trinitas (Троица), persona (Лицо), substantia (сущность) и разработал некоторые тринитарные и христологические формулы, предвосхитившие соборные определения IV—V вв. Испытав сильное влияние стоицизма и будучи практически не затронут платонизмом (и то, и другое уникально для патристики), Т. строит (прежде всего в трактатах «Против Гермогена» и «Против Маркиона») учение о том, что Бог сотворил мир из ничего, учение об абсолютной реальности плоти Сына Божия, о церковном авторитете как критерии истины. Т. выражает крайний моральный ригоризм: осуждает вторые браки, прощение падших в гонениях и проч. Церковь не приняла Т. в число отцов и учителей, но в истории он остался как религиозный гений, выразивший и непознаваемость, и реальность приобщения к Живому Богу, то есть абсурд веры: «Сын Божий умер — это абсолютно верно, ибо нелепо».
Тихон Задонский (Соколов Тимофей Савельевич) (1724—1783), свт., православный подвижник, епископ, духовный писатель. Возглавляя в 1763—1767 воронежскую епископскую кафедру, побуждал священство к проповеди Евангелия, открывал школы, основал семинарию в Воронеже. С 1769 — на покое в Задонском монастыре. Автор множества книг и статей, в том числе сочинения «Об истинном христианстве». Память 13 августа.
Толстой, Алексей Константинович (1817—1875), русский писатель, поэт.
Толстой, Лев Николаевич (1828—1910), русский писатель.
Троицкий, Сергей Викторович (1878—1972), православный богослов, канонист. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию в 1901, затем преподавал в ней каноническое право. Участвовал в Московском и Киевском поместных Соборах. В эмиграции с 1920. Профессор Белградского университета (1920—1929 и 1941—1945). Преподавал каноническое право в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже (1947—1948). Юрисконсульт Сербской православной церкви. Доктор церковного права (1961). Стремился построить православное богословие брака. Основные труды: Диакониссы в Православной церкви. СПб., 1912; Что такое Живая Церковь. Варшава, 1927; Нелегальное кровное родство как препятствие к браку. Белград, 1931; Размежевание или раскол. Париж, 1932; Христианская философия брака. Париж, 1933 (переизд.: Клин, 2001, и др.); О неправде карловацкого раскола. Париж, 1960.
Трубецкой, Евгений Николаевич (1863—1920), религиозный философ, правовед, общественный деятель. Профессор Киевского и Московского университетов. Последователь Вл. Соловьева.
Уильямс, Чарльз (1886—1945), английский поэт, прозаик, богослов. Автор богословских трактатов, пьес, стихов, эссе, а также трилогии «Война в небесах», «Сошествие в ад», «Канун дня всех святых», в которой своеобразно переплетаются элементы фантастики, детектива, оккультизма и христианского богословия.
Успенский, Леонид Александрович (1902—1987), русский иконописец, богослов. Принимал участие в гражданской войне, бежал в Константинополь. Работал шахтером в Болгарии (до 1926), переехал в Париж, учился в Русской художественной академии, затем у Сомова. Под влиянием инока Григория (Круга) обратился к иконописи, совместно с ним расписал храм Трехсвятительского подворья в Париже. С 1954 преподавал иконоведение (как богословскую дисциплину) на Богословско-пастырских курсах при Западноевропейском Экзархате Московского Патриархата в Париже, а также в Ленинградской духовной академии. Автор труда «Богословие иконы Православной церкви».
Уэдел, Синтия и Теодор, деятели Епископальной Церкви США.
Федоров, Николай Федорович (1828—1903), религиозный мыслитель, один из основоположников русского космизма. Значительную часть жизни проработал в библиотеке Румянцевского музея, там же и жил, считая грехом всякую собственность, в том числе — на идеи; ничего при жизни не опубликовал. После смерти Ф. его ученики В. А. Кожевников и Н. П. Петерсон издали избранные отрывки и статьи Федорова под названием «Философия общего дела». Был собеседником и оказал влияние на Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Вл. Соловьева. В основе религиозно-философской системы Федорова лежит проект всеобщего воскресения. Человеческое сообщество представляется Федорову союзом живущих — сыновей, для воскрешения умерших — отцов. Всякое действие, направленное на преодоление смерти, — техническое, научное, медицинское и церковное — Федоров считал участием во всеобщей Литургии, а всякую идею личного спасения, индивидуалистического искусства, философии и т. д. — «нечувствием неправды смерти», главным грехом человечества. Трудно однозначно решить вопрос о принадлежности Федорова ортодоксальному христианству. Среди его учеников и последователей были православниые христиане (В. А. Кожевников), свободомыслящие философы (Н. А. Сетницкий) и мыслители, близкие материализму (К. Э. Циолковский). Если не концепции, то основная тональность размышлений Федорова, его вера в то, что «жить нужно не для себя и не для других, а со всем и для всех», ради всеобщего воскресения, оказала огромное влияние на последующую русскую религиозную мысль (о. Сергий Булгаков, Н. А. Бердяев, о. Павел Флоренский), а также на русское искусство ХХ в. (Фаворский, Чекрыгин, Пастернак, Заболоцкий и др.).
Федоров, Павел Васильевич, певец, бас хора Успенского собора в Лондоне.
Фейербах, Людвиг (1804—1872), немецкий философ-материалист. Исследовал происхождение религии, полагал, что образ Бога в сознании — это гипостазированный и отчужденный образ сущности самого человека, утверждал, что «человек человеку бог».
Феодор Студит (759—826), прп., монах, подвижник, богослов, защитник иконопочитания. Постригся в монастыре Саккудион в возрасте 781, в 798 переселился с учениками в Студийский монастырь. Составил строгий общежительный устав монашеской жизни. Автор догматико-полемических и аскетических сочинений (в том числе «Огласительных поучений»), проповедей, богослужебных текстов (трипеснцев, стихир Постной Триоди). Память 26 января, 11 ноября.
Феокритов, Владимир Иванович (1881—1950), протоиерей, настоятель Лондонского прихода до митрополита Антония. Происходит из потомственной церковной семьи.
Феокритов, Михаил Иванович (1888—1969), регент Успенского собора в Лондоне. Младший брат протоиерея Владимира Феокритова (см.). Эмигрировал в Константинополь, в начале 1920-х переехал в Германию. Подвергался преследованиям со стороны фашистских властей. В 1946 переехал в Лондон.
Феофан Грек (ок. 1340 — после 1405), византийский иконописец. Оказал большое влияние на Андрея Рублева. Во второй половине XIV — начале XV в. работал на Руси.
Феофан Затворник, Вышенский (Говоров Георгий Васильевич) (1815—1894), свт., подвижник, духовный писатель. С 1857 был ректором Санкт-Петербургской духовной академии, с 1859 — епископ Тамбовский, в 1863 переведен во Владимир. В 1866 оставил епископскую кафедру и ушел в затвор в Вышенской пустыни. Автор множества книг и писем, в которых наставлял самый широкий круг лиц, от иерархов до простых мирян, в опыте углубления духовной жизни и созерцательной молитвы. Канонизирован в 1988. Память 10 января.
Филарет (Дроздов Василий Михайлович) (1782—1867), свт., митрополит Московский (с 1821), церковный деятель, проповедник и богослов. Активный член Библейского общества, возглавлял комиссию по переводу Св. Писания на русский язык. В 1823 по поручению Священного синода составил краткий и пространный катехизисы, в которых все тексты Св. Писания перевел на русский язык. Участвовал в составлении манифеста 1861 об отмене крепостного права. Канонизирован в 1994. Память 19 ноября.
Филипп Нери (1515—1595), святой Католической Церкви. Основатель конгрегации ораторианцев. Память 26 мая.
Флоренский, Павел Александрович (1882—1937), православный священник, богослов, ученый-энциклопедист. Окончил Московский университет, затем Московскую духовную академию, там же преподавал. В 1911 рукоположен в сан священника. После революции, оставаясь служителем Церкви, работал в советских учреждениях — в Главэлектро ВСНХ, во Всесоюзном энергетическом институте и др. В 1933 был арестован и отправлен в лагерь на Соловки, 8 декабря 1937 расстрелян. Творческое наследие Ф. разнообразно: от «Мнимостей в геометрии» до «Древнегреческих названий драгоценных камней». Как философ сложился под влиянием Платона, с которым, так же как с Паскалем и Леонардо да Винчи, его постоянно сравнивали современники. Наибольшую известность получил его ранний труд «Столп и утверждение истины» — опыт православной теодицеи, начавший грандиозную постройку цельного христианского мировоззрения, родственного софиологии о. Сергия Булгакова. Центральное место в этой книге занимает Церковь как глобальная метафизическая реальность. Продолжение этого труда — созданная Ф. в 20-х «антроподицея» — опыт философского символизма, учение о «конкретной метафизике». Для ее построения в сочинении «У водоразделов мысли» Ф. соединяет свои новаторские исследования в области лингвистики и семиотики, искусствознания, математики, экспериментальной и теоретической физики с философией культа как первичной формы и развития сменяющих друг друга типов культур и философией символа.
Флоровский, Георгий Васильевич (1893—1979), православный богослов, историк, протоиерей. В 1920 эмигрировал из России. С 1926 профессор Свято-Сергиевского богословского института в Париже. В 1932 рукоположен. С 1947 в США, в 1951 стал деканом Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке. Принимал активное участие в экуменическом движении. Автор введения в святоотеческую мысль «Восточные Отцы церкви IV—VIII веков» и исторического, во многом полемического труда «Пути русского богословия». Основное своеобразие богословской мысли Ф. запечатлелось в коротких статьях и докладах (по-русски собранных в книгу «Догмат и история». М., 1998). В этих статьях Ф. обращается к труднейшим вопросам современного богословия (таким, например, как необходимость Воплощения) и находит их разрешение в ранней византийской патристике, которую считал эталоном богословского и философского мышления.
Фортунато, Мариамна Михайловна (р. 1929), дочь М. И. Феокритова, жена протоиерея Михаила Фортунато (см.). Иконописец, ученица Л. А. Успенского (см.), преподаватель иконописания в Лондонском приходе.
Фортунато, Михаил Всеволодович (р. 1931), протоиерей. Родился во Франции в семье русских эмигрантов. Окончил Свято-Сергиевский богословский институт в Париже. Переехал в Англию в 1962. С 1965 регент хора Лондонского Успенского собора. В 1969 рукоположен в священника. Специалист по истории и теории православного церковного пения. С 2004 на покое.
Фостиропулос, Александр (р. 1952), протоиерей. Рукоположен митрополитом Антонием в 1985.
Франк (урожденная Барцева), Татьяна Сергеевна (1886—1984), жена философа С. Л. Франка.
Фрейд, Зигмунд (1856—1939), австрийский врач-психиатр, основатель психоанализа.
Фрейлиграт, Герман Фердинанд (1810—1876), немецкий поэт.
Фриш, Макс (1911—1991), швейцарский писатель, писал на немецком языке.
Фроссар, Андре (1915—1997), французский религиозный писатель, журналист, автор книг об Иоанне Павле II. Сын первого генерального секретаря коммунистической партии Франции. В двадцать лет пережил опыт мгновенного обращения. Во время второй мировой войны был участником Сопротивления, находился в заключении.
Хаслер, Аугуст Бернгард, католический богослов и историк Церкви, ученик Ханса Кюнга, автор книги, посвященной I Ватиканскому собору и вопросу о непогрешимости Папы Римского: How the Pope Became Infallible: Pius IX and the Politics of Persuasion (1981).
Хилл, Христофер (р. 1964), священник, московский клирик.
Хомяков, Алексей Степанович (1804—1860), русский религиозный философ, писатель, поэт, публицист. Наиболее полно и систематично выразил философию славянофильства. История человечества рассматривается Х. исходя из «одного великого начала», то есть религии, типы которой он определяет категориями свободы (иранский тип — иудаизм и христианство) и необходимости (кушитский тип — язычество). Западная церковь, по Х., усвоив рассудочность и рационализм, извратила принципы иранства и разрушила полноту духовных сил человека, православие же сохранило их в чистоте, поэтому русскому народу как носителю православия принадлежит особая историческая миссия («Записки о всемирной истории»). Идея цельного знания, условием которого является соборность — совокупность мышлений, связанных любовью, нашла развитие в философской системе Вл. Соловьева (см.). Главная новизна философии Х. — учение о Церкви не как об организации, состоящей из мирян, клира и иерархов, но как о едином организме любви: «Церковь — это откровение Святого Духа, подаваемое взаимной любви христиан» («По поводу одного окружного послания», «Письма к Пальмеру» и др.).
Хопко, Фома (р. 1939), протоиерей. Окончил факультет русских исследований Фордхемского университета (США) (1960), Свято-Владимирскую духовную семинарию (США) (1963), философский факультет Университета Дюкесна в Питтсбурге (США) (1968). Священник (1963). Преподаватель, затем профессор, с 1992 — декан Свято-Владимирской духовной семинарии. Автор широко известного, переведенного на многие языки православного катехизиса (The Orthodox Faith: An Elementary Handbook on the Orthodox Church).
Чавчавадзе, Павел (1899—1971), переводчик, писатель.
Шекспир, Уильям (1564—1616), английский драматург, поэт.
Шпиллер, Всеволод (1902—1984), протоиерей, многолетний настоятель храма свт. Николая в Кузнецах, в Москве.
Шумкин, Георгий (1894—1965), протоиерей. Участник первой мировой войны, попал в эмиграцию. С 1925 — во Франции. Первый студент Свято-Сергиевского богословского института в Париже, принявший сан. Служил в разных приходах Франции. Во время войны укрывал бежавших военнопленных. Участник РСХД (см. прим. на с. *), много сил отдал работе с детьми.
Эбнер-Эшенбах, Мария фон (1830—1916), австрийская романистка.
Эпиктет (ок. 50 — ок. 140), римский философ-стоик. Раб, позднее вольноотпущенник. «Беседы», центральная тема которых — внутренняя свобода человека, записаны его учеником Аррианом. Идеи Эпиктета оказали влияние на раннехристианское богословие.
Юстиниан I, император Византии (482 или 483 — 565). Провел кодификацию римского права.
Тематический указатель
Авель, плоды труда 129
Авраам
• благословение Мелхиседека 824
• жертвоприношение Исаака 90, 846
• завет с Богом 823
• явление Трех Ангелов 93, 253
Автобиография
• встреча с Евангелием 21—23, 868
• ранние годы эмиграции 33, 866
Авторитет и власть 509, 847, 877
Ад 274, 618, 735
Адам
• всечеловек 774, 850, 858
• единство с Евой 91, 92
• кожаные ризы 277, 660, 832
• наречение имен тварям 774, 800, 821
• падение 775, 809, 814, 841—853
• сотворение 274, 798
• сотворение Евы 251, 775, 801
Алтарь 85—89, 108, 434
• жертвенник 108, 394
• престол 108, 435
Ангелы
• падение 261, 812
• светы вторые 79, 262
• хранители 113
«Анонимные алкоголики» 484
Апостолы 311, 580
в момент распятия Христа 67
проповедь 159, 492, 543, 594, 757
Апостольский Символ веры 618, 735
Апостольское правило 34-е 508
Аскетизм 637—643
Атеизм 241, 735, 743
Афанасиев Символ веры 810
Безмолвие 63, 64, 644, 678—684
Бессознательное 871
Благодать 571, 588, 658, 795
Ближний 167, 252, 308, 317, 409, 500, 570, 848
Бог 495, 501
• в Ветхом Завете 253, 545
• в истории 501, 551
• изгнаник на земле 96
Истина 252
• личный 613
• любовь 546
• непознаваемость 79, 84, 247, 502
• непостижимость 361
Отец наш 276
Святой 85, 250
Сущий 249, 290, 829, 842
Творец 260, 264, 360
Ты 252, 861
Царь 402
Богопознание 495
Богословие 757
• апофатическое 243
• евхаристическое 506
• и семантика 794
• опыт о Боге 242
• паламизм 571, 781
• пустыни 686
• смерти Бога 288, 744
• язык 246
Богослужение 48, 90, 107—117, 343, 436
• архиерейское 87, 437
• как действие 873
• облачение 392
• свет 345, 361
• язык 43, 47, 54, 478
Больной 582, 879—887
Брак 91, 224, 824, 829, 859
• в будущем веке 827
• в Кане Галилейской 145
• нецерковный 828
• обручение 217
• чин венчания 45
Бытия книга 811
Вавилонская башня 820
Варавва, разбойник 265, 825
Вера 61, 244, 543, 724—729
• в человека 756
• и наука 175, 182, 728
• и опыт 170, 182, 831
• нерелигиозная 864
• современные верования 724
Вечерня 339—352, 360—363, 435
Вечность 828
Воля Божия 382
Вселенские соборы 246, 760
Вселенский собор, первый 509
Всемирный Совет Церквей 162
Встреча 167, 560
• в молчании 103
• с человеком 169
Встреча с Богом
• в таинствах 188
• новосотворенной твари 169
Гордость 334
Грех 197, 302, 468, 480, 826
Давид, покаяние 56, 75, 269
Дерево жизни и дерево познания 804
Дисциплина 639—643, 646, 650—658, 726
Древние религии 163
Другие религии 239, 288, 760, 825
Дух и душа 862
Духовная жизнь 102
• компромиссы 521
Духовное руководство 233, 517, 711, 767
Духовность православная 325
Дьякон 86, 127, 349, 757, 848
Евангелие 726
• благая весть 545
• от Иоанна, Пролог 360
• слово Христово 541, 542, 645
• чтение 25, 191, 198, 220, 356, 538, 547, 549, 613, 645, 656, 875
Евхаристическая община 848
Евхаристия 134, 371, 419, 455—465, 466—477, 666
Епископ 51, 516, 517, 896
Ереси 287, 760
Жена священника 782
Женщина
• в Ветхом Завете 839
• в пустыне 670
• в Церкви 772—783
• неравенство 834, 848
• служение в древности 854
Жены-мироносицы 580
Жертва ветхозаветная 205
Завет в Ветхом Завете 322
Заповеди Ветхого и Нового Завета 641, 750
Зло 266, 478, 827
• происхождение 260, 811
Иаков, борьба с Ангелом 93
Иегова, Ягве 819
Иерархия церковная 531, 765, 852
Избранничество 433
Израиль 291
Икона 32, 113, 138, 344, 645
• иконопочитание 568
• освящение 121
• пострадавшая 220
Преображения 97
Имя Божие 820
Имя и Сущность 660, 799
Индивид 499, 833, 837, 845, 855, 880
Инославие 179, 325
Иоанн Креститель
• друг жениха 499
• крещение 201
• подвиг верности 227, 318
• проповедь 556
Иов
• обвинения сатаны 836
• спор с Богом 830
Иосиф Обручник 141
Ирод, избиение младенцев 268
Исповедь 136, 154, 232
• всем грешен 198
• и Причащение 234, 480
• недостойному священнику 521
• перемена жизни 156
• примирение 229
• публичная 202
• формальное отношение 234
• частота 232
Истина 82
• и реальность 176, 250
История 464, 737, 815, 829
Исцеление
Гадаринских бесноватых 595
• расслабленного 570, 582
• слепорожденного 168, 613
Иуда 368
• предатель 479
• судьба 272, 292
Каин
• и Авель 822, 845
• рождение 810
• убийство Авеля 602
Каноны 852
Колокол, освящение 121
Константинополь и Рим 503
Красота 94, 220, 866, 876
Крещение 181—229
• воды 211, 226
• восприемники 221, 226
• и исповедь 228
• Иоанново 201, 223
• младенца 221
• намерение 228, 486
• Руси 224
• семя вечной жизни 218, 283
• смерть со Христом 200, 280, 470
• формальный подход 222
• чинопоследование 205—220
Лазарь, воскрешение 314
Ламех, второй убийца 823
Леонид Николаевич и нищий 34
Литургия 84, 117—137, 366—454, 455—465
Агнец 132, 134, 395, 443
Великий вход 109, 133, 409, 442
• вне храма 454
Голгофская жертва 415
Евхаристический канон 447
• единственность 110
• малый вход 112, 133, 437, 440
• небо на земле 411
• общение 377
Причащение 452
• проскомидия 88, 132, 394—399
• совершитель 125
• тайна будущего века 316
• тайносовершительные молитвы 121
• тайные молитвы 111
• чинопоследование 438—454
• эсхатологичность 379
Ложь 265, 816
Любовь 565, 697, 840, 846, 865
• Божия 251, 335, 603
• жертвенная 83, 89, 239, 255, 499, 594, 602
• и справедливость 601
• порабощающая 528, 860
• христианская 116
Мария Магдалина, у гроба Христа 581
Марксизм 745
Материя 258, 386, 496, 658, 661, 665, 669, 740, 741, 747, 796, 842, 849
Матерь Божия 137—150, 776
Благовещение 141, 573
Введение в храм 140
• врата небесные 87, 109
• и Ева 836
• молитва Ей 407
• на Голгофе 146, 428, 779
• рождество 139
• священническое служение 851
• согласие с волей Божией 109, 141, 148, 268, 777, 835
• Сретение 778
• Успение 148
Мир
• любим Богом 99, 730
• современный 712—723
Миропомазание 214, 281, 588
Миряне 85, 123, 152, 493, 527, 727, 763—771
Миссионерство 40, 493, 754—762
Моисей
• купина неопалимая 83, 151, 330, 471
• на Синае 83, 174, 185, 249, 361, 473
• фольклорное житие 296
Молитва 56—94, 95—107, 118, 612—636, 679—682
• благодарение 66
• великопостная Ефрема Сирина 693
• Господня 58, 76, 78, 301—309
• за усопших 286, 408, 411, 429, 442
• заступническая 319, 402, 629
• и деятельность 622
• непрестанная 676
• общественная 619—621, 757
• отсутствие Бога 616
• подготовка 64, 389
• понимание 57
• правило 604, 633, 681
• просительная 631
• святых 56, 57, 90, 120, 236, 339, 647, 759
• семейная 477
• трезвость 74
• усилие 292
• экстаз 633, 651
• язык 68
Молчание 707
Монашество 671, 674, 681, 699
Мощи 275
Мужчина и женщина 776, 780, 784—854
Мученик как свидетель 592, 737
Наследственность 149
Наука 264
Нафанаил апостол, встреча с Христом 29, 579
Новомученики Российские 591
Новый год 550
Обряд 121, 873
Община 857
• евхаристическая 466—477
• первохристианская 117, 244, 619, 726, 743
• христианская 483, 745
• церковная 483—502, 510, 538
Оглашенные 98, 114, 194, 196, 208, 216, 409, 431
Опыт
• и его выражение 102
• научный 171
• передача 872
Павел апостол, обращение 195, 729, 831
Папство 504
Пацифизм 751
Пение богослужебное 70, 105, 351
Петр апостол
• в буре 189, 238, 712
• встреча с Христом после Воскресения 172
• исповедание Христа 191
• отречение от Христа 30, 293, 318
Плоть 861
Подвиг 571, 650, 655, 705—706
Познание 264, 661, 775, 792, 804, 805, 806, 820, 826, 843
Покаяние 667
Послушание 650, 654, 684—688, 703
Пост 803
Пост Великий 574
Потоп 822, 832, 861
Православие 772
• в Англии 40—55
• во Франции 39
• и женский вопрос 772—783
• и классовая борьба 747
• и Россия 48
• отношение инославных 725
Праздники 573
Праздность 694
Предание 852
Предвечный Совет о творении мира 88, 265
Примирение 308, 389
Притча
• о блудном сыне 23, 302, 562, 732
• о званых и избранных 256, 368, 822
• об овцах и козлищах 93, 282
• парабола 104
Причащение 127
• и исповедь 480
• подготовка 235
• условия 135
• частота 231
Проповедь 245, 611, 635, 693, 759
Прощение 58, 164, 284, 566, 578, 596, 737, 746
• и забвение 566
Псалмы 680
Психика 371, 795, 864—871
Психотерапия 873, 875
Пустынножительство 637, 670—688
Пятидесятница 245, 335, 461
Радость 494, 621
Развлечение 189
Разделения христианские 161, 241
Ребенок
• восприятие смерти 883
• и молитва 71, 72, 76, 85, 616
Родосская конференция 784
Рукоположение 138, 727, 768, 771
Руфь, верность 269
Самоубийство 294
Самсон и Далида 839
Самуил, избрание царя Израилю 823
Сатана 261, 297, 428, 479, 816, 843
• лжец, убийца 265, 807, 836
• отречение в Крещении 206, 209
Свобода 546
• совести 734
• этимология 252, 256, 257
Святая Троица 501, 588
• единство 93
• Крест в Ее недрах 89, 92, 348, 573
• любовь 83, 89, 253, 497
• образец Церкви 506
Святой Дух 81, 327—336, 377
• в мире 99, 334, 587, 830
• в Церкви 427, 471, 505, 772
• сошествие 31, 147, 238, 315, 327, 377, 413, 421, 460, 589, 764
• стяжание 709
• тайна 380
Утешитель 214, 249, 279, 585, 837
• хула 81, 330, 587
Святость 85, 250, 589, 652, 770
Святые 567
• русские 590, 591
Священник 128, 129, 566, 782, 850, 853
• в приходе 513—523
• выборность 514
• доверие 518
• и мир 493
• и политика 520
• тюремный 294
Священство женское 781, 804
Сексуальность до падения 840
Символ веры 20, 207, 210, 242, 446
Слово и молчание 390, 540, 611, 644
Смерть 71, 429, 564, 880, 888—895
• близких 605
• в молодости 894
• детей 606
• память смертная 564
• подготовка 899
• результат падения 817
Смирение 696
Совесть 432
• суд 197, 216
Созерцание и деятельность 701
Сомнение 175, 870
София 791, 794
Спасение 283, 296
• всеобщее 298, 796
Справедливость 601
Старчество 769
Страдание 880—881
Страшный суд 298, 431, 564
• овцы и козлища 93, 282
• оправдание 130
Суд Божий 282, 690—691
Суд и суждение 179, 296
Сурожская епархия 40, 51, 53
Таинство 332, 366, 384, 385, 467, 517, 659—670, 742, 797, 828, 893
• в ранней Церкви 472, 486
• вещество 87, 129, 131, 370, 386, 453, 463, 466, 659, 798, 835
• совершитель 109, 154, 399, 853
Тайная Вечеря 145, 369, 400, 423
Тварь безгрешна 108, 130, 131, 662, 863
Творение мира 248, 254, 259, 267, 659, 785
Тело
• в духовной жизни 658—670
• воскресение 286, 324
• и душа 658, 842
• и плоть 324, 655, 659, 741
Терпение 650, 697
Террор 607
Торжество Православия 567, 568
Традиция 851
Три отрока в печи 830
Уныние 695
Упанишады 843
Утреня 352—360, 363—365
Фома апостол, уверение 30, 328, 461, 579
Хаос 259, 713—718, 785—789
Хиппи 898
Хождение перед Богом 841
Хоспис 888—895
Храм 107—117, 346
Дом Божий 95—101, 114, 137
• и мир 114
• иконы 112
• корабль 433
• место Преображения 111
• притвор 115, 431
• царские врата 86
Христианин 469, 568
• деятельность 333, 739, 746
• посланничество 159, 316, 428, 465, 476, 491, 513, 525, 551, 594, 597, 651, 653, 717, 736, 745, 754—762, 767, 825
Христос
Агнец Божий 254, 372
• беседа с Никодимом 831
• богооставленность на кресте 226, 240
Богочеловек 272
Вознесение 278, 427, 584, 585
• воплощение 151, 275, 321, 386, 395, 421, 462, 487, 495, 555, 664, 740, 792
Воскресение 272, 310—326, 423, 425, 578
• вход в Иерусалим 576
• женщина, взятая в прелюбодеянии 173
• искушение в пустыне 271, 558, 661
• крещение 204, 211, 271
• отношение к природе 663, 712
Преображение 96, 274, 324, 795
• проповедь 558, 645
• разговор с самарянкой 583
• ранние годы жизни 144, 270
Распятие 67, 89, 132, 146, 289, 310—321, 415, 572, 575, 597, 598, 844
• родословная 139, 148, 269, 552, 788, 835
Рождество 141, 554
Слово Отчее 78, 80, 105, 258
Сретение 142, 416, 560
• учение и чудеса 238
• чудесный улов рыб 600
• явления по Воскресении 277, 660
Царственное священство 123, 763—771
Царство Божие 285, 558, 570
Целомудрие 691, 696
Церковь 19, 731, 763
Богочеловеческое общество 91, 125, 150, 207, 281, 468, 475, 506, 763
• в истории 504
• границы 287
• и мир 99, 150—164, 492, 730—753
• и общество 490, 772
• и политика 532—537, 733
• иерархичность 51, 474, 503—511, 515, 569
• кафоличность 506
• купина неопалимая 152, 471
• общество верующих 523
• организация 512
• организм любви 277, 281, 389, 528
• откровение человека 196
• первенство 503
• перевернутая пирамида 153, 849
• ранняя 51, 489, 764
• собрание верующих 97
• структуры 749, 764
• таинство 467
• тайна 504, 505, 780
• эсхатологическое общество 84
Человек 470, 653
• величие 463, 555, 586, 788
• икона 32, 122, 348
• новосотворенный 261, 277
• образ Божий 137, 291, 568, 774, 790, 802
• падение 816
• призвание 733
• родной Христу 49, 51, 78, 91, 122, 137, 151, 222, 281, 301, 332, 556, 793, 860
• сотворение 789, 797—803
Чудо 386, 663
Эволюция 789, 796
Элогим 817
Эмиграция новая 46
Эсхатология 669, 787
Этика медицинская 898
Ядерное оружие 719
Литература
Наречение и хиротония архимандрита Антония (Блума) // ЖМП. 1958. № 2. С. 10—15, ил.
Архиепископ Сурожский Антоний: К назначению управляющим новообразованной епархией на Британских островах // ЖМП. 1962. № 11. С. 12—13, ил.
Казновецкий А., прот. Высокий сан от матери-Церкви // ЖМП. 1966. № 3. С. 15—18, ил. [К возведению в сан митрополита].
Преображенский С. Пребывание в Советском Союзе митрополита Сурожского Антония, Патриаршего Экзарха в Западной Европе //ЖМП. 1967. № 3. С. 5—7, ил.
на англ. яз.) // ЖМП. 1967. № 3. С. 75—76. Подписано: Н. А.
Удовенко Б., свящ. Серебряный юбилей в Экзархате Западной Европы // ЖМП. 1973. № 5. С. 27—28 [К 25-летию устроения приходского дома с храмом в Лондоне]
Gibbard M. Twentieth century men of prayer. London: SCM Press, 1974. P. 89—98.
Определение Священного Синода // ЖМП. 1974. № 6. С. 4 [Об освобождении от должности Патриаршего Экзарха Западной Европы].
Longley C. Metropolitan Anthony’s resignation as Exarch of Western Europe // The Times. 1974. April 30.
Idem // Sourozh. 2003. N 93. P. 41.
«Эффингам-V» — ежегодный съезд Сурожской епархии // ЖМП. 1979. № 11. С. 24.
Из жизни епархий // ЖМП. 1979. № 12. С. 17 [[Посещение приходов Экзархата митрополитом Минским и Белорусским Филаретом, Патриаршим Экзархом Западной Европы]
Needleman Jacob. Lost Christianity: A Journey of Rediscovery to the Centre of Christian Experience. N.Y.: Doubleday, 1980. 228 p. Вторая глава посвящена целиком митрополиту Антонию.
Winsor, Diana. From Russia with love // Sunday Telegraph. April 19, 1981. N 238. P. 32—33, 35, 38, phot.
Трофимов С. Митрополит Сурожский Антоний — доктор богословия гонорис кауза Московской духовной академии // ЖМП. 1983. № 6. С. 18—20, ил.
Красноцветов П., прот. Ежегодный съезд клира и мирян Сурожской епархии // ЖМП. 1984. № 12. С. 33.
Welch, F. Metropolitan Anthony // Portrait. 1986. October. P. 174—176, phot.
Crow, Gillian. An orthodox visionary: 75th birthday profile of Metropolitan Anthony // Church Times. June 16. 1989. phot.
Аверинцев С. С. Огонь остается огнем: Вступ. к интервью // Звезда. 1991. № 1. С. 120—121..
Аверинцев С. С. [Предисловие к:] Без записок // Новый мир. 1991. № 1. С. 212—213.
То же // АО. 2004. № 2. С. 265—267.
Пастырский визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в Сурожскую епархию // ЖМП. 1992. № 2. С. 8.
Кырлежев А. И. Митрополит Антоний Сурожский — «заезжий православный миссионер» в России // Континент. 1994. № 82. С. 220—236.
Аверинцев С. С. По ту сторону «традиционализма» и «либерализма»: О новых публикациях бесед и проповедей митрополита Антония (Блума) // Континент. 1996. № 87. С. 286—291.
Басин И. Чтение Священного Писания: Уроки святых, подвижников, духовных учителей Русской Церкви. М.: Общество друзей Священного Писания, 1996. С. 77—88.
Кырлежев А. И. Митрополит Сурожский Антоний // Итоги. 20 августа 1996 г. С. 67—69, ил.
Борисов К. Лондон—Киев—Сурож // РМ. 10—16 июля 1997 г..
Юров С. Опыт удачи // РМ. 27 ноября — 3 декабря 1997 г.
Седакова О. Проповедь для взрослых // РМ. 26 ноября — 2 декабря 1998 г.
Иларион (Алфеев), иером. К 50-летию служения в священном сане митрополита Сурожского Антония // ЦиВ. 1998. № 3(6). С. 5—9, ил.
Vader Ignace [Peckstadt]. Metropoliet Anthony van Souroz: Veertig jaar Bisschop // Apostel Andreas [Gent, Belgique]. 1998. 26. N 2—3. PP. 19—21.
Filonenko A. The Russian Orthodox Church in Twentieth-Century Britain: Laity and «Openness to the World» // Religion, State and Society. 1999.Vol. 27. N 1. P. 59—71.
Idem // Sourozh. 1999. № 78. P. 20—38.
Филоненко А. Русская православная Церковь в Великобритании ХХ века: миряне и открытость миру // АО. 2002. № 34. С. 349—363.
Иларион (Алфеев), иером. Православное богословие на рубеже столетий: Статьи, доклады. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1999. С. 355—378.
Южаков Р. М. Русское православие в Англии: Николай Зернов и Антоний Сурожский // Русский мир. Просветительский альманах. М., 2000. № 2. С. 219—228.
То же // Культурное и научное наследие российской эмиграции в Великобритании (1917—1940-е гг.). Международная научная конференция 29 июня — 2 июля 2000 г. М.: Русский путь, 2002. С. 267—282.
Василюк Ф. «Он стоит как бы рядом с первоисточником…» // РМ. 20—26 июля 2000 г.
Митрополит Антоний Сурожский — доктор богословия Киевской духовной академии // Камо грядеши [Киев]. 2000. № 1(8).
Матвеева В. И. Святитель наших дней // «Вера»—«Эском» [Сыктывкар]. 2001. № 388.
Встреча с владыкой Антонием: Из «Записок православного» Алексия раба Божиего // Русский дом. 2000. № 11. С. 26—27.
Ельцова М. Человек перед Богом: О судьбе книг митрополита Антония Сурожского в России // ЦВ. 2001. № 15—16. С. 14—15.
Померанц Григорий. Созерцатели нашего века // Звезда. 2002. № 1. С. 180—196.
То же // Неуслышанные голоса. Т. 2. Традиции «Вех» и современость. М.: Независ. изд-во «Пик», 2003. С. 344—375.
Свидетели веры — ХХ век // Наследники. Сборник-хрестоматия. 2002. Вып. 1. С. 44—45, фот.
Архангельский Александр. Его труды и наши дни: единство противоположностей // Известия. 2001. 1 июня.
[…] // П. В. Алексеев. Философы России XIX—XX столетий. М.: Академический проект, 2002. С. 57—58.
Ерофеева Н. [Рецензия на:] Антоний митрополит Сурожский. Труды. М.: Практика, 2002 // АО. 2002. № 2(32). С. 359—361.
8 каратов — за служение Отечеству // Лондон INFO. 2002. 5 июля. № 25. Вручение премии им. Андрея Первозванного «Диалог цивилизаций».
Немзер Андрей. Для верующих и неверующих: В России изданы труды митрополита Антония Сурожского // Время новостей. 2002. 15 августа. Фот.
Солодовник Светлана [Рецензия на:] Антоний, митрополит Сурожский. Труды. М.: Практика, 2002 // Еженедельный журнал. 2002. № 38. С. 54—55.
Шевелев Игорь. Бремя праведника [Рецензия на:] MN. 2002. 4 октября. № 179.
Богданова Вероника [Рецензия на:] Митрополит Антоний Сурожский. Труды. М.: Практика, 2002 // Фома. 2003. № 1(15). С. 60.
Митрополит Сурожский Антоний. Труды. М.: Практика, 2002. 1080 с, 51 ил. // Литературная газета. 2002. № 50—51. С. 1 (ЛГ-рейтинг).
Митрополит Сурожский Антоний уходит на покой // ЦВ. 2003. № 3(256), февраль.
Dйpart а la retraite du mйtropolite Antoine (Bloom) // SOP. 2003, Mars. P. 1—3.
Седакова Ольга. Сила присутствия [Рецензия на:] Антоний, митрополит Сурожский. Труды. М.: Практика, 2002 // Континент. 2003. № 115. С. 296—302..
Olga Sedakova. La force de la prйsence: A propos de la parution des “Oeuvres” de Mgr Antoine Bloom, mйtropolite de Souroje / Trad. A. P. // LeMessager orthodoxe. 2003. II. N 139. P. 51—60.
Архангельский А. Пастырь добрый: Ушел из жизни митрополит Антоний Сурожский // Известия. 2003. 6 августа, фот.
Смирнов Марк. Великобритания в духовном долгу перед русским епископом: В Лондоне на 90-м году жизни скончался митрополит Антоний // Независимая газета. 2003. 6 августа, фот.
Немзер А. Памяти митрополита Антония // Время новостей. 2003. 6 августа.
[Obituary] Metropolitan Anthony: Head of the Russian Orthodox Church in Britain whose vision was both modern and universal // The Times. 2003.August 6, phot.
[Obituary] Metropolitan Anthony of Sourozh: Orthodox leader in London who helped to keep alive the faith in his Russian homeland during the Sovietera // The Daily Telegraph. 2003. August 6, phot.
Bourdeaux M. Metropolitan Anthony of Sourozh // The Guardian. 2003. August 6, phot.
Senиze N. Le mйtropolite Antoine de Souroge est mort // La Croix. 2003. 6 aoыt.
Богомолов П. Пастырь останется с нами // Парламентская газета. 2003. 7 августа.
Кучерская М. Слушать — значить любить: Скончался митрополит Антоний Сурожский // Российская газета. 2003. 7 августа.
Кеворкова Н. «Митрополит Антоний ставил человека перед Богом» // Газета. 2003. 7 августа.
Zolotov A. Oldest Orthodox Bishop dead at 89 // The Moscow Times. 2003. August 7, phot.
Walker A. Metropolitan Anthony of Sourozh: Charismatic head of the Russian Orthodox Church in Great Britain and Ireland // The Independent. 2003. August 9, phot.
Idem // Sourozh. 2003. N 93. P. 43—46.
Чапнин С. Отошел ко Господу митрополит Антоний (Блум); Слово митрополита Минского и Слуцкого Филарета на великой панихиде; Соболезнования Святейшего Патриарха Алексия и митрополита Кирилла // ЦВ. 2003, № 15 (268), фот.
Коробов П. Православные Англии простились с владыкой Антонием // Коммерсантъ-Daily. 2003. 14 августа.
Hackel S. Metropolitan Anthony of Sourozh: Obituary // The Tablet. 2003. 16 August.
Кырлежев А. Прямая речь Владыки Антония // Еженедельный журнал. 2003. 18—24 августа. № 31—32. С. 42, фот.
Митрофан (Юрчук), архиеп. Переяслав-Хмельницкий. Кончина митрополита Сурожского Антония — это большая потеря // Камо грядеши [Киев]. 2003. № 3(23). С. 2.
Памяти митрополита Антония: Слово митрополита Филарета; Речь архиепископа Фиатирского Григория; Слово епископа Сергиевского Василия // ЦВ. 2003, сентябрь. № 17(270), фот.
Alexis, Patriarch of Moscow and All Russia. Letter of Condolence on the Death of Metropolitan Anthony of Sourozh; Metropolitan Kirill of Smolensk.Letter of Condolence on the Repose of Metropolitan Anthony of Sourozh; Metropolitan Filaret Of Minsk. Address during the Great Panikhida forMetropolitan Anthony; Addresses given at the Funeral of Metropolitan Anthony // Sourozh. 2003. N 93. P. 1—11, phot.
Высокопреосвященнейший Антоний, Митрополит Сурожский *19.06.1914 — †4.08.2003 // АО. № 2003. № 3(37). С. 374—383, фот.
Журинская Марина. Митрополит Сурожский Антоний // ЖМП. 2003. № 9. С. 40—43, фот.
«Смерть — это то, ради чего человек живет» // Кифа. 2003, июнь—июль. № 6/7(9/10). С. 1 [Сообщение о кончине].
Ведерников Николай прот. Слово на панихиде в сороковой день по преставлении митрополита Сурожского Антония // ЖМП. 2003. № 9. С. 62—63.
Владыка Антоний [А. Шлепянов] // Колокол (Лондон). 2003. № 3—4. С. 6—7, фот.
Гончаров А. Прощание с великим проповедником // Русский предприниматель. 2033. № 9—10. С. 102, фот.
Ратушинская Ирина. В его присутствии не хотелось говорить: Воспоминания о митрополите Антонии Сурожском / Записала Вероника Бузынкина // Газета для входящих в храм. Прилож. к журн. «Фома». 2003. № 10(49). С. 6—7, фот.
Zielinsky Vladimir. Une rencontre qui s’est poursuivie toute la vie. In memoriam: Mйtropolite Antoine Bloom // La Croix. 2003, 13 Octobre.
Behr-Sigel Elisabeth. Le mйtropolite Antoine de Souroge, un homme qui rayonnait // SOP. 2003. N 282. P. 35—38.
Памяти митрополита Антония (Блума): Евгений Пастернак. Светлой памяти митрополита Антония; Владыка Антоний в молодости: ответы М. А. Струве-Ельчаниновой на вопросы редакции «Вестника РХД»; Н. А. Струве. Памяти митрополита Антония; Е. Майданович. О похоронах митрополита Антония // Вестник РХД. 2003. № 186. С. 373—390.
Евгений Пастернак. Светлой памяти митрополита Антония // Пастернак Е. Б. Понятое и обретенное: статьи, воспоминания. М.: Три квадрата, 2009. С. 591—596.
Вспоминая владыку Антония // Газета для входящих в храм. Прилож. к журн. «Фома». 2003. № 12(51). С. 1—3, фот. Ульяна Лопаткина; свящ. Валерий Степанов; М. А. Журинская; Е. Г. Кожевникова.
Вопрос номер один. О митрополите Антонии говорят Павел Селезнев, Игорь Геращенко, Ирина Ратушинская, Ульяна Лопаткина, протоиерей Максим Козлов, Марина Журинская, Елена Камбурова, Олеся Николаева, Елена Кожевникова // Фома. 2003. № 3(17). С. 6—13, фот.
Свящ. Георгий Чистяков. Носитель света Христова; Свящ. Владимир Зелинский. Блажен путь… [К кончине митрополита Антония Сурожского] // Альманах ХРIСТIАНОС. Рига. 2003. XII. С. 371—386.
От редакции: Прот. Александр Борисов. Целомудрие есть целостная мудрость; А. Кырлежев. Мистик в миру // Континент. 2003. № 117. С. 9, 10—13, 13—23.
Model Serge, diacre. A la mйmoire du mйtropolite Antoine Bloom // Le Messager orthodoxe. 2003. II. N 139. P. 48—49.
Overluden metropoliet Antoni (Bloom) // Pekrof. Oosterse Christenen, Kerken en culturen. 2003. N 4. P. 16.
Митрополит Сурожский Антоний. 1914—2003. Изд. Свято-Никольского прихода РПЦ в Амстердаме. 2003, ноябрь. 43 с.
Sergei Hackel. Anthony, Metropolitan of Sourozh (1914—2003): Obituary // Sobornost. 2003. Vol. 25:2. P
Metropolitan Anthony of Sourozh: Tribute // Rossica. International Review of Russian culture. London. Autumn 2003/winter 2004. P. 58, phot.
Тимаков В. прот. В память вечную будет праведник // Община XXI век. Православное обозрение. 2004. № 3(40). С. 2—4.
Морозова Е. О встречах с митрополитом Сурожским Антонием (1973—1990 годы) // Община XXI век. Православное обозрение. 2004. № 3(40). С. 5—7, фот.
Ведерников Николай прот. Мы благодарны Господу, что жили в то время, когда проповедовал митрополит Антоний Сурожский: Слово на панихиде 4 августа 2004, в первую годовщину кончины // ЦВ. 2004. № 15. С. 15..
Ведерников Николай прот. Мы называл его Апостолом Любви / Интервью записал Д. Сафонов // АО. 2004. № 3(41).
Майданович Е. Духовное наследие митрополита Антония Сурожского // АО. 2004. № 3(41). С. 324—330.
Гарднер Энтони. Древняя религия: звезда восходит на востоке / Пер с англ. Л. Макаровой (Times. 2004, May 22th) // Татьянин день. 2004. № 2(56). С. 17.
Шмаина-Великанова А. И. Встреча в богословии митрополита Сурожского Антония. Категория животворящего креста // Вера. Диалог. Общение. Проблемы диалога в Церкви. Материалы международной научно-богословской конференции. Москва, 24—26 сентября 2003 г. М.: Св.-Филаретовский православно-христианский институт, 2004. С. 432—440.
Adriano Dell’Asta (a cura di). “E dietro l’ospite… un vento gagliardo”. Tre profughi rusi e la sfida della liberta // La nuova Europa. 2005, Luglio. N 4.P. 52—61, fot.
Adriano Dell’Asta (a cura di). “E dietro l’ospite… un vento gagliardo”. Tre profughi rusi e la sfida della liberta: Catalogo della mostra organizzata inoccasione della XXVI edizione del Meeting di Rimini per l’amicizia fra i popoli. 2005. P. 52—61, fot.
Filonenko A. Incontro, vulnerabilita, letizia: la teologia di Antonij Bloom // La Nuova Europa. 2004, Luglio. N 4. P. 65—76.
Филоненко А. Встреча, уязвимость, ликование: богословие митрополита Сурожского Антония // Новая Европа. 2004. № 17. С. 66—82, фот.
То же // Пути просвещения и свидетели правды: Личность. Семья. Общество / Сост. К. Сигов. Киев: Дух i Лiтера, 2004. С. 83—95.
Сигов К. Свидетели правды и проблема традиции // Пути просвещения и свидетели правды: Личность. Семья. Общество / Сост. К. Сигов. Киев: Дух i Лiтера, 2004. С. 72—82.
Макар Николай прот. Антропология В. Н. Лосского и митрополита Антония Сурожского // Пути просвещения и свидетели правды: Личность. Семья. Общество / Сост. К. Сигов. Киев: Дух i Лiтера, 2004. С. 177—184.
Тимаков А. свящ. Пастыри одичавшего стада Христова: Размышления по поводу книги: Митрополит Сурожский Антоний. Пастырство. Минск, 2005 // АО. 2005. № 1(42). С. 209—218.
Crow, Gillian. ‘This Holy Man’: Impressions of Metropolitan Anthony. London: Darton, Longman & Todd, 2005. XVI, 251 p., ill.
Dibo, Amal. A Legacy for Renewal // Living with the Living God: Diocese of Sourozh Diocesan Conference 28th — 31st May 2004. Oxford: St.Stephen’s Press, 2005. P. 1—12.
Дибо, Амал. Митрополит Антоний: Наследие к обновлению // Жизнь с Богом Живым. Сурожская епархия, епархиальная конференция 28—31 мая 2004. Oxford: St. Stephen’s Press, 2005. С. 1—13.
Nikitin, Alexei. Our Place in the Russian Church: Past, Present and Future // Living with the Living God: Diocese of Sourozh Diocesan Conference28th — 31st May 2004. Oxford: St. Stephen’s Press, 2005. P. 39—49.
Никитин, Алексей. Наше место в Русской Церкви — прошлое, настоящее и будущее // Жизнь с Богом Живым. Сурожская епархия, епархиальная конференция 28—31 мая 2004. Oxford: St. Stephen’s Press, 2005. С. 38—50.
Сержантов Павел диакон. Мирянин в священном сане // АО. 2005. № 2(43). С. 233—240.
Виктор (Мамонтов) Архимандрит. Пастырь Любви // Культурно-просветительная работа («Встреча»). 2005. № 9. С. 25—28, фот.
То же // ХРIСТIАНОС. Рига. 2005. Выпуск XIV. С. 205—216.
Филоненко А. Митрополит Сурожский Антоний о Церкви // Материалы православной конференции 18 декабря 2004 г.: «Верую во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь». Ч. 1. Лондон, 2005. С. 12—20. Препр.
Prayers contributed in Memory of Metropolitan Anthony of Sourozh. London: Kensington Council of Churches, 2005. 22 p
Филоненко А. Православные на Западе: английский опыт // Православное богословие и Запад в ХХ веке. История встречи: Материалы международной конференции Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви и итальянского Фонда «Христианская Россия» (Италия, 2004). М.: Христианская Россия, 2006. С. 64—74.
Basil, bishop of Sergievo. Metropolitan Anthony as Shepherd: the Statutes of the Diocese of Sourozh // Sourozh. 2006. N 103. P. 40—51.
Антоний (Блум) митр. Труды. Книга вторая. М.: Практика, 2007. 968 с., ил. // Возглас. 2007, № 10(107). С. 9 (Новые книги)..
Гуревич А. Л. «Неоднозначное назначение»: к истории назначения митрополита Серафима (Лукьянова) экзархом Московского Патриархата в Западной Европе: Приложение // Церковно-исторический вестник. 2005—2006. № 12—13. С. 216—217. Из письма митр. Серафима патриарху Алексию (Симанскому) от 31 дек. 1948 г.
Курская А. Наследие любви // Церковный вестник. 2007. № 18(368). С. 13, фот. О конференции 28—30 сентября 2007.
Ставицкая Н. Свет вечной жизни // Православная Москва. 2007. № 20(398). О конференции 28—30 сентября 2007.
Майданович Е. Хроника: Первая конференция, посвященная осмыслению наследия митрополита Антония Сурожского; Н. Павлов.[Рецензия на:] Антоний митрополит Сурожский. Труды. Книга вторая. М.: Практика, 2007 // АО. 2007. № 3(50). С. 356—358; 359—366.
Бузынкина В. Митрополит Антоний о своей епархии // Нескучный сад. 2007. № 8. С. 102.
Moscou: Colloque sur le metropolite Antoine (Bloom) // SOP. 2007, Decembre. N 323. P. 8—10.
Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М.: ПСТГУ, 2007. Гл. 28. Православие в Англии. §2. Митрополит Антоний (Блум). С. 587—592.
Петр (Мещеринов) игумен. Жизнь православного христианина в современном мире (на примере жизни митрополита Антония Сурожского) // ИК. 2008. № 1(26). С. 14—15.
То же // 56—67.
Шмаина-Великанова А. И. Хесед: о повседневной святости в учении митрополита Антония // Вестник РХД. 2008. № 193. С. 68—76.
То же, под назв.: Идущий следом // Вышгород. 2007. № 6. С. 5—13.
Ликвинцева Н. Первая международная конференция, посвященная осмыслению наследия митрополита Атония Сурожского //Вестник РХД. 2008. № 193. С. 312—327..
Шапиро Илия, протоиерей. О Владыке Антонии // АО. 2008. № 2(52). С. 230—237.
Философия и культура. 2008. № 4. С. 122—132.
Духовное наследие митрополита Антония Сурожского: Материалы Первой международной конференции 28—30 сентября 2007 г. Москва. М., Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», 2008. 389 с.
Хазанов Б. Свет от его свечи // Истина и жизнь. 2008. № 3. С. 2—9, 20 фот.
Свящ. Владимир Зелинский. Наречение имени. Киев: Дух i Лiтера, 2008. С. 565—574. Блажен Путь: (Памяти митрополита Антония Сурожского).
Хазанова Марина. Владыка // Мои Георгии: Творцы и Власть. Гл. 16. Бостон, 2008. С. 193—208.
Материалы семинара по наследию митрополита Антония Сурожского: Цельность человека: дух, душа, тело. Заседание № 1, 3 марта 2008 г. М.: Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», 2009. 44 c.
Морозова-Утенкова Е. Митрополит Сурожский Антоний в нашей жизни // Возрождение: О возрождении церковной жизни в Тарусе Калужской епархии и окрестных селах (1989—2009). Таруса: Храм Воскресения Христова, 2009. С. 219—234.
Зайцев Андрей. Митрополит Антоний Сурожский. Жизнь, творчество, миссия. М.: Эксмо, 2009. 352 с., ил. (Золотой фонд христианства).
Материалы семинара по наследию митрополита Антония Сурожского: Цельность человека: дух, душа, тело. Заседание № 2, 7 апреля 2008 г. М.: Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», 2009. 46 c.
Материалы семинара по наследию митрополита Антония Сурожского: Цельность человека: дух, душа, тело. Заседание № 3, 12 мая 2008 г. М.: Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», 2009. 56 c.
Дамаскин (Лесников) иером. Чудо поющей арфы: Митрополит Антоний Сурожский о призвании и служении священника // Встреча.2009. № 1(28). С. 23—26.
Майданович Е. Вторая международная конференция, посвященная наследию митрополита Антония Сурожского // АО. 2009. № 3(56). С. 343—346.
Материалы семинара по наследию митрополита Антония Сурожского: Цельность человека: путь ученичества. Заседание № 6, 8 декабря 2008 г. М.: Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», 2010. 40 c.
Ликвинцева Н. Человек в богословии митрополита Антония Сурожского // Вестник РХД. 2010. № 196. С. 293—300.
Петровский Игорь. Записка от митрополита, или Чудесные встречи с митрополитом Антонием // Фома. 2011. Январь. С. 60—62,фот.
Материалы семинара по наследию митрополита Антония Сурожского: Цельность человека: дух, душа, тело. c.
Мраморнов Олег. Русские герои: Аврил Пайман // Наука и религия. 2011, июнь (№ 620). С. 48—49.
notes
Примечания
1
Лондон, 19 сентября — 28 ноября 2002 г. Последние беседы митрополита Антония.
2
Текст Символа веры, выработанный в IV в. на I и II Вселенских соборах в Никее и Царьграде (откуда его название: Никео-Цареградский) и принятый Православной Церковью: Верую во Единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, Единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради, человек, и нашего ради спасения сшедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым. Его же Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа Животворящаго. Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино Крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.
3
Среди новозаветной апокрифической литературы особое место занимают так называемые евангелия детства Спасителя. К ним относятся «Евангелие псевдо-Матфея», также называемое «Книга о рождении благодатной Марии и детстве Спасителя», «Книга Иосифа Плотника» и др. Все они восходят к одному памятнику, известному как «Евангелие детства», или «Евангелие от Фомы». Его полное название: «Сказание Фомы, израильского философа, о детстве Христа», и его не следует путать с коптским Евангелием от Фомы, найденном в Наг-Хаммади. Оно было известно уже святителю Иринею Лионскому, решительно протестовавшему против его восприятия как священного текста. Это свидетельствует о том, что оно возникло во II веке. В отличие от коптского Евангелия от Фомы, оно не отражает философской или богословской концепции какого-либо гностического течения, хотя и создано в гностической среде. «Евангелие детства» состоит из отдельных эпизодов, нанизанных на естественную хронологию роста ребенка, и целиком посвящено описанию чудес, совершенных младенцем Иисусом в возрасте от пяти до двенадцати лет. Оно в какой-то мере связано с иудейскими представлениями об особом детстве Мессии, но в гораздо большей мере находится под влиянием античной культуры (рассказы о детстве Геракла или Диониса). Как в этом евангелии, так и в прочих апокрифических евангелиях детства, младенец Иисус представлен могущественным Богом. Он наказывает всех своих противников (умер мальчик, который толкнул его, ослепли люди, которые жаловались на него). Однако он также исцеляет (соседа, поранившего себя топором, и т. д.) и даже воскрешает мертвых. Кроме того, он совершает и несколько символических чудес, говорящих о его будущем служении: он посылает летать 12 воробьев, собирает необыкновенный урожай с одного зерна и приносит воду в одежде. Евангелие детства Фомы и зависящие от него тексты не вступают в явную полемику с каноническими Евангелиями и в какой-то мере опираются на Евангелие от Луки. Однако образ Спасителя в них противоречит каноническим Евангелиям, и они были отвергнуты Вселенской Церковью.
4
А. К. Толстой. Грешница (поэма). Собр. соч. в 4 томах. М.: «Правда», 1969, т. 1, с. 481.
5
Преподобный Серафим Саровский. М.: Воскресенье, 1993, с. 185 и далее.
6
Русская гимназия в Париже, среднее учебное заведение, основанное группой русских педагогов в 1920 г., просуществовала до 1961 г.
7
Эту мысль Н. А. Бердяев высказывал в разной форме («мы не в изгнании, мы — в послании») неоднократно. См., например, вступительную статью к первому выпуску журнала «Путь» (Париж, 1925), обращение к I съезду РСХД и др.
8
Фотиевское братство основано в Париже в 1925 г. для ознакомления Запада с православием. Членами его были клирики и миряне, богословы В. Н. Лосский, Л. А. Успенский, братья Ковалевские, Н. А. Полторацкий, Андрей Блум (будущий митрополит Антоний) и др. Братство учредило Богословский институт св. Дионисия. После перехода митрополита Евлогия под омофор Константинопольского Патриархата осталось в юрисдикции Московского патриархата.
9
Архимандрит Афанасий (Нечаев). О нем см. воспоминания митрополита Антония в кн. «Проповеди и беседы». М., 1991; «Встреча». Киев: Пролог, 2004.
10
В конце 1920-х — начале 1930-х гг. Русская Церковь в эмиграции разделилась на несколько частей. Одна находилась в юрисдикции так называемого Карловацкого Синода в Югославии (впоследствии Русская Православная Церковь Зарубежом или Синодальная Церковь), другая оформилась как Русский Западноевропейский экзархат Константинопольского Патриархата с центром в Париже, возглавляемый митрополитом Евлогием (так называемая Евлогианская Церковь), третья — в Северной Америке — в конце концов провозгласила себя временно автономной (пока не получила автокефалию от Московской Патриархии в 1970 г.), четвертая сохранила каноническую верность Московскому Патриарху (зарубежные епархии и приходы Московского Патриархата, в том числе и Сурожская епархия в Великобритании).
11
Архимандрит Виталий (Устинов).
12
Содружество святого Албания и преподобного Сергия (англ: Fellowship of St. Alban and St. Sergius), православно-англиканское общество, образованное в 1928 г. с целью сближения восточных и западных христиан. С русской стороны вдохновителем Содружества был Н. М. Зернов, а одним из лидеров — протоиерей С. Булгаков. Основной формой деятельности Содружества стали ежегодные конференции, в которых участвовали православные и англиканские богословы и священослужители, студенты богословских учебных заведений. Выпускает журнал на английском языке, с 1935 г. называющийся «Соборность». С 2000 г. центр Содружества находится в Оксфорде.
13
Протоиерей Михаил Фортунато.
14
Епископ Николай (Еремин).
15
Патриарх Алексий II посетил Великобританию и Сурожскую епархию в октябре 1991 г
16
Протоиерей Михаил Гоголев.
17
Протоиерей Александр Фостиропулос.
18
Протоиерей Иоанн Ли.
19
Епископ Сергиевский Василий (Осборн).
20
Архимандрит Лев (Жилле).
21
Первый русский катехизис Православной Церкви, составленный святителем Филаретом Московским. См.: Филарет (Дроздов), митрополит Московский. Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. Издавался неоднократно.
22
Митрополит Антоний впервые был в Москве и лично встретился с патриархом Алексием I (Симанским) в октябре 1960 г.
23
Тертуллиан. Апология, 39. Отцы и учители в., т. 1. М.: 1993, с. 363.
24
То есть подчиняющийся непосредственно Патриарху, а не епархиальному архиерею.
25
Архиепископ Керченский Анатолий (Кузнецов).
26
Архимандрит Афанасий (Нечаев). О нем см. воспоминания митрополита Антония в кн. «Проповеди и беседы». М., 1991; «Встреча». Киев: Пролог, 2004.
27
Сходная история рассказывается в предании о жизни пророка Иеремии в Агаде. Песикта Раббати, 26.
28
Тайная молитва первого антифона: Господи Боже наш, Егоже держава несказанна и слава непостижима, Его же милость безмерна и человеколюбие неизреченно… Служебник. М.: Донской монастырь, Издательский отдел Московского Патриархата, 1991. Ч. 1, с. 100.
29
Williams, Charles. All Hallow’s Eve. Русск. изд.: Вильямс Ч. Дня Всех Святых. М.: Арда, 1999, с. 275—276.
30
Благодарим Тебя, Христос Бог наш, что насытил Ты нас земными Твоими дарами: не лиши нас и Небесного Твоего Царствия. Но как среди учеников Твоих пришел Ты, Спаситель, мир им даруя, приди и к нам и спаси нас.
31
Гофманшталь Гуго, фон. Ballade des äußeren Lebens.
32
См. славянский текст Пс 31:7: «Радосте моя, избави мя от обышедших (окруживших) мя».
33
См. Часть III, «Святой Ефрем Сирин».
34
«Путник». Огарев Н. П. Избранные произведения в 2 томах. М.: Худ. лит., 1956, т. 1, с. 113.
35
Михаил Иванович Феокритов.
36
Священник Павел Флоренский. Столп и утверждение истины. М., 1914, с. 16.
37
Эта мысль несколько раз в той или иной форме возникает в святоотеческой традиции. Впервые, видимо, у Игнатия Богоносца (Послание к Магнезийцам, 8. Sources Chrétiennes ¹ 10 bis, p. 86—87). Затем, например, у Максима Исповедника (см. Мистагогия, 4. Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. 1. М.: Мартис, 1993, с. 160).
38
Поскольку в Библии «святость» — это прежде всего «отделенность», Бог «отделяет» Себе во всей принадлежащей Ему вселенной еврейский народ как «удел», чтобы он исполнял заповеди и служил Ему — Единому Богу Израиля. В этом заключается смысл завета между Богом и еврейским народом, который поэтому называется народом избранным и святым (Исх 19:3—8).
39
Протопоп Аввакум. Житие. Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. М.: Худ. лит., 1989, с. 355.
40
По учению некоторых отцов Церкви, первый человек был создан, содержа в себе все возможности и мужского, и женского бытия. Эта идея прежде все присутствует у Филона Александрийского (в сочинении «О сотворении мира согласно Моисею», 152) и затем получает развитие у Отцов церкви (см., например, Григорий Нисский. Гомилия о сотворении мира, XVI).
41
Вл. Соловьев. Милый друг, иль ты не видишь… В. Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Л.: Сов. писатель, 1974, с. 93 (серия «Библиотека поэта»).
42
Свет Преображения, который видели апостолы на Фаворе (Мф 17:1—6; Мк 9:2—8; Лк 9:28—36), по учению Отцов церкви, — «свет, присущий Богу по Его природе: вечный, безначальный, вневременный и внепространственный, существующий вне тварного бытия». По словам Григория Паламы, этот свет, с одной стороны, «не восприемлем чувственно», а с другой — «зрим очами телесными» (Гомилия 34, на Преображение). См. Лосский В. Н. «Богословие и Боговидение». М.: Изд. Свято-Владимирского братства, 2000, особ. гл. «Паламитский синтез»; Лосский В. Н. «Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие». М., 1991, особ. гл. «Божественный свет».
43
Ср.: Солженицын А. И. Раковый корпус. Малое собрание сочинений. М.: ИНКОМ НВ, 1991, т. 4, с. 154.
44
Протоиерей Сергий Булгаков. «Православие». Париж: YMCA-Press, 1985, гл. 1, с. 31 и др.
45
Притча о соляной кукле восходит к Веданте и встречается во многих священных и интерпретирующих текстах индуизма. Там она призвана проиллюстрировать иллюзорность всякой индивидуализации и множественности. Своей популярностью в европейской культуре она обязана трудам Шри Рамакришны, часто ее пересказывавшего.
46
Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. М.: Паломник, 2005, с. 51.
47
Древний Патерик. М.: 1899. Изд. 3-е. (репринт М.: 1991), с. 318—319.
48
В гробу плотью, и в аду, Боже, душой, в раю с разбойником и на престоле со Отцом и Духом был Ты в тот же час, все Собой наполняющий и не имеющий границ.
49
Блаженный Иоанн Мосх. Луг духовный. Сергиев Посад, 1915 (репринт 1991 г.) Гл. 196.
50
В богослужебной практике «тайными» называют евхаристические молитвы, которые священник читает не вслух, а вполголоса или молча. Большинство исследователей предполагает, что такая практика родилась из замены так называемых беззвучных прошений народа о себе и о своих нуждах молитвами, произносимыми священником от лица всех верующих (см. Дмитревский И. «Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной литургии». Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, 1997, с. 183—184). Некоторые ученые считают, что понимание евхаристических молитв как «секретных» и потому не провозглашаемых родилось от смешения в славянских служебниках понятия «тайный» и «та{'}инственный», т. е. «совершающий таинство» и по смыслу большинства этих молитв они должны произноситься всеми участвующими в литургии. Подробный анализ проблемы дан в книге: Протоиерей Николай Балашов. «На пути к литургическому возрождению». М.: Духовная библиотека, 2001, с. 358—370.
51
См. Валаамский патерик. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь; Паломник: 2003, т. II, с. 31—34.
52
Тертуллиан. Апология, 39. Отцы и учители III в., т. 1. М.: 1993, с. 363.
53
См. славянский текст Пс 31:7: «Радосте моя, избави мя от обышедших (окруживших) мя».
54
См. Отечник. Избранные изречения святых иноков и повести из жизни их, собранные епископом Игнатием (Брянчаниновым). Брюссель: Жизнь с Богом, 1963, с. 71, п. 6.
55
Молитва во время херувимской песни. См. Служебник. М.: Донской монастырь, Изд. отдел Моск. Патр., 1991. Ч. 1, с. 125—126.
56
Ср.: Преподобный Иоанн, игумен Синайский. Лествица. Сергиев Посад, 1908 (репр. 1994), с. 204. Слово 26, о рассуждении. П. 154.
57
Чин проскомидии. См. Служебник. М.: Донской монастырь, Изд. отдел Моск. Патр., 1991. Ч. 1, с. 80.
58
В конце 1920-х — начале 1930-х гг. Русская Церковь в эмиграции разделилась на несколько частей. Одна находилась в юрисдикции так называемого Карловацкого Синода в Югославии (впоследствии Русская Православная Церковь Зарубежом или Синодальная Церковь), другая оформилась как Русский Западноевропейский экзархат Константинопольского Патриархата с центром в Париже, возглавляемый митрополитом Евлогием (так называемая Евлогианская Церковь), третья — в Северной Америке — в конце концов провозгласила себя временно автономной (пока не получила автокефалию от Московской Патриархии в 1970 г.), четвертая сохранила каноническую верность Московскому Патриарху (зарубежные епархии и приходы Московского Патриархата, в том числе и Сурожская епархия в Великобритании).
59
Господи, Пресвятого Твоего Духа в третий час апостолам Твоим ниспославший, Ты Его, Всеблагой, не отними у нас, но возроди нас, молящихся Тебе… / Чистое сердце выстрой в нас, Боже, и дух правды восстанови в утробах наших.
60
См. Отечник. Избранные изречения святых иноков и повести из жизни их, собранные епископом Игнатием (Брянчаниновым). Брюссель: Жизнь с Богом, 1963, с. 71, п. 6.
61
Молитва во время херувимской песни. См. Служебник. М.: Донской монастырь, Изд. отдел Моск. Патр., 1991. Ч. 1, с. 125—126.
62
Вот и отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, как обещал, с миром: ибо увидели глаза мои спасение Твое, как приготовил Ты его перед всеми людьми: свет откровения для язычников, и славу народа Твоего, Израиля.
63
Среди новозаветной апокрифической литературы особое место занимают так называемые евангелия детства Спасителя. К ним относятся «Евангелие псевдо-Матфея», также называемое «Книга о рождении благодатной Марии и детстве Спасителя», «Книга Иосифа Плотника» и др. Все они восходят к одному памятнику, известному как «Евангелие детства», или «Евангелие от Фомы». Его полное название: «Сказание Фомы, израильского философа, о детстве Христа», и его не следует путать с коптским Евангелием от Фомы, найденном в Наг-Хаммади. Оно было известно уже святителю Иринею Лионскому, решительно протестовавшему против его восприятия как священного текста. Это свидетельствует о том, что оно возникло во II веке. В отличие от коптского Евангелия от Фомы, оно не отражает философской или богословской концепции какого-либо гностического течения, хотя и создано в гностической среде. «Евангелие детства» состоит из отдельных эпизодов, нанизанных на естественную хронологию роста ребенка, и целиком посвящено описанию чудес, совершенных младенцем Иисусом в возрасте от пяти до двенадцати лет. Оно в какой-то мере связано с иудейскими представлениями об особом детстве Мессии, но в гораздо большей мере находится под влиянием античной культуры (рассказы о детстве Геракла или Диониса). Как в этом евангелии, так и в прочих апокрифических евангелиях детства, младенец Иисус представлен могущественным Богом. Он наказывает всех своих противников (умер мальчик, который толкнул его, ослепли люди, которые жаловались на него). Однако он также исцеляет (соседа, поранившего себя топором, и т. д.) и даже воскрешает мертвых. Кроме того, он совершает и несколько символических чудес, говорящих о его будущем служении: он посылает летать 12 воробьев, собирает необыкновенный урожай с одного зерна и приносит воду в одежде. Евангелие детства Фомы и зависящие от него тексты не вступают в явную полемику с каноническими Евангелиями и в какой-то мере опираются на Евангелие от Луки. Однако образ Спасителя в них противоречит каноническим Евангелиям, и они были отвергнуты Вселенской Церковью.
64
L. Zander. Vision and Action. London, 1952.
65
В 1961 г., на III ассамблее Всемирного Совета Церквей в Нью-Дели (Индия).
66
Chavchavadze Paul. Father Vikenty. Boston: Houghton Miffin Co., 1955.
67
Москва, декабрь 1973 г.
68
Древний Патерик, изложенный по главам. М, 1899. Изд. 3-е (репринт: М., 1991), с. 318.
69
Gheorghiu C. Virgil. De la vingt-cinquième heure à l'heure éternelle. Paris: Librairie Plon, 1965, p. 7—8.
70
Ириней Лионский. Против ересей, 4:38:3. СПб: 1900 (репринт 1996), с. 435.
71
Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Полн. собр. соч. в 30 томах. Л.: Наука, 1970—1990, т. 14, с. 268.
72
André Frossard. Dieu existe, je l’ai rencontré. Paris: A. Fayard, 1969.
73
Священник Павел Флоренский. Столп и утверждение истины. М., 1914, с. 16.
74
Рабби Моше бен Маймон (Рамбам, Маймонид). Путеводитель растерянных. М.: Мосты культуры, 2000. Гл. 61, с. 321—324 и др.
75
Мф 7:6: Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями.
76
Беседы в Лондонском приходе. Сентябрь—декабрь 1994 г.
77
Ср.: Лесков Н. С. Собр. соч. в 12 томах. М.: Правда, 1989, т. 1. Соборяне, с. 94.
78
См.: Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней святителя Димитрия Ростовского. М.: Синод. тип., 1904 (репринт 1993 г.). Кн. 5. Ч. 2. Январь, с. 146—147.
79
Н. С. Лесков. Скоморох Памфалон. Собр. соч. в 12 томах. М.: «Правда», 1989, т. 10, с. 113— 165.
80
Паскаль Б. Мысли. М.: Фолио, 2003, с. 95.
81
Русское Студенческое Христианское Движение (РСХД) — основано в 1923 г. в Пшерове (Чехословакия) на съезде христианских молодежных кружков, существовавших к тому времени во всех главных центрах русской эмиграции. Целью Движения стало объединение верующей молодежи для служения Православной Церкви под знаком «воцерковления жизни и культуры», а также миссия в эмигрантской молодежной среде. В течение нескольких десятилетий Движение возглавлял профессор В. В. Зеньковский, впоследствии священник. Движение занималось христианской просветительской работой (съезды, лекции, собрания, организация библиотек, издание литературы), воспитанием детей и молодежи (детские сады, молодежные клубы, приюты, летние лагеря), а также помощью нуждающимся эмигрантам. С 1925 г. работа РСХД, центр которого находится в Париже, охватила большинство стран Европы. В его работе, проводившейся по благословению и при участии митрополита Евлогия (Георгиевского), принимали участие Н. Бердяев, протоиерей Сергий Булгаков, Л. Зандер, Н. Зёрнов, И. Лаговской, Ф. Пьянов, Е. Скобцова (мать Мария), протоиерей Сергий Четвериков (духовник Движения) и другие церковные деятели русского зарубежья. Наиболее активным был межвоенный период истории Движения, которое возродилось и продолжило свою деятельность после войны с участием протоиерея Алексея Князева, протопресвитера Александра Шмемана, К. Ельчанинова и др. С 1960-х гг. РСХД активно помогало процессам религиозного возрождения в России (издания ИМКА-Пресс, Вестник РСХД, Фонд помощи верующим в России). В настоящее время РСХД продолжает существовать во Франции в качестве православного молодежного движения.
82
Ис 7:15—16 в славянском переводе: Се, Дева во чреве зачнет и родит Сына, и наречеши имя ему Еммануил. Масло и мед снесть, прежде неже разумети ему изволити злая, или избрати благое: зане прежде неже разумети отрочати благое или злое, отринет лукавое, еже избрати благое.
83
Текст Символа веры, выработанный в IV в. на I и II Вселенских соборах в Никее и Царьграде (откуда его название: Никео-Цареградский) и принятый Православной Церковью: Верую во Единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, Единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради, человек, и нашего ради спасения сшедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым. Его же Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа Животворящаго. Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино Крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.
84
Здесь и дальше митрополит Антоний приводит тексты молитв в русифицированной форме.
85
См. далее «Беседы о Символе веры».
86
И подай ей благодать спасения, благословение Иорданское. Сделай ее источником бессмертия, освобождением от грехов, исцелением от недугов, гибелью для демонов, сделай ее неприступной для враждебных сил, исполненной силы ангельской.
87
См. далее беседу «Святой Дух».
88
Возбуждающий, производящий радость (слав.)
89
Укрепляется (слав.)
90
Протоиерей Михаил Фортунато.
91
Ср.: Лесков Н.С. Собр. Соч. в 12 т. М.: Правда, 1989. Т. !. С. 94.
92
Прот. С. Булгаков. Православие. Париж: YMCA-Pressб 1985. С. 31 и др.
93
Беседы в лондонском приходе. Январь—июнь 1996 г. Текст Символа веры, выработанный в IV в. на I и II Вселенских соборах в Никее и Царьграде (откуда его название: Никео-Цареградский) и принятый Православной Церковью: Верую во Единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, Единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради, человек, и нашего ради спасения сшедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым. Его же Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа Животворящаго. Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино Крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.
94
«Отрицательное», или апофатическое (как его принято называть в отличие от «положительного», катафатического), богословие — это, если воспользоваться определением В. Н. Лосского, тот путь в познании Бога, которым пошли греческие отцы Церкви, — путь отрицаний. Этот путь «стремится познать Бога не в том, что Он есть (т. е. не в соответствии с нашим тварным опытом), а в том, что Он не есть». Этот путь состоит из последовательных отрицаний сначала всего тварного (даже славы звездных небес), затем самых возвышенных атрибутов, и наконец исключается само бытие. «Бог не есть что-либо, в самой природе своей Он непознаваем, Он не-есть». См.: Лосский В. Н. «Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие». М.: Центр «СЭИ», 1991.
95
Протопоп Аввакум. Житие.// Памятники литературы Древней Руси: XVII век, кн. 2. М.: Худож. лит-ра, 1989. С. 355.
96
Трубецкой Е. Смысл жизни. М.: Республика, 1994.
97
Молитва из Литургии святителя Василия Великого, во время пения «Достойно и праведно есть». См. Служебник. М.: Донской монастырь, Изд. отдел Моск. Патр., 1991. Ч. 2, с. 387.
98
Вильямс Ч. Канун Дня Всех Святых. М.: Арда, 1999, с. 38.
99
В еврейском оригинале (Быт 1:2) стоит словосочетние … (тоху вавоху), представляющее собой hapax legomena, т. е. выражение с совершенно непроясняемым значением. В Септуагинте (см. прим. на с. 553) это словосочетание передано как ….(в синодальном переводе, соответственно, «безвидна и пуста»), что, по-видимому, призвано описательно выразить значение «хаос». Словом «хаос» греческие переводчики не воспользовались, вероятно, желая избежать ассоциации с мифологическим персонажем Хаосом.
100
Тема падения ангелов и возникновения враждебного небесному ангельского воинства (воинства дьявола, сатаны) занимает значительное место в еврейской апокрифической литературе, прежде всего в книге Еноха (см. Тантлевский И. Р. Книги Еноха. М.: Мосты культуры, 2000). О падении ангелов пишут ранние отцы, хорошо знакомые с еврейской традицией, например Иустин Мученик, Тертуллиан, Ириней Лионский. В трудах этих и других ранних отцов падение ангелов связывалось с рассказом книги Бытия о браках ангелов с дочерьми человеческими (Быт 6:1—4). Византийские отцы, например Василий Великий, не согласны с тем, что эта история тождественна падению сатаны в Новом Завете (Лк 10:18), а блаженный Августин, хотя и связывает эти два рассказа, но подчеркивает, что причиной падения ангелов был отказ их главы, Люцифера, подчиниться Богу (см., например: Блаженный Августин. О Граде Божием. Кн. 15, гл. 22—23).
101
Лактанций. De irae Dei. C XIII. 0121AB.
102
«Бар аба» — по-арамейски букв. «сын отца» или «сын своего отца» — обычное в ту эпоху имя для подкидыша или незаконнорожденного (аналогично, например, русскому «Иван, не помнящий родства», отсюда фамилия «Непомнящий»). Ученые не исключают здесь возможности простой констатации факта; среди крайних националистов, зелотов, преобладали выходцы из низших слоев общества, что, конечно, нисколько не отменяет зловещего символизма этого имени.
103
Предусмотрел (слав.)
104
«Ich bin so groß als Gott: Er ist als ich so klein». Angelus Silesius. Cherubinischer Wandersmann. Erstes Buch, 10. Halle a. S. 1895. Русск. пер. Ангелус Силезиус. Херувимский странник. СПб: Наука, 1999, с. 57.
105
Преподобный Серафим Саровский. М.: Воскресенье, 1993, с. 185 и далее.
106
См., например: «По поводу одного окружного послания». Хомяков А. С. Богословские сочинения. СПб: Наука, 1995, с. 120
107
Преподобный Исаак Сирин. О Божественных тайнах и о духовной жизни. Новооткрытые тексты. Пер. с сир. епископа Илариона (Алфеева). СПб.: Алетейя, 2003. 2-е изд.
108
Митрополит Киевский Платон (Городецкий). Это высказывание часто приписывается разным иерархам Русской Церкви.
109
Богословие «смерти Бога» — течение в протестантской теологии 1960-х — начала 1970-х гг., возникшее в результате упадка традиционной религии как стремление отказаться от «устаревших» форм христианства и определить место христианства в современном мире. Протестантские теологи, создавшие это течение, вдохновлялись поздними работами Д. Бонхёффера, в первую очередь «Тегельскими письмами», и во многом использовали его терминологию. Они утверждали, что современный человек больше не обращается к Богу как избавителю и помощнику, он решает свои проблемы во взаимодействии с миром. Само слово «Бог» потеряло в современном культурном языке свой смысл, поэтому быть христианином означает перейти от проблем веры к реальности любви. Таким образом, признание христианином смерти Бога есть принятие на себя части искупительной жертвы Иисуса Христа, отречение от теоретических спекуляций ради служения людям в гуще жизни. Богословие «смерти Бога» связано прежде всего с именами У. Гамильтона, П. ван Бурена, Т. Альтицера. В настоящее время это течение, оказавшееся внутренне достаточно противоречивым, имеет мало сторонников.
110
Бернанос Ж. Под солнцем Сатаны. Дневник сельского священника. Новая история Мушетты. М.: Художественная литература, 1978, с. 482—483.
111
Жан-Батист Мари Вианне.
112
Беседа в Лондонском приходе 21 октября 1999 г. Первая публикация: Вестник РХД. 2003. № 186.
113
Псевдо-Дионисий Ареопагит. Письмо 8, к Демофилу.
114
Г. Ф. Фрейлиграт. Пер. А. Н. Плещеева. «Люби, пока любить ты можешь…»
115
Протоиерей Георгий Шумкин.
116
Женева, 30 марта 1967 г. Пер. с англ.
117
Молитва из Литургии святителя Иоанна Златоуста, во время пения «Достойно и праведно есть». См. Служебник. М.: Донской монастырь, Изд. отдел Моск. Патр., 1991. Ч. 1, с. 139.
118
Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба (1 Кор 15:45, 47). Мысль митрополита Антония состоит в том, что и Ветхий и Новый Завет являются реализациями, вариациями (связанными с событием первородного греха), исполнениями того изначального завета, той изначальной связи человека с Богом, к которой Бог человека призвал, сотворив его по Своему образу и подобию.
119
Булгаков С. Н. Свет невечерний. М.: Республика, 1994, с. 213, 215.
120
Установительными словами в таинстве, или тайносовершительной формулой, в школьном богословии называются слова, при которых совершается таинство. Эти слова, таким образом, являются перформативными — осуществляют то, о чем говорят. Например: Крещается раб Божий (имярек) во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь — тайносовершительная формула Крещения. Слова Преложив Духом Твоим Святым — тайносовершительная формула Евхаристии в православном понимании. А в Римско-Католическом понимании таковыми словами являются Сие есть Тело Мое… Сия есть Кровь Моя… На Руси следование такому пониманию получило название хлебопоклонной ереси. Воспоминание в Евхаристии — это воспроизведение реальной Тайной Вечери, а не интеллектуальное воспоминание об единократном событии, имевшем место в конце земной жизни Господа. В этом смысле оно находится в вечности, и споры о тайносовершительных формулх основаны на непонимании этой погруженности в вечность.
121
Беседа в Содружестве свмч. Албания и преп. Сергия 28 октября 1971 г. Пер. с англ. Первая публ.: Альфа и Омега. 2005. № 3(44).
122
См. Archimandrite Cassien (Besobrasoff). La Pentecôte Johannique, Valence-sur-Rhône, 1939.
123
Ириней Лионский. Против ересей, 4:38:3. СПб: 1900 (репринт 1996), с. 435.
124
Поскольку в Библии «святость» — это прежде всего «отделенность», Бог «отделяет» Себе во всей принадлежащей Ему вселенной еврейский народ как «удел», чтобы он исполнял заповеди и служил Ему — Единому Богу Израиля. В этом заключается смысл завета между Богом и еврейским народом, который поэтому называется народом избранным и святым (Исх 19:3—8).
125
Молитва из Литургии святителя Иоанна Златоуста, во время пения «Достойно и праведно есть». См. Служебник. М.: Донской монастырь, Изд. отдел Моск. Патр., 1991. Ч. 1, с. 139.
126
См.: Видения св. Ермы. Белая Церковь. Королевство СХС: Православно-миссионерское книгоиздательство, 1920.
127
Беседы в методистской общине в местечке Kemble 2 июня 1984 г. Пер. с англ.
128
Готорн Н. Великий каменный лик. М.— Л.: Худ. лит, 1965.
129
Cм. Bernard Nodet. Le Curé d’Ars. Sa pensée, son coeur. Ed. X. Mappus, 1966, p. 85.
130
Жития святых на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней святителя Димитрия Ростовского. М.: Синод. тип, 1904 (репринт 1993 г.). Кн. 5. Ч. 2, с. 50—51.
131
«Верую в Бога, Отца, Всемогущего, Творца неба и земли. И в Иисуса Христа, Его единственного Сына, нашего Господа, зачатого Святым Духом, рожденного Девой Марией, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, на третий день воскресшего из мертвых, взошедшего на небо, сидящего по правую руку Бога, всемогущего Отца; Он и придет оттуда судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, святую всеобщую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение плоти и вечную жизнь. Аминь». Апостольский Символ веры, по преданию, составленный двенадцатью апостолами, впервые упоминается в конце IV в. у святителя Амвросия Медиоланского. Принят в Западной Церкви наряду с Никео-Цареградским Символом веры.
132
Собрание писем святителя Феофана. Выпуск второй. М.: 1898 (репр. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь: Паломник, 1994), с. 199.
133
Первое русск. изд.: Учитесь молиться!. М.: Зачатьевский монастырь, 1999. Вошло в сб.: Школа молитвы. Клин, 2000, 2003.
134
Блаженный Августин Гиппонский. Исповедь. Кн. VIII, гл. 7.
135
Бубер М. «Хасидские предания». М.: Республика, 1997. Хасидизм — народное духовное движение, возникшее внутри восточноевропейского иудаизма во второй четверти XVIII в., широко распространившееся в еврейском религиозном мире и существующее поныне. Многочисленные книги М. Бубера о хасидизме, и в особенности его пересказы хасидских преданий, ввели это духовное движение в современный культурный контекст
136
Райнер Мария Рильке. Часослов. Пер. с нем. С. В. Петрова. СПб.: Азбука, 1998, с. 16.
137
Да будет путь его во мраке и ангел Господень пусть хлещет его! Да будет путь его темен и скользок и Ангел Господень пусть гонит его! Да будут они, как прах перед лицом ветра!
138
Ср.: Льюис К. С. Любовь. Страдание. Надежда. М.: Республика, 1992, с. 360—361.
139
Беседы 8 ноября 1985 г. — 21 февраля 1986 г. и 14 ноября — 12 декабря 1986 г. Пер. с англ.
140
Преподобный Серафим Саровский. М.: Воскресенье, 1993, с. 185 и далее.
141
Священник Александр Ельчанинов. Записи. Paris: YMCA-Press, 1962; М.: Русский Путь, 2001, и др. изд.
142
Митрополит Антоний употребляет это слово в соответствии с французским оригиналом, как синоним верности, преданности.
143
Собрание писем святителя Феофана. Выпуск шестой. М.: 1899 (репр. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь: Паломник, 1994), с. 69—70.
144
Мысль о космическом характере воплощения Христа пронизывает все богословие Максима Исповедника. См., например: Ambigua, 33. PG 1764D. Quaestiones et dubia, 173. Corpus Christianorum, Series Graeca ¹ 10. Turnhout, 1982. p. 120.7—12.
145
Ср.: Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Св.-Троицкая Сергиева лавра, 1993 (репринт), с. 100, п. 4.
146
Булгаков С.Н. Свет невечерний. М. Республика, 1994, с. 213, 215
147
Епископ Феофан. Путь ко спасению (краткий очерк аскетики). Начертания христианского нравоучения. М., 1908. Переиздавалось неоднократно.
148
В. Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Богословские труды. М.: Московская Патриархия, 1972. Сб. 8. Текст неоднократно переиздавался.
149
Благодать и энергия — связанные, но не тождественные концепты. Энергия — термин богословский в собственном смысле слова, то есть он относится к Богу безотносительно к Его отношению к творению. Энергия, по Лосскому, — это преизбыточествование природы над сущностью. Лосский приводит образ солнечного излучения, которое имело бы место, даже если бы никто не пользовался солнечным светом и теплом. Энергия — это функция только природы (а не воли). Благодать — это энергия, которая по Божественной воле сообщается людям.
150
И подай ей благодать спасения, благословение Иорданское. Сделай ее источником бессмертия, освобождением от грехов, исцелением от недугов, гибелью для демонов, сделай ее неприступной для враждебных сил, исполненной силы ангельской.
151
См. прим. на с. 435.
152
См.: Видения св. Ермы. Белая Церковь. Королевство СХС: Православно-миссионерское книгоиздательство, 1920.
153
Империя и пустыня. Протоиерей Г. Флоровский. Догмат и история. М: Изд. Св. Владимирского братства, 1998, с. 256—291.
154
Ср.: Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Св.-Троицкая Сергиева лавра, 1993 (репринт), с. 26, п. 38.
155
Паскаль Б. Мысли. М.: Фолио, 2003, с. 95.
156
«Добротолюбие» (греч. букв.: «любовь к красоте») — собрание аскетических, мистических и богословских текстов святых отцов, составленное в XVIII в. святителем Макарием Нотарасом, в которое вошли наставления отцов-пустынников — Антония Великого, Макария Великого, аввы Дорофея, Иоанна Лествичника и многих других, а также избранные места из произведений великих богословов — Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова, Григория Паламы и др. «Добротолюбие», переведенное на славянский язык в 1793 г. и неоднократно переиздававшееся, получило широкое распространение в русской Церкви. В наибольшей степени влияние «Добротолюбия» сказалось на развитии традиции старчества, в первую очередь Оптинского.
157
Ср.: Древний Патерик, изложенный по главам. М, 1899. Изд. 3-е (репринт: М., 1991), с. 21, п. 8(5).
158
См., например, Древний Патерик, изложенный по главам. М.: 1899 (репринт М.: 1991), с. 237, п. 9(8), с. 333, п. 2(1).
159
См. славянский текст Пс 31:7: «Радосте моя, избави мя от обышедших (окруживших) мя».
160
Древний Патерик, изложенный по главам. М, 1899 (репринт: М., 1991), с. 145.
161
Ср.: Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Св.-Троицкая Сергиева лавра, 1993 (репринт), с. 36, п. 10.
162
Mister God, this is Anna, by Finn. L.: Collins, 1974. Русск. изд.: Финн. Мистер Бог, это Анна. Пер. О. Бухина. Одесса: «Два Слона», 1997.
163
Древний Патерик, изложенный по главам. М, 1899. Изд. 3-е (репринт: М., 1991), с. 156—157.
164
Древний Патерик, изложенный по главам. М, 1899. Изд. 3-е (репринт: М., 1991), с. 255.
165
Древний Патерик, изложенный по главам. М, 1899. Изд. 3-е (репринт: М., 1991), с. 326.
166
Древний Патерик, изложенный по главам. М, 1899. Изд. 3-е (репринт: М., 1991), с. 161—162.
167
Лондон, 9 февраля 1971 г. Пер. с англ.
168
Пер. с англ. Беседа в Лондоне 4 июня 1970 г. Первая сокращенная публикация: Фома. Газета для входящих в храм. Прилож. к журн. Фома. 2003. № 7, с. 1—4. Существует множество изданий его жизнеописания. Одно из наиболее полных: Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. М.: Паломник, 2005; впервые издана в 1903 г. Составлена архимандритом (впоследствии митрополитом и новомучеником) Серафимом (Чичаговым), много сделавшим для канонизации преподобного Серафима.
169
Преподобный Иоанн Колов
170
Древний Патерик, изложенный по главам. М, 1899. Изд. 3-е (репринт: М., 1991), с. 269, п. 7.
171
Древний Патерик, изложенный по главам. М, 1899. Изд. 3-е (репринт: М., 1991), с. 21.
172
Собрание писем святителя Феофана. Выпуск третий. М.: 1898 (репр. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь: Паломник, 1994), с. 43—44.
173
Древний Патерик, изложенный по главам. М, 1899. Изд. 3-е (репринт: М., 1991), с. 286—287.
174
Преподобный Серафим Саровский. М.: Воскресенье, 1993, с. 185 и далее.
175
См. Отечник. Избранные изречения святых иноков и повести из жизни их, собранные епископом Игнатием (Брянчаниновым). Брюссель: Жизнь с Богом, 1963, с. 71, п. 6.
176
14 мая 1986 г. Пер. с англ. Первая публ.: Церковь и время. 2001. № 4 (17).
177
В синодальном переводе: наше жительство на небесах (Флп 3:20).
178
В. Ф. Марцинковский.
179
Henri Bosco. L’Ane Culotte. Paris: Gallimard, 1937.
180
Проповедь в университетском храме Great St. Mary, Кембридж, 5 марта 1978 г. Пер. с англ. Первая публикация: Континент. 2003. № 117.
181
Февраль 1970 г. Пер. с франц. Первая публ.: Континент. 1996. № 89.
182
Ф. Т. Пьянов.
183
«Мир всем людям злой воли! Да престанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию… Преступления переполнили чашу, человеческий разум не в силах больше вместить их. Неисчислимы сонмы мучеников… Поэтому не возлагай их страдания на весы Твоей справедливости, Господи, не обращай их против мучителей грозным обвинением, чтобы взыскать с них страшную расплату. Воздай им иначе! Положи на весы, в защиту палачей, доносчиков, предателей и всех людей злой воли — мужество, духовную силу мучимых, их смирение, их высокое благородство, их постоянную внутреннюю борьбу и непобедимую надежду, осушавшую слезы, их любовь, их истерзанные, разбитые сердца, оставшиеся непреклонными и верными перед лицом самой смерти, даже в моменты предельной слабости… Положи все это, Господи, перед Твоими очами в прощение грехов, как выкуп, ради торжества праведности, прими во внимание добро, а не зло! И пусть мы останемся в памяти наших врагов не как их жертвы, не как жуткий кошмар, не как неотступно преследующие их призраки, но как помощники в их борьбе за искоренение разгула их преступных страстей. Ничего большего мы не хотим от них. А когда все это кончится, даруй нам жить как людям среди людей, и да возвратится на нашу исстрадавшуюся землю мир — мир людям доброй воли и всем остальным». См. Молитва и жизнь. Клин: Христ. жизнь, 2005, с. 28—30; Школа молитвы. Там же, 2000, 2003, с. 18—19.
184
IV Генеральная ассамблея Всемирного Совета Церквей, проходившая в Швеции в 1967 г.
185
«Церковь и Общество» — конференция, проведенная Всемирным Советом Церквей в 1966 г.
186
Лондон, 2001 г. Записала В. И. Матвеева. Первая публикация: Континент. 2004. № 120.
187
На III Генеральной ассамблее Всемирного Совета Церквей в Нью-Дели (1961).
188
1988—1989 г. Первая публикация: Альфа и Омега. 1998. № 1(15).
189
1 февраля 1986 г. Пер. с англ. Первая публикация: Вестник РХД. 2002. № 184.
190
В последнее время исследователи шумерского языка и культуры пришли к выводу, что на историю о сотворении Евы («Ева» на иврите — «живущая») из ребра Адама повлиял шумерский миф о сотворении человека. По-шумерски слова «ребро» и «жизнь» омонимичны, поэтому представление о рождении женщины из жизни мужчины могло трансформироваться в представление о рождении ее из ребра (см. «В начале начал. Антология шумерской поэзии». Пер., ред., комм. В. К. Афанасьевой. СПб: Петербургское востоковедение, 1997).
191
Вильямс Ч. Канун Дня всех святых. М.: Арда, 1999, с. 80.
192
Молитва на Литургии при раздроблении освященного Агнца. См. Служебник. М.: Донской монастырь, Издательский отдел Московского Патриархата, 1991. Ч. 1, с. 157.
193
Лондон, 9 мая — 26 июня 1989 г. Пер. с англ.
194
Thomas Hopko. Women and the Priesthood. Crestwood: SVS Press, 1983.
195
Межправославное богословское совещание на о. Родос осенью 1988 г. «Место женщины в Церкви и вопрос рукоположения женщин».
196
Теория Большого взрыва (Big-bang model) — широко распространенное в современной науке представление о происхождении и развитии Вселенной. Согласно этой теории, произошедший около 13 миллиардов лет назад взрыв сверхплотной массы сверхвысокой температуры привел к возникновению и постоянному расширению Вселенной в пространстве и времени.
197
См. Раннехристианские Отцы Церкви. Антология. Брюссель: Жизнь с Богом, 1978. Пастырь Ерма. Видение третье.
198
Господствующее в традиции иудаизма представление о том, что в сакральном понимании имя и сущность тождественны, а потому до конца непознаваемы, восходит к широко распространенному мифологическому архетипу — шумерскому, египетскому, индийскому и др. (см., например: «Мифы народов мира». М., 1980, ст. «Имена»). В богословии иудаизма эта тема приобрела особое значение благодаря начавшемуся во времена Второго Храма (после 440 г. до н. э.) и все усиливавшемуся и расширявшемуся вплоть до средневековья запрету на произнесение Имени Божьего. В эту эпоху утвердился обычай заменять не только имена Бога, но и большинство эпитетов словом «Имя» с определенным артиклем (хаше{'}м). Глубокую богословскую и философскую интерпретацию этого запрета, связанную с проблемой познаваемости и непознаваемости Бога, дал Маймонид в своем главном труде «Путеводитель растерянных», гл. 61—65 (Рабби Моше бен Маймон. «Путеводитель растерянных». М.: Мосты культуры, 2000).
199
Септуагинта, перевод семидесяти (LXX) — греческий перевод Ветхого Завета, по преданию осуществленный 72 переводчиками (толковниками) в III в. до н. э. по заказу Птолемея Филадельфа (285—246) для Александрийской библиотеки.
200
Ср.: Быт 2:18, 20. В оригинале э{'}зер кенегдо{'} — букв.: помощник, или помощь напротив него. В синодальном переводе Быт 2:18 — помощника, соответственного ему, Быт 2:20 — помощника, подобного ему.
201
Первоначально задуманные три беседы были расширены, и всего их было шесть (прим. пер.)
202
По существу (франц.)
203
Сшиваше кожныя ризы грех мне, обнаживый мя первыя боготканныя одежды. (Кожаные одежды сшил мне грех, сняв с меня первоначальное Богом сотканное одеяние.) Великий канон преп. Андрея Критского. Песнь 2. Тропарь 12.
204
Каждый, желающий быть блаженным, должен прежде всего иметь общую христианскую веру. Тот же, кто не сохраняет ее неизменной и неподдельной, несомненно останется навеки потерянным. / Наша общая христианская вера в том, что мы поклоняемся единому Богу в Трех Лицах и Трем Лицам в одном Божестве, и при этом не смешиваем лица и не разрываем Божественной Сущности. / Первое из них — Личность Отца, второе — Личность Сына и третье — Личность Святого Духа. / Но Отец, и Сын, и Святой Дух — одно Единое Божество, равноценное в славе и в вечном величии. / Таков Отец, таков Сын, и таков Святой Дух. / Не сотворен Отец, не сотворен Сын, и не сотворен Святой Дух. / Бесконечен Отец, бесконечен Сын, и бесконечен Святой Дух. / Отец вечен, Сын вечен, и Святой Дух вечен, / И не три вечных, а Один Вечный, / Также и не три несотворенных, и не три бесконечных, / А Один Несотворенный, и Один Бесконечный. / Также и Отец Всемогущий, Сын Всемогущий, и Святой Дух Всемогущий, / И так же не три всемогущих, а Один Всемогущий. / Так и Отец Бог, Сын Бог, и Святой Дух Бог, не три Бога, а Один Бог. / Так и Отец Господь, Сын Господь, и Святой Дух Господь, не три Господа, но Один Господь. / Ибо как требует того христианская истина, признаем каждое Лицо и Богом и Господом. / Также общая христианская вера препятствует нам называть трех Богами или трех Господами. / Отец не создан, не сотворен и не рожден. / Сын есть от Отца и только от Отца — не создан и не сотворен, но рожден. / Святой Дух есть от Отца и Сына — не создан, и не сотворен или рожден, но послан. / Поэтому один Отец, а не три Отца, один Сын, а не три Сына, один Святой Дух, а не три Святых Духа. / И из всех трех Лиц ни один не первый, и ни один не последний, ни один не меньший, и ни один не больший, но все три Лица одинаково вечны и одинаково велики, / Чтобы во всем этом, как сказано, всем трем Лицам поклонялись как единому Божеству и в одном Божестве — всем трем Лицам. / Итак, кто хочет быть блажен, должен разуметь о трех Лицах Божества. / Но для вечного блаженства необходимо твердо верить, что Господь наш Иисус Христос стал плотью. / В том истинная вера, чтобы верить, что наш Господь Иисус Христос, Сын Божий, одинаково как Бог, так и Человек. Так называемый Афанасиев Символ веры — святоотеческий текст, до недавнего времени печатавшийся во всех изданиях Псалтыри и Следованной Псалтыри как один из важнейших вероучительных текстов Православной Церкви. Впоследствии было доказано, что этот текст Афанасию Великому не принадлежит. Большинство ученых считает, что он составлен во второй половине V века, хотя среди предполагаемых авторов называют и Отцов более раннего времени, например Викентия Леринского или Илария Пиктавийского.
205
Эдгар По. Месмерическое откровение. Собр. соч. в 4 томах. М.: Пресса, 1993, т. 3, с. 49—59.
206
«Хитрый» в приложении к Богу встречается в богослужебных книгах в значении «умелый», «умеющий все», «премудрый». См., например, Ирмологий, глас 7, песнь 9, ирмос 2.
207
Рабби Моше бен Маймон (Рамбам, Маймонид). Путеводитель растерянных. М.: Мосты культуры, 2000, гл. 59, с. 307—312.
208
Ср.: Толстой Л. Н. Война и мир. Эпилог. Ч. 1. Х.
209
O. Clément. Notes sur la théologie de l’histoire chez Saint Irénée. Вестник Русского Западноевропейского Патриаршего Экзархата. 1954. № 18, с. 74—96.
210
Персонаж романа « Братья Карамазовы».
211
Персонаж романа «Бесы».
212
См. прим. на с. 322.
213
Ср., например: Лосский В. Н. Богословие и боговидение. М.: Издательство Свято-Владимирского братства, 2000, с. 284 и далее.
214
Посл. к Кледонию, 3. Свт. Григорий Богослов. Собрание. творений в 2 томах. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1994, т. 2, с. 10.
215
Льюис К. С. Письма Баламута. Расторжение брака. М.: Fazenda «Дом Надежды», 2005, с. 105.
216
Человекоубийственно, но не Богоубийственно бысть прегрешение адамово: аще бо и пострада Твоея плоти перстное существо, но Божество бесстрастно пребысть: тленное же Твое на нетленное преложил еси, и нетленныя жизни показал еси источник воскресением. (Человека, но не Бога убил грех Адамов: ибо если и страдал бренный состав плоти Твоей, то Божественное в Тебе оставалось бесстрастным: и смертное в Тебе обратил Ты в бессмертное, и в воскресении Твоем открыл нам источник жизни бессмертной.) Канон в Великую субботу. Песнь 6. Тропарь 2.
217
The Whole Human Person: Body, Spirit and Soul. Доклад на Епархиальном съезде 1996 г. Пер. по изд.: To Be What We Are: The Orthodox Understanding of the Person. A Conference of the Diocese of Sourozh: Headington, 1996. Published by the Russian Orthodox diocese of Sourozh, 1997, p. 5—14. Первая публикация на русск. яз.: Московский психотерапевтический журнал. 2002. № 2.
218
См. прим. на с. 406.
219
Мидраш Брейшит рабба, 18.
220
Обоснования, оправдания, цели бытия (франц.)
221
Выступление во Фрейдовском Психоаналитическом обществе 25 ноября 1987 г. Пер с англ. Первая публикация: Московский Психотерапевтический Журнал. 2004. № 4.
222
Сюжет о любви юноши-поэта Меджнуна встречается в арабском и персидском фольклоре, а также в литературе Ближнего и Среднего Востока. См., например: Низами Г. Лейла и Меджнун. М., 1957.
223
Протоиерей Сергий Булгаков.
224
Парижский госпиталь с большим психоневрологическим отделением.
225
The Care of the individual. Пер. с англ. по тексту: The David Kissen Memorial Lecture. 26 March 1969. The British Cancer Council. Two Meetings. «People and Cancer» and «The Problem of Relevance in Cancer Research». Ed. Dr. Graham Bennette. London, 1969, p. 54—60.
226
Ср.: Древний Патерик, изложенный по главам. М, 1899. Изд. 3-е (репринт: М., 1991), с. 21 и 22.
227
Беседа со священником Христофором Хиллом. Оксфорд, 27 мая 2001 г. Первая публикация: Церковь и время. 2001. № 17.
228
Пер. с франц. по изданию: Présence Orthodoxe. 1974 (N. 26), p. 40—45. Первая публикация: Альфа и Омега. 2003. № 4 (38).
229
Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет… се ми гроб предлежит, се ми смерть предстоит… (Владыка, человеколюбец, неужели постель эта будет мне гробом?.. вот, гроб меня ждет, вот, смерть прямо передо мной стоит…) См. Православный молитвослов. М.: Московская Патриархия, 1970, с. 26.
230
«Спящий Вооз». Гюго В. Собр. соч. в 15 томах. М.: 1956, т. 13, с. 319. Пер. Н. Рыковой.