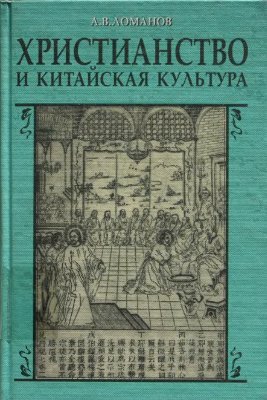Христианство и китайская культура
Памяти профессора Джулии Чинг (ЦипьЦзя–и)
Введение
Проблема взаимоотношений духовных культур Востока и Запада многие десятилетия привлекает к себе внимание ученых–гуманитариев, пытающихся изучить имеющийся опыт общения разных цивилизаций и разработать на его основе идеальную модель для будущих контактов между культурами. Обращая свой взор к Китаю, исследователи чаще всего задумывались о перспективах синтеза антропоцентрического духа конфуцианства и западного рационализма, китайского холизма и западного научного знания, интуитивизма и строгого логического анализа. Тема соотношения китайской традиции и христианства занимала в этих поисках малозначащее второстепенное место. У такого невнимания были свои весомые причины — можно напомнить, что еще три–четыре десятилетия назад происходившие в Китае драматические события оставляли очень мало надежды на выживание традиционной культуры, внушая глубокий пессимизм по поводу возможности дальнейшего существования китайских христианских общин.
Однако произошедшие в конце XX в. перемены показали, что проблема взаимодействия пришедшего с Запада христианства с китайской цивилизацией не утратила своей весомости. В 1990–е годы религиозные традиции и региональные цивилизационные характеристики заметно увеличили свое влияние на мировое развитие В этот период расцвет религиозной жизни и рост влияния религий на внутреннюю жизнь общества наблюдался не только в так называемых《посткоммуннстических» странах, но также и в Китае и Вьетнаме, избравших путь социалистической рыночной модернизации. Феномен возрождения китайского христианства в период реформ показал, что китайские церкви обладают значительной внутренней устойчивостью и жизнеспособностью, позволившей им при отсутствии руководства со стороны иностранных миссий сохраниться, несмотря на гонения и запреты властей. Одновременно в 1990–е годы в КНР возродился и занял прочные идеологические позиции консервативный национализм, подпитывающий развитие окрашенного в конфуцианские тона культурного традиционализма. Хотя былое соперничество и культурный антагонизм между христианством и китайской традицией вряд ли смогут повториться в прежнем виде, необходимо иметь в виду, что в ходе процессов «китаизации» христианской теологии и «озападнивания» китайского традиционализма проблема их взаимоотношений в современных условиях была решена лишь частично.
Изучение истории культурной адаптации христианства к китайским условиям представляет интерес не только для постижения современных проблем протестантов и католиков КНР, но и для понимания общих закономерностей взаимодействия культур Китая и Запада. Начиная с середины VII в. христианские миссионеры несли с собой в Китай не только евангельское учение, но и знания о неведомых Поднебесной «христианских царствах» Запада, их нравах, научных достижениях, представлениях о мире. В XVI в. иезуит Маттео Риччи и его сподвижники вместе со свидетельством о Христе принесли в Китай целый ряд достижении западной науки и техники того времени. Иноземные проповедники знакомили китайцев с неведомой им ранее философией мироздания, новой космологией, совершенно иным учением о человеке и смысле его жизни. Вплоть до середины XX в. христианские миссионеры служили посредниками в деле проникновения западной цивилизации в Китай, а их критика китайской цивилизации оказывала непосредственное влияние на изменения, происходившие внутри страны.
Помимо изучения обычаев Китая и перевода на европейские языки древних китайских текстов, миссионеры оставили потомкам богатый опыт осмысления соотношения христианской веры с религиозными убеждениями китайцев. Задача распространения христианства неизбежно ставила миссионеров, к какой бы конфессии те ни принадлежали, перед необходимостью изучения китайской культуры. Эти знания требовались как для подбора соответствующей терминологии при переводах христианских текстов на китайский язык, так и для определения места христианства в сложившейся системе китайских верований и ритуалов. Современные исследователи зачастую обходили данный аспект миссионерского наследия как религиозный, и, следовательно, не имеющий отношения к заслугам миссионеров в распространении китаеведческих знаний на Западе и западного естественнонаучного знания в Китае. Однако фундаментом «светских» заслуг католических и протестантских миссионеров были их профессиональные поиски путей включения христианства в богатую палитру китайской духовной культуры, и эта религиозная основа очень важна для понимания глубинных философских и мировоззренческих аспектов истории межкультурного взаимодействия Китая и Запада.
Задача углубления китайско–христианских культурных сопоставлений зачастую наталкивается на существующие междисциплинарные барьеры, о чем применительно к западной образовательной системе еще четверть века назад писала Джулия Чинг. Когда исследование данной темы жестко поделено между философами, религиоведами и востоковедами, «глубина знаний и широта перспективы рассматриваются почти как взаимные исключения. Специалистов по Восточной Азии обычно тревожит наивность тех философов и религиоведов, которые пытаются интерпретировать восточные традиции, не обладая необходимыми лингвистическими познаниями; компаративных же философов и религиоведов — а это весьма редкий вид среди ученого племени —разочаровывает замкнутый „дух гетто среди востоковедов. Более того, оба течения склонны презирать миссиологов, которые, как и теологи, открыто преследуют прагматические и конфессиональные интересы, желая увеличить число обращений в веру» [Ching 1978, с. XVI–XVII]. Конфликт между «глубиной» и «широтой» исследования китайской проблематики (да и Востока в целом) в разной степени присутствует повсюду, где ведутся синологические (и ориенталистские) исследования.
Ответом на эту затруднительную ситуацию стала осуществившаяся во второй половине XX в. усилиями западных исследователей трансформация внутри миссиологии, которая отдалилась от сферы собственно церковных исследований и в значительной степени сблизилась с общесинологической проблематикой. Прежняя миссиология занималась по преимуществу проблемами институционального порядка, описывая историю становления, развития и заката зарубежных миссий в Китае как организаций, занимавшихся проповеднической, издательской, медицинской, благотворительной и прочими видами деятельности, осуществлявшейся иностранцами. Ее новая форма заслуживает названия «культурологическая миссиология», поскольку она помещает деятельность миссий в контекст взаимодействия цивилизаций Китая и Запада и изучает прежде всего культурно–интеллектуальные воздействия контакта христианства с китайской традицией как на китайскую аудиторию, так и на самих миссионеров и западный мир в целом. Исследования первого типа отличаются обилием имен и цифр — сколько миссионеров прибыло, где и сколько церквей они построили, сколько Библий напечатали, сколько китайцев окрестили. Разумеется, такого рода данные весьма важны для понимания исторической динамики проникновения христианства в Китай. Однако события второй половины XX в. (от выдворения миссионеров из КНР в начале 1950–х годов до широкомасштабного уничтожения церквей в годы «культурной революции») на несколько десятилетий свели все эти показатели к нулю. «Институциональная миссиология» на некоторое время стала чисто исторической дисциплиной, обращенной в прошлое.
По этим причинам в период I960–1970–х годов в США исследовательский интерес к истории миссий в Китае был небольшим. Среди церковных ученых давал о себе знать «синдром поражения»: многим тогда казалось, что после образования КНР христианство потерпело в Китае полный крах, а труды миссионеров прошлых дней пропали впустую. Предсталялось невозможным разделить исследования деятельности миссионеров в Китае и иностранного присутствия в этой стране, что вырывало христианскую проблематику из контекста китайской истории. В те годы знаменитый ученый Дж. Фэрбенк в предисловии к сборнику статей об американских миссиях в Китае писал: «Предмет весьма спорен и полон внутренних двусмысленностей, он основан на крайне неадекватной базе 中актических знаний. Недостатка в фактах нет. Их просто слишком много, и они слишком мало собирались и обрабатывались исследователямн–исто–риками» [Fair ban к 1974, с. 4]. Перелом в американских изысканиях наступил в 1980–е годы, когда исследования истории миссий были очищены от былого религиозного или культурного триумфализма н дополнены взглядом на проблему с позиции китайского христианства.
Наступивший в 1980–е годы период быстрого роста китайского христианства вновь позволил исследовать китайские христианские общины как существующий и развивающийся институт. Однако миссионерская статистика полувековой давности более не давала ответов на насущные вопросы о перспективах развития христианства в Китае. Изучение психологии н мировоззрения китайских верующих переместилось из «нормативной» (сопоставляющей практику китайских церквей с тем, что должно быть у «настоящих христиан», под которыми обычно подразумевались добропорядочные североамериканские и европейские обыватели) в «реалистическую» плоскость, описывающую сложное сплетение христианских воззрений с местным культурноцивилизационным контекстом. В 90–е годы XX в. наблюдался также устойчивый рост научного интереса зарубежных синологов к собственно китайской христианской теологии, создаваемой китайцами на китайском языке внутри родного для них национального социально–политического и культурно–псториче–ского контекста.
Произошедший в последнюю четверть XX в. в исследованиях христианства в Китае «парадигмальный сдвиг» может быть описан как переход «от преимущественно миссиологического и европоцентристского подхода к синологическому и синоцентрист–скому» [Standaert 1997, с. 574]. До начала 1960–х годов внимание историков более всего занимали вопросы: «Что сделали миссно–неры для внедрения и пропаганды христианства в Китае? Сколь эффективны были миссионеры и какие средства они использовали?» (там же). После Второй мировой войны стали популярными дискуссии на темы миссионерской «аккомодации» и «адаптации», появились исследования о деятельности отдельных миссионеров (Риччи, Шалль, Вербист) из ранних иезуитских миссий. Однако китайскоязычные источники вызывали у исследователей интерес лишь в тех случаях, если они были написаны мис–сионерами–иностранцами. Изменение исследовательского подхода поставило в центр внимания китайцев, воспринимавших миссионерское послание. На первое место вышли работы китайских христиан, пытавшихся изложить свое понимание веры при помощи известных им понятий и категорий китайской культуры. Место старого вопроса о степени адекватности интерпретации миссионерами китайской культуры занял новый вопрос о степени аутентичности христианских взглядов китайских неофитов.
Э.Цюрхер, чьи труды по истории культурной адаптации буддизма в Китае стали классикой современной синологии, отметил, что внимание исследователей отныне должно быть сосредоточено на изучении не самих христианских миссий и их трудов, а христианского учения как «маргинальной религии в китайском контексте», при этом особое внимание должно быть обращено на «восприятие и переваривание иностранного учения обращенными книжниками и на ответную реакцию в широких кругах заинтересованных ученых и их оппонентов» [Ziircher 1994, с. 32]. Особую важность представляет его призыв к «изучению культурных контактов между Востоком и Западом с китайской точки зрения». Интерес представляет не только то, каким образом западная христианская мысль переводилась и пропагандировалась в Китае, но и то, как китайские образованные христиане реагировали на эти идеи, как они интерпретировали и трансформировали их (см. [Standaert 1988, с. 107]). Д.Тредголд также призвал к пересмотру взглядов на всю историю христианства в Китае на основании компаративных исследований, охватывающих темы китайской реакции на пришедшие в Китай иностранные религии: христианство, буддизм, ислам и — в меньшей степени —иудаизм (см. [Whitehead 1979, с. 185]).
Переход миссиологии на позиции «синоцентризма» помог исследователям избавиться от унаследованного от прежних веков узкоконфессионального подхода к проблеме. Долгое время работы миссионеров и исследователей миссий исходили не только из предпосылки превосходства христианства над китайской культурой, но н приоритета своей конфессии над всеми остальными. В евро–американской синологии вплоть до начала 1970–х годов исследователи китайского христианства в большинстве своем принадлежали к тем или иным церковным структурам, но к настоящему времени их ощутимо потеснили синологи–миряне. Новая перспектива в исследованиях была связана с вопросами о том, как китайцы воспринимали христианство и как они реагировали на проповеди миссионеров. Значительный интерес был проявлен не только к позитивному восприятию христианства, но и к культурно–мировоззренческим истокам китайских антихристианских движений. Показательным примером произошедшей смены акцентов стало переименование издающе
гося с 1979 г. международного миссиологического журнала «China Mission Studies (
1550~1800) Bulletin» в «Sino–Western Cultural Relations Journal»
[1] ·
В 90–е годы XX в в западных светских и церковных кругах сформировался интерес к истории христианства в незападных обществах как собственно местного культурно–цивилизационного феномена, а не как копии западной культуры или слепого орудия иноземных политических сил. Развернутое в конце 1980–х годов усилиями светских и конфессиональных ученых движение конфуцианско–христианского диалога позволило его участникам критически пересмотреть накопившийся в миссионерскую эпоху багаж односторонних клише и поверхностных трактовок. Представители обеих сторон согласились с тем, что прежние характеристики китайской традиции как «формальной» it «лишенной духовного измерения» более не могут считаться удовлетворительными. Появилась возможность заново оценить н отмести в сторону безапелляционные суждения западных миссионеров ушедших веков о том, что у «лживых» китайцев напрочь отсутствуют понятия о личностном Боге и о грехе. Было также подвергнуто сомнению и некогда неоспоримое проттшпоставление «богоцентричного» и «потустороннего» христианства «антропоцентричному» и «посюстороннелгу» конфуцианству. На современном этапе ученые пришли к заключению о том, что у конфуцианства есть «явное вертикальное измерение, коренящееся и его открытости трансцендентному», способное вывести человека за очерченные конфуцианской этикой пределы семьи, общества и государства. Дж.Чинг показала, что в конфуцианском учении о движении к совершенству с помощью самопреодоления (self–transcendence) через моральное действие содержатся близкие христианству элементы аскетикн и очевидное религиозное измерение. «В отличие от христианства, конфуцианская мудрость не была описана в понятиях оправдания от греха с помощью благодати, будучи скорее реализацией имманентного принципа врожденной доброты человека. Конфуцианское совершенствование мало говорит, если вообще говорит о молитве и покаянии, как это делает христианская аскетика.
Но его акцент на внутренней сосредоточенности и неподвижном созерцании (конфуцианский путь медитации), а также на единстве между внутренней жизнью человека и его внешней деятельностью, говорит о некоем пути мирской спиритуальности, о союзе между созерцанием и действием. Внутри христианства это обычно было занятием одних лишь монашеских орденов — тех, в которых моральные усилия предоставляют модель „искупительной святости" для остальных верующих»[Ching 1978, с. 10–11].
Современные зарубежные исследователи уже отказались от лобового противопостивленпя «небесного» христианского монотеизма «земной» китаископ традиции, сопоставляя <трансцен–дентно–тринсцендентное» (transcendent transcendent) христианство с «имманентно–трансцендентным» (immanent transcendent) или «трансцендентно–имманентным» (transcendent immanent) конфуцианством
[2]. Такая смена акцентов не могла не отразиться на оценках китайского религиозно–философского наследия.
Если в прошлом миссионеры отвергали неоконфуцианскую метафизику как досадное искажение существовавшей еще до Конфуция традиции монотеизма, то в современных исследованиях неоконфуцианство становится едва ли ни основным источником поисков религиозных и «трансцендентных» трактовок конфуцианского учения о самосовершенствовании личности. Дж.Бертронг, к примеру, пришел к выводу о близости «понятия о трансцендентности» в моральном учении неоконфуцнанца Чжу Си (1130–1200) о Великом пределе
{тайцзи) к «определенным аспектам современной теологи» процесса» [Berthrong 1991,с. 101].
Другой областью сопоставления двух традиций стала их этическая составляющая. Дж.Чинг отметила «большое сходство между конфуцианским учением и традиционной католической доктриной естественного морального закона, основанного на человеческой природе как таковой, закона, написанного в человеческих сердцах» [Ching 1978, с. 90]. По этому поводу стоит заметить, что концепция «Конфуций плюс Иисус», предполагавшая возможность «достройки» этической доктрины конфуцианства при помощи библейского монотеизма и новозаветного учения о Спасении, развивалась миссионерами на протяжении нескольких столетий. Наиболее образованные из протестантских миссионеров XIX в., пытаясь убедить китайцев, что христиане хотят не разрушить, но завершить до конца китайскую систему ценностей, разработали стратегию отождествления фундаментальных ценностей двух традиции (конфуцианской гуманности жэпь и новозаветного учения о любви, сыновней почтительности сяо и христианской любви к родителям и Создателю). Однако здесь возникает иная проблема, приведшая в прошлом ко многим конфликтам между миссионерами и китайскими интеллектуалами. Поскольку конфуцианская философия исходила из того, что задача собственного совершенствования может быть осуществлена индивидом без участия внешних по отношению к человеку сил, христианское учение о Спасении отвергалось образованными китайцами как нечто не столько «ненужное», сколько «излишнее» и «повторяющее» то, что уже имелось в китайской практике самосовершенствования. Миссионеры н неофиты отвечали на это решительным осуждением конфуцианской моральной практики, своим поверхностным формализмом закрывшей для человека путь к Богу. В современном контексте такое примитивное толкование конфуцианской духовности вряд ли поможет христианской проповеди, в связи с чем встает задача совершенно обратного порядка — вместо «сокрытия» имевшихся религиозных элементов конфуцианства, к чему прибегали в прагматических целях миссионеры, требуется их выявление и глубокий анализ.
В ходе конфуцианско–христианского диалога активно обсуждался вопрос о возможности получения «двойного гражданства» для тех, кто хотел бы считать себя носителем обеих традиций. Проблема «двойного гражданства» весьма чувствительна для обеих сторон, ибо затрагивает не только сферу вероучения, но и проблемы этнического национализма. В былые века о принимавших крещение китайцах соотечественники говорили: «Одним христианином больше 一 одним китайцем меньше». Эта уничижительная формулировка указывала прежде всего на социально–политическую утрату своей «китайскости» тем человеком, который решил принять религию вторгшихся в пределы Поднебесной «заморских чертей». По мере увеличения зависимости Китая от западных держав забота миссий о своей пастве начинала выражаться не только в материальной помощи, но и в стремлении политически защитить верующих от произвола китайских чиновников. Это в определенной степени выводило китайских христиан за пределы общего правового пространства страны, делая их неподсудными и неподвластными китайской администрации.
Вместе с тем «смерть китайца» при «рождении христианина» указывала также на разрыв неофита с нормативным для члена китайского общества миром религиозных и бытовых обычаев, начиная от поклонения предкам и Конфуцию и заканчивая практикой многоженства. Жесткость «иконоборческих» требований миссионеров, добивавшихся сожжения «идолов» с домашнего алтаря и удаления табличек с именами предков, была продиктована осознанием иноземными священниками синкретической природы китайского религиозного сознания, с легкостью доискавшего принятие новой веры в качестве малозначащего дополнения к уже имевшимся культам и представлениям. Хотя в наши дни споры из–за конфуцианских ритуалов уже не являются для китайских христиан столь же болезненными, как это было в прошлые века, осталась проблема определения «последнего предела» толерантности к местным обычаям, пересечение которого способно лишить христианство его внутренней идентичности. Конфуцианство как современная форма национальной и интеллектуальной самоидентификации китайца с легкостью допускает и приемлет «иное», позволяя индивиду обрести в качестве «вторичной религиозности» христианство. Вопрос же о том, в каких пределах и формах такое «двойное гражданство» может быть допустимо с христианских позиций, остается открытым.
Трудность изучения взаимодействия разных религиозных традиций связана с тем, что признание принципа равенства культур сталкивается с эксклюзивизмом религиозных групп, отказывающихся приравнивать ценность своей традиции ко всем остальным. Часто цитируемое западными учеными программное утверждение из известной работы Х.Кюнга и Дж.Чинг («христианство и китайские религии должны быть равными партнерами в диалоге как в ценностных, так и статусных понятиях» [Rilng, Ching 1989, с. xvii】)у многих способно вызвать возражения и критические сомнения. Эта проблема известна и не нова — признание и осуществление «внешних» принципов равенства не может быть механическим образом перенесено во «внутреннюю» сферу духовной жизни индивида или религиозного сообщества. В современном мире отношение христиан из Восточной Азии (в том числе и из Китая) к окружающему их социуму более не может оставаться на старых фундаменталистских и консервативных позициях, сформированных под влиянием миссионерского прозелитизма и лозунгов спасения «язычников» с обращением их в истинную веру. Если азиатские христиане станут буквально следовать старой формуле «вне Церкви нет спасения», то все остальные религии будут по–прежнему выглядеть в их глазах ущербными, идущими по пути заблуждения и духовной гибели. В процессе дальнейших поисков оптимального баланса между угрозой самоизоляции и опасностью утраты своей духовной идентичности китайские христиане еще не раз будут обращаться к опыту культурной адаптации, оставленному им миссионерами прошлых столетии.
Одновременно с этим христианская церковь сохранила до наших дней свое миссионерское начало. В ноябре 1999 г. глава римско–католической церкви Иоанн Павел II представил синоду азиатских епископов документ
Ecclesia гп Asia, в котором подчеркивалась необходимость активизации работы в Азии, являющейся в наши дни континентом с наименьшим количеством католиков. Во время проповеди в Индии понтифик заявил, что католическая церковь пустила свои корни в Европе в первом тысячелетии, в Африке и в обеих Америках — во втором, а «третье христианское тысячелетие засвидетельствует богатый урожай веры на этом огромном и важном континенте»
[3]. Несмотря на протесты местных индуистских традиционалистов, понтифик был непреклонен —евангелизация в Азии в будущем станет для католической церкви «абсолютным приоритетом». Выполнение этой амбициозной задачи потребует от католиков создания новых форм адаптации вероучения к современным азиатским культурам, в том числе и к китайской. В ходе этой работы римско–католическая церковь также не раз будет обращаться к опыту своих миссионеров. Очевидно и то, что, как это было в прошлом, католическая проповедь в Китае по–прежнему будет вызывать конфликты. Ожесточенная полемика между Ватиканом и Пекином по поводу проведенной римско–католической церковью 1 октября 2000 г. канонизации 120 своих мучеников в Китае со всей очевидностью напомнила о том, что изучение наследия христианских миссий важно и для понимания современной внутренней и внешней политики КНР.
Тема исследования истории христианских миссий в Китае присутствует в западной литературе уже более полутора столетий, однако вплоть до 1960–х годов ученые концентрировались на институциональных аспектах деятельности миссий. Наилучшим исследовательским трудом этого периода, не утратившим справочного значения до наших дней, является работа К.Лату–ретта «История христианских миссий в Китае» [Latourette 1929]. Среди наиболее значимых с точки зрения «культурологической миссиологии» общих описаний истории адаптации христианства в Китае необходимо указать на исследования Р. Ковелла «Конфуций, Будда и Христос: история Евангелия в Китае» [Covell 1986], Р.Уайта «Незавершенная встреча: Китай и христианство» [Whyte 1988] и ЖШарбонье «История христиан Китая» [Charbonnier 1992]. Можно порекомендовать обратить внимание на оригинальные работы американских ученых Д.Мунджелло [Mungello 1994(a)] и Дж.Спенса [Spence 1996], написанные в жанре исторического повествования о китайском христианстве. Не обращаясь к формальному перечислению всех основных западных публикаций по истории христианства в Китае, более или менее представительный список которых состоит из сотен наименований, хотелось бы указать на имена ведущих исследователей этой проблематики — Э.Цюрхера, Н.Стандерта, К. фон Ко л лани, Дж.Вайтека, П.Руле, К.Лундбека, Дж.Минамикн и Д.Бэйса. Самым высоким научным стандартам отвечают работы по истории миссий, издающиеся в серии монографий Monumenta. Serica усилиями находящегося в Санкт–Ав1устине (ФРГ) исследовательского центра католического ордена вербистов.
В российской синологии содержательные работы по истории распространения христианства в Китае принадлежали прежде всего православным ученым–мнссионерам — архимандриту Палладию (Кафарову) н иеромонахам Алексею (Виноградову)
и Николаю (Адоратскому). В советский период развития отечественного китаеведения была опубликована лишь одна небольшая монография А.А.Волоховой «Иностранные миссионеры в Китае (1901–1920)», посвященная социально–политическим аспектам деятельности иностранных миссионеров в Китае в начале XX в. Надо отметить, что интерес к этой проблематике существовал среди ученых н в советское время, о чем свидетельствуют исследования Н.Г.Пчелина, О.В.Шаталова, И.П.Гаранина. К сожалению, их начинания так и не увенчались изданием значительных обобщающих работ. Несмотря на чрезмерную политизацию проблемы деятельности в Китае христианских миссий, во второй половине XX в. увидело свет исследование китайского антихристианского лубка XIX в., сохранившее свое научное и справочное значение до наших дней
[4] (см. [Гаранин I960]). Требованиям современной исследовательской методологии соответствует небольшой раздел о развитии христианства в Китае XIX — начала XX в., написанный В.В.Малявиным для книги «Этническая история китайцев в 19 — начале 20 века» [Крюков и др. 1993, с. 158–168]. Среди примечательных публикаций постсоветского десятилетия можно указать на работы П.М.Иванова,
уникальным образом соединившего широту
кругозора китаеведа с глубиной взгляда православного священника. Неплохим вкладом в возрождение российских исследований ранних католических миссий в Китае стали кандидатские диссертации и публикации В.В.Киселевой и Н.Г.Пчелина. Наиболее значительным событием последних лет стало возрождение журнала «Китайский благовестник», издававшегося до 1954 г. силами Российской духовной миссии в Пекине. Издающийся с 1999 г. два раза в год в Москве обновленный «Китайский благовестник» публикует материалы по истории и современному положению китайского православия, уделяя при этом большое внимание китайским религиям и деятельности инославных конфессий. Стоит отметить также выход в свет монографии Д.В.Дубровской «Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1551–1775 гг.)», знакомящей российского читателя с историей проникновения католиков в Поднебесную, их взаимоотношениями с императорским двором и чиновниками.
В КНР ситуация в исследованиях христианских миссий и религии в целом начала заметно меняться в 1990–е годы. Как признавали сами китайские ученые, к середине прошлого десятилетия в методологии исследования религий в КНР «проявилась тенденция к плюрализму», что было особенно заметно на примере «части ученых среднего и молодого возраста, не слишком знакомых с теорией марксизма». Впрочем, даже заслуженные пожилые ученые, «придерживаясь марксистской теории, одновременно заимствуют некоторые методы современного западного религиоведения»
[5]. Проводимая в КНР масштабная работа по переводу западной религиоведческой литературы и широкое заимствование методологического инструментария все больше сближает китайские исследования с западными. Однако сам по себе отход китайских ученых от политизированной «антиимпериалистической миссиологии» еще не решил проблемы нахождения адекватного подхода к изучению культурного измерения деятельности миссий в Китае. Поскольку в большинстве случаев многочисленные китайские работы по этой проблеме опираются на исследования западных авторов, говорить о разработке в KIIP новых научных концепций в изучении китайского христианства было бы преждевременно.
В середине 1990–х годов число исследователей христианства в КНР не превышало ста человек. В то время сами китайские ученые отмечали, что «исследование истории китайского христианства остается слабым звеном. До сего дня нет систематической истории китайского христианства. Некоторые небольшие книжечки затрагивают деятельность миссионеров наподобие Риччи, Шалля, Вербиста, Алени, а также «спор об ритуалах»
(лии чжи чжэн), «спор об именах»
(шэнь мин чжи 6лпь) «самостоятельность» (
цзыли), «национальную окраску»
(бэньсэ) и т.д. История китайского христианства должна стать важным пунктом будущих исследований»
[6]. Можно надеяться, что качественного улучшения ситуации китайским ученым удастся добиться после создания в 1998 г. при Институте мировых религий АОН Китая Центра исследования христианства. Стоит отметить серьезную работу в области исследования и развития культурного взаимодействия христианства и китайской традиции,проводимую гонконгским Институтом китайскоязычной христианской культуры
(Ханьюй цзидуцшо вэнъхуа яньцзюсо).Вместе с тем не ушли в прошлое попытки оценить деятельность miicchii с позиции внерелигиозных критериев «полезности». В современной китайской историографии католических миссий периода конца Мин — начала Цин сосуществуют два противоположных подхода: «теория полного отрицания» и «защи· щающая религию теория полного одобрения» [Ли Юэхун 1997, с. 114]. Примером первого подхода выступает позиция Хоу Бай–лу, полагавшего, что католические мисснонеры принесли в Китай из Европы лишь «старое учение», их социально–политические взгляды поддерживали феодальный строй, тогда как принесенные ими практические знания (пушки, календарь, ремесла) служили только императорскому двору и не были связаны с магистральным течением научно–технического прогресса. С этой позиции гонения властей на миссионеров объясняются протн–воречиями внутри правящей верхушки (см. [Хоу Вайлу 1960,т. 4,ч. 2]). В свою очередь, христианские историки склонны усматривать истоки конфликтов в межличностных противоречиях и досадных случайностях. Крайности сходятся 一 оба эти подхода «свели конфликтую природу проникновения католицизма в Китай к борьбе за власть и случайным причинам, тем самым подтвердив выдвинутую Рнччи теорию единства учения католицизма и традиционной конфуцианской мысли» [Ли Юэхун 1997, с. 115]. Иными словами, оба подхода по существу игнорируют культурно–цивилизационные аспекты этого взаимодействия, способствовавшие проникновению христианства в Китай или, напротив, препятствовавшие этому.
История христианства в Китае может рассматриваться не только как история духовной и материальной экспансии Запада, но и как процесс адаптации китайской культуры к вызовам западной цивилизации. Такой подход получил широкое признание в современной синологии. В предисловии к своей книге «Китай и христианство» [Gernet 1985] Жак Жерне писал, что «ее предметом является Китай. Ее темой стала не история христианства в этой стране, которая породила бессчетное количество трудов, но китайские реакции lid эту религию, что является сравнительно новой областью» [там же, с. 1]. Жерне стремился понять, в какой мере китайские ответы XVII в. на знакомство с римско–католической доктриной отражают «фундаментальные различия между западной и китайской концепциями мироздания». В итоге он пришел к выводу о невозможности двустороннего религиозного контакта из–за наличия между цивилизациями философско–мировоззренческой пропасти. Несмотря на спорность ряда положений этой работы, она признана «прорывом в синологическом подходе к христианству в Китае» [Standaert 1997, с. 575]. Высказанная Жерпе мысль о фундаментальной несовместимости христианства и китайской традиции может быть подтверждена многочисленными примерами культурных конфликтов, возникавших в процессе деятельности миссий. К примеру, во времена Риччи критика неоконфуцианства с помощью категорий аристотелизма была для образованных китайцев как минимум маловразумительной, тогда как нападки иезуитов на буддизм вызвали яростную антихристианскую реакцию.
Авторитетный исследователь китайского христианства Д.Б^йс выделяет две основные трактовки развития связей христианства и китайского общества, распространившиеся в последние годы. Первая из них принадлежит Ж.Жерне и строится на основе истории межкультурных контактов XVII в., когда китайцы были не в состоянии абсорбировать и понять существенные концепции христианства вследствие абсолютно иных культурных (включая лингвистические) предрасположенностей. Иная концепция предложена исследователем идеологии имперского Китая позднего периода Лю Гуанци. Она исходит из существования двухуровневой модели привлечения китайцев в христианство: одна — народная, другая — рациональная и интеллектуальная. Первая «колея» религиозной адаптации соотносится с народным религиозным милленаризмом, другая делает акцент на моральной ортодоксии конфуцианского толка, при этом обе ощутимо присутствуют на китайской сцене [Bays 1996, с. 4]. Разделение «народного» и «интеллектуального» христианства дает возможность составить более полное представление о процессах зарождения и развития китайских христианских сект, оборвавших связи как с зарубежными церквами, так и с действующими внутри Китая официальными церковными структурами. Хотя расцвет «народного» христианства наступил в Китае лишь в XX в·, его культурно–мировоззренческие корни уходят в прошлое и могут быть прослежены как в религиозной идеологии тайпинов, так и в более ранних попытках китайских неофитов интегрировать христианство в имеющиеся верования и ритуалы.
В научной литературе выделяются как минимум четыре основных этапа проникновения христианства в Китай. Первый этап относится к династии Тан, когда в Китае распространилось пришедшее из Западной Азии несторианство, получившее имя
цшнцзяо — «сияющая религия». Второй этап принадлежит ко временам династии Юань, когда в Китай не только вернулось с дальних северных и северо–западных окраин несторианство, но и началась проповедь римско–католической церкви. Общим наименованием обоих течений было монгольское
еликэвэпъ или китайское
гиицзыцзяо — «религия креста». Третий этап совпадает с расцветом деятельности в Китае католических миссий в конце династии Мин — начале правления Цин, проповедовавших «Небесную религию» (
тяньцзяо), или «Небесное учение»
(тянь–сюэ). Отсчет четвертого этапа ведется от прибытия в Китай в начале XIX в. первых протестантских миссионеров и снятия под давлением западных держав «столетнего запрета» китайских властей на проповедь христианства (см., например, [Фэн Цзоч–жэ 1991,с. 46–47]). Несмотря на хронологические «провалы» между этими этапами, растягивавшиеся иногда на многие века, для создания общей картины взаимодействия культурных традиций наиболее целесообразным представляется целостное изучение всех четырех периодов
[7].
По мнению американского исследователя Р.Ковелла, «отклик на христианскую веру в Китае всегда был минимальным, и церковь никогда не составляла более некой доли одного процента населения страны. Китайские массы никогда не воспринимали библейское послание как непосредственно адресованное их нуждам» [Covell 1986, с. 4]. Тем не менее протестантизм и католицизм уже стали неотъемлемой, хотя и небольшой, частью жизни современного китайского общества. Исчезли основания для того, чтобы рассматривать христианство как чуждую китайцам веру, распространение которой наносит ущерб внешней безопасности или внутренней стабильности страны. Крайне примечательно, что многие католики в современном Китае основывают свою принадлежность к церкви на простом факте того, что она передана им от родителей и прародителей. Вне зависимости от мотивации принятия крещения первыми китайскими христианами и их возможной борьбы с идеей, что христианство не является китайским, ныне христианская вера понимается так, что «полностью согласуется с уважением к семейным обязательствам и образует основное течение китайского исторического наследия» [Bays 1996, с. 119].
Хотя китайское христианство все еще продолжает поиск своей адекватной национальной формы (прежде всего в теологии), в этом процессе не стоит ожидать появления какого–то законченного и окончательного варианта — оно трансформируется вслед за переменами в жизни общества. В силу объективных исторических обстоятельств верующие и священники материкового Китая были выключены из этого процесса богословского творчества. Однако в послевоенный период значительные усилия по разработке китайской теологии были предприняты церковью за пределами КНР
[8]. Для католической церкви на Тайване период активной работы над «отуземливанием» (
бтьдихуа) наступил вскоре после Второго ватиканского собора, заметные церковные дискуссии относительно сути китайского варианта «отуземливания» развернулись на острове в 1972 г. Помимо проблемы раскрытия Божественного Откровения с помощью современной китайской мысли и в неразрывной связи с китайской традицией, повестка дня католического «отуземливания» включала в себя также проблему создания новой китайской культуры с опорой на содержание Откровения. Трудность этой работы была связана с тем, что «отуземливание» не могло приравниваться «ни к движению за восстановление древности, ни к эксклюзи–визму, ни тем более к монастырской схоластической теологии прошлого» [Чжан Чуньшэн 1999,с. 123].
На первом этапе становления китайской католической теологии на Тайване изыскания в области «отуземливания» сосредоточились на проблеме христианской интерпретации двух моральных категорий китайской конфуцианской культуры — сяо (почтительность к родителям) и жэнъ (гуманность–милосердие). Несмотря на отмечаемую католическими авторами поверхностность сделанных сравнений, эти поиски отразили существенные аспекты китайской культуры, среди которых можно указать на трактовку «гуманности» как этической категории, истоки которой лежат вовне и за пределами человеческого сообщества В обоснование этого тезиса было подчеркнуто, что в китайской традиции жэнъ является производным в процессе воплощения–отражения человеческим «сердцем–сознанием» (жтъ чжи синь) вселенского «сердца–сознания Неба и земли» (Тянъ дичжи синь).
Со временем работа по сопоставлению китайской традиции и христианского вероучения была дополнена углубленной разработкой методов экзегетики
[9]. Несмотря на приложенные усилия, задача использования традиционных китайских способов истолкования канонических текстов (прежде всего конфуцианских) на службе христианской библейской экзегезы все еще не решена. Другим направлением поисков стало использование для теологических построений данной современным конфуцианским мыслителем Фан Дунмэем (1899—1977) интерпретации китайской культуры в «категориях единства». Эта интерпретация была построена на основании неоконфуцианских представлений о «слиянии»
(хэ、,
«безразрывности»
(уцзянь) и «единотелесности»
(ити) между Небом и человеком, в центре которых лежит понятие об этическом характере мироздания, выражающемся в обладании вселенной («Небом и землей») «добродетелью порождающего порождения»
шэп чжи дэ). Последним веянием в католическом «отуземливании» стало использование в ходе теологических размышлений материалов социальной, политической и экономической истории Китая. Несмотря на имеющиеся достижения христиан Тайваня, Гонконга и китайской диаспоры в области создания «туземной», или «местной», теологии, эти творческие искания практически не коснулись материка, где верующие
либо пошли по пути консерватизма,
либо начали приспосабливать вероучение к идеологии социализма. Теперь же у них возникает все более острое ощущение теологического кризиса: миссионерские наставления полувековой давности кажутся им анахронизмом, а социалистическая идеология всеобщего равенства быстро отступает под напором рыночной стихии.
В начале XXI в. азиатский бизнес несет в западный мир свои товары и услуги, пропагандирует свои достижения в сфере технологии и менеджмента, рождая волну интереса к феномену «конфуцианского капитализма» и — косвенно 一 к духовной культуре Восточной Азии. Конфуцианско–христианский диалог давно уже вышел за порог западных христианских миссий в Китае, став глобальным культурным явлением. Во всем мире христиане все чаще встречаются у себя дома с носителями восточноазиатскои культуры. Географические рубежи цивилизаций все менее способны удерживать отождествляемое с западной культурой христианство и китайскую культурную традицию в «непересека–ющемся» состоянии. Как и век или два назад, люди продолжают спрашивать о том, каким образом соотносятся их представления о смысле жизни и смерти, о высших ценностях бытия. Несмотря на беспримерную секуляризацию и интернационализацию жизни человечества, не стоит считать, что в современном мире все религиозные устремления уже утрачены и все национальные религиозные традиции уже сплавлены в некую унылую гомогенную массу. Современные китайские христиане показали, что они способны трудиться над созданием национально окрашенной теологии. Однако необходимо признать, что значительная часть обсуждаемых ими проблем и приводимых сравнений уходит корнями в историю миссионерского этапа становления китайских церквей.
Основная часть этой книги была написана в 1996–1998 гг. во время обучения в постдокторантуре Университета Торонто под руководством проф. Джулии Чинг. Автор скорбит о безвременной кончине этого выдающегося ученого и хранит в своем сердце огромную признательность Джулии Чинг за ее доброжелательность, долготерпение и внимание. Незримым соавтором этой книги стала динамичная и целеустремленная община аспирантов, докторантов и исследователей из университетского Mac–сей–колледжа (Massey College), повседневно заряжавшая автора своей кипучей энергией. Особую признательность хотелось бы выразить патриарху колледжа Винсенту Товеллу (Vincent Tovell), чей искренний интерес к научным изысканиям автора стал мощным моральным стимулом для продолжения и завершения задуманного исследования. Автор благодарит своего российского наставника чл. — кор. РАН М.Л.Титаренко, под руководством которого были написаны кандидатская и докторская диссертации, посвященные проблемам взаимодействия философий и культур Китая и Запада. Важную роль в выборе темы исследования сыграл также проф. Бостонского университета Роберт Невилл (Robert Neville), обстоятельные беседы с которым убедили автора в важности и актуальности китайско–хрнстианской проблематики.
Автор благодарит за помощь при поиске большого числа книг, потребовавшихся при написании этой книги, сотрудников библиотеки Робартса Университета Торонто (University of Toronto Robarts Library), Синологической библиотеки ШШОН РАН II библиотеки Синологического института Лейденского университета (Rijksuniversiteit Leiden Sinologisch Instituut Bibliotheek). Краткосрочная поездка в Лейден была осуществлена при поддержке Европейской ассоциации китаеведения (EACS–ССК Library Travel Grant). Патер Роман Малек (Roman Malek) из Санкт–Августина и проф. Николас Стандерт (Nicolas Standaert) из Лувена любезно помогли автору ознакомиться с новейшими публикациями по истории христианских миссий в Китае. Ощутимую помощь оказали автору о. Петр Иванов и о. Дноннсий Поздняев, предоставившие для работы книги из своих личных собраний. Автор признателен своим коллегам из ИД В РАН за ценные замечания, высказанные при обсуждении данной работы.
Глава 1. Несторианство в Китае во времена династий Тан и Юань (VII–IX, XIII–XTV вв.)
Существует предание, что христианство проповедовалось в Китае еще апостолом Фомой, известным как «Фома неверующий»
[10]·
Традиционно считается, что мученичество св. Фомы в Индии, в Мадрасе имело место в 53 г. Таким образом, первый контакт христианства с цивилизацией Китая должен был состояться незадолго до этого времени. Строя свои выводы на изучении требника древней сирийской церкви из Малабара, основанной Фомой, работавший в Китае иезуитский миссионер Николя Триго в 1615 г. приписал происхождение китайского христианства проповеди апостола Фомы. В приводимом Н.Триго тексте упоминалось, что апостол Фома «обратил к истине китайцев и эфиопов», его усилиями «царство Божие пришло в Китай» и что в память о Фоме китайцы «поклоняются священному имени Бога» [LatoureLte 1929, с 48,примеч. 11] Аббат Хук в своем исследовании ссылался как на приведенные выше слова из вечернего богослужения, так и на гимн дня почитания св. Фомы: «Индийцы, китайцы, персы и другие островные народы поклоняются твоему святому имени в память о св. Фоме» [Hue 1884, т. 1, с. 30], оговариваясь, что эти фрагменты еще не доказывают факта пребывания св. Фомы в Китае (см. [там же, с. 31]). Доминиканец Гаспар да Круз, прибывший в Китай в 1556 г., также сообщал со ссылкой на армянского паломника, что армяне располагают свидетельствами, что до своего мученичества в Индии св Фома побывал в Китае, проповедуя Евангелие. Однако, по их словам, пробыв там несколько дней и увидев, что его деятельность не приносит плодов, Фома вернулся назад, оставив в Китае трех или четырех учеников. Тот же да Круз видел в Кантоне в монастыре скульптуру женщины с ребенком на руках и горящую лампаду перед ней. «Служители идолов» так и не смогли пояснить да Крузу, был ли это образ, сделанный древними китайскими христианами времен св Фомы, или же еще один «языческий» идол
[11].
Предание о деятельности в Китае св. Фомы утвердилось в ходе проповеди католических мнсснонеров, исходивших из того, что «человечество изначально было приготовлено к восприятию фундаментальных истин христианства» [там же, с. 29]. Хук полагал, что самая ранняя подготовка Китая к принятию учения о Боге и ожидаемом Мессии могла быть проведена иудеями, при–бьшавшими б Поднебесную начиная с VII в. до н.э. Среди аргументов Хука в пользу раннего распространения христианства в Китае были ссылки на свидетельства жившего в III в. в Африке христианского апологета Арнобия; побывавшего в VI в. в Индии египетского путешественника, а также на сведущего в христианстве сирийского автора Эбедисуса. Последний сообщал о том, что митрополитская кафедра в Китае могла быть основана еще в V–VI вв. архиепископом Селевкийским Эхеусом (411–415) или несторианским патриархом Силасом (503–520). Важное место занимает свидетельство востоковеда Ассемани, указавшего на факт предшествования митрополитской кафедры в Китае кафедре в Индии в списке Амруса (см. [там же, с. Ю–48]). Даже в начале XX в. российские православные миссионеры продолжали считать истинным предание о проповеди в Китае св. Фомы, подтверждая его ссылками на мнение «большей части ученых, писавших о христианстве в Китае». Помимо текста древней богослужебной книги малабарской церкви, российские миссионеры ссылались также на жизнеописание св. Фомы, составленное древнейшими христианскими писателями Оригеном и Евсевием, на сохранившееся в Индии устное предание о проповеди св. Фомы в Китае, а также на то, что отправленное в 64 г. посольство китайского императора «встретило на юго–западе целые общины китайцев–христиан. Приведенные к императору, они сообщили ему о родившемся на западе, умершем и воскресшем человеке; имя Святейшего сообщил им пришелец, праведный и ученый муж Фома» [Краткая история 1916, с. I]
[12].
В современных исследованиях принято считать, что история о проповеди апостола Фомы в Китае родилась в XIII в. или чуть ранее. Именно тогда, возможно, был составлен требник, к которому обращался Н.Триго. Источником этой традиции мог стать отчет послов малабарской церкви, которые посетили юаньскую столицу Даду (нынешний Пекин, который в то время был известен иностранцам как Ханбалык) в 1282 г. и могли встретиться там с жившими в Китае несторнанами (см. [Latourette 1929, с. 48–49]). Примечательно, что в составленном около 1615 г. латинском переводе дневников Риччи патер Триго при обсуждении истории христианства в Китае не упоминал ни о несто–рианах, ни о францисканцах во главе с Монтекорвино (см. [Treadgold 197S, с. 5]), хотя присутствие в Китае последних является неоспоримым фактом. Судя по всему, сведений об этом у него тогда вовсе не было. Католический миссионер Джованни да Монтекорвино писал из Китая в 1305 г., что в эти края не приходил никто из апостолов. Тем не менее православные исследова–тел и начала XX в. полагали «несомненным» также и то, что «после апостолов христианство легко продолжало насаждаться и утверждаться в Китае. В хронологических таблицах арабского писателя Амру, цитируемого у Ассемана… кафедра митрополита китайского поставлена после кафедры митрополита индейского, древность которой с несомненной очевидностью доказана Лак–розом. Основываясь на ряде исторических свидетельств, ученые приходят к выводу, что христиан и церквей в Китае было много, особенно в 5–м и б–м веках» [Краткая история 1916,с. I].
Однако отсутствие сохранившихся надежных китайских источников не позволяет с достоверностью обсуждать тему присутствия христиан в Китае до династии Тан, не говоря уже об их влиянии на китайскую культуру. К.Латуретт писал, что если в этот период и было некоторое христианское воздействие, то «оно почти наверняка воспринималось под видом буддизма либо ограничивалось малыми общинами. Если последние н существовали, то, возможно, если судить об этом исходя из сравнения со сходными общинами при династиях Тан (618–907) и Юань (1280–13G8), они были в основном или полностью иностранными по составу и не оказывали ни масштабного, ни долговременного воздействия на Срединное Царство» [Latourette 1929’ с. 51].
Документально подтверждаемое знакомство Китая с христианством началось со встречи с несторнанами, прибывшими в страну во времена династии Тан. Эта эпоха вошла в историю Китая как период процветания страны и наивысшего подъема ее славы и влияния. Зарубежные контакты империи охватывали нынешние Корею, Японию, Индию, Пакистан, Афганистан, Иран н Аравию. Жизнь в столице танской империи характеризовалась небывалыми ранее в истории Китая культурными контактами. Помимо несториаиства в VII в. в Китай проникли из Персии также зороастризм и манихейство, из Аравии — ислам. Отмечается,что проповедь несторианства «очевидным образом была тесно связана с прибытием с запада в Чанъань персидских купцов» [Ли Бои 1994,с. 74]. Активная торговля на «шелковом пути» стала источником новых культурных контактов.
Несмотря на то что уже в первой половине V в. нестори–анство было осуждено как ересь, в настоящем исследовании история адаптации несторианства к китайской культуре будет рассматриваться как органический (хотя и изолированный во времени) этап в процессе межцивилизационного взаимодействия духовных традиций Китая и Запада. Оценка богословского содержания несторианства при этом отодвигается на второй план как иесун;естве1111ая с точки зрения поставленных исследовательских задач. Трансформация христианского вероучения н процессе перевода сирийских текстов нестори–ан на китайский язык и приспособления к китайской культурной традиции была настолько значительной, что на ее фоне изначальный христологический спор становится практически незаметным.
Давший имя этому течению в христианстве константино–польский епископ Нссторий (381–451) учился и был рукоположен в Антиохии. Став епископом н 428 г., Нестории начал развивать осужденные впоследствии церковью взгляды на природу Христа. Истоки возникшего спора могут быть отнесены к различиям в христологии богословских школ IV–V вв. и.э. Алтиохий–ская традиция понимала Иисуса как человека («Слово–челоиек»), на которого была ниспослана Богом благодать во время крещения, при этом божественная природа была обретена 11м лишь после рождения через вхождение Святого Духа. Спорившая с ней александриискал школа делала акцент на трактовке Иисуса как изначально («до века») сущсствоьавшего Божественного Логоса («Слово–плоть»), вошедшего
и мир и ь историю и челоьече–ском теле, опуская вопрос о наличии у Христа человеческих разума или души. Близкие к антиохийскому богословию несторна–пе подчеркивали присутствие у Иисуса двух природ — человеческой и божественной, становясь тем самым в оппозицию моно–физитству, выросшему из александрийской школы. Монофизиты утверждал и, что Иисус обладает лишь одной божестьенной ипостасью и одной природой, хотя и сходил в мир и человеческом теле
[13]. 11есторий видел в Христе не только две природы (что согласуется с доктриной Церкви), но и две личностные ипостагм, одна из которых — человеческая, рожденная Марией. R 429 г. ом отверг богословскую концепцию
теотокос («Богородица») как недостаточную для ипнеания порожденной Марией полноты человеческой природы Иисуса. Б трактовке Нестория Мария была не только
теотокос、но и
антропотокос («человекородица»). В итоге он предложил для Богоматери имя
Христотпокос, т.е. «Христородица», из–за чего и был обвинен η отрицании божсст–венной природы Христа.
11есторпа.нскос учсицс о плраллелыюм сисущсстпопашш двух гфнрид Христа — челоиеческо!! и божественно!!, соединенных имеете, по не могущих быть едиными, — было осуждено Ефес–ским собором (431 г.). Объявленный еретиком, Нссторий был отправлен в ссылку и умер ь Кгипте к 151–м — в год Халкидоиского собора, решившего христологический спор компромиссной формулировкой, и соответствии с которой Иисус был «истинным человеком» и «истинным «Богом».
Последователи 11естория продолжили свое существование, хотя и были вытеснены монофизигами ма окраины христиан ского мира. Песторианс вели из Персии активную миссионерскую деятельность п путешестновали и самые удаленные уголки свети, распространяя свое учение в Араини, Индии, Средней и Центральной Азии. Их деятельность о Китае оставила для потом коб память о чрезиычайпо важной по своему историческому значению попытке культурной адаптации христианского вероучения и церковной практики к реалиям китайской цншшизицнн.
При изучении этих процессов осужденный Церковью «еретический» характер иссториангтпа будет оставлен за пределами данного нсследоБания как нссуи;естненный с точки зрения поставленных задач. U эпоху Тан, при отсутстыш у носителей китайской традиции понятия о личностном абсолютном божестве и того, как была найдена адекватная терминология для переводов христианских понятий на. китайский язык, вразумительно разъяснить китайцам отношения двух природ Христа было невозможно. Но, рассуждая гипотетически (и это рассуждение наедет себе подтверждения па материале более поздних этапов развития хрнстианстна в Китае), можно предположить, что носитель традиционной китайской культуры, который смог бы разобраться » этих тонкостях, скорее исего, стал бы па сторон иссториан. Причиной тому является «проконфуциаиская» ориентация антиохийско–иесторианского учения о присутствии у Христа помимо божсстнснной ен;е н второй, человеческой природы. Несториане учили, что Иисус был простым человеком, обретшим божественность благодаря образцовой жизни. Это отдаленно напоминает традиционное конфуцианское учение о самосовсршенсгвованнн «благородного кгужа»· На терминологическом уровне стремление именовать Богородицу «человеко–роднцей», также конгруэнтно традиционной антропоцентрическом ориентации китайской мысли. Хотя несторианское богословие претерпело изменения за два столетня, прошедшие между Ефесским собором и прибытием иссториан в Китай, сохранение «человеческого» акцента и их хрнстологнн могло бы послужить дополнительным, хотя и незначительным, фактором, способствующим сближению несторианского вероучения с местной традицией.
Ряд ученых считают китайское название несторианства цзин–цзяо (景教)фонетической транскрипцией из–за близости звучания первого иероглифа цтн к первому слогу слова «христианство» [Lee Р. 1996,с. 78]. Но это предположение выглядит маловероятным. Отсутствие в китайском сочетании цзинцзяо транскрипции имен Иисус или Христос можно истолковать и как дополнительное свидетельство принижения несторианами божественности Иисуса. Однако возможные объяснения христианского религиозного смысла китайского понятия цзип — «сияние, свет» обычно связываются с пониманием Иисуса как «Света от Света», запечатленным в евангельских образах Преображения и Фаворского Света: «И просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:2); «Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белил ьщи к не может выбелить» (Мк. 9:3). Некоторые исследователи связывают происхождение названия цзинцзяо со словами Иисуса: «Я свет миру» (Иоан. 8:12; 9:5), отмечая при этом, что «подобная тенденция в теологии является следом влияния персидской культуры» [Чжоу Сефань 1995, с. 75].
Российский ученый–миссионер XIX в. архимандрит Палладий (Ка中аров) полагал, что иероглиф цзин может быть истолкован в двух значениях: «благовещий, — в этом смысле оно прилагается к светилам, внезапно появляющимся на небе, и светлый, или, правильнее, лучезарный» [Палладий 1872, с. 7]. Палладий выбрал для цши значение «благовещаго Ευαγγελιον» — он писал, что «в таком случае цзинцзяо надобно переводить учением, или верою Евангелия, в смысле благовестил о царстве Божием. Подобный перевод представляется мне тем правдоподобнее, что для выражения идеи света и светлого в китайском языке существуют другие знаки, более ясные и определенные. Впрочем, если непременно желают удержать за словом цзин значение света, или светлого, то можно приспособить его к выражениям Ап. Павла, который называет светом царствие небесное (Кол. 1:12) и христиан (Рим. 2:19)» [там же, с. 7].
Спецификой несторианства было пояснение отношений Бога–Отца, Бога–Сына и Святого Духа метафорой отношений Солнца и света–тепла. Иберийский несториаиский епископ Мар* кус учил, что хотя Солнце одно, но его материальное тело, тепло и свет не образуют трех солнц, так же как Отец, Сын и Святой Дух называются одним Богом (см. [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 13–14]). Метафорическое сравнение Бога с солнцем может быть найдено в ранних несторианских текстах на китайском языке, например в И тянъ лунь ди и (Рассуждения об одном Небе) (см. [там же, с. 119]).
Четыре гипотезы происхождения названия цзинцзяо выдвинул исследователь несторианства Есиро Саэки. Первая указывает на трактовку Мессии как Света. Вторая гипотеза связана со структурой иероглифа цзип, состоящего из компонентов с независимым иероглифическим значением «солнце» (жи) и «столица» (цзин). Последний знак также имеет смысл «большой», на основании чего иероглиф цзин из сочетания цзинцзяо может трактоваться как понятие «Великий Свет». Два других объяснения Саэки связаны с местным контекстом. Танская столица Чанъань находилась под значительным влиянием буддистской школы ми–цзуп и ее «Учения Великого Солнца» (да жи цзяо). По этой причине, чтобы облегчить свое развитие в Китае, несториане могли избрать иероглиф цтн, включающий смысл понятия «Великое Солнце». Заключительное предположение Саэки содержит указание на один из главных даосских канонов Хуанди нэй вай цзипцзип (Сияющий канон Хуан–ди о внутреннем и внешнем), откуда мог быть заимствован термин цзип (см. [там же, с. 2–3]).
Некоторые ученые предполагают, что желание несториан приблизиться к популярной в то время буддистской школе не исключает и обратного. «Эта буддистская секта, поклонявшаяся Вайрочане, верила, что это воплощение закона, или доктрины Будды, называлось Великой религией солнца, так как их священная книга называлась „Каноном Великого Солнца». А может, и наоборот, маленькая буддистская группа обрела свою популярность от христианства» [Holth 1968, с. 26–27].
Датой начала распространения несторианства в Китае считается 6S5 год, когда небольшая группа несторианских миссионеров прибыла из Персии в Чанъань. Возглавлял ее епископ Алобэнь (Alopen, в другой транскрипции — Olopan)
[14]. Алобэнь со спутниками был хорошо принят при императорском дворе, и ему было поручено перевести первые несторианские тексты для дворцовой библиотеки. В научной классификации несторианских текстов сложилось условное разделение их на две группы — ранние «писания епископа Алобэня» (начало VII в.) и поздние «писания священника Цзин–цзина (Адама)» (конец VIII — начало XX в.).
К числу ранних несторианских текстов (или «писаний Ало* бэня») относятся:
Сюйтии Мишисо цзин (Канон Иисуса Мессии). Создан между 635 и 638 гг.;
Юй ди эр (Притчи–сравнения, часть вторая);
И тянъ лунь ди и (Рассуждения об одном Небе, часть первая);
Шицзунъ бушгиьуиъ ди сапь (Миром почитаемый о милостивом даянии, часть третья). В тексте упоминается дата — 641 год;
Дашэн тунчжэиъ гуйфа цзапь (Гимн о проникновении в истинное и возвращении к закону Великого Мудреца). Документ датирован 720 г., что дает возможность поместить его хронологически уже после «писаний Алобэня»,но все еще до «писаний Цзин–цзина».
К поздним несторианским текстам («писаниям Цзин–цзина») принадлежат:
Сань вэй мэп ду цзапь (Гимн Святой Троице);
Дацинь цзинцзяо люсин Члсунго бэй суп (Памятник распространения сияющей религии [несторианства] из Дацинь в Китае). Стела с этой надписью была воздвигнута в 781 г.;
Чжи сюань апь лэ цзин (Канон скрыто–таинственного покоя и радости);
Сюань юань бэпь цзип (Канон об основах изначального). Саэки отнес доступный ему вариант этого текста к 786–788 гг. Ставший доступным позднее, соотносимый с ним как составная часть или продолжение, памятник Сюань юань чжи бэнь ^рин (Канон о достижении основ изначального) был датирован 717 г.;
Цзунь цзш (Канон почитания). По мнению Саэки, этот текст был составлен через несколько поколений после смерти Цзин–цзина между 906 и 1036 гг.
[15]
Наиболее известным несторианским памятником является упомянутая стела 781 г., обнаруженная в пригороде Сиани в 1625 г. Выбитый на ней текст, открывающийся заголовком Дацинъ цзиицзяо люсин Чжу то бэй (Памятник распространения «сияющей религии» [несторианства] из Дацинь в Китае), является важнейшим документом по ранней истории китайского христианства. Стела была обнаружена во времена активной деятельности в Китае католических миссий, проведших ее первоначальное исследование и описание. По этой причине в скептири–чески настроенной Европе распространилось мнение, что памятник является миссионерской подделкой, призванной обосновать наличие у китайского христианства глубоких исторических корней. Последующие находки не подтвердили версию о фальсификации, активным пропагандистом которой был Вольтер. С другой стороны, обнаружение и исследование памятника католиками привело к тому, что и в наши дни китайские католические исследователи считают обнаружение стелы «важной вехой в истории китайского католицизма», а приход первых несториан в Чанъань — «открытием пролога истории распространения католицизма в нашей стране» (см. [Ту Шихуа 1996, с. 150–151J). Такая трактовка неоправданно сужает историческое и культурно–цивилизационное значение оставленного несторианамн опыта взаимодействия с китайской традицией.
В первой половине XX в. были обнаружены и опубликованы восемь несторианских текстов. В 1908 г. П.Пельо нашел в пещерах Дуньхуана два текста:
Сань вэй мэн ду цзань (Гимн Святой Троице) it
Цзунь цтн (Канон почитания), последний содержал перечисление имен святых п несторианских переводов священных текстов. Несколько позднее огромный труд по сбору н исследованию несторианских текстов был осуществлен японскими учеными. Работа
II шэнъ лунь (Единобожие)
[16] попала из Китая в руки Кэндзо Томиоки в 1916 г. н была опубликована с комментариями Тору Хсшеды в 1918 г. Текст состоит из трех частей, располагаемых в следующем порядке:
Юй ди эр (Притчи–сравнения, часть вторая); //
тяиь лунь ды и (Рассуждения об одном Небе, часть первая) и
Ши цзунь буши лунь ди саиь (Миром почитаемый о милостивом даянии, часть третья)
[17]. Текст
Сюйтии Мишисо цзин (Канон Иисуса Мессии)
[18] был приобретен Дзюндзи Такакусу у некоего китайца в 1922 г. сразу после землетрясения в Токио (см. [Saeki 1937, с. 6]).
Вероучительные тексты
Чжи сюань анъ лэ цзин и
Сюань юань бэнь цзип хранились в собрании дуньхуанских текстов известного китайского коллекционера Ли Шэндо из Тяньцзиня. Экземпляр
Чжи сюань апъ лэ цзип был приобретен Ханедой у Ли Шэндо еще до войны, в 1928 г. Наиболее спорным статусом среди известных ныне китайских несторианских текстов обладают два манускрипта, обнаруженных в 1943 г. и коллекции Ли Шэндо японским ученым Я суси Кодзимой. Это
Дашэн гпунчжэнь гуйфа ^зань и
Сюань юань чжи бэнь цзип, известные среди специалистов как «манускрипт А» и «манускрипт Б» из «документов Кодзимы». Получив копию «манускрипта Б», Саэки пришел к выводу, что
Сюань юань чжи бэнь цзип и известный ему ранее
Сюань юань бэнь цзин являются двумя разрозненными частями одного и того же текста
[19]. В начале 1990–х годов исследователи Линь Ушу и Жун Синьцзян усомнились в подлинности «документов Кодзимы» и высказали предположение, что они могли быть изготовлены после смерти Ли Шэндо (см. [Standaert 2002, с. 7 ). Если эта гипотеза верна, то
Дашэн тунчжэнь гуйфа цзань и
Сюань юань чжи бэнь цзин могут быть исключены из списка аутентичных несторианских текстов династии Тан.
Ранние несторианские «писания Алобэня»
Терминологические заимствования из буддизма
Чтобы глубже разобраться в проблемах культурной адаптации несторианства в Китае, необходимо обратиться к сохранившимся письменным несторианским памятникам и их содержанию. Начальный этап китаизации несторианства представлен в ранних текстах из так называемых «писаний Алобэня», к которым относятся «Канон Иисуса Мессии» и состоящая из трех частей работа «Единобожие».
«Канон Иисуса Мессии» (Сюйтин Мишисо цзин)
По мнению Саэки, «Канон Иисуса Мессии», называемый иногда также по имени владельца «документом Такакусу», был создан между 635 и 638 гг (см. [Saeki 1937, с 114–117]) В этом случае он является наиболее ранним несторианским текстом на китайском языке. По содержанию «Канон» делится на две части —изложение основ вероучения и историю деяний Иисуса. В богословско–нравоучительной части текста отмечаются непознаваемость и вездесущность Бога. Хотя никто не видел Бога, но все люди наполнены Его дыханием и от Него зависит жизнь людей. Воздаяние за добро и зло настигает всюду, но те, кто следует добру, смогут узреть небесный путь и не провалиться в ад из–за злых деяний. В тексте подчеркивается необходимость не создавать раздражающих Бога идолов, следовать повелениям императора и заповедям религии. Три основные заповеди, постулируемые в этом тексте несторианскими миссионерами, сформулированы так: «Служить Богу, служить императору и служить родителям» [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 91]. В тексте приведен ряд дополнительных моральных поучений: не обижать слабого, не убегать от сильного, накормить и напоить калек, одеть бедного и дать ему денег, хорошо обращаться со слугами и ремесленникамн, не лжесвидетельствовать, не искажать истину и ложь, поддерживать добрые устремления сердца, не делать зла, не убивать живого и не обманывать Бога и т.д. Вторая, весьма краткая часть «Канона» обрывается на описании смерти распятого Иисуса. Это перное дошедшее до наших дней изложение содержания Нового Завета на китайском языке.
Изучение использованных в тексте терминов и транслитераций библейских имен и географических названий подтверждает, что «Канон Иисуса Мессии» был ранним несторианским памятником. А.Моул отмечает, что указанием на раннюю дату (его создания) может служить именование креста «деревом» (му) вместо сочетания «иероглиф десять» (ши цзы), вошедшего в употребление в конце XVIII в. «Несколько одобрительных ссылок на Будду, упоминания о дэвах и архате, использование имени властителя ада Яньло, как представляется, показывают, что это не перевод, но оригинальная композиция и в некоторой степени адаптация к современным китайским идеям» [Moule 1930, с. 59]. Авторы текста использовали для объяснения христианского богословия уже имевшиеся в китайском религиозном лексиконе буддистские категории. Сравнивая христианскую терминологию «Канона Иисуса Мессии» с текстом И шэяь лунь, Саэки обратил внимание на присутствие в «Каноне» необычно большого числа фонетических транскрипций. Многие из понятий и транскрипций были явно скороспелыми и носили странный для христиан характер. Терминологической спецификой «Канона Иисуса Мессии» стали:
1. употребление иероглифа Фо (Будда) для обозначения христианского Бога;
2. использование неподходящего знака 迷
ми (загадка, конфуз) в фонетической транскрипции 迷詩詞
Ми–ши–хэ (Мессия)
[20];
3. передача имени Иисуса при помощи оскорбительного сочетания 移鼠 («перемещать» + «крыса»);
4. использование для передачи понятия «Святой Дух» сочетания
лянфэн («холодный ветер»)
[21] [Saeki 1937,с. 117–121].
Использование песторианами уже имевшейся в китайском языке буддистской терминологии оставило заметный отпечаток на облике текста. «Канон Иисуса Мессии» начинался с утверждений о величии и непознаваемости «подобного ветру» Бот
(Тянъ г^зунь — букв. «Небесный Почнтаемый–уважаемый»), которого не видел никто из людей. Люди не видят Бога, как они не видят ветра, но несут чувство
(i^u) почитания Бога. Однако Бога все же могут узреть ангелы (巧1 弗
чжуфо、букв, «все будды») н святые (архаты–адоханъ 阿羅漢)
[22]. Отсюда можно сделать вывод, что знак
фо должен указывать не только на Бога, но и на духовные сущности низшего ранга, выступая аналогом понятия
лух–шэнъ. В этом случае можно предполагать терминологическую погрешность —иначе окажется, что несторнане проповедовали многобожие.
По мнению Гун Гяньминя, сочетание чжуфо относится не ко «всем богам–буддам», но к ветхозаветному понятию об ангелах (чжушэпь — букв, «многие духи» или тяньши — «служители Неба»). По его мнению, «составитель „Канона Иисуса Мессии'*, использовавший сочетание чжуфо, вовсе не был политеистом, он мог использовать чжуфо для указания на понятия о „многих духах–душах*' (чжулин) или «ангелах» (тяньши)» [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 83–84]. Однако эти весьма разумные толкования были недоступны сознанию образованного китайца времен династии Тан, хорошо знакомого с буддизмом, но не имевшего представления о хрнстнанских иерархиях ангельских чинов. Составители несторианского текста не хотели буквально сказать, что будды и арха–ты религии Шакьямуни могли лицезреть Бога христианской Троицы. Однако широкое использование ими буддистской терминологии не только способствовало культурной ассимиляции несторианства, но и невольно растворяло его в доминирующем буддистском религиозном окружении.
Исследователи полагают, что «китайский буддистский помощник Алобэня использовал свое собственное понимание н воображение для пересказа идей Алобэня в соответствии со своими собственными мыслительными формами. Буддистское влияние здесь очень заметно» [Lee Shiu Keung 1973, с. 123]. На 'то указывает, в частности, попавшее в текст «Канона» упоминание о том, что жизнь всех живых существ такая же, как и жизнь человека. Изложение в «Каноне Иисуса Мессии» основ библейского вероучения с опорой на буддистский лексикон привело к тому, что по–китайски первые заповеди декалога были сформ) — лированы в неузнаваемом виде: «[Люди], воспринявшие Небесного Почитаемого (Б о га–
Тя пьцзунь), есть [люди], воспринявшие учение [Небесного] Почитаемого. Сперва было послано все живое для поклонения всем дэвам ί 諸天
чжутянь), а Будде
(Фо) установлено быть Буддой для принятия страданий» [Вэн Шаоцзюнь 1995,с. 91]
[23]. Можно согласиться с А.Моулом, написавшим в комментарии к этому фрагменту: «Прежде чем резко осудить автора этой странной версии (если моя догадка верна) первой заповеди, мы должны предпринять некоторые усилия, чтобы представить сцену, как персидский миссионер с малым знанием китайского языка и образа мышления пытается объяснить китайскому другу с его скромным даром к схоластике „Поклоняйся Богу своему и только ему служи'*. Я думаю, что еще более странные результаты, чем „поклоняйся дэвам и буддам и Будде стра–дающему
», были порождены современными переводчиками, как миссионерами, так
и мирянами, чья ортодоксия была выше подозрений»[Moule 1930,с. 60,примеч. 70]. Сходного мнения придерживается и современный исследователь Р.Ковелл, полагающий, что эта фраза из «Канона Иисуса Мессии» является скорее концептуальной ошибкой при переводе, чем сознательной попыткой политеистической адаптации христианства к буддистскому контексту. Эта ошибка сравнима с промахом иезуита Франсиско Ксавьера, использовавшего транскрипцию латинского
Deus— Бог для христианской проповеди в Японии. Для японцев это звучало как
daiso, т.е. «большая ложь» [Covell 1986, с· 31J.
В первоначальном периоде адаптации к китайскому цивилизационному контексту несториане опирались не только на буддистский лексикон, но и на конфуцианские социально–политические ценности. Первые итоги усвоения политических нравов Китая и дворцовой психологии обозначились в тексте «Канона Иисуса Мессии» в 中орме признания конфуцианского учения о почитании императора как высшего существа — Сына Неба. Неудивительно, что после указания о необходимости служения Богу — «Небесному Почитаемому»
(Тяньцзуиъ) на втором месте оказалось служение земным властям — «мудрым верховным»
(шэп шан)’ которые являются «божественными порождениями»
(шэнь шэп) (см. [Вэн Шаоцзюнь, с. 91])
[24]·
В «Каноне Иисуса Мессии» обращают на себя внимание «три дела» — служение Богу, правителю и родителям. В ветхозаветных десяти заповедях Моисея обязанности служения вышестоящему начальству не было. Подобное новшество можно достаточно уверенно истолковать как творческую адаптацию христианского вероучения к социально–политическому контексту н китайскому конфуцианскому учению о необходимости «служения Небу, служения правителю и служения отцу». Процесс адаптации несторианства к китайской этике проявился и в повышении статуса ветхозаветной пятой заповеди о почитании родителей, которая в «Каноне Иисуса Мессии» была передвинута на второе место. В ее формулировку «почитай и корми отца и мать» (сяо ян фу му) [там же, с. 92] вошло исконно конфуцианское понятие о «сыновней почтительности» 一 сяо.
«Единобожие» (И шэнь лунь)
Этот текст, известный также под именем «документа Томио–ка», изобилует абстрактными теологическими рассуждениями. В нем почти нет присущих «Канону Иисуса Мессии» случаев использования буддистских терминов вместо христианских. Для обозначения Бога стало употребляться сочетание «Единый Бог–дух» {И шэнь), сменившее отягощенное контекстом религии Шакьямуни имя «Будда» — Фо. По мнению Саэки, несторианские проповедники «к 641 г. н.э. впервые узнали о том, что китайское сочетание И шэнь является лучшим для несторианских документов, чем слово „Будда“ для обозначения Бога, тогда как, с другой стороны, это показывает, что, когда несторианские миссионеры в Чанъани составляли документ Такакусу, они еще не подобрали подходящего слова для Бога» [Saeki 1937, с. 119].
В состоящем из трех частей тексте «документа Томиока» делается акцент на раскрытии более сложных аспектов христианского вероучения, чем в хронологически предшествовавшем ему «Каноне Иисуса Мессии». В разделе «Притчи–сравнения, часть вторая» подчеркивается, что все «десять тысяч вещей», видимых и невидимых, являются проявлением Одного Бога, они созданы им и свидетельствуют о его чудесной силе. В тексте часто встречается упоминание о «силе единого Бога» (м Шэнь чжи ли), проявляющейся во всем и подобной стреле, выпущенной лучником, —хотя мы можем не видеть этого человека, но вид летящей стрелы наводит на мысль о том, что ее кто–то пустил. Аналогичным образом крепость и стабильность Неба и земли говорят о том, что их поддерживает невидимая божественная сила (см. [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 110]). В этом тексте для китайской аудитории излагаются такие непростые аспекты христианского вероучения, как отношения Бога–Отца и Бога–Сына ~ «есть лишь один Бог (Шэнь), породивший (^) Бога»,между которыми нет различий вроде «левого и правого, переднего и заднего, верхнего и нижнего», равно как не может быть «второго или третьего» божественного существа (см. [там же, с. 111]). В тексте вводится отдельное понятие для обозначения Бога–Сына — «Святой Господь» (Шэпчжу). Приводимые в тексте доказательства бытия Бога следуют такой линии аргументации — подобно тому как в хорошем доме должен быть лишь один хозяин, у человека есть лишь одна незрнмая душа, а между Небом и землей пребывает лишь один незримый Бог. Точно так же, как душа наполняет все тело, Бог вездесущ повсюду между Небом и землей.
Изложение основ христианского вероучения несло с собой ознакомление и с западной картиной мира. Хотя в случае общения китайцев с пришедшими из Средней Азии несторианами возможности овладения достижениями западной науки были несопоставимо ниже, чем во времена позднейшей проповеди иезуитов, в тексте «Единобожия» можно найти краткие отсылки к западным научным концепциям. Во–первых, это учение о наличии у человека «души» (
хуньпо) и «духа»
(шэньчжи)[25] что, по мнению Саэки, может быть как–то связано с учением Аполлинария (см. [Saeki 1937,с· 171]). Во–вторых, это утверждение «десять тысяч вещей состоят из четырех субстанций
(сы сэ)», по–видимому, восходящее к древнегреческой теории четырех первоэлементов.
В тексте «Рассуждения об одном Небе, часть первая» получает развитие мысль о том, что все сущее сотворено из четырех элементов — земли, воды, огня и ветра (ди шуй хо фэп) Божественной силой. Бог один, и остальные духи не могут ничего сотворить. В то же время «ветер» в данном контексте выступает не столько в значении древнегреческого субстанциального «эфира»’ сколько синонимом христианского Святого Духа — «Божественная сила подобна ветру» [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 118]. Исследователи полагают, что излагаемое здесь учение о трех составляющих частях человеческой природы и четырех компонентах вещей относится к области философии христианской традиции с иудео–греческими корнями и поиск здесь влияний буддизма был бы ошибочным (см. [там же, с. 25]).
Текст «Единобожия» представляет собой попытку изложения на китайском языке основ христианского теизма, в нем также прослеживается линия культурно–понятийной адаптации к китайскому контексту. Например, в тексте содержится заимствованное из буддизма утверждение о том, что человеческие «дух» и «душа» созданы из «пяти скандх — атрибутов» (五瞎
у инъ),без которых они не могут существовать и которые будут наличествовать в «телесности» «духа–души» после воскресения мертвых. «Дух–душа» богата, а «пять скандх» бедны и потому заимствуют свое богатство у «духа–души». С точки зрения межкультурного взаимодействия примечательно утверждение, что «пять вкусов»
{у в эй)'[26] подобны «пяти скандхам», так как в нем соединились буддистское и конфуцианское направления аккомодации несторианства в Китае. В этом разделе «Единобожия» для именования Бога также используется буддистски окрашенное имя
Буши («Милостиво дающий»). Несторианский автор акцентировал необходимость добрых деяний и поклонения одному Богу для получения благодати. Это уподобляется постройке дома, когда надо аккуратно подгонять все части постройки, иначе она может обвалиться В тексте делается попытка обозначить атрибуты Бога — он неизменен, «следует себе»
(цзы жань), «отвечает себе»
[цзы ин) «совершенен и существует в себе»
(юань мань цзыцзай). Социальная аккомодация уходит на задний план: подчеркивается, что перед совершенством Божественного закона
(фа цзяо) все земные «Сыны Неба» стоят на втором месте. Наряду с этим повествуется о существовании дьявола
[27] и его коварстве, направленном на то, чтобы уводить людей с истинного пути. Общение с нечистой силой ведет людей на известные китайской аудитории несториан из учения буддистов «три пути зла»
(сапь э дао)[28] н,более того, к новому рождению в низшем состоянии.
Текст «Миром почитаемый о милостивом даянии, часть третья» содержит пересказ ряда фрагментов из Евангелия от Матфея (прежде всего из глав 6,7 и 28). В области терминологии следует отметить именование Иисуса «Миром почитаемым» (ши цзунь) и использование транслитерации 客努黯數 Кэпу Ишу (сир. Kadosh Ishu — Святой Иисус). Для транслитерации имени Иисуса вместо примененных в «Каноне Иисуса Мессии» знаков ^ («перемещать») Ж («крыса») в этом тексте были использованы более благовидные — («затенять») + 數(«число»). Это свидетельствует о более глубоком проникновении несторианских миссионеров в китайскую культуру и зарождении у них мысли о том, что не всякие иероглифические знаки подходят для фонетической транскрипции имени Бога. Если в «Каноне Иисуса Мессии» Святой Дух сравнивается с «ветром–потоком» (фэплю), проникающим в мире повсюду, или именуется «холодным ветром» (лян фт), то в данном тексте было введено сочетание «чистый ветер» (цзин фэп).
Давая обобщенную характеристику рассмотренным выше «писаниям Алобэня», надо подчеркнуть, что, несмотря на неудачные терминологические заимствования из буддизма, в них вполне узнаваемы евангельские первоисточники. В изложении вероучительной догматики они следуют христианской теологии, излагая с ее позиций учение о Боге, о вселенной, о человеке, о душе и т.д. Можно достаточно определенно заключить, что ранние тексты несторианских миссионеров в Китае построены на восприятии христианства как религии откровения, основанной на Евангелиях, для которой наибольшее значение имеют личность Иисуса, Его речи и деяния.
Взятые вместе, «Канон Иисуса Мессии» и текст «Единобожия» дают связное изложение новозаветных событий. «Канон» начинается с истории рождения младенца Иисуса, далее в нем говорится о появлении на небе Рождественской звезды, о принятии крещения от Иоанна в водах Иордана и сошествии «холодного ветра» — Святого Духа, чудесных исцелениях, ненависти фарисеев (вэпь жэнь), суде у Пилата и смерти на «дереве» (кресте). Хотя текст «Канона» на этом обрывается, в тексте Шицзунь бушилупь из «Единобожия» евангельская история продолжается и практически не содержит повторений, за исключением небольшого фрагмента о суде над Иисусом. В нем достаточно достоверно передано содержание Нагорной проповеди, упоминается о грехопадении Адама и искупительной жертве Иисуса. Очень близко к новозаветному тексту пересказана история положения во гроб, стражников у пещеры и жен–мироносиц, узнавших от ангела о Воскресении. Далее приведены истории о явлении воскресшего Иисуса ученикам и детальное обсуждение темы чуда Воскресения и вечной жизни, упоминаются служение апостолов и мученичество первых христиан.
Тексты Алобэня не ограничивались пересказом Евангелия для китайской аудитории, излагаемая в них христианская догматика охватывала этику, онтологию, космологию и человеческие отношения, что «показывает отличие несториан как восточных богословов от западных» [там же, с. 23]. Суть этих различий трактуется современными китайскими авторами как отличие греческого богословия от латинского, которое комментировало традицию н с сомнением относилось к философии. Греческое богословие соединяло низкий уровень (вера) и высокий уровень (гносис); взяв за исходную точку и основу Писание и Предание, оно ставило целью раскрытие более глубокого уровня — достижение экстаза, постижение сокровенного духа. Пришедших в Китай сирийских несторианских миссионеров было принято считать малообразованными людьми, но выбор содержания для текстов обнаруживает в Алобэне образованного христианина (см. [там же, с. 24]). Здесь сказалась также и эрудиция его неизвестных китайских помощников, передавших христианскую проповедь Алобэня посредством китайского иероглифического текста.
Облачение христианства в буддистские одежды не является однозначным свидетельством отклонения несториан от веры. Оно отразило объективную сложность задач адекватного изложения иноземного вероучения в китайских понятиях. Современные исследователи высказывают предположение, что отражение несторпанской позиции в христологическом споре можно обнаружить в «Каноне Иисуса Мессии», где не было подчеркнуто почитание Марии как Богородицы. В тексте «Канона» повествуется о непорочном зачатии Девы (童女 туп нюй) по имени Мария (末К Моянь) от Холодного Ветра (Святого Духа), посланного Небесным Уважаемым. Несторианский автор не выделил богоизбранность Марии, сконцентрировавшись на внешних последствиях рождения младенца Иисуса от посланного Богом–Отцом Святого Духа — оно убедило людей в мощи Бога, сделало их веру чистой и обратило их к добру (см. [там же, с. 22,текст на с. 99]). Возможно, что эта «квазинесторианская» смена богословских акцентов была навеяна прежде всего знакомством с китайской культурной традицией Равнодушная к чуду непорочного зачатия, местная аудитория образованных китайцев скорее могла бы заинтересоваться практическими позитивными социальными последствиями пришествия в мир Спасителя.
Поздние несторианские «писания Цзин–цзина» и даосская трансформация христианского богословия
«Гимн Святой Троице» (Сань в эй мэн ду цзань)
Краткий текст найденной в Дуньхуане несторианской молитвы на китайском языке был идентифицирован А.Моулом и другими исследователями как восточносирийская форма молитвы «Слава в вышних Богу» (Gloria in Excelsis Deo). Его название было переведено А.Моулом как «Гимн Сияющего учения Трем Величественным об обретении спасения» (A Hymn of the Brilliant Teaching to the Three Majesties for Obtaining Salvation) [Moule 1930, c. 53].
Есиро Саэки поочередно высказал две гипотезы. Сперва он предполагал, что это крещальная молитва — по его версии, иероглифы
вэй–мэп–ду читались в то время как
un–mung–do или
I–mung–daчто было истолковано им как транслитерация сирийского imuda (*muda) — «крещение». Позднее он изменил свою точку зрения ii пришел к выводу, что
мэн–ду есть искаженная транслитерация сирийского Motwa — седален, то бишь «гимн, исполняемый, когда все сидят» [Saeki 1937,с. 5]. Молитва обращена к Богу
(Алохэ), «милостивому Отцу трех ценностей». Это первая терминологическая особенность «писаний Цзин–цзина», отличающая их от «писаний Алобэня», где имя
Алохэ не встречалось Слово
алохэ ИМЙ, полагает Саэки, «без сомнения, является фонетизацией сирийского слова Aloha, означающего Бог и эквивалентного древнееврейскому
элох или
элохим» (там же, с. 42). Однако для транскрипции имени ветхозаветного Бога были избраны три китайских иероглифа, уже использованные в том же сочетании переводчиками буддистских текстов для транслитерации санскритского «архат»
[29] 一 например, в
Мяофа ляпъхуа цшп (Сутра Лотоса благого закона). Титул «Алохэ, милостивого Отца трех ценностей» соединил в себе фонетизацию семитского имени верховного божества, буддистскую аллюзию
(архат) и восходящее к древнекитайской традиции понятие о небе, земле и человеке как «трех драгоценностях»
(сапь цай)[30]. По мнению П.Ли, понятие о
саиъ цай было проинтерпретировано «с тринитарным поворотом: глубокое уважение к Небесам Высочайшим, к Великой Земле, созерцающей мир и гармонию, и гуманности, восстанавливающей через благодать свою подлинную природу. Весь гимн славит любящего Отца, сияющего Сына и „Царя свежего ветра**. Здесь нет места философским спорам, но это чистая док–сология» [Lee I). 1996,с. 80].
Ипостаси Троицы именуются в этой молитве как «Милостивый Отец» (цы фу 慈父),《Светлый Сын» (мин цзы 明子)и «Царь чистого ветра» (г^н фэи ван Л.Моул сообщает, что «объединенное употребление» этих трех имен неоднократно встречается в обнаруженных в Дуньхуане манихейских гимнах, (см. [Moule 1930, с. 53, примеч. 54]). Из ранних несторианских переводов в тексте «Гимна» унаследовано именование Бога «Миром почитаемым» {ши цзунь), к которому добавлен также обладающий буддистской окраской титул «Императора Закона» (фа хуаи). Иисус именуется в тексте молитвы как «Мессия (Мишихэ), Всеми Почитаемый Великий Священный Сын (пу цзунь да шэн цзы)» [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 193]. Здесь также присутствует буддистская окраска. Во–первых, Иисус назван «Великим учителем» {Да ши), что является одним из десяти уважительных эпитетов обращения к Будде (см. [там же, с. 195, примеч. 17]). Во–вторых, в молитве возносится благодарность «Великому учителю» 一 Христу за то, что он послал плот, чтобы даровать спасение в потоке огня. Хотя образ Церкви как корабля в бурном жизненном море присутствует в христианской традиции, в китайском контексте понятие о плоте соответствует буддистской символике, ассоциируясь с приносящей спасение Гуаньинь (см. [Saeki 1937, с. 272, примеч. 1]).
Подобно рассмотренным выше «писаниям Алобэня», в «Г и мне Святой Троице» адаптация к китайской культуре носит преиму–щестненно терминологический характер, а источником для заимствований по–прежнему оставался буддизм. В молитве утверждается главенство Бога над всеми земными правителями, его вечность, невидимость, совершенство и безграничная благость. При характеристиках Иисуса как Спасителя, взявшего на себя людские грехи, в этом несторианском тексте присутствуют ясно различимые ецангельские образы Христа как «милостивого любящего Агнца» (慈菩黑 цы си гао、、сидящего «одесную Отца» [Вэн III юцзюнь 1995, с. 19 i; 238, с. 267].
«Памятник распространению сияющей религии [несторианства ] из Дацинь в Китае»
Надпись со стелы, наидениой близ Сиани в 1625 г., является наиболее известным, чаще всего переводившимся и наилучшим образом исследованным китайским несторианским документом. По мнению Саэки, текст на стеле был составлен Цзин–цзином в 780 г., вскоре после перевода «Гимна Святой Троице» (см. [Saeki 1937, с. 264]). Полагая, что Цзин–цзнн как чужеземец вряд ли мог справиться с такой работой, архимандрит Палладий особо подчеркивал, что текст памятника был «написан ученым китайцем, весьма начитанным и хорошо владевшим монументальным слогом. Поэтому слово ту („сочинил) надобно понимать в смысле „объяснил“,т.е. передал китайскому ученому мысли и понятия христианские, а китаец изложил их по правилам национальной словесности» [Палладий 1872,с. 7–8].
Надпись включает в себя три раздела — доктринальный, исторический и евлогический. В начале надписи приводится краткое изложение основ вероисповедания, что представляет несомненный интерес для исследования проблем культурной адаптации несторианства в Китае. Бог (Алохэ) характеризуется в самом начале доктринальной части надписи качествами «постоянства» (чан жапь), «истинной безмолвности» (чжэнь цзи), «изначаль–ности» (букв, «предшествование предшествованию» — сяпь сянь), «безначальности» (;у юань), недостижимой «духовной чистоты–пустоты» (линсюй) и «таинственности» (мяо) в его способности творения. Это перечисление атрибутов Бога завершается риторическим вопросом: «Так не Он ли является нашим таинственным тройственно–единичным тел ом–персоной, безначальным Истинным Господом Элохим (во санъ и мяо штьу юань Чжэньчжу Алохэ 我三 —妙身無元眞主阿羅討)?》[Вэн Шаоцзюнь 1995,с. 45]. Обращая внимание на обилие даосской терминологии («постоянный», «чудесный», «спокойный», «истинный», «глубочайшая ось»»,«творить перемены» ,«почитаемый»), исследователи приходили к выводу, что Бог «отождествляется с Дао, которое представлено здесь лишь описательно без употребления самого этого термина», при этом была «сделана попытка создать единый образ Дао–Бога, в котором совмещались бы преимущества и того, и другого» [Исаева 1981, с 52].
Терминологической новацией несторианских миссионеров выступает введение наименования Бога «Истинным Господом» (Чжэньчжу). Почти за девять веков до римско–католических миссионеров, официально утвердивших в качестве китайского имени христианского Бога сочетание «Небесный Господь» (Тянъ· чжу), несторнане пришли к использованию для обозначения Бога иероглифа чжу — «господь, господин, хозяин». Архимандрит Палладий указывал на одновременное использование авторами текста для передачи понятий о Боге буддистской и даосской терминологии: алохэ есть санскритское «архат» — «наименование Будды как святейшего существа», сочетание сачь и (Святая Троица — триединое) «взято из антропологии даосов, у которых оно означает индивидуальное единство трех начал в человеке: духа, дыхания и семени», тогда как примененное для ипостасей Святой Троицы понятие «тело–персона» (шэнь), как буддисты называют «тело, три формы Будды, т,е. его бесформенную сущность; форму прославленную, или блаженную, как владыки рая, и форму земную, или воплощенную, как спасителя и руководителя существ» [Палладий 1872, с. 8–9]. Далее в надписи на стеле говорится о библейской картине творения. Достойно внимания, что этот сюжет начинается с утверждения о том, что Бог «установил „иероглиф десять“ (ши цзы, т.е. крест) для утверждения четырех сторон». Центральный символ христианства обретает здесь значение земного «географического» разделителя четырех частей света, а его религиозный смысл представляется поверхностным (см. [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 46,примеч. 7]). Дж.Легг заметил, что «необязательно предполагать, будто автор надписи думал о „кресте“ как символе христианства» [Legge 1888, с. 5, примеч. 1]· Однако слова о том, что «печать „иероглифа десять“》 (креста) озаряет все четыре стороны (света) и соединяет всех без исключения» [там же, с. 6–7], могут пониматься не только в натуралистическом ,но и в собственно религиозном смысле как указание на всеобщность и универсальность христианского вероучения. Проекция смысла этого высказывания на предшествующее упоминание о кресте способна придать тексту надписи еще более насыщенный христианский религиозный окрас, если понять его как указание на то, что Иисус и его миссия для всего мира («четырех сторон») существовали по воле Бога «от века».
Вершина стелы увенчана небольшим и трудно различимым изображением креста — самым древним для китайского христианства. В целом среди многообразия форм изображения креста в христианской традиции можно выделить две основные — crux qu 丄Jrata、или «греческий крест» с четырьмя равновеликими концами, и crux immissa, или «латинский крест», нижняя часть вертикали которого длиннее трех остальных сторон. Исходя из этой классификации, можно уверенно утверждать, что самое раннее китайское изображение креста со стелы относилось к греческой форме, принятой восточными церквами (см. [Гу Вэйминь 1994, с. 55]).
Изображение на стеле перенасыщено побочной символикой. Концы креста увенчивают цветы лилии, вокруг его подножия изображены облака, а под нижним его концом находится цветок лотоса. Этот симметричный крест, концы которого расширяются от центра к завершению, Саэки характеризует как «мальтийский», отмечая его сходство с крестом на могиле св. Фомы в Индии, все четыре конца которого также украшены цветами лилии. Образ «летящих облаков» является характерным символом китайского даосизма, тогда как лотос обозначает буддизм — «этот рисунок несомненно указывает на „единство трех религий“》 [Saeki 1937,с. 26].
Погружение несторианства в китайские космологические и философские доктрины становится весьма заметным на фоне слов надписи со стелы о том, что Бог «активизировал изначальный ветер»
(юань фэн), «произвел две пневмы–энергии
(эр 与w)»
[31] и «сотворил десять тысяч вещей»
(вань у). Более того, упоминание о «доброте
(ляп) и гармоничности (хэ)» первых людей носит вполне конфуцианскую антропологическую окраску. В надписи кратко излагается история грехопадения человека под влиянием происков Сатаны
(Содань и распространения идолопоклонства и ересей, приведших в смятение людские души. Этот небольшой фрагмент о деяниях врага рода человеческого оказался трудным для перевода и понимания. Архимандрит Палладий особо отметил его темноту и неясность, предложив перевод: «Он [Сатана] устранил величие равенства в том, что так; открыл смешение [тождеств] в том, что не так» и свое содержательное христианское истолкование этого фрагмента: Сатана «заставил человека забыть, что исполнением заповеди он сохранит равенство с Божеством (образ и подобие Божие), и обещал ему, неисполнением заповеди, тождество с Богом
(Будете Бози)» [Палладий 1872, с. 8].
М.Исаева в своем прочтении этой фразы исходила из предпосылки наличия в ней даосских истоков — Сатана приукрасил «пустую» (сюй) и «простую» (су) природу первых людей, дав им знание «о том и этом» (би—цы). «Эта идея, как кажется, имеет своим истоком философское учение Чжуан–цзы об относительности противоположностей, разработанное в главе „Уравнивание вещей», откуда и введены в текст основные термины» [Исаева 1981, с. 53]. В этой даосской интерпретации христианского понимания грехопадения деяние Сатаны сводится к тому, что относительные понятия («то», «это») были приравнены к абсолютам «истины» (ши) и «лжи» (фзй), а перевод обретает следующий вид: «Когда Сатана осуществил безрассудство, тонко украсил простую сущность [людей] тем, что поставил равновеликое между „этим‘‘ и истиной, внеся по затемненности равное между „тем и ложью…» [там же, с. 54]. Совмещение даосских и христианских мотивов привело к образованию «антиномии» истины бытия в Боге (ши) и лжи цивилизации (фэй), при этом «категории „равновеликое» пин да и „по затемненностн рав–ное» мин тун (как показатели лжесистем измерения, лжеучений —символ цивилизации у даосов) в приведенной фразе текста могут считаться конкретизацией „лжи“ фэй» [там же, с. 54–55].
Саэки перевел этот фрагмент следующим образом: «Когда Сатана использовал против него свои злые уловки, чистая и незапятнанная [природа] человека ухудшилась; справедливое и знатное было исключено из того, что называется истинным, с одной стороны (букв, „в этом месте»), и то, что фундаментально едино [с порочностью], было исключено из именуемого ложным, с другой (букв. ”в том месте»)» [Saeki 1937, с. 54]. Мы обращаем внимание на туманность этой фразы и трудности в ее истолковании прежде всего по той причине, что все это служит косвенным подтверждением наибольшей сложности восприятия христианской идеи грехопадения китайским традиционным сознанием. На этом фоне все остальные вероучительные фрагменты текста со стелы носят заметно более осмысленный и адекватный характер.
Приход Иисуса в мир описывается как «разделение тела нашего триединого [Бога](我三一分身
во санъ и фэнь шэнь)», «вошедшего в мир как человек». Упоминание об «отдельном–разделенном теле» «Сияющего и Почитаемого Мессии» наводит на мысль, что здесь–το, наверное, и проявилась еретическая доктрина несторианства, а сочетание
фэнь шэнь скрыто указывает на отделенность человеческой природы («тела») Христа от Его божественной природы
[32]. Однако российский православный исследователь этого текста архимандрит Палладий отмечал, что «собственно из текста нисколько не видно следов несториевой ереси, что бы ни говорили другие исследователи; они основы–ваются, между прочим, на неудобопонятном выражении текста: ”Тогда одна (отдельная) ипостась Троицы, наш Пресветлый н досточтимый Мессия
(Мишихэ), сократив и скрыв свое истинное величие, явился в мир, яко человек‘‘ (по свойству китайской фразы, „не отличный от других людей»). Это место в прежнем неправильном переводе гласило так: „Одно из трех лиц сообщило сеоя пресветлому и достопоклоняемому
Мигиихэ' и проч.; из этого и вывели несториево разделение естеств в лице Богочеловека. В китайской фразе можно найти скорее манихеизм, чем несторианизм» [Палладий 1872, с. 10–11]. Здесь можно сослаться ii на мнение Дж.Легга, который был не только выдающимся переводчиком древнекитайской классики, но и миссионером, по долгу службы компетентным в христианском вероучении. Он полагал, что в той формулировке отношения Бога–Отца и Бога–Сына, что приведена в надписи на стеле, «главная трудность не–сторианской доктрины была обойдена, и при этом обойдена очень мудро теми, кто составлял надпись» (Legge 1888, с. 42). Жаркий и длительный спор вокруг перевода сочетания
сань и фэнь шэнь «улегся после того, как в 1912 г. был опубликован
Le Tratte Mamcheen, где было убедительно показано, что
фэнь является частицей, а не транзитивным глаголом» [Giles L., с. 21].
В крайне сжатой форме составители надписи упомянули о Благовещении ангелов
(шэнь тяпь), рождении Иисуса от Девы Хавре обнаружил использование аналогичного сочетания в буддистских текстах для указания на духовные существа, способные появляться в двух и боаее местах в человеческом облике (см. [Moule 1930, с. 36, примеч. 19]).
(шитой 室女、、звезде Рождества и поклонении персов, завершении «старого закона» Ветхого Завета. В развитие темы об отношениях ипостасей Троицы говорится о том, что после прихода в мир Иисуса было создано новое действующее без слов учение «тройственно–единого»
(сань и) Святого Духа
(цтн фан — «чистого ветра»). Обряд крещения назван «омовением водой и ветром–Духом
(фэн)», очищающим человека от заблуждений до «пустоты» и «белизны». С точки зрения китаизации христианского вероучения крайне примечательны упоминания об установленных новой религией «восьми сферах»
(ба цзин) и «трех постоянствах»
(сапь чаи). Комментаторы текста сходятся в том, что в формальном обличье буддистского учения о сферах предстало христианское учение о восьми блаженствах
[33]; а в форме, напоминающей о конфуцианском моральном учении о «пяти постоянствах» ()
чан), были поданы три главные добродетели христианства
[34] (см. [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 50–51]).
Важнейшей особенностью текста со стелы является заметное преобладание даосской символики над заимствованиями из буддизма. «Подлинное и постоянное
дао чудесно трудноименуемо, его заслуги–функции проявляются, сделав усилие, называем их сияющей религией
{г^зипцзяо). Дао без мудреца–святого (
шэн) не будет развиваться, мудрец–святой без
дао не будет великим. Когда путь и мудрец соединяются, Поднебесная культурна и просве–щенна» [там же, с. 53–54]
[35]. Вне зависимости от того, кто понимается под
шэн — мудрец, христианский святой, пророк или земной правитель, — бросается в глаза растущее проникновение в несторианство даосского строя мысли. Это серьезное отличие от ранних «писаний Алобэня», где даосских мотивов практически не было и,несмотря на обильное и зачастую неоправданное употребление буддистских понятий, содержание текстов было близко к Евангелию.
Несториане получили первый в китайской истории «указ о веротерпимости», имевший отношение к христианам. Его текст приводится в историческом разделе надписи на стеле. Император Тай–цзун в двенадцатый год правления Чжэн–гуань (638 г.) опубликовал следующее распоряжение: «Не имеется
дао с постоянным именем, не имеется мудреца с постоянным телом–обликом. Учение устанавливается в соответствии с местом, чтобы спасти все живущее. Прибывший из страны Дацинь и обладающий великой добродетелью Алобэнь принес издалека в столицу [Чанъань] каноны и образы. В деталях его религия таинственна
(сюанъ), сокровенна
(мяо) и [проповедует] недеяние
(у вэй). Ее изначальные принципы основывают как главное порождение
(шэн) и завершение
(чэн). Их речи немногословны, их принципы не требуют иного
[36]. Она благоприятна для вещей и людей, [этому учению] должно быть позволено действовать в Поднебесной». Отдав распоряжение о строительстве в столице несторианского монастыря с двадцатью одним монахом, император заключил: «Когда добродетель рода Чжоу пришла в упадок, темный наездник отправился на запад, теперь сияет путь величественной Тан, сияющий [несторианским] ветер дует на восток»
[37]. Из императорского указа видно, что несториане были восприняты властями как потомки и наследники даосизма. Покинувшим во времена упадка Чжоу «темным наездником» считался полумифический основатель даосизма Лао–цзы, на происхождение от которого претендовали танские императоры. Возвращение несторианского учения «сияющего ветра» с запада в Китай имело не только религиозное, но и социальное значение — оно подтверждало добродетельность и величие династии Тан. Сближение несторнанства с учением Лао–цзы м Чжуан–цзы подчеркивается приписыванием ему атрибутов «таинственности», «сокровенности», «недеяния», «немногословности». Встречающаяся в тексте указа отсылка к упоминающейся в
Чжуан–цзы «бамбуковой удочке» канонов и текстов, которые могут быть забыты поймавшими «рыбу» несторианского учения, ясно закрепляется в его заключительной фразе
[38].
Обращает на себя внимание параллельность путей культур–нои адаптации буддизма и несторианства в Китае. Оба пришедших с запада учения поначалу предпочитали, чтобы каждое из них рассматривали не как новацию, но как «возвращение» исконно китайского учения даосизма после длительных странствий на историческую родину. Это выражалось как на уровне культурного осознания, так и в терминологии текстов. Из надписи на сианьской стеле можно узнать и то, что император Гао–цзун «почтительно наследовал [дело] предков, почитая подлинную религию (цзуп)», в результате чего несторианские «сияющие» (цзин) монастыри были основаны в каждом округе (чжоу), которых в тогдашнем Китае было около трехсот, а сам Алобэнь обрел титулы «Хранителя царства» (чжэпь го) и «Властителя Великого Закона» (да фа чжу). По китайской традиции время распространения несторианской религии описывалось как период процветания и стяжания «сияющего» счастья для каждой семьи.
Для понимания уровня знаний о своей родине, которые несли в Китай несторианские миссионеры, представляет интерес фрагмент с описанием нравов царства. Дацинь, т.е. восточной части Римской империи. Итак, из необычных материальных вещей на Западе упомянуты «асбестовая одежда», «возвращающие душу благовония», «сияющие, как луна, жемчужины», «светящиеся в темноте драгоценности». О нравах сообщается, что «там нет разбойников, люди живут в счастье и мире, практикуется только сияющая религия, у власти находятся только добродетельные правители, территория обширна, а литературные произведения великолепны» [там же, с. 57]. Если упоминания о материальной культуре Запада носят диковинный, но оригинальный характер, то описание нравов Римской империи практически повторяет утопические идеалы самих китайцев. Образ страны Дацинь служил в китайских источниках того времени «своеобразной проекцией традиционных китайских представлений об идеальном государстве» [Крюков М. и др. 1979, с. 104】,она считалась величественной и авторитетной страной, манеры и внешность трудолюбивых и добродетельных жителей которой похожи на китайские. Уже в IV в. даосы и буддисты обращались в своих сочинениях к утопическому образу Дацинь. Особенность надписи на стеле заключается в утверждении, что в достигшей идеальной жизни империи Дацинь практикуется только сияющая религия христианства. Это должно было послужить примером и подсказкой для китайцев, если те захотят воплотить свой идеал в реальности. Несмотря на значительные различия эпох, этот аргумент несториан очень напоминает доводы западных миссионеров нового времени, доказывавших желавшим укрепления своей страны китайцам обусловленность мощи и процветания Запада верой живущих там людей во Христа.
Относительно истории отношения властей к несторианам в тексте на стеле сообщается, что, хотя в годы правления Шэн–ли (698–700) несторианство подвергалось нападкам со стороны буддистов и «падших служилых»
(ся ши)[39], усилиями монахов и достойных людей «таинственная сеть» учения была сохранена. Дальнейшее поддержание «колонны закона» и «воздвижение вновь камня пути» связывается с деятельностью императора Сюань–цзуна и последующих правителей вплоть до правившего во время воздвижения стелы Дэ–цзуна (780–783),восстанавливавших несторианские монастыри и жаловавших сияющую религию своим вниманием и участием. В описании счастливой жизни при Дэ–цзуне содержатся и смутно выраженные аспекты христианского учения. «Ветер и дождь приходят вовремя, Поднебесная спокойна, люди могут понимать принципы, вещи могут быть прояснены, существующее может процветать, умершие могут радоваться, рождающиеся мысли находят соответствие [в словах] ,чувства исходят из искренности — это результат действия нашей сияющей силы» [Moule 1930, с. 42–43; Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 64]. В возносящей славу и поэтически построенной заключительной части надписи духовные и мирские темы сплелись воедино. Она начинается с обращения к «Истинному Господу (
Чжэньчжу) безначальному, таинственному, покоящемуся и неизменному», в ней говорится о спасении всего живого Иисусом как «отделившейся персоной»
(фэнь ги^нь) и о «возвращении в нашу Тан светлой–просветленной сияющей религии» [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 70]. После восхваления всех перечисленных в историческом разделе танских императоров в заключение говорится о тайне (^tw) сияющей религии и о том, как трудно именовать словами Троицу
(сань и).Этот «текст Цзин–цзина», чье имя обозначено в заголовке стелы, знаменовал поворот несторианства от буддизма к даосизму. Дж.Легг, не имевший в 1888 г. ни малейшего представления о содержании найденных в начале XX в. несторианских текстов, исходя TI3 текста со стелы, сделал безошибочный вывод,что «несториане относились к даосизму более доброжелательно и восприимчиво, чем к буддизму», заметив, что текст «указывает на большее знакомство с нормативными работами конфуцианцев и даосов, чем буддистов» [Legge 1888,с. 46–47].
«Канон об основах изначального» (Сюанъ юань бэнь цзин) и «Канон о достижении основ изначального» (Сюанъ юань чжи бэнь цзин)
Саэки в своей монографии поместил «Канон об основах изначального» в конец списка работ Цзин–цзина, предположив, что он был написан вместе с «Каноном скрыто–таинственного покоя и радости» через шесть–восемь лет после надписи на стеле 781 г. (см. [Saeki 1937, с. 264]). Находка датированного 717 г. «Канона о достижении основ изначального» поставила эту версию под вопрос. Написанный за полстолетия до воздвижения сианьской стелы текст указывает, что даосская трансформация несторианских текстов после «писаний Алобэня» началась несколько раньше. От «Канона об основах изначального» сохранились лишь первые десять строк. В них говорится о Патриархе
(фаван — «правитель закона») Цзинтуне (景 «сияние» + 通 «проникать»), сидящем в городе Назарете в стране Дацинь на облачном троне Сияющего Закона во Дворце Гармонии и Просветленности. Наиболее вероятно, что имя
Цзинтун фаван 景通法王 было применено к Иисусу
[40]. В то же время история о том, как все живое и даже ангелы
(шэнь тянъ) собрались вокруг
Цзинтун фаваиа、который после усердной молитвы вознесся на Небо и объявил оттуда божественную истину, с трудом соотносится с евангельскими текстами. Бог–Отец назван в этом тексте не применявшимся прежде именем «Императора Пустоты»
(кун xymi (см. [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 154, примеч. 5]). Изложение основ вероучения сводится к «достижению
(чжи чжи) отсутствия (}»)». Слова о том, что в результате познания истинного Бога–Творца можно достичь «безна–чальности»
(у юань), «безмолвности» ()>
янь), «пути отсутствия»
(у дао), «отсутствия связи» (у
юань), «таинственного наличия»
(мяо ю) и «не–наличия»
(фэй ю), трудно соотносимы с христианством даже с поправкой на все мыслимые еретические заблуждения несториан.
Объединяемый исследователями с этой работой «Канон о достижении основ изначального» представляет собой фрагмент из тридцати строк, завершающих некий текст. Он открывается рассуждениями о чудесном (мяо) дао н сокровенном (ао) даю, что сближает его с даосскими трактатами и текстом Чжуан–цзы: «Чудесное дао» являет собой «способное охватить десять тысяч вещей сокровенное дао, оно проникает в чудесные принципы и есть правильная (чжэн) природа (сип) всего живого… Чудесное дао порождает (шэп нэп) десять тысяч вещей и является их душой (липфу)» [там же, с. 156]. По поводу жизни человека в тексте говорится о ценности доброты (гианъ), а что касается верящих в дао добрых людей, то они смогут «увидеть подлинную природу–характер (чжэнь сип) обрести исконную доброту (шань г洲ъбань) н вернуться к беспредельному (уц^и)». Отметим, что о «возвращении к беспредельному» говорится и в 28–м чжапе Дао дэ цзипа. В рассматриваемом несторианском тексте далее утверждается, что верящие в дою и верные доброте могут изгнать всю нечистую силу (чертей — могуй), обрести долголетие, благополучие и знатность, навсегда избежать наказания смятенного плавания по Великой Реке. «Этого не обрести за один день, ищи и обретешь его [— дао]» [там же, с. 159].
В этих текстах уже практически нет ни христианской символики, ни содержательной христианской вероучительной догматики. Однако они безусловно связаны с несторианством. Во–первых, «Канон о достижении основ изначального» был включен в список почитаемых несторнанами тридцати переведенных Цзин–цзином текстов, вошедших в «Канон почитания». Во–вторых, этот религиозный текст завершается словами: «Канон о достижении основ изначального сияющей религии Дацш ь, один цзюань». Оценка смысла и подлинности этих двух фрагментов вызвала наибольшее число научных споров. Чжу Цяньчжи охарактеризовал «Канон о достижении основ изначального» как исходящий от китайских даосов комментарий к Дао дэ цзи ну, ссылаясь на имеющиеся текстуальные совпадения с чжапом 62, где присутствуют слова о том, что дао есть тайна (ао) десяти тысяч вещей, что оно есть «сокровище добрых» и т.д. (см. [там же, с. 157, примеч. 13]). Чжу оценил две части текста как лишенные связи друг с другом и заподозрил в них подделку. Однако их смысл может быть истолкован и по–иному, если видеть несторианские тексты как подготовительную проповедь христианства среди даосов. Исследователь Гун Тяньминь заключил, что в первой части («Канон об основах изначального»), и в самом деле, очень сильна даосская окраска и дух таинственности. Во втором тексте ее уже нет, а перед нами — изложение начала Евангелия от Иоанна. Этот поворот мысли кажется неожиданным и даже натянутым, но можно напомнить, что в стандартном китайском переводе Евангелия от Иоанна божественное Слово (логос) переводится как дао «Это дао было изначально (чу) («в начале было Слово»), им были созданы (цзао) десять тысяч вещей, и в нем была жизнь (гиэимин)» (Иоан. 1:1–4; цит. по [The New Testament 1980,с. 260]). При отстранении от новозаветного контекста начало Евангелия от Иоанна в китайском переводе также может быть принято за «даосский текст». Гун Тяньминь пришел к выводу, что «Канон о достижении основ изначального» повествует о Божественном Слове–логосе дао、поясняет действие Святого Духа, разницу веры и неверия и благость веры в дао. Эту точку зрения поддержал Лю Вэйминь, полагающий, что в этом тексте совершенно очевидно, что дао есть Бог, сотворивший «десять тысяч вещей» (см. [Вэн Шаоцзюнь 1995,с. 17; с. 156,примеч. 10]).
С точки зрения проблемы изучения процессов культурноцивилизационной адаптации христианства в Китае можно отметить следующее. Во–первых, эти два фрагмента текстов с похожими названиями свидетельствуют о значительном проникновении в несторианство не только даосской терминологии, но и даосского способа мышления о мироздании. Во–вторых, в них наблюдается практически полное исчезновение иноязычных транслитераций (Мессия, Элохим, имен евангельских мест и персонажей). Если дата в конце текста верна (717 г.), то это не может быть интерпретировано как необратимая утрата несто–рнанами собственного вероучения под давлением всепроникающей и всерастворяющен китайском культуры. В более позднем тексте надписи на стеле 781 г. христианская доктрина была изложена вполне удовлетворительно. Наиболее вероятным представляется предположение, что после написания «квазиканонич–ных», но малопонятных китайскому читателю ранних «писаний Алобэня» несторианские миссионеры обратились к созданию доступных пропедевтических текстов. Близость «Канона о достижении основ изначального» духу китайской даосской традиции подсказывает, что он мог быть задуман как первоначальная подготовка носителей этой традиции к восприятию более сложных и важных аспектов вероучения христианства.
«Канон скрыто–таинственного покоя и радости» (Чжи сюань апь лэ цзин)
Это сравнительно большой по объему несторианский текст, отличающийся явной даосской окраской и буддистской структурой. Он построен как диалог, в котором Мессия отвечает на вопросы ученика Симона (Цэньвэнъ сзн 岑穩僧,апостола Петра изначально звали Симоном), β тексте говорится, что путь покоя и радости может на время скрыться из глаз, подобно тому как пропадает отражение луны в мутной воде или свет от огня в мокрой траве. Мессия говорит, что для начала движения к этому пути необходимо избавиться от желаний (юй) и движения (дун), далее избавиться от поисков (цю) и действий (вэи) От недеяния (у вэй) начинается прояснение (цип) и очищение (цзин), что в итоге дает возможность понимания и свидетельствования (истины) Еще более углубляя мистический характер своего учения, Мессия говорит, что истинную религию невозможно познать и увидеть Причина все та же — для «знания–узрения» требуется участие человека–персоны (шэпь), что приведет к поискам–стремлениям и действиям, уводя тем самым от цели достижения покоя и радости. Для того чтобы быть в состоянии озарять все светом, Мессия советует Симону достичь состояния пустоты (сюйкун).
Христианская принадлежность текста начинает узнаваться, лишь когда Мессия говорит о стяжании благословений безбрежного Ло–иза 囉早杰· Это весьма приме чате л ьная терминологическая новация. Если в ранних текстах Святой Дух именовался «прохладным» или «чистым ветром» либо же «душой–духом» (лин)、то в этом, более позднем произведении использована транскрипция сирийского Ruha — «дух». В более позднем «Каноне почитания» была использована совсем уж громоздкая конструкция Лу–хзкгт 谷зтойшя!®訶寧俱沙,транслитерирующая сирийское Ruha–de–Kudsha — «Святой Дух» (см. [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 174, примеч. 24, с. 202, примеч. 2; Saeki 1937, с. 259–260, с. 277, примеч. 2, с. 308–309, примеч. 25]). Возможно, что несториане исходили при этом из побуждения придать понятию о Святом Духе должную таинственность и сокровенность, что лучше достигается введением непонятной транслитерации, а не использованием хорошо знакомых китайцам н отягощенных побочными смыслами иероглифов фэн или лип. На вопрос Симона (Петра) о том, что ему неясно, как достигнуть радости в состоянии «отсутствия центральности» (у чжун, в переводе Саэки — «in the world of nonentity» [Saeki 1937, c. 288],Мессия ответил, что это странный вопрос. Он подчеркнул, что при «наличии центральности» покой и радость невозможны. Хотя последователи этой религии не ищут покоя и радости, благодать приходит сама, если верующие держат дух–сердце в спокойствии и живут тихо. Симон обращается к Мессии исключительно с буддистскими эпитетами, называя его «Великим Милосердным (да цы) Великим Сострадающим (да бэй), не имеющим ничего выше себя Почитаемым» [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 177]. В то же время, в начальных словах ответа Мессии «Истинно, истинно» (жу ши, ту ши) можно усмотреть отголосок неоднократно повторяющихся слов Иисуса «Истинно, истшшо говорю вам…» из Евангелия от Иоанна, открывающих ряд стихов и новозаветном тексте (Иоан 5:24, 25; 6:26).
Как и в Новом Завете, текст полон притч и метафор, однако и них трудно узнать какие–либо евангельские аналоги. Мессия говорит, что подобно тому, как горы не ищут зверей и птиц, которые сами там собираются, а оке^ш не ищет рыб, которые сами там живут, покой и радость также приходят сами. Достижение совершенства носит постепенный характер. Оно подобно тому, как жаждавший исцеления человек взобрался на крутую н недоступную волшебную гору, используя лестницы, ступеньки и помощь тех, кто тянул его наверх и подталкивал снизу.
Далее Мессия поведал десять путей наблюдения–созерцания {гуапь).
Во–первых, все люди стареют, дряхлеют и умирают. Человек подобен гостю, которому были подготовлены на ночь еда и постель, но все это не его и будет им оставлено при уходе.
Во–вторых, со временем всем предстоит расстаться с близкими и любимыми. Это подобно дереву, листья которого облетают от осеннего ветра и холода, они разлетаются, и ни один не останется на. ветвях.
В–третьих、богатство и уважение не вечны. Они подобны ночному сиянию полной луны, которая может быть закрыта облаком или туманом или вступить и стадию уменьшения.
В–четвертых, люди, действующие силой и преследующие свою выгоду, в конечном счете повредят себе. Они подобны насекомым, летящим ночью на огонь. Думая, что это хорошо, они не осознают, что рискуют потерять в огне жизнь.
В–пятых, пытающиеся скопить богатства и сокровища люди истощают свои силы и дух, а в конце концом все это оказывается бесполезным. Это подобно тому, как если кто–то попытался бы собрать воды рек и морей в бутылочку. Она не примет больше, чем может вместить.
В–шестых, половое влечение человеческих существ происходит из их тела и природы, но несет им безвинное наказание. Это подобно тому, как родившиеся внутри дерева насекомые способны разрушить природу дерева, съев его сердцевину, из–за чего дерево сгниет и засохнет или сломается.
В–седьмых, увлечение едой, питьем, развратом и наслаждением приводит людей в заблуждение и делает их неспособными к различению истины и лжи. Это подобно тому, как брошенная и воду чистого пруда грязь делает отражения и образы нечеткими, а потом они и вовсе исчезают.
В–восьмых, люди любят развлекать себя, сидя на театральных представлениях, тратя время и расходуя духовную энергию. Но на пользу им это не идет — они похожи на сумасшедшего, который смотрит на цветы днями и ночами, напрягая все свои силы и мускулы, но не получая ничего в итоге.
В–девятых, люди следуют неверным учениям (цза г^зяо), но это лишь уводит их в сторону от прямых и истинных действий Это подобно тому, как если бы ремесленннк изготавливал фигуры коров и скота, делал их очень похожими, но если взять их в поле для сельской работы, то это не даст результатов.
В–десятых, люди, фальшиво изображающие совершенствование в законе добра, лишь ищут славы от людей и не понимают, что обманывают себя. Они подобны раковине с жемчужиной — когда рыбак вскрывает ее, то моллюск умирает. Лишь совершенные люди могут забывать о своих страданиях во имя других (см. [Вэн Шаоцзюнь 1995,с. 177–178; Saeki 1937, с. 292–296]).
Прочтя эти строки, нетрудно понять, почему Чжу Вэйчжи назвал «Канон таинственного покоя и радости» «одним из прекраснейших произведении несторианской литературы, чудом переводной литературы при династии Тан, занимающим высочайшее место в истории китайского христианства» (цит. по [Вэн Шаоцзюнь 1995,с. 21]). Среди десятка поэтичных образов ни один не связан напрямую с евангельскими текстами, но все они вобрали в себя лучшие метафоры из китайской культурной традиции. Эти «наблюдения» и поясняющие их образы носят некий уннверсально–синтетнческий характер. В них нет ничего узнаваемо христианского, ничего того, что абсолютно существенно для этой религии (Искупление, Спасение и Воскресение Иисуса), равно как нет и ничего, резко противоречащего христианской вере. С равным успехом они могут подойти и буддистам, и даосам, и носителям любой другой религиозной традиции тайского Китая. На этом основании можно говорить о росте синкретических тенденций в китайском несторианстве VIII в. н.э. Однако в этих текстах также можно увидеть и пропедевтическую направленность, максимально учитывающую полное неведение китайцев относительно азов христианства.
Весьма образны даваемые в тексте от имени Мессии описания «четырех видои побеждающего закона».
На первом месте стоит «отсутствие желаний» (у той). Активность желаний ведет к злу — это подобно тому, как если бы у растения был поврежден один из глубоких корней. Этого не увидеть снаружн, но растение погибнет. Точно так же невидимое внешнему взгляду, спрятанное в человеческом сердце желание лишает «четыре конечности и семь отверстий》этого человека «доброго I玉и». Зло будет возрастать, покои и радость прекратятся. Именно поэтому так велика важность закона «отсутствия желаний»».
Вторым идет «недеяние» (у вэй). Если следовать лишь внешним формам и прилагать к этому активность, то это не будет иметь ничего общего с природой (ахп) и жизнью–предопределением (лшк). Таков корабль, уносимый ветром в море и сотрясаемый волнами. У людей на его борту будет вместо покоя и радости лишь страх кораблекрушения. Следование внешнему и активность делают людей похожими на такой корабль.
Третий вид закона — «отсутствие добродетели» (у дэ). Это означает отсутствие радости от славы, осуществление великого милосердия без разговоров об этом. Надо быть похожим на великую Землю, дающую жизнь и пропитание всему живом)% приносящую пользу без слов. Те, кто следует сияющей религии — несторианству, несут живущим спасение, обретают покой и радость, но не похвалу.
Завершает поучения закон «отсутствия доказательства–свидетельства» (у чжэн). Это означает отсутствие знания, неразличение истинного и ложного, равный подход к добродетельному и к потерявшему добродетель. Это подобно зеркалу (излюбленная буддистами метафора!), отражающему объекты различных цветов, размеров и форм. Будучи таким же беспристрастным, человек реализует свою подлинную природу п достигает покоя и радости.
Христианских мотивов здесь не больше, чем в перечислении «десяти наблюдений». В конце текста Мессия охарактеризовал сияющую религию как оружие и защиту от врага — мирских страстей, победа над которыми должна привести верующего на «тот берег», что совпадает с буддистским наименованием нирваны, а воскресение мертвых связывается не со всемогуществом Бога, а со вдыханием аромата чудесного благовония.
Таким образом, в «Каноне таинственного покоя и радости» синкретическое слияние даосских н буддистских тем дополнилось вполне китаизированными литературными формами. В «писаниях Цзин–цзина» (кроме стелы 781 г.) очевидны отход от буквы евангельского первоисточника, насыщенность даос· сними категориями н образами, значительное приближение к стилю и менталитету китайских даосов и буддистов.
Необходимо отметить, что в самом позднем из сохранившихся китайскоязычных несторианских текстов, «Каноне почита–ння»
(Цзунь usuh),имеется достаточно адекватное изложение христианского тринитарного догмата. Б нем воздается поклонение «чудеснои
(.мяо) персоне (
шэнь) августейшего
(хуан) Отца
Алохэ, отвечающей
( ин) персоне августейшего Сына Мессии
Мишихэ и свидетельствующей
(чжэн) персоне Святого Духа
(Лухэнин Цзюйша). Эти три тела–персоны образуют одну сущность (mu)»
[41]. [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 200].
В «Каноне почитания» возносится хвала «правителям закона» (фаван) Их список открывают четыре евангелиста — Иоанн, Лука, Марк и Матфей За ними упомянуты Моисей и Давид, св. Павел, иерархи несторианской церкви. Это оостоятельство может навести на мысль, что даже к тому времени догматы христианства еще не были утрачены пребывавшими в Китае несто–рианами. Однако они напрочь исчезли из их популярной духовной литературы, рассчитанной на носителей китайских религиозных традиций. В синкретических «канонах Цзин–цзина» оста валось то, что попадало в сферу пересечения морально–этических доктрин китайских религий и христианства с добавлением многих новаций из китайского материала.
Можно сделать вывод, что в процессе культурной адаптации несторианства в Китае проявились его отличия от имевшего место ранее процесса адаптации буддизма. Использованные при обозначении буддистских понятий о видимом, иллюзорном, невидимом, запредельном, пусто–абсолютном мирах даосские понятия о «пустоте» (куя, сюй), «наличии» (ю) и «отсутствии» (_)') не нашли себе столь же широкого применения на начальном этапе адаптации несторианства к китайскому культурному кон· тексту. В то же время на поздних стадиях даосская трансформация несторианства стала преобладать над собственно христианским содержанием. Эта уникальная эпоха развития христианства в Китае н его культурной адаптации завершилась, когда в 845 г. император У–цзун повелел вернуться в мир буддистским, даосским и несторианским монахам. Существуют различные мнения относительно причин расцвета и упадка иесторнанства в Китае. В конце XIX в. ученый–миссионер Дж.Легг выделил следующие три причины заката китайской несторианской церкви.
Во–первых, сыграла свою роль разница ) ровней цивилизационного развития. Наибольшего успеха несториане добивались среди тех народов, чья цивилизация была менее развита, чем китайская. «В Чанъани они вступили в контакт с обществом, организованным более всесторонне, чем то, в котором они сами выросли, которое обладало литературой, почитаемой за ее древность, утонченность и многообразие Конфуцианские ученые получили более высокую интеллектуальную подготовку, чем те, кто прибыл их учить; лидеры даосизма, сведущие в конфуцианской классике, были сильны также в тонкостях и оригинальности рассуждений их собственной системы… Несториане не имели преимуществ в попытке овладеть этим полем со своими собственными теологическими тонкостями. По большей части они сражались как люди, сотрясавшие воздух» [Legge 1888, с. 52–53].
Во–вторых, несториане обращали больше внимания на сближение с властями предержащими и завоевание их благорасположения, чем на просвещение и обращение в христианство простого народа. По его мнению, об этом предположительно свидетельствует отсутствие в надписи на стеле упоминаний об увеличении числа верующих на фоне изобилия радостных слов о знаках благорасположения со стороны властей. «Мы не можем не прийти к выводу, что несто–рнанские учителя думали, что будет лучше работать сверху вниз, от вершины общества, нежели чем снизу вверх, от его оснований. Что еще им следовало сделать в этих обстоятельствах? — могут спросить многие. Но финал показал, что они заблуждались, думая, что улыбки при дворе и портреты императоров в их залах означают настоящие победы христианства» [там же, с. 54].
По поводу этого замечания Легга можно сказать, что, будучи построенным на недостаточной источниковой базе, оно примечательно тем, что почти буквально воспроизводит аргументы критики католических миссий XVI–XVII вв. протестантскими миссионерами XIX столетия.
Третий довод Легга строился на критике богословской недостаточности несторианской проповеди. Он исходил из того, что в надписи на стеле ничего не говорится о чудесах, совершенных Иисусом, равно как и о «Его распятии, Его смерти, Его погребении и Его воскресении… там не было практически ничего евангельского. Все это слишком бесчувственно для того, чтобы стать центром энергичной проповеди» [там же, с. 54]. Этот теологический довод Легга был в значительной степени снят с обнаружением в XX в. евангельских пересказов в текстах «Канона Иисуса Мессии» и «Миром почитаемый о милостивом даянни, часть третья». Что же касается миссионерского упрека несторианам в отсутствии энергичного прозелитизма, то здесь Легг очевидным образом озвучил программу своих коллег — протес–тантскнх проповедников XIX в. Проецировать ее на реалии VII–IX вв. представляется не вполне корректным.
Тем не менее среди причин упадка несторианства исследователи истории миссий долгое время привычно называли отсутствие ясной теологической доктрины и воздержание от проповеди спасительности креста. Вслед за доводами Легга также считалось, что несторианские миссионеры чрезмерно полагались на поддержку императора и тем самым сделались уязвимыми для политических перемен. В частности, в тексте со стелы 781 г. говорится об указах о создании храмов и числе священников, но не о ситуации с верующими. На малое число неофитов и зависимость от власти может указывать фраза о том, что «без мудреца дао не процветает», которую можно понять так, что без поддержки императора религию христиан в Китае продвигать невозможно (см. [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 9]).
В фундаментальном исследовании христианских миссий К.Латуретт подчеркивал, что несториане имели в Китае хорошие условия для развития. Их церковь вела активное существование на протяжении двух с половиной веков, т.е. почти столько же, сколько прошло на Западе между возникновением Христианской Церкви и принятием веры императором Константином. В этот промежуток времени против них не было серьезных гонений, им оказывалась финансовая поддержка со стороны государства (как, впрочем, и другим религиозным группам), между Китаем и Персией существовали неплохие торговые отношения, несторианам удалось привлечь на свою сторону немало высокопоставленных сановников. Поиск причин заката танского несторианства долгое время занимал умы иностранных миссионеров и китайских христиан нового времени, желавших понять ошибки предшественников, дабы не повторять их самим. К.Латуретт указал на три причины упадка несторианства. Во–первых, оно осталось для китайцев иностранной религией, несторианские общины продолжали зависеть от иностранного руководства и поддержки. Во–вторых, они прибыли в Китай в то время, когда после активного распространения буддизма там уже не чувствовалось необходимости в новой вере. В–третьих, несторианские миссионеры были отделены от своей церкви огромными расстояниями и не могли рассчитывать на серьезную поддержку со стороны братьев по вере [Latourette 1929, с. 58–59].
Схожие аргументы распространились и среди китайских исследователей, находящих причины заката несторианства в поверхностности несторианской теологии, чрезмерной ориентации китайской несторианской церкви на силу верховной государственной власти, в результате чего церковь попала в полную зависимость от настроений «верхов», а также в атеизме и «железных и каменных чувствах» (те ши синь чан) китайцев. Главной же причиной названо отсутствие «базы в массах», обусловленное культурными и языковыми различиями (см. [Ань Симэн 1992, с. 46]). Анализируя особенности распространения несторианства, китайские ученые наших дней указывают на три следующих обстоятельства. Во–первых, «в деле выживания и развития несторианство от начала и до конца зависело от нноконфессио–нальной политической силы». В отличие от Рима и Византии, христиане Персии, а затем и танского Китая, обладая поддержкой и защитой власти, не имели в ее системе исключительного доминирующего положения. Во–вторых, несторнанская теология была способна «отузем л и ваться». Несториане пришли в Китай с Библией в сирийском переводе и знанием культурных обычаев центральноазиатского региона. В Поднебесной они быстро впитали дух местной традиции, их вероучительные тексты были просты, практичны и насыщены моральными поучениями· В–третьих, «распространение несторианства было тесно связано с коммерческой деятельностью» — верующим и даже священнослужителям не возбранялось заниматься торговлей; несторн–анство продвигалось по миру вместе с караванами сирийских и персидских купцов (см. [Чжоу Сефань 1995, с. 76–77]).
Современный исследователь Р.Ковелл выдвинул ряд собственных критических соображений. Как и несториане, ранние проповедники буддизма также сосредоточивали свои усилия при дворе, однако их дело увенчалось успехом. Подобно буддистам, несториане концентрировали деятельность вокруг монастырей и подкрепляли ее земельными владениями, существуя как государство в государстве. Если успех буддистов брать за мерило, то несторианам также не была нужна значительная финансовая помощь из Персии. Подготовка священников осуществлялась ими на территории Китая в собственных монастырях. Значительное число переводов на китайский язык (о чем не знал Латуретт) свидетельствует о том, что несториане нацеливали свою работу не только на иностранцев. Если исходить из того, что буддизм к тому времени уже дополнил конфуцианство мистическим измерением, а император Тай–цзун хотел лишь уравновесить буддизм, поощряя несторианство, то нельзя не вспомнить и о том, что протестантизм пришел в Китай в XIX в. в ситуации, далеко не напоминавшей религиозный вакуум. Несмотря на его связь с военной и политической мощью Запада и противодействие со всех сторон, за полтора века протестантизм пустил в Китае свои корни и развивается ныне как «отуземленное» китайское христианство (см. [Covell 1986, с. 33]). Впрочем, указание Ковелла на связь распространения протестантизма с мощью Запада отчасти отвечает на поставленный им самим риторический вопрос: «Почему то же самое не могло произойти и с несторианством?».
Интересны современные оценки несторианства конфессиональными исследователями. По мнению Ту Шихуа из Центра теологических исследований при Ассоциации китайских католических епископов, люди с недобрыми умыслами продолжают называть китайскую сияющую религию (цзшщзяб) «несторианской церковью» и искать в ней признаки «несторианской ереси», хотя Ватикан уже давно признал чистоту веры сияющей религии. Призывая судить о вере китайских христиан династии Тан не по еретическим заблуждениям давшей им жизнь несторианской общины Персии, а по имеющимся китайским несторианским текстам, Ту Шихуа настаивает на догматической безупречности текста со стелы, «Канона Иисуса Мессии» и «Единобожия». Исследователь указывает на то, что церковная среда вокруг Алобэня на его родине не была заражена ересью, а вслед за признанием Ватиканом в XIII в. китайская сияющая религия стала частью китайской католической церкви (см. [Ту Шихуа 1996, с. 159–165]).
Что же случилось с несторнанами после указа У–цзуна? Саэки полагает, что большинство несториан после этого обратились в мусульманство (см. [Saeki 1916, с. 49]). Он разделил мнение Т.Ричарда, британского баптистского миссионера, работавшего в Северном Китае в конце XIX в., считавшего, что значительное число несторианских верующих нашло свой путь в секте «Учения золотой пилюли» (Цтпь дань цзяо) (см. [Covell 1986, с. 24]). Эта секта занималась поиском китайского эквивалента «философского камня», а ее акцент на важности всеобщей любви заставил миссионеров последующих эпох предположить, что она связана с несторианским христианством, а ее основатель Люй Янь был Люй Сюянем — автором надписи с несторианского монумента (см. [Stauffer М.Т. 1922,с. 29]). Те из несториан из западных окраин Поднебесной, кто не пожелал прибыть по приказу императора в Кантон для последующей высылки по морю в родные края, обратились к изучению китайской классики в надежде сдать экзамен на чиновничью должность. Что касается нестори–ан–китайцев, то те из них, кто не отрекся от веры, стали выдавать себя за даосов н практиковать свою религию втайне (см. [Ло Сянлинь 1966,предисл., 4]).
Некоторые ученые, среди них Карл Рейхельт, возводят к несторианским корням доктрину «спасения благодатью» в буддизме школы Чистой земли. Другие исследователи находят это соединение спорным, поскольку акцент на благодати никогда особо не подчеркивался в восточном христианстве. Тимоти Ричард предположил, что древнеиндийский поэт и философ Ашвагхо–ша, в заслугу которому ставится раннее распространение буддизма Махаяны, мог находиться под влиянием донесторианскнх мнссионеров в Р1ндни уже в начале I в. н.э., т.е. до того, как христианская вера достигла Китая. По мнению Ричарда, важная махаянская работа Дачэн цисииь лунь (Пробуждение веры махая–ны) может происходить из Индии как результат такого межрели–гиозного контакта. Он верил, что этот буддистский труд был первым аутентичным «евангелием на китайском», христианским свидетельством в буддистском облачении (см. [Covell 198G, с. 31]). Несторианским миссионерам, проповедовавшим в Китае, ставится в заслугу распространение двух других доктрин, которые отделили махая ну, северную ветвь буддизма, от ее более консервативного южного партнера, хинаяны. Это введение более конкретных идей Небес и ада вместо менее определенной идеи нирваны и тенденция к теизму в обожествлении будд и бод· хисаттв (см. там же). К.Латуретт осторожно заметил: «Подвергся ли буддизм воздействию христианства или христианство оказалось под воздействием буддизма, обязаны ли они своим сходством общим для обоих воздействиям или же параллельным и несвязанным процессам, пока еще сказать невозможно. Будущие археологические исследования могут пролить свет на вопрос, тогда как в настоящее время связь между ними полностью не доказана» [Latourette 1929, с. 49].
Видимым и наиболее демонстративным знаком культурной ассимиляции несторианства в Китае выступает символ креста, возвышающегося над облаками и вырастающего из цветка лотоса, впервые появившийся на стеле из Сианьфу. Позднее такие символы не раз были обнаружены при археологических исследованиях на надгробных камнях с несторианских могил. Они лучше любого текстологического исследования поясняют направление и глубину слияния несторианства с буддистской традицией
[42]. Новые археологические находки лишь укрепляют исследователей в мнении о том, что не только несторианские тексты, но даже внешний облик китайских несторианских крестов свидетельствует о слиянии различных традиций. На обнаруженном в 1983–1984 гг. в пригороде г. Чифэн несторианском надгробии с сирийскими надписями был изображен опирающийся на раскрытый цветок лотоса крест, при этом в середине креста был изображен маленький цветок мэйхуа. По мнению исследователей надгробия, «соединение креста, лфтоса и мэйхуа символизирует проникновение западного христианства китайским буддизмом и китайской народной культурой» [HamiltonJ., НюЖуцзи 1996, с. 78].
Сопоставляя деятельность несториан с заслугами Юстина Мученика и Климента Александрийского, Джон Фостер писал, что ранние несторианские миссионеры не только пытались делать китайцев христианами, но «сделать христианство в достойном смысле китайским. Под странной терминологией — странной для нас, на Западе, — скрыты цитаты из Библии и идеи, идущие от великих Отцов Церкви. Заимствование из нехристианских источников есть не что иное, как восточный двойник долга западной церкви греческой философии» [Foster 1939,с. 112].
Приход несторианства стал первой серьезной попыткой христианства проникнуть в Китай и пустить там корни. «Она учит нас среди прочего, что уровень отуземливания или неоту–земливания не является единственным фактором, ведущим к жизнеспособной церкви. Проблемы времени, продолжительности пребывания, экономики, политики и власти также являются существенными компонентами» [Covell 1986,с. 34–35]. Причиной судьбоносного для китайского несторианства запретительного указа У–цзуна были не только экономические соображения о необходимости привлечения монахов к производительному труду, но и желание защитить китайскую культуру от влияния «пришлых淖 религий — буддизма и несторианства.
Возрождение несторианства при правлении монголов
Вслед за упадком династии Тан в Китае наступил период, когда христианские темы ушли в тень. Новый этап развития меж–цивилизационных религиозных контактов наступил через три с лишним столетия, при монгольской династии Юань (1271–1368). По мнению К.Латуретта, монгольское завоевание ощутимо поспособствовало возвращению христианства в Китай. Это произошло как по причине развития торговых связей между Китаем и Центральной и Западной Азией, сделавших более частыми контакты между китайцами и зарубежными христианами, так и благодаря религиозной толерантности монгольских правителей. Великие ханы не только не препятствовали проповеди, но и оказывали иностранным религиям реальную поддержку, в частности, облегчая христианским священникам налоговое бремя (см. [Latourette 1929, с. 62]).
Будучи вытесненными из Центрального Китая после запрета 845 г., несториане переместились на северо–западные окраины страны. В XI в. несториане вновь появились в северной части Китая, а после установления династии Юань вернулись и в центральную часть страны. Во второй половине XIII в. несториане восстановили свое присутствие на севере и западе Китая под именем еликэвэнь. Истоки названия еликэвэпь неясны.
Современные исследователи возводят его к уйгурскому arkSgUn, восходящего к сирийскому rk'kwn и греческому arkhegos или άρχηγόδ — «основатель религии», «высочайший», «Бог» и т.д. (см. [Hamilton J, Ню Жуцзи 1996,с. 81–82]). По версии Саэки, еликэвэнь представляет собой искаженную форму слова Erkehum — «несторианский» или «христианский», происходящего от искаженного персидского Arkhun, означающего начальника, первосвященника, патриарха и т.д. (см. [Saeki 1937, с. 426]). Выдвинутая в 1920–е годы гипотеза китайского ученого Чэнь Юаня о том, что еликэвэнь может происходить от монгольского илулэ купь 并啦勒昆,первоначально указывавшего на «людей, обладающих судьбой–уделом» (ю юань жэпь), или «людей, имеющих благо словение» (фу фэнь жэпь), трансформировавшегося позднее в «людей, поклоняющихся Евангелию» (фу инь), не была разделена большинством исследователей проблемы. Бытуют гипотезы о том, что еликэвэнь происходит от греческого Бог–Элохгм( или от имени собственного Авраам.
Несторианские епархии были созданы в Ханчжоу, Пекине, Чэнду, Сиани, Вэньчжоу и других городах. Китайские историки полагают, что в XIII–XIV вв. «развитие еликэвэнь опиралось главным образом на политическую силу монгольской аристократии» [Ян Циньчжан, Хэ Гаоцзи 1987, с. 84]. Исследователи указывают, что со времен Чингис–хана Монгольская империя установила тесные связи с кереитами и тангутами, принявшими несториан–ство еще при Танах. Потомки Чингис–хана женились на нестори–анках, а после создания династии Юань многие несториане из окраинных племен стали чиновниками в Китае. Кроме того, монгольские правители поощряли практику назначения иноземцев на чиновные должности в Китае. Среди них были и несториане, которые, оказавшись в разных уголках страны, приступали к постройке своих церквей (см. [Ло Сянлинь 1966,предисл., с. 6]). Надежных свидетельств о характере взаимодействия несторианства с культурами неханьских народностей не осталось. Несмотря на сообщения о том, что еликэвэнь династии Юань вели миссионерскую деятельность среди местного населения, вызывая по этой причине противодействие даосских и буддийских священников, степень аутентичности их христианской веры вызывала у европейских очевидцев большие сомнения.
Побывавший в 1253–1255 гг. у великих монгольских ханов фламандец Вильгельм де Рубрук писал: «Несториане там ничего не знают. Они произносят свою службу и имеют священные книги на сирийском языке, которого не знают, отсюда они поют, как у нас монахи, совершенно не знающие грамоты, и отсюда они совершенно развращены. Прежде всего они лихоимцы и пьяницы; некоторые из них, живущие вместе с татарами, имеют даже, подобно татарам, многих жен. Входя в церковь, они, подобно сарацинам, моют себе нижние части тела, в пятницу едят мясо и, по сарацинскому обычаю, устраивают в этот день попойки. Редко бывает в этих странах епископ, может быть, едва один раз в пятьдесят лет. Тогда они заставляют его поставлять в священники всех младенцев, даже в колыбели, отсюда все мужчины их — священники. II после этого они женятся, что совершенно противно учению св. отец, и бывают двоеженцами, так как и священники, по смерти первой жены, берут другую. Все они преданы симонии, не исполняя даром ни одного таинства. Они озабочены судьбою своих жен и малюток, почему стараются не о расширении веры, а о наживе. Отсюда случается, что когда некоторые из них воспитывают каких–нибудь сыновей знатных моалов, то хотя и учат их Евангелию и вере, однако своей дурной жизнью и страстями скорее удаляют их от закона христианского, так как жизнь самих моалов и даже туинов, то есть идолопоклонников, более невинна, чем жизнь этих священников» [Карпинн 1911,с. 111–112].
Знакомясь с критикой Рубрука, не стоит забывать о том, что его мнссиеи на Востоке было распространение влияния BaTiiKa–на и Франции. Он мог умышленно сгустить краски, дабы убедить читателей в том, что лишь в руках католиков христианская вера может распространяться и поддерживаться в любом уголке мира настоящим образом. Это описание относилось только к части несториан и «исходило от католика, который жил в те времена, когда толерантность, в особенности к христианам из еретических сект, не считалась добродетелью» [Latourette 1929, с. 65]. Однако свидетельства Рубрука все же дают возможность оценить глубину погружения вероучения несториан в окружавшую их языческо–мусульманскую культурную среду. Сообщая о религиозных «безумиях» смешения несториан и мусульман среди уйгуров, Руб рук сообщил, как «нашел некоего человека, имевшего у себя на руке крестик из чернил; отсюда я поверил, что он — христианин, ибо на все, что я спрашивал, он отвечал как христианин. Поэтому я спросил у него: „Почему же вы не имеете здесь креста и изображения Иисуса Христа? Он ответил: ”У нас это не в обычае“. Отсюда я поверил, что они христиане, но пренебрегают этим по недостатку образования» [Карпини 1911,с. 106] При встрече у ханского двора несторианские священники интересовались у Рубрука, в какую сторону католики поворачиваются для молитвы, и «заставили также разъяснить места из Библии» [там же, с. 119]. В ходе полемики христиан с мусульманами и политеистами при дворе хана Мункэ Рубруку удалось ознакомиться и с содержанием богословских представлений несториан —изложив историю мира от сотворения до Страшного Суда, они не включили в нее историю Страстей Христовых, перейдя сразу к Вознесению. Они не знали, откуда появилось идолопоклонство; «несториане не умели ничего доказать, а рассказывали только то, что рассказывает Писание»; среди них встречалась даже вера в метемпсихоз — некий ученый из несторианских священников интересовался у Рубрука, не могут ли души скотов куда–либо убежать, «чтобы не быть вынужденными к труду после смерти» [там же, с. 151–1531. Выяснилось также, что среди несториан «не в обычае» таинство последнего помазания, которое священники «не умеют совершать» [там же, с. 145].
С другой стороны, несториане якобы «признавали, что Римская церковь — глава всех церквей и что они сами должны были бы принимать патриарха от папы, если бы проезд к нему был свободен»; они также утверждали, что хранят миро, которым Мария Магдалина умастила ноги Иисуса, и что у них «имеется мука, из которой был приготовлен хлеб, освященный Господом» [там же, с. 142]. Отметим, что хотя все описанное Рубруком происходило за географическими пределами ханьскон цивили зацни, на ее окраинах, многие его наблюдения могут помочь представить себе облик собственно китайского несторианства при династии Юань. Архимандрит Палладии привел любопытную характеристику китайских христиан этой эпохи во времена Мар–Сергиса, данную в тексте памятника монастыря Дасингосы (1281 г.) (цит. по историческому описанию города Чжэньцзян)
[43]: «Вера состоит главным образом в поклонении на восток и отличается от индийской веры уничтожения (т.е· буддизма. —
А.Л.). Дело в том, что свет исходит от востока; четыре времени года начинаются от востока; все твари родились на востоке; восток принадлежит дереву; дерево господствует над рождением; посему, со времени рассеяния хаоса, мир существует непрерывно, солнце и луна движутся, люди и животные распложаются, — все по единому закону непрерывного рождения; отселе и называется вечно рождающим небом» [Палладий 1872, с. 39; Saeki 1937, прил. ЮС, с. 510–512]. Анализируя смысл этой туманной характеристики, Палладий заключил, что конфуцианский составитель надписи «смешал христианские понятия с китайскими»: в традиционной китайской космологии дерево выступает одной из «пяти стихий»
(у син) и ассоциируется с востоком и весной. Дабы придать этому «символу веры» хотя бы минимальное христианское наполнение, Палладий заключил, что автор мог слышать «о рае на востоке н о древе жизни» [Палладий 1872,с. 42]. Однако текст обретет иное, более глубокое христианское звучание, если под «деревом» имеется в виду крест как религиозный символ — а именно так он именуется в раннем несторианском тексте «Канон Иисуса Мессии», о существовании которого Палладий знать не мог. Примечательно, что далее в цитируемом Палладием тексте говорится именно о кресте, который «есть подобие человеческого тела, они (христиане) вешают его в своих жилищах, ри–суют в храмах, носят на головах, вешают на груди и знаменуют им четыре страны света, верх и низ» [там же, с. 39]. Ученый–миссионер считал сравнение креста с человеческим телом образным из–за его сходства с фигурой человека с распростертыми руками. «Здесь трудно разуметь изображение Иисуса Христа распятым; потому что несториане, по свидетельству историков, не допускали на кресте подобных изображений» [там же, с 42]. Рубрук еще в XIII в. свидетельствовал: «Сами несториане и армяне никогда не делают на своих крестах изображения Христа; поэтому, кажется, они плохо понимают о Страстях или стыдятся их» [Карпини 1911,с. 91,130]. Ни на одном из несторианских крестов, обнаруженных к настоящему времени в Синьцзяне, Внутренней Монголии, Шаньси и Пекине, не оказалось изображения распятого Христа (см. [Гу Вэйминь 1994, не было тут ни христианских монастырей, ни верующих в христианского Бога до 1278 г.; начальствовал тут три года, по приказу великого хана, Мар–Саркис, был он несторианцем и приказал выстроить две церкви» [Поло ^990, с. 145]. В Ханчжоу, по словам Поло, было много «аббатств и языческих монастырей» [там же, с. 147]. с. 62]). В этом контексте весьма примечательна история Рубрука о попытке несторианского монаха вылечить знатную госпожу при помощи ревеня — в попытке совершения чуда он использовал «маленький крестик с выпуклым изображением Спасителя» [Карпини 1911, с. 131].
Имя еликэвэнь могло указывать также и на немногочисленных посланцев Ватикана и крещенных ими китайцев (см. [Ло Сян–линь 1966,с. 24]). В 1275 г. уйгуры–несториане Бар Савма и Маркос дали обет побывать в Иерусалиме, для чего отправились из Пекина на запад. Маркос позднее стал несторианским патриархом, а Савма — посланцем в Византию и к Папе Римскому. Интерес католической церкви к Востоку поддерживало беспокойство из–за военной активности монголов — в 1245–1247 гг. в Центральную Азию по распоряжению папы Иннокентия IV наведались три ватиканских посольства. В середине столетия францисканец Вильгельм де Рубрук сообщил в Европу о веротерпимости властителей Монгольской империи. Интерес Ватикана к Китаю был еще более возбужден распространившимися в 1278 г. слухами о крещении хана Хубилая.
Уже после визита в Китай Марко Поло в Поднебесную при был первый представитель римско–католической церкви — францисканский миссионер итальянец Джованни да Монтекорвино (1247–1328), уроженец Салерно, в 1280–е годы проповедовавший в Армении и Персии. Приехав в 1294 г. по повелению святого престола в Пекин, он получил у императора разрешение на проповедь. Однако его желание перевести несториан–неханьцев в католическую веру натолкнулось на противодействие и яростные обвинения с их стороны. Лишь через пять лет ему удалось преодолеть все трудности и приступить к исполнению своих миссионерских обязанностей в полном объеме. В 1299 г. он воздвиг в Даду (Пекине) первый католический храм
[44]' к 1318 г. прибавились еще два. К 1305 г. он крестил около б тыс. человек, на его воспитании было 47 детей в возрасте от 7 до 11 лет, которых да Монтекорвино учил церковному пению, греческому и латинскому.
Как отмечал де Рачевилц, французская миссия сосредоточила свои усилия на обращении в католицизм «отпавших» от церкви несториан и живших в ханской столице иностранцев, образовавших особую привилегированную прослойку между монгольскими правителями и китайскими простолюдинами. Монтекорвино предполагал решить проблему христинизации Китая путем обращения этой промежуточной прослойки, из–за чего он и его помощники не предпринимали никаких усилий к тому, чтобы начать учить китайский язык для общения с окружавшим их народом. «Как мы знаем от самого Иоанна да Монтекорвино, нарисованные на стенах его церкви сцены из Библии имели надписи на латыни, тюркском, монгольском и персидском, „дабы все языки могли прочесть' Китайский, язык большинства обитателей Ханбалыка, включен не был» [Rachewiltz 1971, с. 170]. В своих письмах из Китая он сообщал, что ему удалось приобрести достаточное знание татарского языка, и о своем переводе на этот язык Нового Завета и Псалтири. Направлявшая свои усилия в сторону неханьских народов миссия быстро развивалась, в 1307 г. папа Климент V назначил да Монтекорвино архиепископом Ханбалыкским и направил ему в помощь семерых священников, трое из которых на следующий год добрались до Китая В 1313–1318 гг. он направил священников для проповеди в провинции Фуцзянь (Цюаньчжоу), Чжэцзян (Ханчжоу), Цзянсу (Янчжоу) и другие районы Китая (см. [Жэнь Яньли 1999, с. 267]).
В 1342 г. в Китай прибыл новый папский легат Джованни де Маринолли, который пробыл в Ханбалыке три или четыре года —его миссия «была последней успешной попыткой средневековой церкви добраться до Китая» [Latourette 1929, с. 73]. Несториане воспринимали францисканцев как своих конкурентов в борьбе за влияние на императорский двор, у них были плохие отношения также и с последователями армянской церкви. Деятельность обеих христианских групп сошла па нет в середине XIV в., в процессе быстрого упадка династии Юань. Антимон–гольская реакция династии Мин не оставила места для продолжения деятельности тесно сотрудничавших с монголами иностранцев.
Как несторианские, так и католические приходы распались, оставив после себя лишь немногочисленные исторические свидетельства. К.Латуретт указал, что практически нет определенных доказательств воздействия христианства того времени на институты и жизнь Поднебесной, отметив, что «китайцы и их культура сегодня были бы такими же, как если бы несториане никогда не существовали и если бы Иоанн Монтекорвино и его собратья по ордену никогда не осуществили долгие и трудные путешествия из Европы» [там же, с. 76].
В XVI в. римско–католическая церковь возобновила свои попытки создавать миссии на Дальнем Востоке. Первые из прибывших в Китай иезуитов нашли в конце столетия лишь смутные упоминания о неких «поклонниках креста» («иероглифа десять») на севере Китая, поклонявшихся ему и изображавших его на лбу у детей для защиты их от сил зла. Смысл этого знака, равно как и религии в целом, был забыт. Ранние иезуитские миссионеры поначалу поверили в то, что казалось наиболее возможной истиной —что христиане впервые пришли в Китай с монгольскими завоевателями или веком ранее (см. [Moule 1930, с. 10]). Иезуитские миссионеры также обнаружили, что китайская образованная элита все еще различает мусульман, иудеев и христиан. Однако основанием для их разделения были не вопросы веры, а несходные правила в употреблении пищи. Китайцы называли мусульман «людьми, не едящими свинины», а иудеев — «людьми, не едящими сухожилий». Иезуит Н.Триго пояснил: «Этот обычай был введен иудеями потому, что Иаков был поражен в этот нерв» [Ricci 1953, с. 112]. Напомним, что ветхозаветная история о ночной борьбе Иакова с Богом заканчивается словами: «Поэтому и доныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому что Боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова» (Быт. 32:32). В свою очередь, потомков христиан китайцы называли «людьми, которые не едят животных с нераздвоенными копытами» — этот ветхозаветный запрет присутствует в книгах Левит (гл. 11) и Второзаконие (гл. 14). По этому поводу Н.Триго заметил, что для обозначения мусульман, иудеев и христиан китайцы употребляли один общий термин — хуэй (см. [там же, с. 112]). В глазах китайцев последователи христианства выделялись помимо воздержания от мяса лошадей, ослов и мулов еще лишь тем, что они ели свинину и другое мясо, осеняя его перед употреблением, как и прочую еду, крестным знамением.
От ранних католических общин остались очень скудные материальные свидетельства. Важнейшим из них является обнаруженная в 1951 г. надгробная плита с могилы дочери венецианского купца Катерины де Вилиони, умершей в Янчжоу в 1342 г. Камень украшен надписью на латыни и выполненными в китайском стиле иллюстрациями сцен мученичества св. Катерины Александрийской. Эта находка стала значимым подтверждением истории существования католической общины на юге Китая. Во Флоренции хранится так называемая «Библия Марко Поло». Это сильно поврежденный экземпляр Писания на латыни XIII в. Сама книга происходит с севера Италии, она была обнаружена в Китае в XVII в. Ее бывший китайский владелец утверждал, что Библия принадлежала его семье начиная с династии Юань, что делает допустимым предположение о ее первоначальной принадлежности францисканским миссионерам. В Венеции хранится также изготовленный в Китае и украшенный в монгольском стиле католический потир, предположительно датируемый XIII или XIV в. (см. [Rachewiltz 1971, с. 182, 202–203]).
История расцвета и заката несторианской церкви в Китае в VII—VIII и XIII вв. представляет собой отдельный эпизод, не связанный с прибытием в Китай в XVI в. католических миссий и началом их постоянной деятельности. Однако оторванность танского христианства от Рима и Византии сделала оставленный им опыт культурной адаптации особенно ценным — мощная западная церковь не вмешивалась в дела китайских несториан, давая им возможность действовать по собственному усмотрению. Исследование танских несторианских текстов от ранних «писаний Алобэня» до поздних «писаний Цзин–цзина» дает возможность представить ход постепенного погружения персидских священников в китайскую культурную традицию. Стремление дать адекватный пересказ Евангелия и заповедей веры постепенно уступило место нейтральным рассуждениям о смысле жизни и достижении покоя. На смену попыткам Алобэня и его помощников изложить христианскую теологию при помощи буддийских терминов и дополнить ее конфуцианскими социальными ценностями пришли даосские структуры текстов и мыслей «писаний Цзин–цзина».
Если формальным концом благоденствия такс кого христианства был указ У–цзуна, то отпадение его от фундаментальных основ христианского вероучения наступило почти столетием раньше, во второй половине VIII в. Как и в других странах Азии, несториане в Китае отказались от распятия, заменив его символом креста без изображений. По мере погружения в глубины китайской традиции Спаситель в их трактовке все более напоминал даосского мудреца. Отказавшись от попыток изложить китайцам сложные вопросы веры, несториане упростили и китаизировали ее до тех пределов, за которыми она уже практически утратила свою изначальную христианскую основу.
Достойно внимания и то, что несторианство сумело сохранить себя на окраинах Китайской империи среди неханьских народов. Отсутствие достаточного числа исторических свидетельств о характере их христианской веры не дает возможности для глубокого анализа. Однако здесь вполне уместна параллель с событиями XIX в., когда проповедь протестантских миссионеров находила особенный отклик среди национальных меньшинств, желавших обрести в христианстве опору в защите своей культурной идентичности от давления могущественной и древней китайской цивилизации.
Глава 2. Деятельность Риччи и политика культурной адаптации иезуитов (XVI — начало XVII в.).
В XVI в. жизнь европейских христиан претерпела значительные изменения — в 1563 г. завершил работу католический Три–дентский собор, открывший путь к значительному реформированию католической церкви, обычно именуемому «контрреформацией». Создание пресловутого «Индекса запрещенных книг» и упрощение института инквизиции были частью большой работы церкви по укреплению внутренней дисциплины на фоне вызова со стороны протестантов. В эту эпоху значительно выросло влияние монашеских орденов, прежде всего ордена иезуитов (создан в 1534 г.). Испанец Франциско Ксавьер (1506–1552), один из первых семи членов ордена иезуитов, стал одновременно первым знаменитым католическим миссионером наступившей новой эпохи. Инициатива развития миссий на Востоке принадлежала светской власти — Ксавьера направил в свои азиатские владения для христианской проповеди португальский монарх Жоан III. В 1542 г. Ксавьер прибыл в Индию, где служил до 1545 г., после чего отправился на Малайский архипелаг. Позднее он отбыл в Японию (1549–1552), где на него сильное впечатление произвел высокий уровень местной культуры, подвигнув изменить приемы работы среди населения. Именно там зародились методы иезуитской культурной адаптации, ибо Ксавьер настаивал Ηϋ уважении ко всем местным обычаям, если те не находятся в прямом противоречии с христианским вероучением. Поняв, как велика степень влияния китайской культуры и религии на Японию, Ксавьер начал размышлять о необходимости миссионерства в Китае. Надеясь ускорить процесс миссионерской работы в Японии путем распространения христианства в Китае, он после возвращения в Индию предпринял по пытку добраться до Поднебесной. Но ему не было суждено осуществить этот замысел — в декабре 1552 г. он умер от болезни на о–ве Шанчуаньдао на юге Китая, тщетно ожидая разрешения на въезд в Китай. Хотя число крещенных им жителей Азии вряд ли превышает 30 тыс. человек (восторженные современники поднимали эту цифру до миллиона), его вклад в открытие азиатского направления католического миссионерства несомненен. Католическая церковь с 1622 г. почитает его как святого, а в 1927 г. он был провозглашен католиками покровителем зарубежных миссий.
Через два десятилетия после смерти Ксавьера иезуиты возобновили попытки проникновения в Китай. В 1573 г. орден иезуитов назначил итальянца Алессандро Валиньяно (1539–160G) куратором миссионерской работы в Индии и Японии. Его работа в Японии была очень успешной — он обратил в веру нескольких местных феодалов (даймё), освоил приемы «внешней адаптации» и облачился в одежды дзэнского монаха, получил разрешение на подготовку священников из числа местных жителей. К моменту его смерти в Японии насчитывалось до 300 тыс. христиан.
На пути в Японию Валиньяно был задержан в Макао, где имел возможность ознакомиться с местной цивилизационной спецификой и принять решение относительно проповеди в Китае. Он вызнал в Макао из Индии итальянского иезуита Микеле Руджери (1543–1607). После прибытия в июле 1579 г. Руджери начал изучать китайский язык. Получить разрешение на въезд в Китай было по–прежнему трудно, но Руджери сумел сделать несколько краткосрочных вылазок в Гуандун вместе с португальскими купцами, где пытался проповедовать среди китайцев.
В августе 1582 г. на помощь Руджери в Макао прибыл италь–янскш'1 иезуитски» миссионер Маттео Риччи (1552–1610), которому было суждено стать самым знаменнтым христианским миссионером за всю историю религиозных контактов Запада и Китая. Выходец из знатного рода в Масерата (Центральная Италия), Риччи предпочел духовную карьеру светской деятельности юриста, к которой хотел его приобщить отец. В период пребывания и Риме он получил возможность поучиться у двух замечательных деятелей того времени — матемагика–иезуита Христофора Клавиуса, привившего Риччи вкус к естественнонаучному знанию, и будущего кардинала Роберто Беллармине, отличавшегося блестящим красноречием и широкой эрудицией. Ведущие деятели начального периода присутствия иезуитов в Китае были итальянцами, «пропитанными идеями итальянского Ренессанса и интеллектуально подготовленными в Римском колледже ордена иезуитов, будущем Григорианском университете» [Wiest 1997, с. 658]. После годичной учебы r Португалии, в 1578 г. Риччи добрался до Гоа в Индии. Прибыв по вызову Валиньяно в Макао, Риччи сразу же приступил к изучению китайского языка и работе над кратким очерком народа, обычаев и правления Китая, позднее включенного Валиньяно в биографию Ксавьера (см. [Dunne 1962, с. 25–26]). Б 1583 г. Руджери и Риччи удалось перебраться из Макао в провинцию Гуандун в местечко Чжаоцин. В конце XIX в. православный ученый–миссионер иеромонах Николай (Адоратский) описывал начало миссионерской деятельности иезуитов следующим образом: итальянцы «открыли богослужение в приобретенном доме, где повесили китайские надписи на стенах со словами: „верховному правителю всего» и „истинному Источнику всех тварей‘‘· К этим сентенциям они потом присоединили картину св. Девы с предвечным Младенцем, которую заменили образом Спасителя после того, как народ заговорил, что иностранцы чтут женщину. Переведя десятословие и отпечатав его в многочисленных экземплярах, миссионеры стали раздавать его посетителям. Одновременно с этим началось специальное изучение ими китайского языка и знакомство с китайскими учеными, которых они при случае старались посвящать в элементарные понятия о вере» [И.Н.А. 1885(a), с. 7].
Поначалу деятельность двух «западных монахов» (си сэн) сталкивалась с большими трудностями и неприязнью местного населения к «заморским чертям». Пытаясь завязать полезные контакты с образованным чиновным классом, Руджери и Риччи все более сосредоточивались на идее передачи его представителям накопленных на Западе знаний по математике, механике и географии. Но как в этой деятельности, так и в христианской проповеди Риччи присутствовало осмотрительное уважение к имеющимся в китайской традиции представлениям о мире земном и мире небесном. Наиболее выразительным примером готовности к адаптации собственных представлений к китайскому контексту стала составленная Риччи карта мира, в центре которой был помещен Китай (см. [Latourette 1929, с. 92]).
В 1588 г. Руджери отправился из Макао в Рим, чтобы добиться от Ватикана посылки ко двору китайского императора посольства, которое попыталось бы истребовать для миссионеров свободы проповеди на всей территории страны. Вернуться назад в Китай Руджери суждено не было. Тем временем в 1589 г. Риччи и его новым португальским помощникам Дурато де Санде и Антонио д’Альмейда пришлось покинуть Чжаоцин и переместиться в местечко Шаочжоу в том же Гуандуне. Там Риччи сблизился с конфуциански образованным чиновником Цуй Тайсу, который не только учился у итальянца западным наукам, но и сам, как мог, посвящал того в тайны конфуцианских канонов. Из этой дружбы выросли два важных последствия — Риччи предпринял отважную попытку перевести конфуцианское «Четверокнижие» на латынь и сменить принятые им и его коллегами одеяния. Уже в начале пребывания иезуитов в Гуандуне местные власти указали им на необходимость одеваться сообразно китайским нормам, после чего Руджери, с санкции Валиньяно, облачился в наряд буддистского монаха (см. [Dunne 1962, с. 33]). Однако путь уподобления носителям религии народных масс оказался тупиковым, ибо образованная конфуцианская элита мало уважала буддистских монахов, рассматривая их как носителей ложного учения. В Шаочжоу дом миссионеров находился недалеко от буддистского монастыря, что дало Риччи возможность самому внимательно понаблюдать за царившими там нравами и разочароваться в буддистах. Его новый друг Цуй Тайсу также посоветовал ему сменить форму одежды на наряд конфуцианского ученого, что сделало бы его облик более подходящим для визитов к китайскому начальству.
По мнению Жерне, на ранних этапах деятельности иезуитов в Китае народ относился к миссионерам именно как к буддистским монахам, давая им масло для лампад, благовония и еду, тогда как местные чиновники не препятствовали получению миссионерами дохода от церковных земель. Воскурение католиками благовоний и поклонение христианским образам воспринималось столь же естественно, как и в буддистском храме. В этих условиях обращение в католичество и принятие крещения должны были бы проходить без препятствий. «Казалось, что все свидетельствовало в пользу союза миссионеров и буддистских монахов» [Gernet 1985, с. 74].
Риччи также отметил много параллелей в догмах и ритуалах двух религий — буддистские монахи признавали некоторый род «троицы» (а именно: «три драгоценности» (сань бао) — Будда, сообщество монахов н буддистский закон), а также наличие рая и ада, пребывание в которых душ умерших, в отличие от христианства, носило временный характер. Они также практиковали покаяние, соблюдали целибат и следовали обычаю раздачи милостыни. Их ритуалы напоминали католическую мессу, столь же знакомыми казались их образа, лампады и даже головные уборы священников. Пять буддистских запретов, которые должны были соблюдаться верующими, также напоминали некоторые из десяти заповедей христианства — не убивай живые существа, не BOf ;й, не прелюбодействуй, не лги, не напивайся и т.д. «Однако для Риччи и миссионеров эти совпадения были не больше чем ловушками, расставленными дьяволом… Тем не менее именно эти обманчивые совпадения оказали миссионерам решающую помощь в задаче проповеди среди простых людей, которые в большинстве своем были не в состоянии увидеть какое–либо различие между двумя доктринами н более всего были озабочены действенностью ритуалов» [там же, с, 75].
Это позволяет сделать вывод, что принятое миссионерами «противостояние буддизму и дополнение конфуцианства» еще не означало, что христианство внешне было более похоже на кон–фуцнанство. Скорее наоборот, сходство католицизма с «изначальным конфуцианством» носило призрачный н по преимуществу интеллектуальный характер, тогда как внешние совпадения с буддизмом были видимы и легко заметны для людей. Размежевавшись во времена Рнччи с буддизмом на столетня вперед, позднее католики не раз обвиняли религию Шакьямуни в краже фрагментов христианских обрядов и вероучения, доказывая тем самым китайцам свой духовный приоритет. В середине XIX в. аббат Хук писал, что исследователи буддизма часто поражались близости его учений, моральных основ и богослужений с христианскими, что сбивало с толку «робких христиан», заподозривших, что их вера происходит из Индии и Китая. Однако «на самом деле» это буддизм, позаимствовав часть христианских истин, «был в состоянии веками вводить в заблуждение бесчисленное множество людей» [Hue 1884,т. 1, с. 33].
Оценив путь «в народ» как малоперспективный, Риччи и его товарищи были рады получить в июле 1594 г. от Валиньяно санкцию на переодевание в одежды конфуцианских ученых. Они начали работу по обращению в свою веру представителей китайской императорско–чиновничьей элиты. Риччи стал именовать себя «западным конфуцианцем» (си жу) и сосредоточился на поисках возможностей сближения христианской доктрины с кон фуцианской традицией. Поясняя содержание поисков иезуитами лучшего пути миссионерской деятельности, Д.Тредголд заметил «Постепенно Риччи заподозрил, что в Китае при Минах (и то же осталось истиной при Цинах) никто, даже император, не мог бы четко решить, могут ли они остаться и мирно продолжать свои труды. Однако он понял, что если иезуиты смогут существенно повлиять на ученых (шэпъшу)、то будет создана атмосфера, в которой они могли бы рассчитывать быть встреченными в целом с симпатией» [Treadgold 1973,с. 2–9]. Конфуцианство же было единственным инструментом интеллектуального сближения с образованной китайской бюрократией.
В 1597 г. Риччи обратился к генералу ордена с просьбой об откомандировании на постоянное пребывание в Пекине. Предпринятая в 1595 г. попытка попасть в столицу не была успешной, но Риччи все же сумел переместиться далеко на север — сперва в Наньчан,а потом,в 1599 г., и в Нанкин. Там его мечта о завоевании душ китайской элиты приблизилась к реальности 一 ему удалось познакомиться с Сюй Гуанци (в крещении Павел), ставшим позднее одним из виднейших деятелей китайского католицизма той эпохи. В 1601 г. сбылась и другая мечта Риччи — он прибыл в Пекин и получил разрешение на постоянное проживание в столице. В его окружении было много чиновников и ученых, в том числе и три выдающихся «столпа» ранней католической церкви в Китае — Сюй Гуанци, Ли Чжицзао и Ян Тинъюнь. Император Вань–ли принял подарки Риччи с интересом, но ни разу не удостоил его аудиенции· Тем не менее сфера деятельности миссии постоянно расширялась, число обращенных исчислялось сотнями. Китайские исследователи замечают: «Реальность подтвердила, что диковинные западные вещи пробудили у китайского императора добрые чувства и стали важным инструментом для получения права проповеди в Пекине» [Чжан Кай 1991» с. 73]. Среди даров были не только часы с боем, вызвавшие у императора восторг, — когда они остановились, тот послал придворных к Риччи за инструкциями по их использованию, — но и образ Богоматери с младенцем Иисусом европейской работы, удививший двор невиданным ранее художественным реализмом в изображении людей.
Риччи умер в Пекине в 1610 г.,оставив после себя динамично развивавшуюся католическую миссию. Для его захоронения императорским указом была выделена земля, принадлежавшая попавшему в немилость придворному евнуху, похороны же были максимально приближены к китайскому ритуалу — «в смерти, как и в жнзнн, он старался примирять, а не враждовать» [Latourette 1929, с. 98].
В шаочжоуский период деятельности Риччи выкристаллизовалась основополагающая религиозно–культурологическая идея, легшая в основу его последующей миссионерской деятельности: «дополнять конфуцианство и отбрасывать буддизм» (6у жу и фо 補儒易佛)· Ее внешним проявлением стала замена буддистских монашеских одеяний на облачения конфуцианских чиновников. В глубине ее лежала сложная задача создания теистического истолкования наследия древнекитайской доконфуцианской традиции для ее примирения с католицизмом. Главное отличие проповеди иезуитов от проповеди несториан династии Тан можно определить как смещение акцента с попыток трансформировать свое учение по буддистско–даосскому образцу к попытке создания совместимой с христианством интерпретации предконфуциан–ской и раннеконфуцианской традиции.
Идеи нейтрально–позитивной трактовки китайской культуры достаточно подробно отразились в дневниках Риччи. Он писал: «Из всех языческих сект, известных в Европе, мне неизвестен другой народ, который совершил бы в ранние века древности меньше ошибок, чем их сделали китайцы» [Ricci 1953, с. 93]. Риччи исходил из того, что в древности китайцы исповедовали единобожие, а с упадком этого представления не создали себе, подобно римлянам, грекам или египтянам, богов — покровителей порока. Конфуцианство было оценено им как секта ученых, которую естественно выбирают все те, кто погружен в занятия философией. Риччи характеризовал его через ряд отрицаний, подводивших читателя к мысли о том, что конфуцианство лишено зловещих атрибутов языческой секты. Он заявил, что конфуцианцы не поклоняются идолам, которых у них вообще нет, верят в одно божество, «сохраняющее все вещи на земле и управляющее ими» [там же, с. 94]. Однако все конфуцианские доктрины половинчаты и нуждаются в дополнении — ведь они не содержат развернутого учения о Творце и творении мироздания. Конфуцианская идея о воздаянии за добро и зло относится лишь к потомкам и не содержит необходимых, с точки зрения Риччи, понятий о бессмертии души, рае и аде. Несмотря на признание единого высшего божества, конфуцианцы не имеют храмоБ, ритуалов и молитв для поклонения ему — ведь это привилегия лишь одного императора. Отсюда следует, что, хотя конфуцианство не может приравниваться к христианству, оно близко ему по духу и может послужить союзником миссионеров.
Риччи заложил традицию «оптимистической» оценки иезуитами китайских обрядов почитания усопших, считая их в целом совместимыми с христианским вероисповеданием и лишенными языческого содержания: «Наиболее общая церемония, практикуемая всеми книжниками, от правителя и до самого низшего из них, это ежегодный поминальный обряд… они рассматривают эту церемонию как почет, даруемый их ушедшим предкам, как если бы они могли почитать их, будь они живы. На деле они не верят, что мертвые нуждаются в еде, которую они помещают на их могилы, но они говорят, что соблюдают этот обычай потому, что он выглядит наилучшим выражением их любви к дорогим им ушедшим. Действительно, как утверждается многими, этот особый ритуал был прежде установлен для блага живых, нежели чем для мертвых. Они надеялись, что дети, а также необразованные взрослые смогут научиться уважать и поддерживать своих живущих родителей, глядя на то, как высоко почитаются ушедшие родители людьми образованными и знатными. Эта практика помещения еды на могилы представляется лежащей за пределами обвинений в святотатстве и, возможно, также свободна от порчи суеверием, поскольку они не считают своих предков богами и ни о чем не просят их и ничего от них не ожидают. Однако для тех из них, кто принял христианское учение, было бы лучше заменить этот обычай раздачей милостыни бедным для спасения души» [там же,с. 96].
Возвышал монотеистические идеи «изначального конфуцианства», Риччи всячески отрицал религиозный смысл существовавших в нем культов. «Храм Конфуция в действительности есть собор высшего и образованного и исключительного класса книжников. Закон требует, чтобы храмы были построены Князю китайских философов в каждом городе и в той особой части города, которая была описана как центр образования… Они не зачитывают молитв Конфуцию, не просят у него благ и не ожидают от него помощи. Они только почитают его тем же образом, как они почитают мертвых» [там же, с. 96–97]. Что же касается учения «секты книжников», направленного на достижение общественного мира, порядка в государстве, благосостояния семьи и воспитание добродетельного человека, то все эти моральные ценности, по мнению Риччи, «соответствуют свету совести и христианской истине» [там же, с. 97].
Альянс христианства и «изначального конфуцианства» в Тяньчжу гиии
Идея взаимодействия китайской конфуцианской традиции и католического вероучения легла в основу уникального памятника христианской миссионерской литературы конца XVI — начала XVII в.: катехизиса в форме диалога, названного Риччи Тяньчжу шии (Подлинный смысл Небесного Господа). Его влияние на католическую проповедь в Китае сохранялось до середины XX в. Б.Лук полагает, что Тяньчжу шии выступает «ключевым документом» по политике культурной аккомодации христианства в Китае (см. [Luk 1988, с. 175]). В XIX в. эту книгу использовали протестанты, православные миссионеры также обратили внимание на Тяньчжу шии— ее перевел на русский язык иеромонах Алексей (см. [Виноградов 1889]).
Этой ключевой для христианского миссионерства нового времени работе предшествовал составленный в 1584 г. Риччи вместе с патером Руджери катехизис Тяньчжу шилу (Подлинные записи о Небесном Господе). В его основу лег латинский манускрипт Руджери, написанный около 1581 г. Построенный в форме вопросов н ответов, первый вариант китайского католического катехизиса по своему содержанию в основном соответствовал нормативным европейским образцам. В нем рассматривались темы существования Бога, Его природы и тайны Его бытия, Творения и Божественного Суда, излагалось содержание десяти заповедей, приводилось понятие о законе Нового Завета, наказании грешников и вознаграждении праведных, моральном совершенствовании и восхождении на Небеса, очищении от греха путем крещения. Важно подчеркнуть, что первый иезуитский катехизис Тяньчжу шилу еще не содержал попыток адаптации к китайскому культурному контексту. «Будучи неполной в определенных аспектах, — например в ней нет упоминаний о Троице или иных таинствах, помимо крещения, — эта работа давала прекрасное изложение ядра христианской веры: Воплощения и Искупления» [Ricci 1985, предисл·,с. 13]. Этот катехизис появился вскоре после прибытия миссионеров в Китай, когда иезуиты еще не успели до конца разобраться в местных условиях. В Тяньчжу шилу присутствовали ссылки на позитивную связь христианства с индийскими религиями, а его составители использовали в основном буддистскую терминологию, практически не обращая внимания на конфуцианство. Позднее иезуиты были строго осуждены Ватиканом за чрезмерные уступки в адаптации католицизма к китайской культуре, но содержание их первого катехн–зиса никак не предвещало такого исхода. Поначалу иезуитские миссионеры были нацелены на проповедь христианской веры во всей полноте и лишь позднее решились на пересмотр содержания проповеди, исходя из мировоззрения и концептуальных представлений своей аудитории.
Необходимо подчеркнуть и то обстоятельство, что ранние иезуитские миссионеры не ограничивали свою работу составлением пространных и обстоятельных проповеднических книг, рассчитанных на образованную китайскую аудиторию. Это подтверждает исследование краткого текста Тяньчжуцзяо яо (Основы религии Небесного Господа), содержащего переводы основных молитв, Символа веры, десятословия и наставлений для мирян. Этот элементарный катехизис был составлен Руджери с участием Риччи, его первое издание увидело свет в 1585 г. Позднее он многократно переиздавался, и в 1605 г. Риччи подготовил исправленную версию текста. Как отмечает современный китайский исследователь Чжан Сипин, миссионерам удалось создать понятный и легкий для запоминания перевод, который «хотя и не может считаться первым трудом миссионеров на китайском языке (этого наименования заслуживает Тяньчжу шилу Руджери), однако его можно назвать первым каноническим текстом (цзин шу) на китайском языке прибывших в Китай миссионеров, сыгравшим важнейшую роль на раннем этапе миссионерской деятельности иезуитов» [Чжан Сипин 1999, с. 93]. Тяньчжуцзяо яо издания 1605 г. отразил уровень терминологической адаптации вероучения к китайскому контексту. В тексте присутствует прочно утвердившееся в дальнейшем именование Троицы как «трех лиц [в] одном теле» (сань вэй и mu 三位一體),однако для перечисления ипостасей Троицы использовались китайские транскрипции латинских слов (Дэлэй 德肋,Фэй(люэ)費(略),Сыёилидо Саньдо 斯彼利多三多)с поясняющими толкованиями. Таким же наполовину латинизированным способом в Символе веры было введено понятие о «Святой и Вселенской Церкви» (Шэп эр гуп Эгэлэсия 圣而公厄格勒西亞)(цит. по [там же, с. 96–97]). Подобное смешение латыни и китайского отразило желание иезуитов выразить на терминологическом уровне представление об уникальности основных понятий христианства и их несводимости к имеющимся понятиям из китайского религиозного лексикона. Напомним, что во времена династии Тан сходным путем двигались и несторианские проповедники, именовавшие Бога, Христа и Святого Духа транскрибированными именами Алохэ (Элохим), Мишихэ (Мессия) и Лоцт (Руах).
Переход к «культурной адаптации» относится к периоду с декабря 1591 по октябрь 1592 г., когда Риччи начал переводить на латынь конфуцианское «Четверокнижие» и пришел к выводу о необходимости отказа от буддистских облачений. В 1593 г. по увещеванию Валиньяно он начал работу над новым катехизисом для конфуциански образованных верхних слоев китайского общества. При этом Риччи уже имел возможность опереться на представления о китайской культурной традиции, почерпнутые им в процессе перевода «Четверокнижия». Закончив перевод в ноябре 1594 г., он начал работу по изучению «Шестиканония». В письме генералу ордена иезуитов Аквавиве от 4 ноября 1595 г. Риччи писал, что в конфуцианских текстах «многие термины и фразы находятся в гармонии с нашей верой, например „единство Бога“,„бессмертие души' „слава благословенных» и так далее» [Ricci 1985, предисл., с. 14]. Освоив китайскую классику, в конце 1595 г. Риччи начал переделывать прежний катехизис Тяньчжу шилу, удаляя из него буддистские понятия и вводя вместо них термины и фразы из древнекитайских классиков. Первое издание нового катехизиса Тяньчжу шии увидело свет в 1603 г.
Сравнение содержания раннего катехизиса Тяньчжу шилу и позднейшего произведения Риччи Тяньчжу шии показывает, что из первого были сохранены лишь те разделы, которые оставляли место для рационального размышления, логического объяснения и аргументированного доказательства. Рнччи оставил темы существования Бога, соотношения природы и Творения, различия между человеческой душой и душами животных, проблемы индивидуального бессмертия человеческой души. Но те разделы, что имели дело с тайнами Божественного Откровения и не могли быть рассмотрены исключительно с опорой на разум и философское рассуждение, были изъяты полностью. С другой стороны, в новый катехизис были добавлены явно вдохновленные конфуцианством рассуждения о направленности и доброте человеческой природы. Все эти изменения указывают на то, что Риччи пытался адаптировать свое изложение католической доктрины к окружавшему его китайскому культурному контексту.
Современные католические исследователи отмечают, что использованный в Тяньчжу иши метод рассуждения практически не отличался от того, что был распространен тогда в китайских философских кругах. В то же время, избранный Риччи путь учитывал «явную невозможность дать изложение тех элементов веры, что классифицируются как чистое откровение. По этой причине Тяньчжу иши лучше было бы назвать ,доевангелическим диалогом “》[там же, п редис л., с. 15, 17]. В Тяньчжу шии Риччи целенаправленно пытался соединить идею христианского воспитания и самовоспитания с конфуцианской заботой о моральном самосовершенствовании. Он подчеркивал, что моральное поведение неотделимо от веры в Бога и служения ему; верующий должен заниматься самосовершенствованием, если он хочет достичь высшего блага. Обильно цитируя древнекитайскую классику, Риччи напрочь отвергал нигилистические мотивы даосов, равно как и пантеистические тенденции в буддизме и неоконфуцианстве династий Сун и Мин.
Содержание и структура Тяньчжу шии во многом окрашены интонациями «Духовных упражнений», принадлежащих создателю ордена иезуитов Игнатию Лойоле (1491–1556) и оставленных им для единомышленников «Установлений». Лойола учил адаптировать христианские наставления к природе тех, кто проходит через духовные упражнения, в соответствии с их возрастом, образованием и возможностями. В частности, предполагалось давать людям христианское наставление в соответствии с уровнем их сознания, чтобы они могли получить от постижения вероучения помощь и пользу (см. [там же, предисл., с. 18]). Риччи пришлось адаптировать христианство для конфуциански образованных китайцев, полностью лишенных даже элементарных знаний не только о Евангелии, но и о западном мире. Его собеседники не были готовы к обсуждению привычных европейцу теологических тем. К примеру, Риччи достаточно быстро убедился как в неприятии китайскими книжниками истории о страдании и распятии Иисуса, так и в непонимании ими догмата Троицы.
Текст
Тяньчжу шии был построен как диалог между западным и китайским учеными. Не будучи документальной записью бесед Риччи с кем–либо из его китайских друзей, работа очевидно отразила в себе в систематизированном виде те вопросы, которые ему приходилось слышать от китайских собеседников. Введение открывается со слов о том, что в древние времена в каждом царстве был свой господин, но у вселенной был и остается лишь один Господь, хотя бы и были люди, которые хотели занять место Небесного Владыки
(Тяньди 天帝)и поставить себя над Ним. «Но Небеса высоки, на них невозможно вскарабкаться, желание этих людей было неосуществимо, и потому они провозглашали лживые еретические учения, обманывали народ, уничтожая все следы Небесного Господа
(Тяньчжу 天主)· Обещая людям блага, они побуждали людей поклоняться им, и все они впадали в грех перед Всевышним Владыкой
{Шанди 上帝)》(там же, [8], с. 58/ 59)
[45]. Обращает на себя внимание то, что уже в самом начале работы Риччи использовал для именования Бога сразу три китайских сочетания в качестве синонимов —
Тяньди, Тяньчжу и
Шанди. Западный ученый обращается также и к своему жизненному опыту, II к оценке китайской духовности: «Я покинул мою страну в юности II странствовал по всему свету (
тянъся),
и увидел, что везде распространились ядовитые [учения] Я думал, что в Китае
(живет) народ Яо и Шуня и последователи Чжоу–гуна и Чжун–ни, а потому (там) принципы Небес и учение о Небесах
(тянь ш
vuinb сюэ) не могли быть изменены и запачканы. Но я узнал, что и (среди них) были те, кто не избежал этого» (там же, [6,7], с. 58/59).
Обращаясь к основам монотеистического миропонимания, западный ученый говорит. «Глупец думает, что невидимое глазу отсутствует (^), подобно тому, как не видящий небо слепой не верит, что на небе есть солнце Однако солнечный свет сущест· вует. Если твои глаза его не видят, значит ли это, что солнца нет? Путь Небесного Господа (Тяньчжу чжи дао) пребывает в человеческом сердце, но люди этого не чувствуют и не размышляют об этом… Все добрые люди непременно верят, что имеется Всевышний Почитаемый (Шанцзунь 上尊),управляющий миром. Если этот Почитаемый отсутствует или он есть, но не вмешивается в дела людей, то значит ли это, что надо закрыть двери для свершения добрых дел и раскрыть путь для злых деяний?» (там же, [9, 11], с. 60/61).
Сталкиваясь с необходимостью найти адекватный путь изложения доказательств бытия Бога носителю китайской культуры, Риччи прибег н к эмоциональному риторическому вопросу: «Кто из людей не поднимал своих глаз, взирая на Небо? Созерцая его, кто тихо не вздыхал про себя: ”Там должен быть тот, кто правит (чжу)]'' Это есть Небесный Господь, которого в западных странах называют Тусы 徒斯(иной вариант транскрипции, распространенный среди иезуитов, — Доусы 陆斯[Standaert 1988, с. 135]) (лат. Deus)» (там же, [28], с. 70/71). Обоснование бытия Ьога Риччи развивал также и на основе доступных традиционному китайскому менталитету моральных аргументов. Первая глава Тяньчжу шии начинается с вопроса китайского ученого: «Учение о самосовершенствовании — этому делу поклонялись поколения людей. Всякий, кто не хочет попусту потратить жизнь и приравнять себя к зверям и птицам, должен прикладывать силы в этом направлении… Люди, идущие по дороге, знают, что она ведет к месту назначения, дороги держат в хорошем состоянии не ради их самих, но ради тех мест, куда они ведут. Куда ведет нас путь самосовершенствования? Что касается этого мира, то это ясно, но мне непонятно, что будет после смерти»(там же, [16, 17], с. 64/65). Нельзя не отметить, что в данном случае китайский конфуцианец предстает не только как типичный благопристойный сторонник морального совершенствования — он еще и вопрошает западного миссионера о том, что будет после смерти. Эту черту необходимо отметить и запомнить для сравнения с нарисованным миссионерами последующих столетий негативным обликом образованного китайца, равнодушного к существеннейшим проблемам человеческого бытия. Вместе с тем мы видим, как Риччи «измышлял» образ конфуцианца, обеспокоенного темой загробной жизни и готового к выслушиванию христианского учения. В реальной жизни этот вопрос задавался китайскими книжниками намного реже.
Приводимые Риччи китайской образованной аудитории телеологические рациональные доказательства бытия Бога можно свести к трем основным аргументам. Первый довод был сформулирован им на языке раннеконфуцианской моральной философии и опирался на врожденную «благую способность» (лян нэп), данную людям без обучения и упоминаемую еще Мэн–цзы (гл. Цзипь синь А: 15). В качестве доказательства наличия у всех людей ляп нэп у Риччи приводится то, что все народы, не общаясь друг с другом, чтят одного Всевышнего Почитаемого {г^зип и Шанцзунъ).
Второй аргумент указывает на «одухотворенность Неба», проявляющуюся в организованности движения небесных сфер. Иезуиты придерживались птолемеевско–аристотелевской концепции геоцентрической Вселенной, полагая, что концентрические сферы («небеса») Солнца, Луны и звезд движутся с запада, а «высшее небо» движется с востока. Подразумевалось, что безошибочность и гармоничность движения небесных сфер имеют своим истоком творческий промысел Бога. Третий аргумент в пользу божественной природы Творения был основан на разумности поведения животных.
К космологическим доказательствам наличия Бога–Творца можно отнести, во–первых, положение о том, что никакая вещь не может образовать (чэн) себя сама, но нуждается для этого в каком–то внешнем толчке. Во–вторых, если не обладающие разумностью–душой (лин) объекты пребывают в порядке (ю апьиай), то необходимо имеется некто или нечто, приведшее их в порядок. В–третьих, все вещи происходят одна из другой 一 из утробы, яйца или семени и так далее до первопредков. Отсюда можно перейти к понятию о Создателе всего — Небесном Господе (Тяньчжу).
Риччи приводил интересные схоластические аргументы, доказывая своей китайской аудитории рациональность монотеистического мировоззрения — нет двух Богов, так как либо они не равны, либо равны. Если они не равны, то одного, наиболее могущественного, было бы достаточно. Если же они равны и не в состоянии уничтожить друг друга, значит, ни один из них не обладает законченной полнотой силы (дэ), которая приписывается Господу. Весьма примечательно, что Риччи использовал также восходящее к Аристотелю метафизическое учение о четырех причинах — действующей (цзачжэ 作者),формальной (мочжэ 梭者),материальной (чжичжэ 質者)и целевой (вэйчжэ 為者). <^В Поднебесной нет ни одной вещи, которая не обладала бы этими четырьмя [причинами]. Из этих четырех формальная и материальная находятся внутри вещи, это есть основа вещи (вэйу чжи бэпъ фэнь) или ее инь и ян. Действующая и целевая [причины] находятся за пределами вещи, превосходя ее и существуя до нее, не будучи основой самой вещи» (там же, [46],с. 84/85).
В понятиях арнстотелизма Бог есть действующая и целевая причина, а европейские ученые времен Риччи повсеместно рассматривали Его как Первопричину. В этом контексте понятие о Боге должно было дополнить недостаточность существующей китайской натурфилософии полярных начал инь–ян, не выходящей за рамки формальной и материальной причин. Проведенное миссионерами сопоставление понятий китайского неокон–фуцнанства о субстрате (ци) и принципе (ли) с аристотелевскими понятиями о материальной и формальной причинах не было безосновательным, но оно и не было чисто философским — демонстрация отсутствия в чжусианстве понятий о целевой и действующей причинах должна была убедить китайцев в том, что их видение мира должно быть дополнено понятием о Боге (см. [Чэнь Вэйпин 1989, с. 13]). Однако понимание миссионерами того, что неоконфуцианцы приписывают принципу (ли) и Великому пределу (тайцзи) функции целевой и действующей причин, привело к ожесточенным нападкам на чжусианство и попыткам преодолеть его влияние путем возвращения к «изначальному конфуцианству».
Космологический спор с неоконфуцианством
Наибольшей напряженности спор двух культурно–цивилизационных традиций достиг во второй главе Тяньчжу шии,посвященной «разъяснению ошибочных представлений людей о Небесном Господе». Ее богатое содержание раскрывает многие важные аспекты иезуитской трактовки китайской культуры.
Китайский ученый начинает спор с изложения трех развившихся в его культурной традиции трактовок Абсолюта — даосского, буддистского и конфуцианского. В формулировке Риччи они имеют следующий вид: «Лао–цзы сказал, что вещи (力 порождаются из небытия–отсутствия (y) небытие–отсутствие именуется дао. Будда сказал, что видимый мир (сэ) появляется из пустоты {куп), пустота является целью усилий. Конфуцианцы говорят, что Перемены (и) обладают Великим пределом, и потому за основу берется бытие–наличие (ю), а искренность–честность берется для учебы»[Ricci 1985, [66],с. 98/99]. Западный собеседник ответил, что учения буддистской «пустоты» и даосского «небытия–отсутствия» полностью расходятся с религией Небесного Господа, тогда как конфуцианское учение о бытии–наличии и искренности еще может содержать в себе зерно истины. Поясняя заблуждения даосов и буддистов, Риччи сделал акцент на том, что вещи не могут появляться из «ничего», понимая категории куп и у как несуществование 一 «вещь должна искренне–честно наличествовать» (у би чэн ю), в противном случае она не наличествует вовсе. Китайская философия причудливым образом сплелась с аристотелизмом в словах Риччи о том, что если взирать на причины вещей в понятиях «пустоты» и «небытия–отсутствия», то они не смогут быть действующей, формальной, материальной и целевой причинами вещей и, значит, не будут иметь к вещам никакого отношения.
Оспаривая возможные доводы в защиту даосских и буддистских учений о «ничто» как об источнике вещей мироздания, Риччи выразил несогласие с трактовкой «подлинных пустоты и небытия–отсутствия» как характеристик не имеющего форм и звуков Духа (Шэнь), стоящего рядом с Небесным Господом. Напротив, Святой Дух христианства имеет такие положительные атрибуты, как природа (син), талант {цай) и добродетель (дэ). Его бесформенность не имеет ничего общего с осуждаемым «отсут–ствием–ничто» — ведь пять не имеющих форм и звуков конфуцианских постоянных добродетелей никто из китайцев не будет называть «отсутствием» (у).
Риччи углубился в полемику с китайскими религиями и не попытался использовать даосские и буддистские понятия для передачи понятий христианской негативной теологии о непостижимости Бога
[46]. Тем не менее на страницах
Тяньчжу шии он старался учитывать, что его рассчитанная на «посюсторонность» конфуцианского сознания аргументация все же должна быть равновешена некоторым понятием о потустороннем. Он указывал, что «таинственность и непостижимость Бога лучше описывать понятиями,,не~это“
(фэй) и „отсутствие“ (jy), так как понятия „это»
(ши) и „наличие“ (w) ведут к слишком большой ошибке» (там же, [55], с. 92/93). На вопрос о том, каким образом «предельное бытие»
(г^зи ши) и «предельное наличие»
(цзи ю) Бога могут быть описаны в понятиях «не–это» и «отсутствие», он сам отвечал, что «человек есть малый сосуд и он неспособен вместить огромные принципы Небесного Господа» (там же, [56, 57], с. 92 93).
Несмотря на симпатию Риччи к «изначальному конфуцианству», истолкованному им как древняя примитивная монотеистическая религия китайцев, сформировавшееся к XI в. под воздействием буддизма неоконфуцианство стало мишенью для его яростной критики. Особое внимание Риччи уделил опроверже* нию китайских религиозно–космологических представлений о Великом пределе {гпайцзи). Он заподозрил, что порождающий мироздание неоконфуцианскии Великий предел является «языческой» концепцией,преграждающей китайским образованным слоям путь к Богу Истинному. Вполне по–конфуциански обращаясь к авторитету китайской древности, Риччи заявил: «Я слышал, что люди древности почитали Всевышнего Владыку (Шанди) Неба и земли, но не слышал, чтобы они поклонялись Великому пределу. Если Великий предел есть Всевышний Владыка, предок десяти тысяч вещей, то почему же мудрецы древности скрыли это y^ie–ние?» (там же, [78], с. 106/107). Спор о пшицзи затрагивал также неоконфуцианское понятие о принципах (ли), содержащихся в Великом пределе. Европеец утверждал, что основанная на полярности сил инь–ян схема Великого предела неоконфуцианца Чжоу Дуньи иллюстрирует лишь то, что Великий предел не мог породить Небо и землю и, более того, что он не основан ни на каком «реальном принципе» (ши ли). В свою очередь, вымышленный китайский собеседник использовал понятия неоконфуцианской мысли и утверждал, что Великий предел есть не что иное, как принцип (ли) во всей его полноте, и, следовательно, «если полноту принципа считать отсутствием принципа, то о каком еще принципе можно говорить?» (там же, [81], с. 108/109).
Здесь рассуждения Риччи обильно наполнились непривычной китайскому образованному классу иноземной философской терминологией. Чтобы доказать, что Великий предел не может быть источником десяти тысяч вещей, он ввел понятия «субстанция»
(цзыличжэ 自立者 — «опирающееся на себя») и «акциденция»
(илайчжэ 依賴者 — «зависящее»). Самостоятельная «субстанция» была определена как предмет (j), который не нуждается для своего существования в других объектах
(ти) — например, это Небо и земля, нави и духи
(гуйшэнь), люди, животные, металлы и «четыре элемента»
[47]. Зависимая «акциденция» нуждается в иных предметах, ее примерами Риччи называет китайские классификационные схемы («пять постоянных добродетелей», «пять цветов», «пять звуков», «пять вкусов», «семь эмоций»). Используя логический парадокс древнекитайского мыслителя Гун сунь Луна о лошади и белизне («Белая лошадь не есть лошадь»), Риччи охарактеризовал «лошадь» как субстанцию, а «белизну» как акциденцию. Субстанция существует прежде акциденций, которые могут быть весьма многочисленными. Отсюда Риччи перешел к спорному и практически недоступному для китайского традиционного философского менталитета выводу о том, что Великий предел является «акциденцией», а не «субстанцией», и поэтому не может порождать другие вещи. Хотя на этот фрагмент
Тяпь–чжу шии исследователи указывают как на возможный «источник непонимания не о конфуцианства» [там же, с. 110,примеч. 26], Риччи все же продемонстрировал достаточное знание этой традиции. Он указал на два различных пути поиска принципа
(ли): в человеческом сердце–разуме (
синь) или же в вещах, показав знакомство с двумя направлениями в неоконфуцианской мысли и с фундаментальным для чжусианства понятием о «классификации вещей»
(гэ ;у)· Риччи заключил, что поиск принципа в сердце–сознании или вещах подразумевает, что принцип «акцидентален» по отношению к ним и никак не может быть их источником.
Противопоставляя китайскую безначально–бесконечную вселенную и христианский креационизм, Риччи провозгласил, что принципы как «акциденции» не могли существовать до появления «субстанции». Осужденные им ранее даосско–буддистские идеи изначальной «пустоты» и «небытия–отсутствия» были признаны несубстанциональными, а потому неспособными служить опорой для принципов (ли) до момента Творения. Если же принципы существовали извечно, будучи сперва пассивными, а потом активизировались для порождения вещей, то не значит ли это, спрашивал Риччи, что они обладают волей или что они были активизированы извне? Предполагая, что его образованная аудитория стоит на проконфуцианских антидаосских, антибуддистских позициях, Риччи подчеркнул, что понятие «изначальной пустоты» принадлежит оппонентам конфуцианства и потому не может быть использовано в правильных размышлениях о мироздании.
Неоконфуцианской доктрине, трактующей принцип (ли) как источник всего мироздания, Риччи противопоставил филосо–фию реализма: «Наличие вещи делает наличествующим принцип этой вещи, отсутствие реальной (ши) вещи означает отсутствие реального принципа» (там же, [87], с· 112/113). Он спрашивал, почему нынешние «реальные принципы» не могут порождать даже простейшие вещи (вроде повозки), тогда как «пустые принципы» древности якобы породили огромные Небо и землю? Стоит отметить, что формулировки Риччи близки к аргументам критиков неоконфуцианства времен конца династии Мин — начала династии Цин.
Риччи спорил с китайской идеей опосредованного порождения мироздания, идущего от Великого предела к полярным силам инь–ян и далее 一 к пяти элементам и лишь после них к Небу, земле и «десяти тысячам вещей». Он не согласился с чжусиан–ской формулой «принцип не есть вещь» и охарактеризовал понятие «вещь» (jy) как крайне широкий общий термин (цзун мин), охватывающий субстанцию и акциденцию, обладающее формами и не обладающее формами. С этой позиции принцип попадает з категорию «вещей, не обладающих формами». Более того, принцип не обладает духовностью и сознанием (лин г^зюэ), иначе бы он именовался не Великим пределом, а духами и навями Если так, то идея порождения подобного подобным приводит к выводу, что все обладающее духовностью и сознанием порождено силой, отличной от неоконфуцианских «принципов». Этой силой является Небесный Господь, способный «совершенной добродетелью» (грин дэ) охватывать все объекты мироздания. Поэтому если говорится, что «принцип охватывает духовность десяти тысяч вещей и трансформирует*порождает десять тысяч вещей», то это относится не какому–то Великому пределу, а к Небесному Господу (см. [там же, [98], с. 118/ 119]). Риччи полагал, что «источником источника» вещей может быть только Бог, чью роль не может взять на себя Великий предел.
В письме, написанном в 1604 г. генералу ордена, Риччи пояснил, что если он цитирует китайские тексты, то вносит в них дополнительное толкование. Вот фрагмент, посвященный его интерпретациям понятия тайцзи: «Доктрина тай цзи нова и была создана пятьдесят лет назад. И для некоторых, если изучить вопрос внимательно, она противоречит древним мудрецам Китая, у которых была более точная идея Бога. В соответствии с тем, что они говорят, по моему мнению, это не более чем то, что на* ши философы называют первоматерпей, поскольку он (Великий предел) никоим образом не является реальным существованием; они говорят, что это не одна вещь и что одновременно он во всех вещах как их составляющая часть. Они говорят, что это не дух и что он наделен пониманием. И хотя некоторые люди говорят, что это есть причина вещей, они не имеют в виду под этим нечто субстанциональное или разумное; это причина, стоящая ближе к „причиненной причине‘‘ (reasoned reason), чем к „причине причиняющей“ (reasoning reason). Фактически не только их интерпретации разнятся, из–за чего они также делают много абсурдных заявлений. Соответпственно мы рассудили,что в этой книге (Тяньчжу шии) будет более предпочтительным повернуть это таким образом, чтобы это было в соответствии с идеей Бога、нежели чем нападать на то,что они говорят (курсив Жерне), так что мы не предстанем чрезмерно следующими китайским идеям, но интерпретирующими китайских авторов таким образом, что они следуют нашим идеям. И поскольку образованные люди, правящие Китаем, были крайне оскорблены, когда бы мы нападали на этот принцип (тайцзу), мы настойчивее старались поставить под вопрос их интерпретацию этого принципа, нежели чем сам принцип. И если в итоге они придут к пониманию, что тайцзи есть первичный субстанциальный принцип, разумный и бесконечный, мы должны согласиться, что это есть не что иное, как Бог» [Gernet 1985, с. 27]. Риччи весьма смело «подправил» историю китайской мысли — в реальности неоконфуцианская доктрина тайцзи была развита Чжоу Дуньи не за пятьдесят, а за пятьсот лет до прибытия иезуитов Китай.
Обращаясь к китайской традиции поклонения Небу и земле, Риччи разделил эти два понятия, заявив при этом, что «наш Небесный Господь (Тяньчжу) есть то же самое, что на китайском языке именуется Всевышним Владыкой {Шанди). Это не то же самое, что даосский Таинственный Владыка Яшмовый Император (Сюаньди Юйхуап), который был всего лишь монахом, жив–шим на горе Удан» [Ricci 1985, [103], с. 120/121]. Ссылаясь на древнекитайские классические тексты, Риччи пытался обосновать, что приписываемые Конфуцию слова из Чжун юн о «ритуалах поклонения Небу и земле для служения Верховному Владыке» не есть сокращенная цитата. Хотя китайские ученые полагают, что вслед за Шанди в конце фразы должно было стоять «и Владыке земли (Хоуту)», Риччи решился предстать ревностным почитателем буквы древних тексуов и сказал, что речь о поклонении двум владыкам тут идти просто не могла и никакого «сокращения» фразы со стороны Конфуция не было. Риччи вновь подчеркнул: «Исторический обзор древних книг показал, что Шанди и Тяньчжу отличаются лишь по имени» (там же, [108], с. 124/125). Отождествив Шанди и Тяньчжу、Риччи заложил основу для будугцего «спора об именах», длившегося почти столетне II завершившегося прямым запретом Ватикана на именование христианского Бога сочетанием Шанди. «Дилемма, связанная с использованием древнего термина Шанди, могла привести к простому уравнению христианства с конфуцианством или хуже — с народным даосизмом, где термин Шанди был взят у божества народных религий, тогда как использование понятия тяиь могло привести к неточности в отношении личностной природы Бога, чего миссионеры не могли потерпеть» (там же, предисл., с. 34). Рассматривал соотношение Шанди и Неба (тяиь), Риччи использовал в своей аргументации западную картину мира. Его «небо» предстало как физическая, «имеющая форму» сущность, округлая и состоящая из девяти уровней. Поскольку не имеющий формы Бог (Шанди) не может отождествляться с физическим небом, то, следовательно, земля под ногами еще менее заслуживает того, чтобы быть объектом религиозного поклонения. По мнению Риччи, отождествление Неба н земли с Богом встречается у образованных людей лишь как фигура речи, когда ссылка на творение заменяет упоминание о Творце.
Риччи активно полемизировал с неоконфуцианской космоло гией 11 доказывал, что Великий предел не может предшествовать Богу и порождать Его. Равным образом он отвергал идею объединения человека и мироздания посредством понятия о пневме–субстрате
(ци), в который якобы превращается душа после смерти человека. Популярное неоконфуцианское учение о единстве человека и мироздания Риччи считал заимствованием «у секты идолопоклонников, распространившейся около пяти веков назад. Эта доктрина утверждает, что вся вселенная состоит из общей субстанции и что создатель вселенной един в продолжающемся теле
(corpus continuum) с небом и землей, людьми и животными, деревьями и растениями, и четырьмя элементами; при этом каждый индивидуальный объект есть часть его тела. 11з этого единства субстанции они заключают о любви, которая должна объединять индивидуальные составляющие, и что человек должен стать как Бог, ποτοΝίγ что он был сотворен как одно вместе с Богом. Эту философию мы решаемся опровергать, не только исходя из разума, но и из свидетельств их собственных древних философов, кому они обязаны всей философией, которую они имеют» [Ricci 1953,с. 95].
[48]В третьей главе Тяньчжу шии Риччи специально обратился к теме неуничтожимостн человеческой души и ее отличия от душ птиц и зверей. В китайском контексте необходимость проведения этого различия была обусловлена прежде всего задачами полемики с учением буддизма, а уже после этого с неоконфуцианскими воззрениями. Воображаемый китайский ученый сначала скептически заявляет западному собеседнику: «Если Вы говорите о рае (тяньтан) и аде (диюи) в следующей жизни то это буддизм, мы, конфуцианцы, не верим этому» [Ricci 1985, [128], с. 142/143] Западный ученый отвечает эмоциональной тирадой: «Чьи это слова? Буддизм запрещает убивать людей, и конфуцианство запрещает беззаконно убивать людей, значит ли это, что они суть одно и то же Феникс летает, летает и летучая мышь, значит ли это, что они суть одно и то же? Вещи могут обладать некоторыми совпадениями, но сильно различаться по сути. Религия Небесного Господа есть древняя религия, а Шакьямуни жил на Западе. Он наверняка мельком слышал об этом учении. Если кто–то желает распространять свое личное учение (сы дао), то если он не вставит в него три–четыре истинных слова, то кто ему поверит? Шакьямуни заимствовал понятия Тяньчжу、тяньтан и диюй для распространения своих личных еретических учений. Мы распространяем подлинное учение, так должны ли оставить эти наименования? До того как родился Шакьямуни, последователи религии Небесного Господа уже знали: следующие Пути–учению (сю дао) после этой жизни (хоугии) взойдут в рай, обретая беспредельную радость, избегнув ада и бесконечных мук. Поэтому известно, что человеческая душа (г^зинлин) живет вечно н никогда не исчезает» (там же, [139], с. 142/143). Таким образом, совпадения между лексиконом китайских христиан и буддистов были объяснены Риччи не понятийным заимствованием со стороны христиан, а бесстыдным присвоением буддистами фрагментов чужой доктрины.
Однако в реальности близость отдельных аспектов учений буддизма и католицизма привела миссионеров к терминологическому (но, естественно, не доктринальному) заимствованию у религии Шакьямуни. Нелишне напомнить, что нечто похожее происходило и на ранних стадиях культурной адаптации несторианства в VII–VIII вв. Д.Ланкашир и П.Ху Коу–чэнь заметили, что уже первые католические миссионеры обнаружили — не они одни обладают в Китае корпусом канонических писаний. У конфуцианцев. буддистов и даосов были свои «каноны» (цзгт) эти собрания текстов носили нормативный характер, на них ссылались для легитимизации собственных воззрений. Риччи также именовал христианские тексты цшн и опирался на них для обоснования своей позиции. «Принятая им техника была апологетической, ниспровергающей цзины буддистов н даосов и утверждающей Ценность тех фрагментов конфуцианских цзи нов которые явным образом теистичны в воззрениях» [там же, предисл., с. 33].
Памятуя о том, что Риччи был яростным оппонентом буддизма, крайне примечательным выглядит то обстоятельство, что «религия, которую Риччи и его коллеги более всего хотели отстранить от себя, дала нм наибольшие ресурсы из своего словаря» [там же, предисл., с. 35]. В буддистском лексиконе присутствовали не только Тяньчжу, но и использованные миссионерами понятия «рай», «ад» и «дьявол». Термин тяньтан (рай) изначально использовался буддистами как эквивалент санскритского devaloka — «дворцы бога». В буддистской космологии эти «терема» были расположены между землей и brahmaloka — «дворцами или небесами брахмы». Диюй (ад) представляет китайский буддистский эквивалент санскритского пагака и означает землю–тюрьму, которая в соответствии с буддистской традицией делилась на три главных отделения — центральное, второе и изолированное, каждое из которых делилось на горячий и холодный ад, смежный ад, ады гор и пустыни. Термин могуй, использованный христианами для обозначения дьявола, имел первым иероглифом китайский эквивалент санскритского тага — искусителя Будды. Для передачи христианского понятия «ангел» Риччи выбрал выражение тянъшань (санскр. deva), обозначающее брахму и богов вообще. Понятие «священный, святой» иезуитские миссионеры передавали знаком гиэп, в значении существительного обозначающим идеальную личность — мудреца. В христианском контексте противоположностью «святого» является «грешник», а противоположностью «священного» — «мирское». Эти идеи подразумевают существование священного — божественного и зависимости человеческой святости от отношений между человеком и этим божественным. В Китае, где акцент делался на моральном совершенствовании без ссылки на божество, противоположностью шэн было отсутствие присущих мудрецу нравственно–интеллектуальных качеств. Хотя этому есть параллели в христианстве, интеллектуальные и культурные достижения в общественной сфере там не были определяющими для священности и святости. Неудивительно, что слово «мудрец» (sage) стало распространенным переводом шэн, более подходящим, чем «святой или священный» (англ. saint, holy, sacred). Но из–за влияния христианства в современных словарях эти значения также приписываются иероглифу гиэп. Во второй части Тяньчжу шии Риччи ввел для обозначения святого термин шэншэпъ — «мудрец–и–духовный». Этот термин употреблен при описании императора Яо в Шу цзипе, где о нем говорится как о «мудреце и духовном». Последующие авторы использовали его для обозначения человека высшей добродетели, а ранние китайские католики брали его как эквивалент понятия «Святой Дух» (см. [там же, с. 35–38]).
Проблема человека: бессмертие души и моральное совершенство
Для обозначения слова «душа» Риччи использовал китайское слово хунь подразумевавшее дух человека, способный существовать в отрыве от физического тела. Адаптируя католическую метафизику к местному культурному контексту, Риччи использовал китайское традиционное понятие о «двух душах» — хунь 魂 и по 魄· После смерти человека душа (хунь), принадлежащая Небу, восходит на него и именуется духом (тэт), а низшая часть vo принадлежащая земле, уходит в землю и называется навем (гуй). Риччи истолковал хукь как бессмертную душу в христианском понимании, а по как часть, уничтожающуюся со смертью человека. Следуя теологии Фомы Аквинского, Риччи говорил о душе в трех видах — растительной, чувствующей и познающей. Для растительной и чувствующей душ он добавлял к иероглифу хупь знак чжи (растение) или грюэ (чувство–сознание). Для познающей души он принял буддистский термин линхуиЬу в котором слово лип, обозначавшее «дух», «ясное, проясненное и разумное», служило определением к хунь. Споря с учением о прекращении существования человеческой души подобно душам птиц и зверей, западный ученый ввел схоластические понятия о растительной (гиэнхунь, чжихунь), чувствующей (цзюэхунь) и разумной (липхупь) душах. Первые две после смерти исчезают, третья — нет (см. [Ricci 1985,[132, 133], с. 144/145]).
Обосновывал христианское учение о бессмертии души ссылками на конфуцианскую практику сыновней почтительности, западный ученый заметил: «Почтительные дети и любящие внуки, в соответствии с древними китайскими ритуалами, должны в течение четырех времен года поддерживать [в порядке] храмы предков, надевать [траурную] одежду и приносить пищу, выражая свою почтительность. Если дух и тело прекратили существование, [предки] не смогут услышать наших слов скорби и увидеть наши земные поклоны. Наше „служение мертвым как живым и служение ушедшим как присутствующим»
[49] — этот великий ритуал, практикуемый всеми, от правителя до простых людей, оказался бы не более чем детской забавой» (там же, [154], с. 160 161). Риччи использовал не только метафору из Августина, сравнивавшего человеческое познание Бога с вычерпыванием моря, но и его мысль из «Исповеди» о том, что Бог произвел людей для себя и лишь он один может успокоить и удовлетворить их души. Западному ученому пришлось также опровергать китайские представления о том, что лишь души добрых людей продолжают существовать после смерти, тогда как души злодеев исчезают, — ведь это противоречило бы христианству, означая, что злодеи уходят от возмездия.
Риччи пришлось затронуть также вопрос об отличиях навей и духов (гуйшэиь) от человеческой души, а также причины того, почему «десять тысяч» вещей в Поднебесной не образуют одного тела (ти). При этом западный ученый обосновывает свою позицию многочисленными ссылками на китайские классические тексты, вспоминая о наказаниях за ошибки в политике со стороны Гао–хоу (Высокого Властителя) или о том, что «Пань Гэн был потомком правителя Тана в девятом поколении, их разделяло почти четыреста лет, но он все еще поклонялся ему, все еще боялся его и все еще верил, что тот может посылать несчастья для предупреждения ему и для указания народу. Отсюда следует, что [душа] Тана продолжала существовать и не распалась» (там же, [172, 173], с. 176/177). Помимо этого, в обоснование христианской доктрины приводилось свидетельство древних о том, что Чжоу–гун и Шао–гун утверждали: после смерти Тана и Вэнь–вана последние продолжили свое существование на Небе, восходя на него и нисходя с него, продолжая сохранять страну, что означает, что их человеческие души не были уничтожены (см. [там же, [175], с. 178/179]).
Китайскому ученому Риччи приписал осторожное и окрашенное агностицизмом суждение о том, что есть несколько основных путей рассуждения о навях и духах. Часть его соотечественников думает, что они не существуют; другие полагают, что они есть, если в них верить, но их нет, если в них не верить; третьи полагают, что неверно говорить как об их отсутствии, так и об их наличии, и потому они говорят об их наличии–отсутствии (н?)). Такая неопределенность в мировоззрении дала западному ученому основания заявить, что «все эти речи нападают на навей и духов, не размышляя о ложности этого; пытаясь опровергнуть последователей буддизма и учения Лао–цзы, они неосознанно выступают против мысли древних совершенномудрых. Гуйшэиь были классифицированы как горные и речные, храмовые, небесные и земные, с разными именами и положением. Так называемые два ци (ар ци), благая способность (лян пэн), следы трансформации (г^заохуа чжи цзи) и искаженные протяжения ци (ци чжи цю шэнь) 一 все это не является гуйшэпь о которых говорилось в канонах» (там же, [177], с. 178/179). После того как по воле Риччи китайский участник диалога завел речь о содержащемся в тексте Чуньцю чжуапъ упоминании о том, что правитель Чжэн появился после смерти, западный собеседник подхватил эту тему, утверждая, что раз в Чуньцю чжуань есть такое упоминание, то, следовательно, в древности люди верили в не–уничтожимость человеческой души. Западный ученый перешел к опровержению неоконфуцианского учения о пневме–субстрате (ци): «(Утверждения), что ци есть гуйшэнь и человеческая душа, есть смешение имен категорий вещей. Устанавливающие учение должны [подходить] к принципам иных учений, классифицируя их в соответствии с изначальными наименованиями (гэ лэй и бэпъ мин). В древних канонах использовались различные иероглифы для ци и гугпиэнъ, поэтому их принципы (ли) также различны. Я слышал о жертвоприношениях гуйшэнь, но не слышал о жертвоприношениях пи, почему же в наши дни люди смешивают эти имена? Говорят, что ци может постепенно растворяться, но это очевидно слабая идея, и разговоры о ней абсурдны» (там же, [190], с. 188/189). По мнению Риччи, учение о постепенном растворении образующего душу человека ци попросту бесцельно, так как неясно, в какой момент гш распадается полностью. Это можно понять из вопросов, вложенных им в уста западного ученого в связи с учением о растворении ци, наступающем со смертью животных. В своем объяснении строения объектов мироздания Риччи приравнял ци к «воздуху», что дало ему основание заявить, что ци не является основой жизни, а лишь одним из элементов бытия наряду с остальными тремя — водой, огнем и землей (см. [там же, [204J,с. 200/201]). Весьма примечательно, что аргументом для обоснования существования бестелесных духовных существ стала цитата из Чжун юн — «они воплощают· образуют субстанцию вещей н не могут быть оставлены» [Chan Wing–Tsit 1969, с. 102]. Из этого западный ученый сделал вывод, что смысл слов Конфуция заключался в том, что гуйшэнь обладают великой силой–добродетелью (Ээ), но не отождествляются с самими вещами. Знакомя китайских читателей с европейской «Схемой классификации родов вещей» (У цзун лэй ту、、Риччи подчеркивал, что уровень одушевленности (причастности разумной душе — лип) у объектов мироздания разный, и потому утверждения китайских ученых о том, что птицы, звери, травы, деревья, металлы и камни обладают лип и могут быть помещены в одну категорию с человеком, представлялись ему несообразными с действительностью.
В уста западного ученого Риччи вложил суждение о том, что «духовные сущности (гуйшэнь) невещественны (фэй учжи фэнь) и потому относятся к классу объектов, не обладающих формой».
Их задача состоит в исполнении повелений Небесного Господа и наблюдении за делами творения
{сы цзаохуа чжи ши), они не обладают особенной властью над миром. Поэтому Конфуций сказал: «Чтить духов и божества, ие приближаясь к ним»
[Лунь юй, 6:22; Переломов 1998, с. 345]. Когда мы обращаемся за счастьем, благополучием и прощением грехов, это не относится к возможностям
гуйшэнъ,но только Небесного Господа. Временами люди пытаются снискать благорасположения
гуйшэнъ, желая получить все это, но на таком пути это недостижимо. По мысли Риччи, совет «держаться подальше» от
гуйгиэпь совпадает по смыслу со словами Конфуция о том, что «не на что надеяться тому, кто провинился перед Небом»
[50].
Опровержение идеи присутствия Бога во всех объектах мироздания Риччи связывает с историей о падшем ангеле Люцифере, низвергнутом в ад за дерзновение приравнять себя к Небесному Господу. Причины попыток отдельных людей поставить себя вровень с Богом западный ученый объяснил тем, что в Китае «никто не запрещает лживые буддистские каноны». Он прибег к более понятному китайцам сравнению — если никто не решается совершить преступление, объявив себя равным императору, то как же они равняют себя со Всевышним Владыкой {Шанди), говоря: «Ты есть я и я есть Ты»? [Ricci 1985, [209], с. 204/205].
На слова китайского собеседника о важности Будды и древних мудрецов, понявших значимость собственно индивидуального сознания и 01цутивших присутствие в нем всего мироздания, принимавших участие в его сотворении вместе с Небесным Господом, западный ученый ответил весьма резко: «Будда не понял самого себя, как же ему понять Небесного Господа? Ничтожный [в маленьком теле], он воспринял свет Небесного Господа, и, обладая некоторыми способностями и порученной ему миссией, он стал хвастливым и возгордившимся, возомнив себя равным по почету (цзунь) с Небесным Господом. Ценил ли он тем самым людей или же ценил ли их добродетель? Скорее, он таким образом принижал их и приводил добродетель в упадок. Гордыня есть враг добродетели, как только она овладевает сознанием, все действия становятся ущербными» (там же, [212], с. 208/209). В Тяиъчжу шии Будда неоднократно предстает исключительно в негативном свете, едва ли не как служитель Сатаны, хотя это и не утверждается явно. Вместе с тем через катехизис прошла сквозная мысль о положительном духовном значении древней китайской культуры. Опираясь на фундаментальные конфуцианские темы самосовершенствования и уважения к древности, Риччи заявил, что «источником добродетели является самосовершенствование, основывающееся на служении Всевышнему Владыке {Шанди). Добродетель [династии] Чжоу, несомненно (би)’ зиждилась на деле служения Небесному Господу» (там же, [214], с. 208/209).
«Языческие» точки зрения и аргументы, приводимые для их христианского опровержения, присутствуют на многих страницах работы Риччи. Китайский ученый излагает нечто, напоминающее синтез католицизма и буддистского учения, 一 пусть породивший Небо и землю Небесный Господь пребывает на Небесах, сохраняя и вскармливая «десять тысяч вещей». Но при этом Небесный Господь есть то, что Будда называл «Я» (во). Из–за погруженности человека во мрак «четырех эмоций» (диюанъ сыда — любовь, ненависть, злоба и страх) «подлинный источник» (чжэньюаиь) затемняется и «источник добродетели» приходит в упадок, что ослабляет и «Я» и Небесного Господа. В свою очередь, невозможность творения для нынешнего человека есть показатель его духовного упадка (см. [там же, [219], с. 212/213]). Несмотря на внешнюю близость этих рассуждений к христианскому учению о грехопадении, Риччи отверг их как «ядовитые». Прежде всего это относилось к предположению, что всесовер–шепный источник всех вещей мог быть затенен самими вещами. Человек может творить вещи только из готовых материалов, предоставленных Творцом, а способность мудрецов охватить своим сознанием Небо, землю и «десять тысяч вещей» еще не означает, что все это находится в их сознании. Риччи настаивал, что ни буддистская, ни неоконфуцианская аргументация не могут быть распространены на христианское понятие о Боге. Творец не может быть единотелесным с вещами, так как вещи вредят друг другу, а Бог вредить себе не может. Утверждение о том, что, принося жертвы Богу, человек приносит жертвы самому себе, кажется западному ученому нелепостью, равно как и вытекающие из него суждения о том, что малое (человек) больше большого (Творца). Это неверно и с моральной точки зрения — ведь если Бог присутствует в человеке, то злодеев быть не должно. Для христианского сознания Бог есть Творец, а мастера невозможно отождествлять с его произведением. Если всё есть Он, то незачем карать злодеев и награждать добрых.
Сложная проблема соединения китайского мировоззренческого органицизма и холизма с христианской картиной мироздания рельефно отразилась н Тяньчжу гиии. Западный ученый говорит, что конфуцианцы прошлых времен учили о единстве всех вещей (вань у и ти) для того, чтобы побуждать темных людей следовать гуманности (жэпь). Единотелесность вещей означает их единый источник, т.е. наличие Бога–Творца, но если буквально верить в то, что все вещи суть одно тело, то это «разрушит путь гуманности и справедливости». Данное Риччи объяснение единства мироздания наличием одного источника — Творца представляется интересным опытом сближения китайских и христианских представлений о мире. Был сделан вывод, что «гуманность и справедливость суть два, а если всё есть одно тело, то разница между ними есть лишь пустой образ (сюйсян), и, значит, не может быть никакой взаимной любви и уважения» (там же, [245], с. 228/229). Различие конфуцианских моральных добродетелей было истолковано как обоснование бытийного различия мира и Бога.
Смысл проблемы проясняется, когда Риччи заставляет китайского ученого спросить о смысле фразы из Чжун юн об «отождествлении [себя] с множеством чиновников». На это западный ученый отвечает, что выражение об «отождествлении с вещами» безвредно, если оно понято в фигуральном смысле, но крайне исказит картину в своем реальном (ши) — прямом смысле. Речь идет о принадлежности чиновников и правителя к одному роду (лэй) но можно ли отождествиться с травой и деревьями, черепицей и камнями? Совершенный человек может относиться к неодушевленным вещам с симпатией (au) но не с гуманностью (жэнь). Стоит обратить внимание на использование Риччи китайского историко–философского материала — он пишет, что ранние конфуцианцы критиковали Мо–цзы за идею равной любви, а если нынешние конфуцианцы будут побуждать людей относиться к земле п глине с гуманностью, то они согласятся с Мо–цзы, что будет странно. Господь сотворил все вещи разнымн, а если настаивать на их однотелесности, то это значит противостоять Его плану творения (см. [там же, [249–252], с. 232/233]) Завершая рассуждение с опорой на сопоставление моральных качеств знакомых конфуцианскому собеседнику исторических персонажей, западный ученый заявил: «Если все одно и то же, то действия людей одинаковы, значит, если Чжи был бандитом, то добродетельный Бо И тоже бандит, если У–ван был гуманным правителем, то Чжоу — жестокий последний правитель Шан — был тоже гуманен» (там же, [254], с. 234/235).
Вслед за доказательствами бессмертия души человека н ее отличия от всех иных духовных сущностей Риччи перешел к опровержению буддистских заблуждений о шести путях реинкарнации (лунь хуэй лю дао — небесном, человеческом, в виде архата, в аду, среди голодных духов, животном). В ответ на данную китайским собеседником характеристику человека как странника в непрестанных перерождениях западный ученый привел свою теорию межкультурных заимствований, направленную на обличение плагиата со стороны буддизма. В древние времена на Западе жил ученый по имени Пифагор, создавший свою теорию для пресечения бесчинств злодеев того времени. Он утверждал, что негодяи будут рождаться вновь в облике, соответствующем их дурным поступкам. «После смерти Пифагора мало кто из его учеников следовал этим словам, но его учение распространилось за пределы страны, и в это время в Индии Шакьямуни замышлял установить свою религию. Он воспринял [пифагорейскую] реинкарнацию, добавил к ней шесть путей и сотни других ложных речей, составлял книги и называл их канонами. Годы спустя китайцы прибыли в его страну и распространили его учение в Китае» (там же, [261],с. 240/241). Таким образом, буддизм на страницах катехизиса предстал компиляцией, составленной Шакьямуни из христианства и древнегреческой философии, о которой китайские читатели Тяньчжу шии в XVII в. не имели ни малейшего представления. Переориентация с буддизма на «дополнение и отбрасывание конфуцианства» побудила Риччи более не подчеркивать былую связь иезуитских миссионеров с Индией. Он стал отзываться об Индии как о небольшой стране, не имеющем культурного учения () вэпь ти чжи цзяо) и стандартов морального поведения (у дэ сип чжи фэн). И раз об Индии нет упоминаний в историях других стран, то не стоит делать ее примером для всего мира.
Западный ученый также заявил, что если проповедуемая буддистами реинкарнация существует, то люди должны были бы помнить о своих предыдущих рождениях. В ответ на возражение китайского ученого, что в буддистских и даосских книгах есть много записей о подобных событиях, западный ученый однозначно классифицировал подобные происшествия как проделки дьявола, желающего сбить людей с толку. Это враг рода человеческого воплощается в зверей или птиц и говорит, что раньше эта зверюшка была тем или другим человеком. Исходя из того, что души не переселяются ни в животных, ни в других люден, Риччи также пояснил китайской аудитории различие между б/д–дистским и христианским обычаем поста — христианский пост указывает на смнрение и самосовершенствование, а не на опасение съесть усопшего единоверца, переселившегося в тело животного.
На пути союза с конфуцианством иезуитов ожидало немало трудностей — конфуцианство имело систему культовых мест, но не имело института священства. У католического священника не было китайского конфуцианского эквивалента — «в институциональном отношении было бы намного легче интегрировать христианские священнические функции в китайскую буддистскую монашескую систему, как это сделали несториане почти тысячу лет назад, но по ряду причин это было последнее, чего могли хотеть иезуиты» [Ziircher 1997, с. 630–631]. Цюрхер отмечает, что иезуиты сознательно избегали называть свои церкви принятым в Китае «языческим» именем «храм» (сы или мяо), употребляя для этого иероглиф тан — «зал». Использование буддистских или даосских именований священнослужителей также было опущено, вместо этого иезуиты употребляли сочетание додэ 鐸德,представляющее усеченную фонетическую транскрипцию sacerdote — «священник» сацзээрдодэ 撒責爾釋德(см· [там же, с. 631]). Тем не менее духовная практика китайских католиков включала 11апомииав–шее буддизм чтение молитв и священных текстов, сочетаемое с медитацией, а также заимствованное у Конфуция требование «преодоления себя» (кэцзи),обретавшее более суровый вид: если в конфуцианстве «аскетизм ассоциировался прежде всего с глубокой скорбью, а не с искуплением греха, то христианская форма кт^зи обрела форму телесного воздержания и дисциплины» [там же, с. 639].
Запутанной выглядит также попытка Риччи обосновать не–уничтожимость воли–мотивации и прояснить идею того, что после смерти есть награды и наказания в виде рая ii ада для воздаяния людям за добро и зло. Китайскому ученому приписана следующая позиция, представляющаяся отсылкой к моральному учению Мэн–цзы, — хотя Шанди почитается превыше всего и из всей тьмы вещей человек следует после Шанди, «речи о рае и аде не соответствуют религии Небесного Господа». Если по причине «преследования выгоды (ли) и избегания вреда (хай) люди будут делать добро и запрещать зло, то это будет извлечение выгоды из добрых дел и вреда из злых — а это не должно являться подлинной человеческой волей–устремленностью (ужи) по отношению к добру и злу (шаньгионь ээ чжэн чжи). Поэтому наши древние мудрецы учили людей говорить не о выгоде, но только о гуманности и справедливости» [Ricci 1985, [312], с. 284/285].
В ответ западный ученый возразил, что «уничтожение–подавление мотивации» (w) есть крайность, не представляющая изначальной теории конфуцианцев. Он указал на «искреннюю–чест–ную мотивацию» (чэн и), служащую основой для очищения сознания, совершенствования себя, регуляции семьи и т.д., по существу ссылаясь на известную схему из текста Да сюэ, входящего в конфуцианское «Четверокнижие». Далее западный ученый указал, что мотивация (w) не принадлежит к «роду телесного» {фэй ю ти чжи лэй), будучи «функцией–применением сознания» (синь чжи юн). Мотивация задается «применением» (юн фан вэй и), откуда следует наличие искаженного и праведного. Риччи отверг возможность для конфуцианского благородного мужа (грюнъцзы) обладать искренностью, не обладая мотивацией. «Если говорится, что у цзюньцзы нет мотивов, то это означает простоту–скромность (сюй и), отсутствие эгоизма и злых замыслов, если же говорить, что в конфуцианстве нет мотивации, то это значит не понимать конфуцианское учение и не знать источник добра и зла». Соответственно добро и зло, добродетель и порок тоже происходят из праведной или искаженной мотивации. Если нет мотивов, то не может быть добра и зла, различения цзюпьцзы и «мелкого человека» (сяожэпь) (см. [там же, [322–324], с. 286/287]).
Китайский ученый на это отвечает: «„Не [иметь] мотивов, ни добра и ни зла“ — это определенно говорили конфуцианцы». Это очень спорное место, ибо трудно понять, откуда же Риччи взял это. Авторы комментария к переводу утверждают, что это, «без сомнения», отсылка к тексту Лунь тоя (9:4): «Учителю были совершенно несвойственны четыре [недостатка]: склонность к домыслам (и), категоричность (би), упрямство (гу) и самовозве–личивание (во)» [Переломов 1998, с. 363]. По мнению авторов комментария к Тяньчжу шии, Риччи истолковал «отсутствие домыслов'* (у) (англ пер.: no foregone conclusions) как «отсутствие мотивации» (have по motives), добавив от себя «отсутствие добра и зла» (по good and по evil) (см. [Ricci 1985,с. 286, примеч. 4]). Однако здесь можно вспомнить фразу неоконфуцианского философа Ван Янмина: «Основа сознания (синь) есть отсутствие добра и зла, наличие добра и зла есть движитель (дун) замысла–мотивации (и)». Первая половина фразы сопоставима с тем, что Риччи приписывал конфуцианцам, однако вторая практически сближается с контраргументами самого Риччи. На неоконфуцианское происхождение этого суждения указывает также ответная реплика западного ученого из созданного Риччи миссионерского диалога —тот заявил, что подобная позиция приравнивает людей к земле и камням, что не может соответствовать учению Всевышнего Владыки. Ведь лишенный замысла (w) и доброты (гиань) Бог тем самым также приравнивается к земле и камням. «И это называется неоконфуцианством (ласюэ)} Печально! Печально!».
Далее в тексте Тяньчжу шии следуют достаточно распространенные среди конфуцианцев ссылки на Лао–цзы и Чжуан–цзы, учивших своих последователей «не–деянию, не–мотивации (у и) и не–рассуждению бянь)», но при этом написавших книги и желавших изменить мир, т.е. действовавших, помышлявших и рассуждавших. Западный ученый приводит ряд цитат из речений времен «двух императоров (Яо н Шуня) и Трех династий (Ся, Шан и Чжоу)» — «все они говорят о наградах и наказаниях, и потому все они говорят об этом, исходя из пользы и вреда (ли хай)» (там же, [347], с. 300/301). В ответ на замечание китайского собеседника о том, что в написанной мудрецом Конфуцием книге Чунь г^ю говорится об истинном н ложном (гии фт) но не о пользе и выгоде (ли хай), западный ученый заметил, что есть три вида пользы н вреда — для здоровья и долголетия, для материального благосостояния и для репутации. Чунь цю содержала обсуждение пользы и вреда последнего типа. Именно поэтому в китайской традиции считалось, что летопись «устрашила бесчинствовавших сановников и плохих сыновей» 一 ее критика несла в себе потенциальную угрозу для их репутации. Отсюда составитель катехизиса приводит конфуциански образованного читателя к мысли о том, что заботиться после смерти надо не о теле (подразумевалось, что именно это и делают конфуцианцы в своих церемониях), а о «пользе–выгоде» для бессмертной души. Иными словами, в книге проводилась идея совместимости христианского учения о рае и аде с конфуцианскими идеалами гуманности и справедливости, при этом нападки конфуцианцев на это учение объяснялись не доктринальным противоречием, а простым человеческим непониманием.
Обсуждая мотивацию морального поведения, Риччи приписал китайцам мысль о том, что доброе поведение не должно иметь никакой мотивации. Однако это было не вполне точно, ибо в китайской традиции считалось, что человеческая природа есть дар Небес–природы н что она изначально добра. Этическое поведение, поскольку оно реализует людскую природу–характер, есть высшая цель жизни каждого человека. Предпосылкой к совершению праведных дел является чистосердечное желание разрешить своей природе быть реализованной. Это желание, называемое чэпъи (искренность), есть мотив доброго поведения. Без этого рода мотивации человек не может реализовать свою природу и делать добро, так что китайцы не утверждали, что нет мотивации добрых поступков. Риччи ошибся из–за того, что у китайцев внешние по отношению к мирскому бытию стимулы имели малое значение, тогда как у католиков внешняя потусторонняя цель является необходимой частью мотивации. Христианская вера в рай, ад и посмертное воздаяние оказывают непосредственное влияние на поведение верующего, и поэтому Риччи внимательно рассмотрел эти темы в Тяньчжу шии、но при этом упустил некоторые фундаментальные концепции китайской этики (см. [там же, предисл., с. 48–49]).
Когда китаец поинтересовался, какова же принципиальная разница между христианским учением и буддистской сансарой, превращением людей в зверей и птиц, западный ученый ответил: «Она огромна. Они (буддисты) используют ложные термины „пустота“ (сюй) и „отсутствие‘‘ (у), мы опираемся на высшие принципы „реальности“ (хии) и „наличия“ (ад) Они говорят о сансаре и прошлых рождениях, останавливаясь на выгоде, мы говорим о рае и аде, выгоде и вреде, проясняя выгоду, чтобы направлять человеческую справедливость (и)» (там же, [374], с. 318/319). Особый акцент был сделан на моральном значении христианского учения о бессмертии души — ведь ничто в этом мире не может вознаградить за добродетель. Чины и прочие знаки социального признания могут вознаградить человека от· час丁н,но один лишь Бог вознаграждает сполна. Китайское представление о возможности вознаграждения или кары будущим поколениям вызывает у Риччи критику — у добродетельного человека может и не быть потомства, или же сами потомки могут оказаться недобродетельными и потому недостойными небесных благ.
В Тяньчжу шии Риччи пришлось затронуть и проблему исторического соотношения китайской традиции и католического учения Уже в начале работы образованный китайский собеседник хотел знать, почему же он до сих пор так ничего и не слышал о христианстве. При обсуждении содержания «канонов Небесного Господа» (т.е. христианских священных текстов) Риччи отмечает, что путь Небесного Господа не принадлежит одному человеку, одной семье или одному государству, но разделяется многими великими царствами (бап), простирающимися с запада на восток. Поясняя причины неведения китайцев, западный ученый заметил: «Книжники (жу) из уважаемой страны редко бывают в других царствах и потому не знают нашей культуры и языка и не знакомы с людьми» (там же, [21], с. 66/67). Когда же китаец спросил о том, «что делать с тем, что в конфуцианских канонах нет упоминаний о рае и аде», западный миссионер ответил, что необходимо учитывать возможность появления искажений и утрат при передаче учений мудрецов. Если что–то не записано в китайских классических канонах, то это не значит, что такого не было. Он заявил: «Ныне конфуцианцы искажают древние книги и нападают на них… они озабочены текстом (вэнь), но пренебрегают смыслом–замыслом (и), и хотя ныне количество текстов увеличивается, в реальности они есть упадок. В Ши цзипе говорится: „Вэнь–ван наверху, просиял на Небесах… Вэнь–ван восходит и нисходит, слева и справа от Владыки [Ди)“, Также говорится: „В поколениях были мудрые правители, три правителя (хоу) на Небесах*. В Шу цзипс говорится: „Небеса отвергли и прекратили мандат (мин) [в пользу] великого царства Инь. Многие мудрые правители Инь на Небесах. Когда говорится — „наверху» (грай шап), „на Небесах», „слева и справа от Ди' не есть ли все это указания на существования рая?» (там же, [391], с. 328/329). На вопрос о том, как можно объяснить отсутствие и китайских канонах упоминаний об аде, западный ученый ответил, что если есть рай, то обязательно есть и ад, где место для злодеев вроде Чжоу и Цзе.
Эти рассуждения обнажили основы методологии теологического мышления Риччи и суть его попыток перенести эту форму мышления на китайскую почву. «Если о чем–то не упоминается в классических книгах, то ошибочно заключать, что этого нет. Западный метод рассуждения таков: „Истинные (чжэп) книги могут доказать наличие, но не могут доказать отсутствие. В древних канонах наших западных царств говорится о том, что, когда Небесный Господь сотворил Небо и землю, он создал мужчину по имени Лдам и женщину по имени Ева, ставших предками человечества, но там нет упоминаний об императорах Фу–си и Шэнь–иуне. Отсюда мы можем подтвердить, что в то время были Адам и Ева, но не можем подтвердить, что позднее не было Фу–си и Шэнь–нуна… Если смотреть с точки зрения китайских книг, то можно подтвердить, что в древнем Китае были Фу–си и Шэнь–iiyii, мы не можем подтвердить, что не было наших предков Адама и Евы. Если так, то можно ли сказать, что в мире нет больших западных царств, поскольку они не упоминаются в описании Юя [ханьской династии]? Поэтому,если в конфуцианских книгах не проясняются принципы рал и ада, из–за этого нельзя отказаться в них верить» (там же, [395j, с. 332/333).
По ходу диалога китайца и западного ученого–миссионера на страницах Тяиъчжу шии Риччи вкладывал в уста китайского собеседника все больше реплик, сообразующихся с христианским пониманием естественного морального закона и тем самым кос–ненно подтверждающих монотеистическое видение мироздания. На вопрос о том, может ли тот, кто не верует во Всевышнего Владыку (Шанди)у считаться благородным мужем (цзюньг^зы), китайский ученый ответил отрицательно: «Пет. В Ши цзиш говорится, что „Вэнь–ван почтительно и настороженно служил Шанди''. Как же цзюиьцзы может не верить в Шанди?» (там же, [40G],с. 336/337). Следуя предпосылке главенства конфуциан* ства среди трех направлений китайской традиции, западный ученый заметил, что даже погрязшие в заблуждениях буддисты и даосы верили в воздаяния рая и ада, а мудрые конфуцианцы тем более следовали этому.
Седьмая глава Тяньчжу шии была посвящена проблемам изначальной доброты подлинной человеческой природы (чжжь сип бэнь шапь). Здесь католическая доктрина Риччи вступила в наиболее глубокое соприкосновение с основами традиционной конфуцианской антропологии. При обсуждении этой темы Риччи использовал ряд понятий как из китайской, так и европейской философской культуры. Сип (природа–характер) есть не что иное, как основа (бэнъти) для каждого рода вещей. Сходные роды обладают сходной природой (тун лэй тун син), различные роды обладают различной природой. Бэнь (корень–основа)— есть все, [заключающееся] в принципах других родов, но это не есть изначальная природа–характер этого рода (лэй бэпъ син). Ти (тело) 一 это все, лежащее внутри границ тела вещи (учжи ти цзе нэй), но оно также не является природой (син). Когда вещи «субстанциональны» или независимы (цзыличмэ) их природы (син) также автономны, когда имеется зависимое–акцидентальное, его природа (син) также зависима (см. [там же, [423], с. 348/349]).
Утверждается, что, по мнению западных ученых, способность к рассуждению при помощи принципов
(туилунь личже) образует основу человеческого рода (
бэпълэй) и отличает его
ти (тело) от других вещей. «В том, что касается человеческой природы
(жтьсин), то гуманность (
жть), справедливость
(и), ритуальная благопристойность
(ли) и мудрость
(чжи) следуют после выдвижения принципов
(шуйли)» (там же, [425], с. 350 351). Адаптируя эту рационалистическую предпосылку к китайскому контексту и к своей программе критики неоконфуцианства, Риччи заявил, что «принцип
(ли) сам по себе есть зависимое–акцидентальное и не является человеческой природой… Древние мудрецы не приравнивали природу
(син) к принципу
(ли)» (там же, [42б],с.352/353)
[51].
Риччи не стал оспаривать фундаментальных предпосылок китайской традиции и согласился с тем, что изначальная природа человека добра — ее без сомнения можно называть доброй, не вступая при этом в принципиальный конфликт с учением о первородном грехе. Людская способность рассуждать разумно указывает на то, что благая способность постоянно присутствует (лян нэп чан^унь) в человеке, давая ему возможность «понять природу болезни и излечиться». Иными словами, разум помогает человеческой природе следовать небесным приказам и освобождаться от греховного. Зло не имеет субстанциальности (бэнь) в человеческой природе, это не «реальная вещь» {ши у), но отсутствие добра. Поэтому нельзя говорить, что человеческая природа изначально зла. Человеческая природа добра, но не все люди добры — только люди, обладающие добродетелью (Ээ), могут быть названы добрыми.
Далее Риччи разделил два вида добра — доброта человеческой природы есть доброта врожденная (син чжи шань, вэй ляп гианъ), доброта добродетели есть доброта приобретенная (дэ чжи шань, вэй си шань). Врожденная доброта имеет своим источником Небесного Господа, и это не наша заслуга, нашей заслугой является доброта приобретенная. Примечательно, что примерами врожденной доброты Риччи назвал любовь детей к родителям, разделяемую как людьми, так и животными, а также чувство сострадания при падении ребенка в колодец (Мэн–цзы 2А:3), переживаемое как гуманными, так и негуманными людьми. Ребенок рождается с сознанием, подобным чистому листу бумаги, и потому неправильно будет понимать доброту как «восстановление» изначально имеющегося в сознании. Риччи вполне по–конфуциански признал, что учеба (сюэ) человеку необходима, а проблемы возникают из–за того, что люди изучают то, что изучать не стоит.
В Тяньчжу шии утверждалось, что учение благородного мужа прежде всего нацелено на гуманность (жэнь). Признавая жэнь самой уважаемой добродетелью, Риччи еще глубже погрузился в лексикон конфуцианской морализации. Христианские мотивы проявлялись лишь когда речь зашла о том, что желающие изучать путь (дао), подобно идущему в выбранном направлении путнику, также должны иметь представление о цели и направленности своей учебы. Риччи заявил, что «высшая цель учения заключается в совершенствовании себя (чтцт) в соответствии со святой волей Небесного Господа, что и называется возвращением [к источнику]». На вопрос о том, не превращается ли христианское самосовершенствование в учение о внешнем (вайсюэ)、ибо осуществляется не для себя, а для Небесного Господа, западный миссионер ответил: «Как же человек может завершать–совер–шенствовать себя не для себя? Это действие для Небесного Господа, в котором достигается завершенность. Конфуций говорил о гуманности (жэнь) как о любви к другим людям, но конфуцианцы не рассматривают это как учение о внешнем. Когда я говорю о гуманном человеке, который любит Небесного Господа и любит людей, поклоняется источнику–корню и не отбрасывает ветвей, то как же можно называть это внешним?.. Чем выше замыслы, тем почетнее учение, если цели учащегося остановятся на самом себе, то какал же здесь высота? А если [оно] направлено на Небесного Господа, то к уважаемости–почетности нечего более добавить. Учение о святости–мудрости (шэнсюэ) в сердцах людей, его не изменить, это то, что уважаемые конфуцианцы вашей страны называли „сияющей добродетелью“ (мин дэ) и „сияющим предопределением“ (мин мин)» [Ricci 1985, [455–458], с. 368/369]. Таким образом, Риччи пытался найти путь соединения конфуцианских и христианских ценностей, расположенных на разных уровнях и не противоречащих друг другу. «Среди результатов горячей любви к Небесному Господу нет большего по искренности–честности, чем любовь к людям. Если говорится о гуманности как любви к людям, то, не любя людей, как же можно говорить о практике искреннего почитания Всевышнего Владыки?» (там же, [477], с. 380/381). Конфуцианский антропоцентризм не отменяется, но дополняется христианской трансцендентностью в призыве Риччи, «сознательно следуя воле Небесного Господа, всеохватно любить (бо ай) людей и десять тысяч вещей в Поднебесной, без необходимости быть с ними одним телом (и ти)» (там же, [482], с. 384/385).
Указав на то, что ценность учения зависит от силы его применения, Риччи попытался изложить начала морального совершенствования, которое должно начинаться с очищения от зла и самопреодоления. Китайскому собеседнику посоветовали следовать правилам «скромного общества» (иезуитов) и проверять себя дважды в день, обращая внимание на мысли, слова и поступки за полдня, определяя, добры они или нет. Применение этого правила, почерпнутого из «Духовных упражнений» Лойо–лы, должно было помочь начинающему китайскому христианину уменьшить число собственных ошибок.
Риччи приписал китайскому ученому интересную мысль: «Читающие канонические тексты видят одни слова (вэкъ) и не понимают их направленности (т.е. имеет место христианское выявление не замеченной раньше направленности конфуцианских текстов. — А.Л.). Я читал ранее строки из Ши цзина: „Вэнь–ван почтительно и настороженно, всеми помыслами служил Шапди、получив многие милости–благословения {фу), и его добродетель (дэ) была без отклонений'. Ныне, услышав глубокие рассуждения о гуманности, соотнесенные с Небесным Господом, я начал понимать смысл автора оды 一 нацеленный (чжи) на служение Всевышнему Владыке не будет лишен добродетели (там же, [483], с. 386/387).
Риччи оставалось нанести завершающий удар по китайскому религиозному синкретизму и представлениям даосов и буддистов. Он заявил, что «путь совершенствования (гун фу) данный Небесным Господом, не является учением о „пустоте“ или нирване даосов или буддистов, он при помощи искренности (чэн) ведет человеческое сознание по чудесному пути гуманности (жэнь дао чжи ΛίΛο)», подтвердив опасения китайцев по поводу того, что поклонение Будде и чтение буддистских канонов бесполезно, и предостерегая, что эти действия нанесут вред подлинному пути (чжэн дао) — «чем более вовлекаешься в такое поклонение, тем больше проступок» (там же, [486],с. 388/389).
Начинал рассуждения с семьи и государства и распространяя в дальнейшем эти суждения на всю вселенную, Риччи сумел приблизиться к конфуцианскому стилю аргументации. Традиционному китайскому сознанию было вполне понятно, что в семье и государстве есть лишь по одному главе — это отец п император. Поэтому раз «один глава в семье,а иметь двух есть грех–преступление, один глава в государстве, а иметь двух есть грех–преступление, то мироздание (грть кунъ) имеет одного Господа (Чжу), иметь двух — это ли не величайший грех во вселенной (юйчжоу)?» (там же, [490], с. 390/391).
Проекция конфуцианского видения семейного и государственного уклада дала Риччи дополнительную возможность для критики китайского религиозного синкретизма. В Тяньчжу шии китайский собеседник в конце концов признал, что Небесный Господь заслуживает наивысшего уважения, но ведь «мир с его десятью тысячами царств и девятью краями огромен, быть может, Бог, пребывая в центре, послал Будду, бессмертных и бод–хисаттв управлять и этих краях?» В ответ на это Риччи ясно заявил, что Господь всемогущ и не нуждается в наместниках. Что же касается буддизма и даосизма, то они противоречат друг другу, а тем более христианству. Они идут не от Бога, но лишь от себя (см· [там же, [491–492], с. 394/396]). На вопрос о появлении многочисленных образов Будды и прочих божеств Риччи ответил, что в древние времена люди были непросвещенными и не знали Небесного Господа. Они создали образы наделенных властью и авторитетом людей или образы ушедших любимых родственников, строя им храмы и кумирни, воскуряли им благовония и жгли бумажные деньги для поиска их благословения и защиты. Однако в дальнейшем незнание сменилось злоупотреблением. Для подчинения себе нечистой силы самые злые люди стали использовать колдовство, предпринимая столь необычные действия, они называли себя буддами и бессмертными; ложно распространяя эти заповеди и навыки, обманно обещая блага и счастье, они запугивали и сбивали с толку людей, заставляя их создавать идолов и поклоняться им.
Риччи охарактеризовал китайский синкретизм как неизвестно откуда появившегося монстра с тремя головами, именуя его «охватывающий три религии». Простые люди должны были бояться его, а образованные люди — бороться с ним, но вместо того и те н другие стали поклоняться ему и сделали его своим наставником. Аргументы Риччи против «монстра» таковы: если все три религии верны, то зачем так много религий? Если же все три неверны, то зачем впадать в тройной грех? Если исходить из того, что зло есть результат неполноты присутствия добра,то окажется, что поскольку учения Лао–цзы и Будды неполны, то их совмещение лишь умножит ошибку. Раз в Китае говорят, что красавица без носа считается уродиной, то и слияние разных ошибочных учений не сделает их истиной. Раз уж они созданы разными людьми с разными взглядами, то не нужно стараться сделать их идентичными. Это подтверждает мнение Р. Ковелл а о том, что 11езуиты осознавали опасность синкретизма и пытались ее избежать (см. [Covell 1986, с. 56]〉·
Примечательно, что Риччи сознательно не стал обвинять конфуцианство с той же резкостью, как буддизм или даосизм. «Из трех религий, одна (даосизм) возвышает „отсутствие‘‘ (у), другая (буддизм) возвышает „пустоту“ третья (конфуцианство) возвышает ”искренность“ (чэн) и „наличие“ (w). Во всем мире из взаимно разделенных дел нет более далеких, чем „пустота“ {сюй) н реальность** (ши), чем наличие и отсутствие. Если их можно соедшшть, то можно соединить воду и огонь, квадратное и круглое, восток и запад, небо н землю, и нет ничего невозможного в Поднебесной» [Ricci 1985,[514], с. 404/405]. В итоге, заключает Риччи, верящий в три религии в конечном счете не будет отличаться от того, кто не верит ни в одну, пребывая в поисках правильного пути и полагал, что вера находится за пределами религий, а потому на самом деле нигде. Разрушая привычный китайцам дух религиозного синкретизма, Риччи провозгласил 一 истина может быть только одна и содержится она в христианстве.
Обобщив антибуддистскую аргументацию Рнччи,современный исследователь взаимоотношений католицизма и китайской духовной культуры Сунь Шанъян отметил, что критика затронула ряд чувствительных вопросов. «Были отвергнуты некоторые стержневые догматы буддизма, такие, как учение о „пустоте" (куп–шунъя) и „переселении душ“ (лунъхуэй–сэ.псг.рг.), была отвергнута и такая важная практика буддизма, как непричинение вреда окружающему; с позиций социальной функциональности была разоблачена „бесполезность“ буддизма, были отринуты представления, общие для буддистов и части конфуцианцев, — „единотелесность десяти тысяч вещей“,„единство трех религий. Тем не менее надо указать на то, что критика Риччи зачастую строилась на почитавшихся им догматах католицизма (например, сотворение мира Богом и бессмертие души), все, не совпадающее с ними, отвергалось как заблуждение или суеверие. Этот подход отличался от его диалога с конфуцианцами, основывавшегося на позициях „естественной рациональности' выдавая религиозную деспотичность и нетерпимость. Помимо этого его (Риччи) пред ставления о буддизме часто являли собой невежественные ошибки» [Сунь Шанъян 1998, с. 88].
Заключительная, восьмая глава Тяньчжу шии посвящена рассказу о западных обычаях, обсуждению смысла целибата священнослужителей и объяснению того, почему Небесный Господь снизошел и родился в Западной земле, В ней Риччи рассказывал о смысле папства и пояснял, что обет безбрачия и отсутствие детей дает священнослужителям возможность сконцентрироваться на общественном благе. Затрагивая эту чувствительную для китайского менталитета тему, Риччи пытался пояснить, что брак не вреден, но целибат предоставляет больше возможностей для самосовершенствования и побуждения к совершенствованию других людей.
Отвечая на вопрос китайского собеседника о том, как же совместить эту практику римско–католической церкви с китайской традицией, где согласно Конфуцию, из «трех видов сыновней непочтительности самая большая 一 не иметь потомства» (Мэн–гры,4А:26), западный ученый сказал, что с тех пер времена сильно изменились — тогда население было маленькое, а теперь большое, и его надо ограничивать. Другая возможная версия состоит в том, что эти слова идут не от Мудреца, но были высказаны Мэн–цзы, это может быть ошибка при передаче или пояснение важности женитьбы Шуня. В ходе поиска контраргументов Риччи указал на то, что в древних конфуцианских текстах говорилось достаточно много о гуманности и сыновней почтительности (Лунь юи、Да сюэ, Чжун юн), но об отсутствии потомства как о форме непочтения к родителям до Мэн–цзы ничего подробно не говорилось. Отсюда может быть развита тема «искажения» изначально совместимой с христианством древней китайской традиции. Древние герои Бо И, Шу Ци и Би Гань — все они наиболее гуманные по конфуцианским меркам люди, но они не оставили потомства Если это самое главное, продолжает Риччи, то почтительный сын должен заниматься воспроизводством с утра до вечера, попадая в сети побуждений плоти (сэ). Шунь, к примеру, женился не в двадцать, а в тридцать лет — значит, им было упущено много времени, отведенного природой для выполнения сыновнего долга. Помимо этого важно не число потомков, а их образование и воспитание. Во времена потопа Юй не был дома восемь лет, но в наши времена распространения ереси и идолопоклонства, предположил Риччи, он отказался бы иметь семью, чтобы посвятить свою жизнь посещению всех царств.
Риччи подчеркнул, что на Западе человека именуют шэн — «святой» реже, чем в Китае. Цари мира, даже справедливые, еще не шэн. Даже те из них, кто оставил царство и ушел в монашество, называются лишь «честными» (цзянь). Помимо служения Богу и скромности, святой в словах и делах превосходит обычных людей, и никто не может с ним сравниться. Просвещать и быть известным можно с помощью человеческой силы, но для исцеления неизлечимых болезней без лекарств, для воскрешения мертвых нужно прибегать к нечеловеческой силе, т.е. силе от Бога, — что и делает святой. Если же кто–то сам объявляет себя святым, не боится Бога и творит чудеса при помощи колдовства, то это злодей, против которого на Западе обороняются как против потопа н пожара. Отсюда Риччи переходил к тому, что чудесные дела Иисуса подтверждают его статус Небесного Господа.
По одной из легенд, император Минди (58–75) увидел во сне большую золотую фигуру. Министры заверили его, что это был Будда, и он отправил людей на его поиски. Этим посланцам и в традиции приписывается распространение буддизма в Китае между 64 и 75 гг. н.э. В полемике с буддистами Риччи использовал это предание, толкуя его в пользу своей религии. Лишь в самом конце катехизиса он впервые вводит упоминание об Иисусе, «родившемся в год гэьгшзнь, на второй год правления императора Ай–ди династии Хань под девизом Юань–шоу» [Ricci 1985, [580], с. 448/449]). Поскольку сон о золотой фигуре приснился императору вскоре после окончания земной жизни Иисуса и Его Вознесения, Риччи сделал вывод, что властитель Китая получил христианское откровение, которому не суждено было реализоваться в то время. «Из изучения китайской истории следует, что в то время ханьский император Мин–ди слышал об этих событиях и послал миссию на Запад за канонами, посланцы на полпути по ошибке пришли в Индию, взяли буддистские каноны и распространили их в Китае. С того времени ваше драгоценное царство было обмануто и сбито с пути, не слышав о подлинном пути, что большое несчастье для учения» (там же, [591], с. 452/453) Это блестящий пример сопоставления христианской хронологии с китайской, из которого вытекает, что распространение в Китае буддизма вместо христианства есть не более чем следствие оплошности и нерадения императорских гонцов.
Композиция текста Тяньчжу шии стала итогом трудных размышлений Риччи о путях проповеди веры в Китае. Начав с доказательства бытня Бога и разъяснения правильного понимания Божественного Абсолюта, он широко использовал концепции, распространенные в европейской философии того времени («субстанция», «акциденция», аристотелевское учение о четырех причинах). Принципиально важным было отождествление древнекитайских понятий о Небе (тянь), Верховном Владыке (Шанди) и христианском Боге (Тяньчжу). Риччи пытался доказать бессмертие человеческой души и недопустимость рассмотрения Неба, земли и всех объектов мироздания как одного тела. При этом Риччи критиковал буддизм и демонстрировал его сущностные отличия от христианства на примерах учения о переселении душ, буддистского запрета на убийство любых живых существ и правил поста. Поскольку вера в бессмертие души означала бессмертие мыслей и намерений людей, Риччи старался соединить христианское и конфуцианское понимание морального совершенствования. Связав дела и помыслы человека, он пытался обосновать необходимость существования Небес и ада как незаменимых инструментов посмертного воздаяния для душ добрых ii злых людей. Несмотря на поиски согласия между христи анством и конфуцианской традицией, Риччи выступил против синкретизма «трех школ» (конфуцианства, буддизма и даосизма) с позиции сотериологической уникальности христианства. Пояснив в заключение моральные основания «антиконфуциан–ской» практики миссионерских странствий и безбрачия католических свяхдешшков, Рнччи лишь и самом конце катехизиса дал очень сжатое понятие о Боговоплощении и спасительной работе Бога в мире.
В Тяньчжу шии не нашлось места для изложения евангельской истории жизни Иисуса, и критики позднее не раз обвиняли Риччи в том, что он не проповедовал в Китае распятого Христа. Но при этом необходимо учитывать предыдущий опыт Риччи, который на пути в Пекин в 1600 г. был задержан в Тяньцзине придворными евнухами, готовившими для передачи императору дары иезуитов и обнаружившими в его багаже «незадекларированное» распятие. Обнаженная фигура прибитого к кресту мертвого человека навела евнухов на мысль о том, что это колдовской талисман для наслания беды на императора Вань–ли. Обвинение в попытке нанести вред императору было серьезным, и миссионерам пришлось давать объяснения по поводу найденного у них распятия Иезуит де Пантойя, сопровождавший Риччи, потом написал, что «мы сказали им, что это Бог истинный, творец Неба и земли». Но вряд ли это в самом деле было так. Сказав правду, миссионеры не убедили бы разъяренных чиновников, что так выглядит изображение Небесного Господа. Риччи пояснил ештухам, что это великий святой, который хотел пострадать за людей на кресте,а его изображение создано в благодарную память о нем (см. [Dunne 1962, с. 75–76]). Риччи полагал, что в практическом отношении предъявление обнаженной фигуры распятого Христа, будет ошибкой, ибо изображение в искусстве обнаженной фигуры запрещено китайскими законами. Его рискованная стычка с евнухами показала, что распятие воспринималось неподготовленными людьми как даосское проклятие или ал1улет. Однако позднее подробное описание распятия и иллюстрации событий смерти Иисуса были приведены в книге Джулио Алени Тяньчжу Ц1ЯНШЭП чусян цзин цзе (Иллюстрированное толкование Воплощения Небесного Господа) (1637 г.). Проповедовал распятие и Адам Шалль фон Белль. Позднее францисканцы, не обремененные соображениями культурной адаптации, были прямее иезуитов в своей публичной проповеди и говорили с китайцами на улицах через переводчика с распятием в руке (см. [Covell 1986, с. 60]).
Современные католические переводчики и комментаторы считают положительной особенностью Тяньчжу шии то, что составленный Риччи диалог миссионера и китайца не затрагивает темы Божественного Откровения и требуемой для его принятия веры. Акцент на естественном разуме н философском мышлении открывал китайскому образованному классу возможность хотя бы частично понять христианство и увидеть точки его соприкосновения с конфуцианством. Начальной и конечной темой книги было индивидуальное самосовершенствование — одна из наиболее ценимых в конфуцианской духовности задач. Исходя из идеи самосовершенствования изначальной доброты человеческой природы, Риччи пытался убедить китайцев, что совершенствующий себя человек должен поклоняться Небесному Господу. Риччи цитировал много китайской классики, и, хотя его истолкования лежали вне общепринятого в Китае контекста, в целом это способствовало обозначению точек соприкосновения между китайской традицией и христианством. Его признание совместимости древнекитайских понятий о Шанди и Тянъ с христианским понятием о Боге трактуется ныне как «величайшая заслуга» катехизиса и «главнейший вклад Риччи в китайско–христианский диалог» [Ricci 1985, предисл., с. 52].
К числу основных теоретических предпосылок Тяньчжу иши относится подход к китайскому сознанию с позиции всеобиию–сти «естественного закона» — тех принципов, которые могут быть доказаны и поняты путем естественного рассудка и служить моральными ориентирами как христианам, так и иехристианам История древнего Китая трактовалась Риччи и его единомышленниками как «история добрых деяний». Он хотел «с уверенностью надеяться, что милостью Божьей многие из древннх китайцев нашли спасение в естественном законе, в чем им сопутствовала особая помощь, которая, как учат теологи, дается всякому, кто делает то что может для спасения в соответствии со светом своей совести» [Ricci 1953, с. 93]. Необходимо подчеркнуть, что развитая Риччи ъ китайском культурном контексте политика культурной аккомодации Ксавьера н Валиньяно имела в своем основании определенное истолкование китайской традиции Р.Ковелл заметил: «Если Риччи был прав, то теологическая и моральная истина могла быть найдена в древних китайских писаниях, и аккомодация евангельского изложения к китайскому менталитету была узаконена. Более того, эти теологические н моральные максимы, проясненные, очищенные, возвышенные и дополненные более непосредственным библейским откровением, могли легко стать интегральной частью содержания Евангелия» [Covell 1986, с. 47]. Риччи использовал Конфуция в интересах проповеди христианства, истолковывая двусмысленные места в пользу своего дела.
Интересно, что подход Риччи к истолкованию древнекитайского наследия носил по сути янмшшстский неоконфуцианский характер, его можно описать словами Лу Цзююаня: «Шесть канонов комментируют меня». Такой подход давал ранним китайским христианам убежденность в том, что учение иезуитов вполне согласуется с традицией Чжоу–гуна и Конфуция, а в мире есть лишь один Небесный Господь. Споря с утверждениями о «непонимании» Риччи китайской культуры, Дж.Янг выдвинул противоположную точку зрения: «Его знание Китая конца династии Мин и китайской философской традиции было настолько глубоким и утонченным, что он стал, возможно, излишне честолюбивым. Его неудача (если таковая имела место) была обусловлена отчасти его излишне уверенным н всеобъемлющим подходом» [Young 1994, с. 85]. В отличие от многих миссионеров последующих лет, Риччи не торопился «отправлять» Конфуция на вечные муки в ад. Дело не только в желании Риччи поддержать хорошие отношения с китайским образованным классом, ведь он также «нашел у Конфуция естественную теологию, preparatio evangelica Китая, подобно тому как его теологическая подготовка давала ему то же самое для Запада в лице Аристотеля» [Allen I960, с. 39]. Р.Ковелл отметил, что предпринятая Риччи попыт« ка «отуземливания» христианства, хотя и не была основана на современной католической теории, видящей Христа изначально действующим в культуре–цели через посредство Святого Духа, признала «естественную теологию» китайцев инструментом Божественной Истины (см. [Covell 1986, с. 55–56]). Американский католический исследователь Ж. — П.Вист считает М.Риччи не только ранним провозвестником современной миссионерской идеологии, но и наследником ранней христианской церкви — избегая культурной конфронтации и надеясь примирить две несравнимые системы веры н мысли, он «возрождал теологическую традицию греческих Отцов,. которые, подобно Клименту Александрийскому,знали, как поставить наследие Гомера и Платона на службу христианской мысли» [Wiest 1997,с. 659]. Нечто похожее прозвучало в октябре 1982 г. из уст главы римско–католической церкви Иоанна Павла II на заключительном заседании Международного конгресса риччианских исследований, проведенного университетом Масерата и Григорианским университетом в ознаменование 400–летия прибытия Риччи в Китай: «Как и Отцы Церкви в отношении христианства и греческой культуры, Маттео Риччи был справедливо убежден, что вера во Христа не принесет никакого вреда китайской культуре, но, скорее, обогатит и усовершенствует ее» (цит. по [Ricci 1985, предисл., с. 52]). Современные китайские исследователи превозносят (иногда даже с явно чрезмерным усердием) Риччи за его склонность к «китаизации» (ханьхуа), ставшей «неизбежным результатом его глубокого овладения познаниями в китайской культуре» и выдающей в нем «просвещенную и открытую личность» [Гао Чжиюй, Линь Xva 2000,с. 352].
Одним из объяснений сравнительно быстрого заката китайской несторианской церкви является предположение о том, что несторианство пришло в Поднебесную в те времена, когда там не было потребности в новом религиозном мировоззрении. О иезуитских миссионерах можно сказать обратное: «В начале XVII в. обстоятельства благоприятствовали Риччи н его спутникам.
Случилось так, что тогда сложилось счастливое соединение между учением иезуитов и тенденциями времени. Ортодоксальная реакция, враждебная к буддистским влияниям, глубоко проникшим в образованные круги, развивалась с последних лет XVI в.·· Нападки Риччи на буддизм, который он обвинял в порче древ, них традиций Китая, важность, которую он придавал моральной строгости, и его научные учения — все это представало отвечающим нуждам и стремлениям времени» [Gernet 1985, с. 23]. Риччи пытался найти необходимые разумные аргументы и объяснить образованным китайцам конца династии Мин, почему же они до этого ничего не слышали о всемогущем христианском Боге. Выстраивая свои доводы в духе конфуцианской «любви к древности», он пытался доказать, что подлинная конфуцианская традиция была религией Бога (Шанди) — того самого, которому поклоняются христиане. Однако эта традиция была утеряна, а одержавшее верх неоконфуцианство потеряло с ней всякую связь. Лишенная монотеистического содержания неоконфуцн–анская традиция трактовалась Риччи лишь как досадное искажение подлинного конфуцианского наследия. Примечательно, что такого мнения придерживались не только иезуиты, но и многие китайские мыслители того времени, такие, как Ван Фучжи и Гу Яньу. Хотя направления критики были различны — иезуиты шли в сторону проповеди евангельского откровения, а китайские критики неоконфуцианства в направлении создания учения о реальном–практическом (гиисюэ), — их объединяло отрицание буддизма и даосизма, а также желание очистить неоконфуциан–ство от их влияний. Для Риччи неоконфуцианское учение было неприемлемо также и потому, что считало мироздание единым, отождествляя Творца с его творениями и делая человека неподобающе равным Богу, помещая Бога и человека в разряд твар–ного бытия, происходящего от безличного тайцзи.
Скептики часто отмечают, что китайская образованная элита того времени не могла полностью осознать существо антинео–конфуцианской аргументации Риччи. Ж.Жерне воспринял проблему возникшего между представителями двух цивилизаций непонимания как фундаментальную для оценки деятельности Риччи — ведь тот «хорошо понимал необходимость прежде всего научить китайцев рассуждать должным образом, т.е. различать субстанцию II акциденцию, духовную душу и материальное тело, Творца и его творение, моральное добро и естественное добро» [там же, с. 3]. Из–за разницы в способах мышления носители китайской традиции не могли разумно использовать предлагаемые иезуитами концепции, что породило трактовку диалога ие_ зуитов и конфуцианской интеллигенции как скопления взаимных недоразумений. Ж.Жерне свел источник взаимного непонимания к конфликту христианского понятия о порядке, привнесенном в мир извне, и китайского предположения об имманентности порядка в самопроизвольно изменяющемся мире.
Отметим, что содержание
Тяньчжу шии может быть рассмотрено не только в миссионерском или теологическом, но и в более широком культурно–философском контексте. Американские исследователи философ Дэвид Холл и синолог Роджер Эймс, соглашаясь с Жерне, указали на то, что способ рассуждений обеих сторон носил историческую обусловленность и в логике умозаключений отражалась культурная специфика. Для иезуитов «логика была неотделимой от религиозных догм», в результате чего «оказалось, что у китайцев отсутствует логика. Возможно, что миссионерам никогда не приходило в голову, что то, что представлялось им китайской неспособностью, было на деле не только знаком иной интеллектуальной традиции, но и различных ментальных категорий и образов мышления» [Hall, Ames 1995, с, 120]
[52]. В этом случае иезуитские миссионеры в Китае предстают носителями европейской философии трансцендентального монизма, метафизические и эпистемологические абсолюты которой дополняли церковные догматы. «Хотя постпро–свещенческие мыслители полагают, что основную трудность для иезуитов представляла иррациональная и парадоксальная природа верований, принятия которых они требовали от китайских неофитов, очевидно, что категории, связанные с онтологией и эпистемологией, были с голь же решающими камнями преткновения» [там же, с. 146]. Холл и Эймс пришли к выводу, что «отсутствие строгой трансцендентности в традиции оказывает глубокое воздействие на религиозный и социально–политический опыт внутри китайской культуры. Весь словарь западной религиозной жизни — Бог, творение, грех, благодать, вечность, душа и т.д. — оказывается неподходящим для описания нетеисти–ческой духовности в ядре китайской традиции» [там же, с. 280]. Они подтвердили заключение Жерне, отметившего «внутренние опасности», коренящиеся о терминологических переводах из
Тяньчжу шии (см. [Gernet 1985, с. 48]). При всем своем желании подчеркнуть несовместимость неоконфуцианства с христианством (а также с ранним конфуцианством) Риччи все равно использовал неоконфуцианское противопоставление «человеческих желаний» (
жэпьюй) «небесным принципам» (
гпяпьли), равно как и буддистский термин
цыбэйцдя описания сострадательности Бога, явившегося в мир для спасения людей.
Рнччи и его последователи пытались наводить мосты путем сопоставления католических томистских и китайских неоконфуцианских философских понятий. Сюда можно отнести попытку провести параллель между понятиями аристотелизма о формальной и материальной причинах н китайскими представлениями о ли и ци; греческим учением о четырех элементах и китайским учением о пяти элементах; понятием о свободе воли человеческой души и учением сунского конфуцианства о «восстановлении [человеческой] природы» (фу сип). По мнению ученого из КНР Чэнь Вэйпина, западные миссионеры ранее других сумели провести реалистичные и глубокие сопоставления различий двух философских традиций. «Однако необходимо видеть, что теоретическая ценность проведенных западными миссионерами сравнений философий Китая и Запада была жестко ограничена теологическим каркасом средневековой традиции. По этой причине их сопоставления в основе своей были неспособны помочь китайской философии реализовать историческую задачу перехода от средневековья к новому времени» [Чэнь Вэйпин 1989, с. 18].
Современные исследователи полагают, что Риччи допустил ошибку, когда в стремлении разоблачить даосов и буддистов для доказательства абсурдности их доводов обратился к западной логике — тем самым он проигнорировал концепцию диалога, принятую у китайских книжников, «нацеленную на примирение противоречий». Другим промахом Риччи называют искажение классических китайских текстов в поисках свидетельств знания о христианском Боге, что дало основания для упреков в невежестве со стороны местных критиков (см. [Wiest 1997, с. 662]). Как полагает ученый из КНР Чжу Ювэнь, критика иезуитами неоконфуцианства по сути своей была критикой атеизма со стороны теизма, но смысл ее сводится также к диалогу между средневековой схоластической философией и неоконфуцианством династий Сун—Мин. Иезуиты принесли с собой в Китай отточенные методы дедуктивного мышления, с помощью которых поставили под сомнение традиционные китайские представления о целостной и гармонически движущейся вселенной. «…С помощью метода противопоставления иезуиты представили не· примирнмые н взаимно отвергающие реальности и качества: оформленное н не имеющее формы, живое и неживое, материальное и нематериальное, рациональное и иррациональное… Поскольку китайские служилые (ши дафу) полагали, что наилуч–шим способом достижения сферы „единения с вещественным мирозданием“ ()> во и ти) является интуитивное мышление, они уделяли ему особое внимание… Интуитивное мышление есть ощущение целого, не подчеркивающее анализа, оно акцентирует внутреннюю рефлексию о противоположность наблюдению за реальностью, что предельно препятствовало углублению людского познания внешнего мира. Иезуиты старались первым делом привнести в познавательные структуры китайских служилых дедуктивный метод рассуждения и разделяющий противоположности дух анализа, что, без сомнения, было весьма ценной работой» [Чжу Ювэнь 1998,с. 83–84].
Претензии иезуитов к неоконфуцианству также вряд ли можно свести исключительно к конфликту культурных концепций. В иезуитской оценке чжусианства была определенная правота. Известно, что в свое время Ч^су Си зафиксировал своими комментариями переориентацию традиции китайской учености с древних «Шести классиков» на более новое «Четверокнижие». В глазах католических миссионеров этот шаг отдалил китайскую культурную традицию от религиозной тематики Ши цгина и Шу цзина, еще более приблизив ее к «посюсторонним» этико–мораль–ным темам текстов Конфуция и Мэн–цзы. Эти заключения были бы невозможны без определенного уровня постижения иезуитами сущностных аспектов китайской духовной традиции. Этот подход находил отклик — несколько китайских ученых того времени «восприняли взгляды Риччи на конфуцианскую классику как содержащую не только этическую истину, приемлемую для всего человечества, включая христиан, но также начала космогонии и даже теологии, созвучной с христианскими понятиями» [Treadgold 1973, т. 2, с. 13–14].
Катехизис отразил как напряженные усилия Риччи по постижению китайской культуры, так и ограниченность католической теологии его времени, которая была более статической, чем динамической. Возможно, именно здесь лежат причины отвержения иезуитами развивающейся в процессе «порождающих порождений» холистической вселенной неоконфуцианцев. Риччи оспаривал не только философскую традицию династий Сун и Мин, но и наследие Мэн–цзы, творившего лишь через столетие после Конфуция. Такое радикальное отделение католическими проповедниками изначального конфуцианства от его последующего исторического развития критиковалось многими китайскими интеллигентами вплоть наших дней. Суждения о том, что иезуитов в конфуцианстве «восхищали преимущественно моральные догмы, в основе своей, как они считали, не противоречившие христианскому учению о морали» [Дубровская 1989, с. 180], скрывают важную проблему — иезуитов увлекла не только мораль. Они считали, что в доциньской классике содержатся основы монотеизма, данного китайцам в качестве «первоначального откровения», а это уже вопросы космологии и мироустройства. «Мы должны заключить, что сами иезуиты искренне верили как минимум в некоторые из аргументов, находимые вновь и вновь в их китайских работах: в „золотом веке“ Китай знал Бога Истинного и поклонялся ему; древнее конфуцианство несло эту традицию; христианство пришло в Китай, дабы восстановить изначальную монотеистическую веру, а также дополнить ее полным откровением Божественной Истины» [ZUrcher 1993, с. 76].
Современные исследователи наследия Риччи полагают, что культурно–философская полемика иезуитского миссионера с китайскими религиями не всегда попадала в цель. Образованные люди того времени не рассматривали даосизм как ортодоксию и не защищали его позиции; простой народ, приверженный даосизму, не был образован и не имел возможности ознакомиться с катехизисом. Мало кто из китайских буддистов в конце династии Мин придерживался буддизма в его чистой форме. Некоторые из них сблизились с конфуцианством, и «для развития и выживания в Китае буддизму было необходимо найти некий вариант аккомодации к конфуцианству». Когда Риччи призывал «сближаться с конфуцианством и отбрасывать буддизм», то он защищал подход, опасный для статуса буддизма в Китае. Защищая себя, многие буддисты встали на защиту неоконфуцианства (см. [Ricci предисл., с. 44–45]). Современные китайские ученые считают, что на закате правления династии Мин спор христианства с китайской традицией проходил в «достаточно разумной» форме. «Если бы иезуиты смогли тогда своевременно скорректировать тактику „дополнения конфуцианства и изменения буддизма, подойдя к буддизму и даосизму с позиции диалога и приняв охватывающую все слои общества форму проповеди, тогда конфликтов было бы меньше, а контактов больше. Разумеется, это в то же время усложнило бы задачу сохранения в Китае основных догм и ритуальных установлений христианства» [Ли Тяньган 2000, с. 316]. Но деятельность Риччи в Китае, вне зависимости от числа допущенных им промахов, открыла новую страницу в общении культур Китая и Запада. Д.Тредголд даже назвал ее «началом истории западной мысли в Китае· Это не означало, что он прибыл туда с идеей о превосходстве Запада над Китаем. Напротив, он прибыл в Китай как первый иммигрант в современном смысле — иностранец, приехавший в страну с намерением пробыть там до конца жизни и стать членом китайского сообщества по костюму/ манерам, языку и культуре, одновременно пытаясь, как и другие члены ордена иезуитов и римско–католической церкви, обратить Китай в христианство» [Treadgold 1973, т. 2’ с. 6].
«Три столпа» китайского христианства — Ли Чжицзао, Сюй Гуанци и Ян Тинъюнь
Исследователи наследия ранних иезуитских миссий продолжают споры о том, доходила ли проповедь Риччи и его последователей до душ китайских образованных слоев. История «трех столпов» (сань да чжуши) китайского католицизма — трех чиновников со степенью цзиныаи, принявших крещение от иезуитов, — показывает, что брошенные иезуитами семена дали свои всходы.
Наиболее влиятельным при дворе Мннов католическим неофитом был Сюй Гуанци (1562–1633). Сюй вместе с Риччи переводил западные научные труды по математике, гидравлике и географии, наиболее известен его перевод «Геометрии» Эвклида под названием Цзихэ юапъбэнъ. В 1629 г., после победы на конкурсе по составлению календаря, в чем ему немало помогли блестяще знавшие астрономию друзья–миссионеры, Сюй получил высокую придворную должность. Взлету Сюй Гуанци на высшие чиновничьи посты предшествовали провалы на экзаменах. Риччи замечал, что Сюй впоследствии отнес эти неудачи на счет божественного провидения — ведь если бы он сдал экзамен в 1598 г., то у него не было бы времени общаться с иезуитскими миссионерами и,став цзиньши, он наверняка завел бы себе на–ложннцу. В 1600 г. на пути из Шанхая в Пекин Сюй Гуанци остановился в Нанкине и повстречался с Риччи. До этого он уже общался с католическими патерами в Шаочжоу и уже кое–что знал о христианстве. Зимой 1603 г., когда Риччи был в Пекине, Сюй Гуанци принял крещение от иезуитского миссионера Жоао да Роша. Весной 1604 г. он общался с Риччи и принял причастие. Обращение Сюй Гуанци рассматривается многими авторами как победа проводившейся иезуитами политики «научной евангели–зации», привлекавшей китайцев на свою сторону не только признанием духовной ценности «изначального конфуцианства», но и научными достижениями западной цивилизации. Некоторые авторы видят в истории Сюй Гуанци пример непонимания образованными китайцами подлинного смысла религиозного послания Риччи, так как Сюй исходил из идеи близости моральных учений конфуцианства и католицизма, считая католическое понятие о Боге (Шэнь) синонимом конфуцианского Неба (тпянъ). «Очевидно, что Сюй Гуанци обращал большее внимание на ”доброту“ (шапь), чем на „истину‘‘ (чжэнь) (существования и сущности Небесного Господа), что как раз выступает спецификой берущего ,’доброту“ за основу конфуцианства и глубоко коренится в представленной конфуцианской мыслью практико–эмпири–ческой модели мышления китайской традиционной культуры. Необходимо сказать, что Сюй Гуанци в определенной степени превзошел конфуцианскую мысль… но нетрудно видеть, как далеко он отстоял от мысли католической» [Ли Юэхун 1997, с. 117].
Современный исследователь из Гонконга Т.Ли полагает «трудным просто отрицать» то, что «интеллигентные люди наподобие Сюй Гуанци совершенно прониклись христианской доктриной и были заинтересованы исключительно наукой, хотя многие китайские исследователи желают, чтобы мы верили в это» [Lee 1991, с. 5]. Иная точка зрения бытовала в традиционной историографии католических миссий в Китае: «У католических миссионеров был твердой опорой христианства вельможа Павел Сю. Он во время одного из преследований христиан сочинил апологию в защиту христианства, в которой между прочим говорил, что готов отдать все свои члены на отсечение и все богатство на разграбление, если только в христианском учении найдется что–либо противоречащее правилам нравственности» [И.Н.А. 1885(a), с. 10–11]. Такое заявление вполне соответствовало культурному аккомодационязму Риччи.
Возможно, истина содержится в обоих суждениях. Сюй Гуанци не только работал вместе с Риччи над изданием и публикацией книг по математике и геометрии, но и всеми силами защищал и поддерживал китайскую католическую церковь еще три десятилетия. Опираясь на свидетельства из «Дневников» Риччи, можно заключить, что Сюй пришел к выводу о полном соответствии учения миссионеров китайским нормам верности правителю и почтительности к отцу, полагая, что все в их учении было полезно для умов людей н общественного блага. Сюй Гуанци не раз подчеркивал высокие личные моральные качества иезуитских миссионеров, реализуемые в служении Небесному Господу.
Испытавший разочарование в абстрактности чжусианских схем, Сюй Гуанци искал альтернативы неоконфуцианской ортодоксии как в католицизме и западной науке, так и в зародившемся внутри Китая философском течении «учения о практическом» (ши сюэ). «Сюй нашел способ познания, познания от Неба, которое, как представили это миссионеры, добавило серьезное качество и дисциплину к моральным ценностям, унаследованным им от традиции. Познание от Неба было собранием определенных знаний, основанных не на чьем–то собственном сознании, но на внешнем мире, кратко выраженном в слове „Небеса“ (тянъ). И в то же время знание было объектом не только санкций авторитета, но и собственного исследовательского подтверждения» (Peterson 1988, с. 147). Иными словами, пытливый ум Сюй Гуанци нашел в трансцендентности католического «учения о Небесах» (тяньсюэ) необходимую опору для присущего неоконфуцианской традиции чжусианского поиска принципов (ли) во внешнем мире. В его понимании тяньсюэ сводилось прежде всего к идее «совершенствования себя и служення Небесам» (сю шэпъ ши тянь), но его вторым смыслом для Сюй Гуанци выступала познавательная программа «классификации вещей для исчерпания принципов» (гэу цюнли).
Дж.Янг полагает, что Сюй Гуанци следовал идеям Риччи об «изначальном конфуцианстве» как неиспорченной моральной религии Шанди. Поддержанная им конфуцианская идея «публичности» (гун) была истолкована как необходимость разделения всем человечеством универсальной веры в одного Бога. Янг не согласен с предположением о том, что Сюй Гуанци избрал лозунг «дополнения» конфуцианства как прикрытие для борьбы с ортодоксальной идеологией. «Это маловероятно, — пишет он, — в его работах эта тенденция не просматривается. Сюй верил,что учение Бога, пусть глубокое и мистическое, имеет в центре добродетель всеобщей любви» [Young 1983, с. 48].
Китайский религиовед Лю Цзянь дал следующее обобщение религиозной мысли Сюй Гуанци. Во–первых, взгляды Сюя на тяпьсюэ были самобытны и отличались от подходов Риччи и других мнсснонеров. Во–вторых, его религиозные идеи были тесно связаны с его научными воззрениями. Внимание Сюя к эмпирическому знанию отразило «появление ростков капитализма» и «требования развития производительных сил», его «незрелые идеи отразили незрелые экономические отношения». В–третьих, его мысль отразила желанне служилых людей (ши дафу) того времени взять ответственность за судьбы Поднебесной в свои руки, что выразилось в их интересе к сельскому хозяйству, мелиорации, механике, астрономии, календарю, военному делу. В–четвертых, идеям Сюй Гуанци не было суждено распространиться в Китае по ряду внешних причин, прежде всего из–за гибели династии Мин и возникшего позднее острого спора внутри католических миссий (см. [Лю Цзянь 1987,с. 87–88]). В этой трактовке есть интересные соображения по поводу связи наследия «столпа» китайской католической церкви с социально–экономическими проблемами того времени, при этом напрочь отвергается проблема духовных мотивов обращения Сюя к католицизму.
Другим «столпом» ранней католической церкви в Китае был Ли Чжицзао (1565–1630) — уроженец Ханчжоу, получивший степень цзипыии в 1598 г. Хотя он был крещен лишь в начале 1610 г., за два месяца до смерти Маттео Риччи, их общение длилось с 1601 г. Итальянец был очень высокого мнения о географических изысканиях Ли Чжицзао, тогда как на самого Ли сильное впечатление произвела карта мира, на которой был обозначен путь Риччи с запада в Китай. Они вместе работали не только над составлением карт, но и над математическими и астрономическими книгами и инструментами. В предисловии 1608 г. к работе Риччи Цзижэнь шипянъ (Десять глав о необычных людях) Ли написал об этапах своего восприятия «западного конфуцианца». Поначалу он считал Риччи «странным человеком» (и жэнь). Отмечая, что Риччи не имел семьи и не был чиновником, посвящая все свои силы служению Шанди, он позднее оценил его как человека, способного к «независимому действию». Однако в итоге, проникнувшись ученостью Риччи, он пришел к оценке его как «совершенного мужа». Крещение Ли Чжицзао было связано с жизненным кризисом. Д.Алени сообщал, что в тот момент Ли был тяжело болен и рядом не было никого из близких. Постоянно с ним находился один лишь Риччи, по настоянию которого он в самый критический период болезни крестился и позднее много жертвовал на церковь. Ли было суждено поправиться и прожить еще два десятилетия, тогда как Риччи умер в мае того же года. Стоит отметить, что в 1607 г. (еще до крещения) Ли Чжицзао написал предисловие к Тяньчжу шии, что указывает на его ранний интерес к собственно религиозной стороне деятельности иезуитов. Позднее его усилиями в 1628 г. был опубликован сборник Тяньсюэ чухань (Первое собрание [работ о] Небесном учении), вобравший 19 католических сочинений на китайском языке, включая и две его собственные работы.
Обычное объяснение причин обращения Ли Чжицзао в христианство не отличается от мотивации, приписываемой Сюймом современников на внутреннем духовном мире. «Ли по достоинству оценил, что основания добродетели Риччи и его наука находились за пределами его собственного,,я“,равно как и за пределами его собственного общества» [Peterson 1988, с. 142J.
Другой уроженец Ханчжоу, получивший степень цзгтьши в 1592 г., принял крещение уже после смерти Маттео Риччи. Ян Тинъюнь (1557–1627) ушел в отставку в 1609 г. и возрастс 53 лет и вернулся домой в Ханчжоу. В его биографии, составлен ной Алени и Дин Цзилинем, сообщается, что после этого Ян погрузился в изучение и преподавание неоконфуцианской доктрины Духовные поиски сперва привели его к буддистам которым он симпатизировал и помогал в восстановлении их местных храмов. Ранее он уже знал о католическом вероуче нии, которое проповедовал Риччи в Пекине, но не проявил к нему интереса.
Накануне крещения Ян Тинъюнь был обычным сторонником неоконфуцианских ценностей и морального самосовершенствования. Внезапный поворот в его судьбе наступил весной 1611 г., когда его друг Ли Чжицзао, крестившийся в Пекине за год до этого, ушел в отставку и с патерами Лаззаро Каттанео и Николя Триго прибыл в Ханчжоу на похороны отца, проведение которых он поручил католической церкви. Скорее всего, Ян был вдохновлен личным примером Ли Чжицзао — он внезапно заин тересовался католическим изображением Небесного Господа, почувствовал к нему почтение, ощутил присутствие Бога и пригласил двух патеров к себе домой. В миссионерской истории обращения Ян Тинъюня сообщается, что иезуиты рассказали ем) сперва о благодати и Творении, после чего у Яна появился ряд сомнений: можно ли одновременно служить Небесному Господу и Будде, почему всемогущий Небесный Господь претерпел такие страдания в миру как обычный человек? Однажды патер Триго и китайский неофит пришли к Яну для дальнейшего пояснения сути христианского богослужения — они полагали, что тот не вполне верит в присутствие Небесного Господа в хлебе во время евхаристии. Но Ян Тинъюнь вдруг ответил им, что любовь Бош к миру безгранична и если его благодать нисходит для искупления мира, то как же в этом можно сомневаться? Каттанео и Три го говорили ему, что «буддисты хотят почитать свое сердце и природу, отрицая всемогущество Всевышнего Господа [Шап–чжу)». Обвинения в следовании субъективному источнику ценностей могут быть отнесены как к чань–буддизму, так и к распространенному в ту эпоху неоконфуцианскому «учению о духе–сердце» (синьсюэ). Возможно, что переход в христианство был для Ян Тинъюня завершением «поиска внешних источников моральных ценностей как альтернативы релятивизму и интроспекции, возобладавшим среди многих его современников» [Peterson 1988, с. 136]. Причины обращения Ян Тинъюня в христианство Петерсон связывает с его обеспокоенностью теми явлениями в обществе, которые он, «как и многие его современники, воспринимали как распространяющийся моральный упадок» (там же, с. 131). Перед крещением у Яна возникла личная проблема — у него была наложница, мать двух его сыновей. Как и ранее, в случае с Ли Чжнцзао,иезуиты потребовали отказа от практики многоженства. Ян Гннъюнь был очень раздосадован н заявил, что буддисты от него такого не потребовали бы. Но его друг Ли Чжицзао пояснил, что сравнение тут невозможно — миссионеры западной религии получили свое учение от Небесного Господа, и они не могут по своей воле изменять его нормы. И если ты не прав и хочешь следовать за миссионерами, то какой в этом толк? Тот прозрел и в 1611 г. принял крещение. После этого Ян Тинъ· юнь сблизился с Джулио Алени, вместе с которым трудился над географическим исследованием Чжифан вайг^зу (Записки о местах за пределами даннических стран). В оставшиеся годы он был б; .зко связан с иезуитами и перестроил молитвенный зал со статуей бодхисаттвы в часовню для миссионеров. Его мать также приняла крещение, когда ей было уже за восемьдесят. Ян Тинъ· юнь не только построил церковь и поддерживал миссионеров, но II укрывал их от преследования в дни запретов 1616 г. Основные христианские труды Ян Тинъюня — Тянь ши мипбяпь (Ясное разделение Небесного [учения] и буддизма) и Дайипянь (Трактат об устранении сомнений) — увидели свет до 1621 г. По мнению китайского исследователя Ли Тяньгана, катехизис Риччи Тянь· чжу шии, апологетическая работа Л.Булио Будэи вянь и работа Ян Тинъюня Дайипянь являются тремя важнейшими трудами, способными дать представление «о различии между китайской культурой и традицией западного христианства» [Ли Тяньган 2000, с. 316]. Его жизнь и учение были глубоко исследованы бельгийским ученым Н.Стандертом, на материалах которого основан нижеследующий анализ взглядов Ян Тинъюня.
Признавая сотворение вселенной всемогущим Господом, Ян не акцентировал внимание на творении мира за семь дней и вообще не упоминал о сотворении из глины Адама и Евы, наличие которых противоречило бы признанию первопредками Хуан–ди, Фу–си и Шэнь–нуна (см. [Standaert 1988,с. 109, примеч. 3]). В продолжение начатого Риччи космологического спора с неоконфуцианством Ян Тинъюнь признал, что «принцип» (ли) и «субстрат» (ци) лишены «сознания» (чжицзюэ) и «интеллекта» (лип цай), а потому им не может приписываться создание вещей Стандерт отметил, что в интерпретации распространенных не–оконфуцианских взглядов на мироздание Ян Тинъюнь «делает больший акцент на ци (материи–энергии) как творящем факторе, чем на ли (принципе), который только включен в ци» (там же, с. 113). Возможно, здесь сказались интеллектуальные поиски того времени, окрашенные переходом от ортодоксальной теории Чжу Си, придававшего наибольшую важность принципам (ли), к основанной на первичности ци космогонии Чжан Цзая Разумеется, для Ян Тинъюня творцом вселенной был Господь, а не субстрат (ци). Вместе с тем здесь видно влияние китайского менталитета: «Творение не было внезапным фактом семи дней, но, скорее, эволюцией из несуществования ()>), в существование (ю), сменяемое обратной эволюцией из существования в несуществование. Ли и ци, Небо и земля, четыре изначальных элемента — все они участвуют в этом процессе. Но несуществование не было пустым, поскольку Господь существовал до него и руководил творением» (там же, с. 116). Примечательно, что Ян Тинъюнь именовал Бога «Великим Родителем» (букв. «Отец–Мать» — Да–фуму ). Это типично китайское понятие встречалось в работах некоторых неофитов и их иезуитских наставников, оно отлично от западного понятия о Боге как об Отце (но вместе с тем удивительно близко к вдохновленным волной феминизма протестантским спорам XX в. на тему: «Был ли Бог женщиной»). В контексте китайской традиции такая трактовка означала призыв служить Богу и почитать его так же ревностно, как и земных родителей. Стандерт подчеркивает, что в китайском языке термин «Отец–Мать» может быть использован для обозначения одного человека — у Мэн–цзы идеальный правитель рассматривался как «Отец–Мать народа» (миньчжи фуму, Мэн–цзы, 1А:4), «чиновником отец–мать» (фумугуань) стали также называть городского чиновника.
Слова из Ши цзина «действия высших небес не имеют звука и запаха» были восприняты Ян Тинъюнем как характеристика Шанди, который бесформен и беззвучен. Появление в западных храмах изображений Бога он связывал с событием Воплощения, полагая, что до этого (во времена Ветхого Завета) в храмах были только тексты, но после сошествия с Небес Сына Божия во плоти у верующих появилась возможность изображения Бога. Повторяя доводы Риччи о буддистском плагиате, Ян Тинъюнь заявил, что образ Мадонны с младенцем, которой можно молиться об избавлении от зла, был воспроизведен в Индии, откуда в Китай пришло почитание Гуаньинь — буддистского божества милосердия, представляемого как женщина в прекрасных одеждах. Однако в христианстве лишь один Небесный Господь может прощать грехи, тогда как в буддизме Гуаньинь дает счастье и прощает грехи своей собственной властью. Сомнения в непорочном зачатии Девы Марии опровергаются Ян Тинъюкем со ссылкой на сходные чудесные рождения в китайской традиции. В Китае верили, что мать Лао–цзы забеременела от съеденной сливы и Лао–цзы родился из ее левого бока, а мать Шакьямуни Махамайя забеременела после того, как белый слон вошел в ее правый бок, из которого родился Будда. «Если люди не ставят под вопрос эти теории, хотя они и не очень классические, почему у них есть сомнения относительно наиболее определенного и достоверного рождения Небесного Господа?» (Дайипянь’ цит. по [Standaert 1988, с. 124]). Стандерт отмечает необычную для тех времен насыщенность текстов Ян Тинъюня латинскими и португальскими транслитерациями для понятий о Небе, аде и мире (paraiso 6а ла и со 罷辣依瑣;inferno инь фу вр но 因弗耳諾,ггшпйо мэп до 蒙鋒)· Причина в том, что Ян Тинъюнь считал аналогичные буддийские понятия неузнаваемо искаженными заимствованиями из христианства и потому полагал важным использовать их «изначальные» имена для восстановления истинного смысла понятий.
При пояснении связи христианства с китайской культурной традицией Ян Тинъюнь опирался на теологическую концепцию «прогрессирующего откровения» — от изначального «естественного откровения» индивидуальной природе человека (после изгнания из рая) к «письменному откровению» (закон Моисея) и сменившему его «откровению благодати», данному Иисусом. Унаследовав риччианскую концепцию «изначального конфуцианства», он полагал, что именно «западные конфуцианцы» (си жу) восстановили изначальный путь (дао) китайской культуры, который был скрыт после династии Цинь, когда главнейшее для конфуцианцев почитание Небес (тянь) пришло в упадок.
Идея обретения Спасения через полную реализацию добродетельного поведения получила свое развитие и подтверждение в учении о «трех этапах религии» (санъ цзяо). Первая стадия естественного закона была открыта Адаму, языческим мудрецам и проповедникам, действовавшим под воздействием Божественного Откровения. Китайским наименованием этой первой стадии Откровения, которую Творец даровал первым людям, стало синцзяо, что может быть переведено как «религия природы–характера [человека]». Вторая стадия Откровения связана с законом Моисея и Десятью заповедями, она получила название гиуцзяо — «религия Книги (Ветхого Завета)». Третья стадия христианского Откровения, связанная с Воплощением Божественного Логоса, получила в китайской христианской литературе наименования гиэньцзяо — «религия воплощения–тела», или «религия милости–благодати» (эньцзяо, чжунцзяо). Как отметил Э.Цюрхер, вводя термин синцзяо для обозначения первой стадии Божественного Откровения, миссионеры–иезуиты хотели передать понятие о «естественной религии», логично используя для этого знак сын, обозначающий человеческий «характер–естество», «возможно, не понимая, что, делая это, они вызывают целый мир идей и ассоциаций, игравших в конфуцианстве центральную роль» [Zürcher 1991, с. 49].
Обращаясь к чувствительной для китайской культуры теме человеческой природы и бессмертия души, Ян практически не стал затрагивать вопросы первородного греха. Христианская интерпретация конфуцианского учения о человеческой природе предполагала, что изначальная доброта человеческой природы ограничивается невинностью жизни в раю до грехопадения. Однако возрождение изначальной благой природы все же возможно. В процессе интерпретации первого этана человеческой истории и полученной тогда «естественной религии» (синцзяо), Ян характеризует ее как добродетель китайской «золотой древности», когда люди опирались на дян чжи и лян нэп. Воплощение Христа предстает неким «дополнением» к Божественному Замыслу — ведь в древнем Китае люди трепетали перед Небесами и необходимости в нем не было. «Смешением конфуцианского позитивизма и христианских идей о естественной теологии некрещеные добродетельные души Китая, как и его лицо, были спасены» [Zürcher 1997,с. 629]. Тем самым Ян Гинъюнь остался верен древним мудрецам, которые не могли быть грешникам! как хранители истинного пути, и ему не пришлось «отправлять Конфуция в ад».
Развивая учение Мэн–цзы об изначальной благости человеческой природы, Ян Тинъюнь пришел к выводу о том, что врожденная способность к добру (лян синь) является источником подлинного добра, даже если носитель этой способности не знает о Господе. Познавшие Бога люди получат способность к полному пониманию, на основании которого смогут осознать необходимость добрых дел и обретут мотивацию к их совершению.
Крещение рассматривалось Ян Тинъюнем скорее как очищение от грехов и проступков, совершенных до крещения, нежели как очищение от переданного изначального греха. В то время большинство неофитов были уже взрослыми людьми, а крещение младенцев и детей было редким. Ян Тинъюнь явно разделял конфуцианскую трактовку человеческой природы как изначально доброй и возводил ее источник к Небесному Господу, объясняя повреждение нравов затеняющим воздействием материальной телесности человека.
Исходной точкой размышлений Ян Тинъюня выступает предпосылка о присутствии в обеих религиях веры в личностного Бога, считает Цюрхер, который выделяет шесть аспектов проведенного китайским католиком сопоставления конфуцианства и христианства.
1. В области этики обе доктрины согласуются друг с другом, различаясь в истолковании таинственных действий Небес — китайские мудрецы ссылались на них, но не развивали своих суждений на эту тему, тогда как западные ученые истолковывали их в полном объеме.
2. Оба учения согласуются в их понимании пути (дао) и добродетели (Ээ), человеческой природы (сын) и судьбы–предопределения (мин). Различие состоит в том, что, в отличие от христиан, китайские мудрецы не обсуждали проблем загробной жизни и природы духов.
3. Конфуцианцев и христиан сближает общее знание того, как почитать Небеса и служить им, однако первые истолковывали Небеса (тянъ) в понятиях принципа (ли) и пневмы–субстрата (ци), тогда как для христиан ключевым было понятие о Небесном Господе.
1. Оба учения разделяли веру в абсолютную трансцендентность Бога–Вершителя (Чжуизаг1 ), действующего «без звука, без запаха». Но в добавление к этому христиане проповедовали учение о Боговоплощении наряду с тремя стадиями, на которых Бог открывает истину (естественный закон, закон Моисея и закон благодати), достигая своей вершины сучением Иисуса.
5. Оба учения разделяли доктрину единобожия, что может быть подтверждено из истории Трех династий (Ся, Шан и Чжоу) и отражено в основных текстах древности и трудах великих ученых, придерживавшихся ортодоксального учения. Однако эти идеи утрачены в позднейших комментариях к классической литературе и трудах ученых с неортодоксальными взглядами.
6. Между христианской верой в бессмертие дучпи и доктриной древних классиков есть определенное сходство; однако с их развитием сходство исчезло, и китайцы пришли к убеждению, что душа человека исчезает после смерти в «великой пустоте» (см. [Zürcher, 1994, с. 43–44).
Исходя из этих сопоставлений можно лучше понять смысл китайской идеи «дополнения конфуцианства и изменения буддизма» (бу жу и фо) при помощи христианства. Поскольку различия между конфуцианством и христианством относятся в основном к позднейшим этапам развития китайской мысли и связаны с отходом от изначального учения классической древности, западное вероучение призвано как дополнить конфуцианство более подробными объяснениями по тем вопросам, которые не были разработаны детально (таинственность действий Небес, бессмертие души, природа духов, Боговоплощение), так и очистить его от позднейших наслоений. Освобождение конфуцианства от буддистских влияний и появившихся под их воздействием неоконфуцианских учений (растворение образующей человеческую душу пневмы (ци) в пустоте после физической смерти, деперсонализация Небес (тяиь) н истолкование этого понятия безличного миропорядка при помощи абстрактных философских категорий ли и г玉и) одновременно решало бы задачи возвращения к идеалам китайской древности и сближения с пришедшей с Запада христианской верой. По словам Ян Тннъюня, христианство и конфуцианство могут «взаимно поддерживать друг друга» (сяк фу), служа «задачам распространения цивилизующего общественно–политического порядка (ванхуа)、дополнения конфуцианской учености (жушу) и исправления ошибок буддизма» [там же,с. 46].
В своих трудах Ян Тинъюнь выражал уважение к иезуитам, прежде всего из–за вынесенных ими трудностей и страданий, особо подчеркивая их глубокую образованность, скромную жизнь, акцент на духовных обретениях. Но уже тогда поведение западных миссионеров вызвало подозрения, и Ян Тинъюню пришлось встать на их защиту. Китайские скептики вопрошали: прибыли ли варвары действительно из Европы, находящейся за 90 тысяч ли、или же это обман с целью заполучить побольше уважения? Откуда они берут деньги? Не занимаются ли они алхимией? В Дайипянъ Ян Тинъюнь писал, что деньги иезуитам поступают с родины и что он н Сюй Гуанцн оказывали им поддержку. Поведение иезуитов представало полным нарушением конфуцианских стандартов взаимоотношений (улупъ): они не женятся, пренебрегая связью мужа и жены, покидают дом, разрушая связь с родителями, братьями и своим правителем, сохраняя лишь отношения с друзьями. Ян Тинъюнь опровергал эти доводы, настаивая, что на Западе тоже уважают родителей, поддерживают их при жизни и почитают их после смерти. Целибат и миссионерство не направлены против родителей, так как на Западе статус «изучающих дао» очень высок — родители и братья даже молятся, чтобы их близкие стали священниками. Кроме того, единственному сыну обычно не разрешают вступать в религиозный орден. Целибат является свободным выбором и олицетворяет следование примеру Иисуса, который не был женат. Что касается верности правителю, то без его санкции западные миссионеры, конечно же, не покинули бы страну.
Можно согласиться с тем, что обращение в веру «трех столпов» — Ли, Яна и Сюя строилось не на одном лишь прагматическом желании отдельных чиновников приблизиться к иезуитам, дабы заполучить от них побольше нужных для Китая научных знаний. «Если их собственные слова можно принимать всерьез, то их христианская вера образовала подлинную интеллектуальную привязанность» [Young 1983, с. 52]. Все трое нашли в христианстве как минимум «моральную дисциплину, основанную на внешнем всеобщем источнике. Можно понять, что, как и большинство современников, они искали новые интеллектуальные основания для усиления традиционных ценностей, которые казались многим подорванными» [Peterson 1988,с. 147]. Принятие христианства «тремя столпами» подтверждает, что избранный иезуитами путь культурной адаптации был приемлем хотя бы для некоторых представителей интеллектуально–чиновной элиты того времени. Однако «три столпа» «уясняли, взвешивали и утверждали католицизм при помощи стандартов конфуцианской мысли. Это неудивительно, ибо их понимание католицизма ограничивалось написанной Риччи с позиций принятия конфуцианства и отвержения буддизма работой Тяньчжу шии и прочими книгами, пропагандировавшими догматы католицизма, они никогда не читали Библию» [Ли Юэхун 1997,с. 117–118].
Для китайских книжников христианство было приемлемо в той мере, в какой оно (или любая другая религия) способствовало бы укреплению общего порядка, включая порядок во вселенной и порядок в обществе, укрепляло моральные устои и стабильность государства, давая ему потустороннюю защиту. «Ссылки на Небо, призыв к усилиям по преодолению своих склонностей и страстей, самоконтроль и аскетические тенденции — все это, казалось, устанавливало связи между книжниками и миссионерами или ”книжниками с Запада“,как называли их друзья… Несомненно, сходство в моральных подходах побуждало людей приходить к учению Небесного Господа» [Gernet 1985, с. 145].
Н.Стандерт обобщил три важнейших аспекта обозначившегося слияния неоконфуцианской и христианской ортодоксий.
«1. Религиозность и духовное совершенствование. Главным был ответ на то, что переживалось как Высшая Реальность. Религиозный опыт был преимущественно ориентирован на „Небо*
[53],
которое было ту^епшп IгегпепНит: оно вызывает трепет (чжаоши шанди ИЗ ^> вэй тянь й Л) — По иностранный христианский питеп, который был принят б ортодоксии, отличался от удаленной космической силы традиционного конфуцианского Неба Небо стало „Небесным Господом“, личностным бытием, которое даже спустилось и родилось, чтобы стать человеком. Эта идея принесла перемену от (гетегкЫт — „повергающего в трепет“ к /аьстозит — „увлекающему и привлекающему“ аспекту Высшей Реальности. Она становилась ближе и более достижимой для человека, что может быть продемонстрировано фактом позволения каждому служить Небесному Господу и благодарить его. Небесный Господь был также нормативом морального действия и самосовершенствования. Почтение к Небесному Господу приравнивалось к „любви к людям“, которой предшествует ,любовь к себе“. Духовное самосовершенствование тесно связано со столкновением с Высшей Реальностью. Надо было преодолеть себя, чтобы не грешить против Неба и служить Небесному Господу. Средствами духовного совершенствования были медитация, молитва, покаяние, исповедь, уважение к ритуалу и службе.
2. Моральная твердость и практицизм. Мораль, которой придерживаются христиане, также связана с упомя1гутои концепцией Высшей Реальности. Считалось, что этические нормы вдохновлены и одобрены Небесным Господом. Мораль не определяется „врожденным знанием“, она „прочна“ и „объективна“. Этические нормы стали известны в предписаниях, таких, как ,Десять заповедей“, „Семь преодолений смертных грехов“ и „Семь материальных дел любви“. Эти этические нормы должны быть выражены в „реальном действии“…
3. Практика государственного управления и научный интерес. Наблюдался значительный акцент на изучении книг, но оно должно было быть ориентировано на „управление миром“ (цзин ши). Познание принципов осуществлялось вкупе с изучением классиков, истории и естественнонаучных работ. Математика, календарь, картография и механика образовали существенную часть „Небесногоучения“» [Я1апс1ае1Ч 1988, с. 214–215].
Стандерт полагает, что эти три аспекта в разной степени характеризовали всех китайских христианских ученых конца династии Мин. По его мнению, практическая, научная сторона «Небесного учения» более интересовала Сюй Гуанци, Ли Чжи–цзао и Сунь Юаньхуа, к числу практических христианских моралистов относятся Ван Чжэн и Хань Линь, тогда как осмысление Высшей Реальности было главной чертой трудов Ян Гпнъюня.
По сути, он был наиболее значительным из китайских продолжателей дела Риччи. «Ян Тинъюнь принадлежит к ранней стадии творческого и живого мышления, которое со временем могло бы привести (но не привело) к китаизации христианства тем же путем, как буддизм был трансформирован китайской культурой или христианство было европеизировано на Западе» [там же, с. 219].
Моральность католицизма была одним из важнейших доводов в пользу его приемлемости в Китае, но она была неотъемлема от теологии «Небесного учения». Цюрхер приводит уникальный документ 1635 г., составленный префектом Чанчжоу и направленный против последователей сект Увэи (Недеяние) и Бай–ляньцзяо (Учение Белого лотоса), осуждающий «обманывающие Небо» учения даосов и буддистов. Особенность этой прокламации в том, что на стороне истинного учения поименован «западный конфуцианец учитель Гао», он же Альфонсо Ванони, чье китайское имя было Гао Ичжи (см. [Zürcher 1993, с. 74–75]). В этой прокламации нашли прямое отражение основные идеи Риччи и Валиньяно — Тянъ определено как личностное божество, служение которому' принадлежит к традиции «истинного пути», передаваемой от древних мудрецов и Конфуция; деятельность иезуитских миссионеров показана как полезная для улучшения людских нравов.
Однако скептики пришли к выводу, что доводы образованных китайских неофитов начала XVII в. в пользу принятия учения Небесного Господа явно отличались от тех, которыми руководствовались миссионеры. По мнению Жерне, китайские христиане исходили в своем выборе из следующего:
• доктрина миссионеров должна быть рекомендована из–за ее отсылок к понятиям классиков, она выглядит возвращением к конфуцианству древности;
• эта доктрина содержит рецепт хорошего политического порядка: если все будут соблюдать ее предписания (которые в любом случае суть китайские предписания), бояться Неба и уважать его, то «золотой век» Трех династий (Ся, Инь и Чжоу) вернется;
• можно последовать совету миссионеров и опробовать эго учение, все равно результат будет вскоре виден;
• в понятие «Небесного учения» (тянъсюэ) входят также моральные, научные и технические поучения миссионеров, полезные для империи (см. [Gernet 1985, с. 70]).
Иными словами, в подходе китайской образованной элиты к католицизму не было ничего религиозного, а идея «Неба» или универсального порядка была сведена к моральным аспектам.
Лонгобардо обвинил Ян Тинъюня в том, что тот был поверхностным христианином. Вспоминая о том, как тот однажды демонстрировал патерам в Пекине ряд своих работ, в том числе и Си–сюэ шицзе цюаньцзе (Комментарий и толкование к десяти заповедям западного учения), Лонгобардо заметил, что Ян заимствовал многие свои представления у «секты книжников», т.е. конфуцианцев, заявляя, в частности, что все вещи принадлежат к одной субстанции, которой является принцип (ли), по–разному проявляющийся в различных конкретных вещах. Лонгобардо отмечал уверенность Ян Тинъюня в том, что все три религии Китая отражают этот единый принцип и находятся в гармонии с христианством и его толкованием первой заповеди как поклонения Небу и земле. Как отмечает скептически настроенный Ж.Жерне, «здесь нетрудно определить эффекты политики аккомодации, основанной на идее естественной религии и вере в согласие между христианством и древней моралью и религией в Китае» [там же, с. 33].
Но даже если следовать этим критическим аргументам и предположению, что китайские интеллектуалы того времени не понимали основ христианского вероучения, то можно указать и на ряд проявленных ими формальных признаков веры. «Три столпа» приняли крещение, следовали «священной религии» католицизма, старались жить по усвоенным от миссионеров нормам, привели к крещению членов своих семей. Вместе с тем прецедент крещения «трех столпов» по–своему исторически уникален. Петерсон обратил внимание на то, что все трое могут рассматриваться вместе — разница по дате рождения лежит в пределах восьми лет, а по дате смерти — в пределах шести. Все они родились на окраине экономически и интеллектуально развитого региона — в провинции Цзяннань, получили к сорока годам высший статут цзиныии, более десяти лет прослужили на высоких чиновных постах, были обеспеченными людьми, писали свои труды и помогали переводить работы иезуитских миссионеров (см. [Peterson 1988, с. 129–130]). Более того, все трое участвовали в миссионерском собрании в Цзядине в 1628 г., имевшем важное значение для утверждения последующей политики культурной аккомодации.
После 1620 г. иезуитам более не удавалось обратить в веру образованных людей или высокопоставленных чиновников, сопоставимых по уровню знаний или занимаемого поста с «тремя столпами». Однако не исключено, что воздействие иезуитов на развитие китайской мысли было намного шире небольшого круга китайских католиков. В 1930–х годах иезуит Анри Бернар утверждал, что они оказали существенное влияние на школу Дунлинь конца династии Мин и «ханьское учение» (хань сюэ) при Цинах. Он утверждал, что Ли Чжицзао, Сюй Гуанци и Ян Тинъюнь даже были в разное время президентами академии Дунлинь в Уси (см [Treadgold 1973, т. 2, с. 32]). Американский исследователь Херрли Крил также предположил «возможность того, что фактор западного влияния, находившийся тогда во младенчестве, сыграл некоторую роль в реакции против неоконфуцианства, и весьма курьезным образом» [Creel 1953, с. 219]. По его мнению, здесь сказалось увлечение первых иезуитских миссионеров философией Конфуция, которую те провозглашали близкой христианской морали, наряду с их утверждением о происхождении неоконфуцианства от буддизма, а не от Конфуция. «Известно, что эти ученые–иезуиты как минимум вступали в непрямой контакт с китайскими учеными, противостоявшими неоконфуцианству. Последовательность событий такова, что представляется вероятным, что китайское философское движение испытало на себе некоторое влияние внешней критики. Представляется также, что китайские философы переняли от иезуитов научные приемы в таких областях, как лингвистика, которая сыграла важную роль в их движении» [там же, с. 219–220].
Если Бернар и Крил правы, то путь, на котором Риччи и остальные искали способы приближения к вопросу совместимости «изначального конфуцианства» с христианством, повлиял на весь последующий ход развития китайской мысли. Жерне также указывает на движение Дунлинь и реакцию против янминизма в форме шисюэ. Развивавшаяся Риччи идея о том, что неоконфуцианство XI–XII вв. не отражает дух китайской традиции, витала в воздухе в конце династии Мин. Не исключено, что видный мыслитель Хуан Цзунси читал Риччи, иначе чем были обусловлены его замечания о том, что современники потеряли подлинный смысл слова «Небо», заменив его абстрактным принципом (ли)? Хуан Цзунси привел доказательства существования Шанди, но в то же время отверг учение о Тяньчжу как отрицание духа почитания Неба и Шанди (см. [Gernet 1985, с. 38–39]). Нападки иезуитов на традиционную китайскую космологию в форме неоконфуцианства вызвали у образованного слоя серьезные подозрения, что в конечном счете они будут направлены против конфуцианской традиции и китайской культуры в целом. Акцент школы Дунлинь на практическом учении (шисюэ) был направлен против «пустых разговоров» неоконфуцианской школы Ван Янмина и служил призывом ученых ориентироваться на службу обществу. Однако у католиков (например, у Ян Тинъюня) ценности шисюэ приписываются христианству, но не утилитарно (экономика, техника, естественные науки), а в смысле прочности и практичности его моральных ценностей. Подчеркивалось, что в христианстве важно соответствие слов и дел, а также мыслей и действий. Христианство реально, поскольку основано на «реальном» потустороннем божестве, в противоположность опирающимся на «пустоту» буддизму и даосизму (см. [Standaert 1988,с. 152–154]).
Миссионерские преемники Риччи
Известный исследователь христианских миссий в Китае К·Латуретт заметил, что «смерть Риччи не оказала воздействия на прогресс начатого им дела» [Latourette 1929, с. 106]· Во главе миссии его сменил выходец из знатного сицилийского рода Никколо Лонгобардо (1559–1654), прибывший в Макао в 1597 г Китайские исследователи отмечают, что методы проповеднической работы Лонгобардо отличались от риччианских — он стремился нести веру внутрь общества, наращивать число неофитов, требуя от них уничтожения идолов и прекращения участия в жертвоприношениях предкам (см. [ЖэньЯньли 1999, с. 271]).
Другой видной фигурой в рядах иезуитских миссионеров был испанец Диего де Пантойя (1571–1618). Уроженец Севильи, он в 18 лет ушел в монастырь в Толедо, а в 1599 г. прибыл в Макао. Его первоначальным пунктом назначения была Япония, но Риччи требовались помощники — и Пантойя остался в Китае. В 1601 г. он сопровождал Риччи в поездке из Тяньцзиня в Пекин ко двору императора Вань–ли. После смерти Риччи Пантойя участвовал в работе по исправлению календаря, представил императору Шэнь–цзуну карту мира с описанием истории и политики разных стран. В 1614 г. выполненная им работа с католическими моральными поучениями «Семь преодолений» (Ци кэ) вошла в составленный Ли Чжицзао сборник Тяньсюэ чухань. В 1616 г., вслед за развернутыми по инициативе чиновника Шэнь Цзюэ гонениями на миссионеров, де Пантойя был сослан в Макао, где и умер (см. [там же, с. 271–272]).
Исследователи отмечают значительные заслуги Пантойи в разработке системы фонетической транскрипции китайского языка, начало которой было положено еще самим Риччи. Созданная им система моральной практики преодоления людских пороков соединила традиционные конфуцианские подходы к моральному самосовершенствованию с постулатом католицизма о необходимости опоры на Бога в искоренении грехов и была изложена в Ци кэ на прекрасном классическом китайском языке. Это обстоятельство обеспечило работе авторитет среди образованных слоев, но также потребовало подготовки ее переиздания на понятном массам разговорном языке под названием Цикэ чжэньсюнь (см. [Чжан Кай 1991, с. 75]). Можно утверждать, что Пантойя унаследовал намеченную Ксавьером и развитую Риччи на практике политику адаптации вероучения к местному культурно–языковому контексту.
В год смерти Риччи в Макао прибыл еще один видный миссионер — французский иезуит Николя Триго (1577–1628), изучавший до этого китайский язык в Нанкине. Его стремлением было унаследовать методы Риччи. В 1613 г. Триго отбыл назад в Ватикан для доклада о состоянии миссии иезуитов. Он воспользовался этой возможностью, чтобы испросить разрешения на совершение мессы и ежедневных служб на китайском языке. Благодаря его ходатайству в 1615 г. иезуиты получили у Ватикана разрешение на использование местными священниками китайского языка вместо латыни на литургии и при отправлении таинств. Однако это решение не стало основой для еще более глубокой адаптации католицизма к китайскому культурному контексту. «Этой привилегией так и не воспользовались, возможно, по малочисленности китайских священников, а попытка возобновить ее в 1681 г. оказалась безуспешной» [ЬаЮигеПе 1929, с. 133]. Ссылаясь на работы католических исследователей, Латуретт отмечает, что в Риме полагали, что лишь через латынь китайских клириков можно держать в контакте с жизнью церкви и предотвращать ереси и расколы. В 1659, 1669 и 1673 гг. апостолическому викарию было дано разрешение на рукоположение в сан местных священников без хорошего знания латыни. Тем не менее они должны были понимать смысл мессы и формулы таинств (см. [там же, 1929, с. 133, примеч. 1]). Что до самого Трн–го, то еще одной его заслугой стал перевод на латынь дневников Риччи. С внесенными им дополнениями они были изданы в 1615 г. В 1618 г. он вернулся в Макао, продолжая отстаивать в своей миссионерской работе методы Риччи.
Джулио Алени (1582–1649), получивший китайское имя Ай Жу–люэ (букв, «конфуцианский талант»), стал подлинным духовным преемником Риччи в деле развития иезуитской миссии в Китае. Уроженец города Брешиа в Северной Италии, Алени получил образование в иезуитской школе и в 1600 г. вступил в ряды ордена иезуитов. Его желание служить «в Западной или Восточной Индии» было удовлетворено, и в конце 1610 г., примерно через полгода после кончины Риччи, Алени прибыл в Макао, а в 1613 г. отправился проповедовать в глубь Китая (в провинции Цзянсу, Цзянси, Шаньси, Чжэцзян). Он привнес в процесс культурной адаптации христианства новое историческое измерение, обнаружив в Кайфэне иудейские каноны. В 1616 г., в дни антихристианских гонений, вместе с другими миссионерами прятался в доме Ян Тинъюня в Ханчжоу. Вместе с Триго, Ли Чжицзао и Ян Тинъюнем он создал геогра中ический труд Чжифап вайцзи и систематический очерк западного научного знания Сисюэ фанк В 1625 г. по приглашению Е Сянгао прибыл в Фуцзянь. Алени много встречался с местными ши и дафу, произвел на них очень хорошее впечатление и получил имя «Конфуций с Запада». В июне 1627 г. в Фучжоу состоялась дискуссия между Алени и бывшим великим секретарем Е Сянгао, изложенная позднее Алени в апологетической работе Санъшанъ лунь сюэ цзи (Записи ученых бесед в Саньшани). Позднее Алени служил в Цюаньчжоу, где исследовал обнаруженные там древние могильные памятники с несторианской христианской символикой. Ему принадлежит изложение евангельского текста Тяньчжу цзяншэп янъсин цзилюэ (Речи и дела воплотившегося Небесного Господа), это жизнеописание Христа не раз перепечатывалось и было использовано позднее даже протестантскими миссионерами. В 1641 г. Аленн возглавил иезуитские миссии на юге Китая, в 1648–м возглавил всю миссию. Умер он в 1649 г. в Фуцзяни.
Дискуссия 1627 г. достойна внимания как развитие диалогического проповеднического метода Риччи. Собеседник Алени Е Сянгао являлся в прошлом высокопоставленным чиновником при императоре Вань–ли. Это был старый человек, на котором сильно сказались жизненные невзгоды, смерть близких и гонения клики евнуха Вэй Чжунсяна. В этих беседах участвовал также друживший с Е некий чиновник Цао, симпатизировавший буддизму. Отметим, что многие доводы Алени повторяли или же были очень близки к тому, что было изложено Риччи в Тяньчжу шии. Алени пытался доказать, что сходство буддизма и христианства не означает их равноценности, тогда как китайский собеседник возражал, указывая, что китайцы уже давно почитают Небеса. Алени отвечал ему, что движение сразу в двух направлениях невозможно и нельзя сразу почитать Небеса (т.е. христианского Бога) и Будду. Сделанное Цао сравнение религиозной веры с изучением древних шедевров каллиграфии, многие фрагменты которых утрачены и потому доступных лишь выборочно, выразило конфликт «между намного более эклектичным китайским подходом к истине и христианской целеустремленной преданностью одной достижимой истине» [Luk 1988,с. 185].
При обсуждении проблем космологии Алени, как и следовало ожидать, опроверг предположения китайского собеседника о порождении вещей движением сил инь —ян или неоконфуциан–ским принципом (ли). Для католика ли представлялся лишь законом мироздания, который мог быть дан только Творцом. Поскольку принципы сотворенных вещей не могут порождать вещи, необходим творящий Господь. Для католицизма сил инь–ян и Великого предела таицзи, на которых строилась неоконфуци–анская космология, было недостаточно — в аристотелевско–томистской картине мира была необходима еще и целевая причина, т.е. Бог. Здесь повторились все неясности и недопонимания, что уже присутствовали в Тянъчжу шии. Обсуждение вопроса о «начале» (чу) мироздания также не добавило нового, ибо Е Сянгао исходил из того, что таким «началом» является Великий предел. Б.Лук заметил, что, хотя оба собеседника использовали одно и то же слово чу они придавали ему такие разные значения, что в английском переводе следует использовать два разных слова: «Господь» (Lord) для аргументов Алени и «начало» (origin) для доводов китайского собеседника. Попытки Алени персонифицировать чу явили «краткую иллюстрацию концептуальной пропасти между имманентной таковостью и высшим законодателем, между многими принципами, которые добавляются к высшему источнику и происходят от него, и всеведущим всемогущим Господом» [там же, с. 187–188].
Разговоры на тему теодицеи все же завершились нахождением общего языка — прошедшего трудный жизненный путь Е Сянгао очень волновала проблема зла, на которую католики отвечали учением о бессмертии души и суде над ней после смерти человека. На вопрос китайского книжника о том, почему Бог не захотел создать побольше хороших людей, Алени ответил, что у всех людей природа хороша, но к ней дана еще и свобода воли, способная увести людей ко злу. Как и в предыдущих случаях, в Саньшанъ лунь сюэ цзи сближение католической и конфуцианской позиций произошло на основе идеи морального самосовершенствования. Очевидно также и то, что иезуиты не говорили всей правды о Европе XVI и XVII вв. Весьма важно замечание Цюрхе–ра о том, что в описании европейских нравов иезуиты явно не были искренними, неимоверно приукрашая мудрость правителей, процветание и стабильность христианского мира (и это после окончания разорительной Тридцатилетней войны!). «Интересно — хоть и не удивительно — близкое соответствие между прекраснейшими качествами западного христианского общества, представленного иезуитами, и конфуцианской концепцией идеального социального и политического порядка» [Ziircher 1993, с. 79]. В работе 1637 г. Сифан давэнь, повествовавшей в форме диалога о классификации западных научных дисциплин, Джулш) Алени прямо сообщал, что западный мир держится на «трех устоях ii пяти постоянствах» конфуцианской этики (саньган учан), а деление «Этики» Аристотеля в его изложении прямо соотвст ствует схеме из классического конфуцианского текста Дасюэ — от исправления себя (сюшэнь) к наведению порядка в семье (цицзя) п далее — к управлению государством (чжиго).
Среди преемников Риччи одному лишь Алени удалось создать обращенные к китайцам вероучительные тексты, сопоставимые по качеству аргументации и изяществу стиля с катехизисом Тяньчжу шии. Продолжением усилий Риччи по опровержению нео–конфуцианской философии с помощью интеллектуального пн струментария средневековой схоластики стала работа 1628 г. Ваньу чжэньюаиь (Подлинный источник всех вещей), родившаяся под влиянием общения Алени с конфуциански образованными книжниками. Текст открывался доказательствами твариости мироздания, исключающими возможность как самисотпорения Неба и земли, так и цикличного перехода мироздания от бытия к небытию. Алени настаивал, что роды вещей четко разграничены между собой и люди не могут быть порождением Неба и земли, поскольку между ними стоят непроходимые барьеры — растительная жизнь не может порождать животную, а лишенные раз) — ма животные не могут порождать людей. Известная из учения неоконфуцианцев «изначилыкъя пневма» (юшеьци), являясь по С)ти своей бесформенной первоматерпей, в свою очередь, не может сотворить Небо и землю, так как не обладает их идеальными образами. жусианский принцип (ли), будучи лишенной практического действия идеей, также не может создавать вещи. Исходя из этого, Ллени смог з^швить, что миром управляет Велики!! Вершитель (Да Чжуцзай), который и сотворил вещи из «отсутствия вещей», однако сам он является несотвореиным.
Алени унаследовал от Риччи метод убеждения китайских ученых с помощью знакомых нм категорий п понятии кош)) цпап с кой философии. В своей аргументации он сочетал привлекательные для китайского образованного класса упоминания о достижениях западной науки того времени (глобус, небесные сферы, модель движения небесных тел Архимеда, гномон и механические часы) со ссылками на персонажи из китайской древности (Фу–си, Яо, Шэнь–нун, Хуан–дн и т.д.), чем «старался придать христианству связь со старыми конфуцианскими текстами и традицией, подразумевая, что оно не так уж ново н чуждо, как это кажется» [Collani 1997, с. 297). Как отмечает Дж.Вайтек, содержание Ванъу чжэнъюань перекликается с содержанием первых двух глав катехизиса Риччи Тяньчжу шии, посвященных проблемам Гворения η опровержения ошибочных представлений о Небесном Господе. Однако, в отличие от знаменитого предшественника, Алени практически не ссылается на канонические тексты из конфуцианской классики, равно как и прямо не крити–кует буддизм или даосизм. По сравнению с Риччи, он был более осторожен в поисках в китайской древности '〈изначального монотеизма» и отождествлении Тянъ и Шанди с христианским Богом. Алени в первую очередь добивался, чтобы «читатель постепенно пришел к постижению Тяньчжу… В повествовании, а не в диалоге Алени надеялся привести читателя к принятию чуждого для китайцев понятия Небесного Господа (Тяньчжу), из–за чего ему вначале было необходимо изложить часть ключевых положений естественной теологии. Лишь тогда читателя можно было бы привести к пониманию Бога» ['Vitek 1997, с. 285]. Возможно, отказ Ajieim от критики буддизма был связан также с тем, что миссионерам к этому времен» уже пришлось пережить первые гонения, II «в этот период уже стало ясным, что некоторые негативные замечания, сделанные Риччи и остальными в адрес буддизма, создали недоброжелательную атмосферу среди китайских ученых» [там же, с. 286]. Изменился и общий социально–поли–тическиГ! контекст, что определило различия в тактике проповеди —Риччи видел перед собой еще сильную династию и всячески стремился приблизиться к императорскому двору, Алени же созерцал день ото дня слабеющую династию Мин, что побудило его перенести центр тяжести миссионерской работы из столицы в провинцию Фуцзянь, где он настойчиво пытался сблизиться с местным образованным классом и чиновниками (см. [Lippiello, Malek 1997, с. 419]). Тем не менее, как предполагает К.Коллани, книга Алени «оказала значительное воздействие на императора Кан–сн — главная надпись из трех подаренных им выстроенной в Пекине иезр!ТСкой церкви гласила: ваиьу чжэнъюань — „подлинный источник всех вещей*'» [Collani 1997, с. 291–292].
Оценивал миссионерское наследие Алени, Линь Цзиньшуй выделил четыре основные черты его проповеди, каждая из которых представляет Алени в качестве наследника политики культурной адаптации Риччи. Прежде всего, Алени «заимствовал конфуцианские и традиционные китайские идеи для того, чтобы сделать христианскую доктрину совместимой с китайской куль–турой», и в этом отношении он предстает в качестве полноправного преемника Риччи. Во–вторых, он «использовал все виды знаний для распространения христианства». К примеру, с помощью географических — ссылаясь на расположение Китая и Иудеи на одном континенте, Алени доказывал возможность происхождения китайцев от Адама и Евы, а опираясь на медицинские, он убеждал аудиторию в том, что взятие наложниц не гарантирует рождение сына. В–третьих, Аленн «в обращении с различными учениями или людьми применял различные методы», искусно пользуясь метафорическими сравнениями для облегчения понимания христианства. Помимо этого, «в своей миссионерской деятельности он опирался на помощь китайских христиан и книжников», что позволило ему сделать свои вероучительные работы «максимально убедительными для восприятия образованными китайцами» [Глп^пзЬш 1997, с. 361–363].
Несомненно, Алени был консервативнее и осторожнее Риччи, что несколько отдалило его проповедь от китайской культурной традиции и приблизило ее к западному христианском) нормативу. Итальянский исследователь Джанни Кривелле ставит Алени едва ли не выше Риччи, полагая, что он не только успешно унаследовал методы миссионерской работы Риччи, подкреплявшего доводы в пользу христианства аргументами из области «естественной теологии», но и пошел дальше него, сознательно дополнив адресованную китайцам проповедь отсутствовавшим рассказом о Христе. В связи с этим работы Алени Тяпъ–чжу цзянгиэн чусян цзинцзе и Тянъчжу цзянгиэн яньсин цзилюэ были охарактеризованы как «важный вклад в создание христианства с китайской спецификой» [Кэ Илинь 1999, с. 408]. Признавая, что подлинная китайская христология может быть создана лишь самими китайскими верующими, Кривелле особо превознес Алени за то, что он «впервые предоставил китайским верующим способы развития индивидуального опыта, связанного с Христом, и духовной жизни, имеющей в своем центре личность Христа» [там же, с. 411 ].
Китаизация католицизма как адаптация маргинальной религии
Исследование процессов культурной адаптации в деятельности католических миссий дает основания для обобщения и определения закономерностей их функционирования. Зарубежные исследователи различают при этом понятия «инкультурации» и «адаптации».
Инкультурация трактуется как «воплощение евангельского послания в определенной культуре таким образом, что христианский опыт не только выражает себя в элементах этой культуры, но становится силой, которая оживляет, ориентирует и обновляет эту культуру, создавая новое единство и сообщество не только внутри этой культуры, но и обогащая вселенскую церковь. Понятие „инкультурация“ должно отличаться от понятия „аккомодация“. Аккомодация является адаптацией христианства к определенной культуре, но эта адаптация обычно ограничивается внешними элементами языка, церемоний, одежд и образа жизни. В соответствии с методом аккомодации, надо перевести теологию на язык другой культуры, но теология остается по сути западной. При инкультурации послание должно быть переосмыслено в понятиях другой культуры таким же путем, как св. Фома Аквинский сделал это для европейской культуры» [^апсЗаеп 1988, с. 219].
Метод аккомодации был характерен для Маттео Риччи (язык, одежда, культура, китайское имя, обращение с учеными в соответствии с нормами китайской вежливости и т.д.). Но он не вышел на стадию инкультурации. Теология, которую он пропове–ровал на китайском, осталась западной. Однако именно эта аккомодация облегчила процесс инкультурации, который наблюдался впоследствии в мысли Ян Тинъюня (см. [там же, с. 220]). Иезуиты интерпретировали язык, мировоззрение и традиции китайцев на основе своей западнохристианской традиции. Они отвергали или принимали китайские понятия, идеи или тенденции очень избирательно. Параллельный процесс имел место и с китайской стороны — когда западнохристианские понятия были переведены на китайский язык, китайцы также отбирали из христианства наиболее привлекательные для них идеи и раскрывали их смысл в своих работах. «Весь этот процесс интерпретации был по большинству бессознательным. Участники культурного диалога обычно не осознавали, что одни и те же слова толкуются по–разному, хотя это проявилось в „споре о терминах“» [там же, с. 221].
Риччианский опыт культурной адаптации католицизма может быть осмыслен также через сопоставление с историей приспособления к китайской цивилизации иных «маргинальных» религий. При обсуждении этой проблемы на примере иудаизма Э.Цюрхер выделил следующие основные аспекты такого процесса:
1. акцент на конгруэнтности и полной совместимости между религией меньшинства и конфуцианством;
2. понятие о компягмгнтарности, когда иностранная вера служит обогащению и реализации конфуцианской доктрины;
3. тенденция к обоснованию существования иностранной доктрины на базе исторического прецедента^ иногда восходящего к самому началу китайской цивилизации;
4. восприятие китайских нравов и ритуалов в сочетании с немногими фундаментальными верованиями и практиками, сопоставимыми с иудейской религией (это тенденция к редукционизму в той мере, в какой затрагиваются иудейская религия и образ жизни) (см. [Ziircher 1994,с. 36]).
И в самом деле, религиозные надписи из синагоги в Кайфэне весьма напоминают суждения Риччи и его сподвижников. В них почти так же говорится о «согласии» иудаизма с конфуцианством по таким главным вопросам, как совершенствование сознания и регуляция поведения при уважении к Небесному пути, почитанию предков и соблюдению «пяти отношений» (надпись 1489 г.); о «завершении» иудаизмом конфуцианского учения о Небесном мандате и следовании человеком своей небесной природе, «реализующим» конфуцианское учение о культивации дао и сохраняющим конфуцианские этические добродетели (надпись 1512 г.). В надписи 1663 г. понятие о ритуальном жертвоприношении (цзи) определялось как почтительный ответ на милость (энь) того, кто охватывает и поддерживает всех нас, осуществляющийся со всеми требуемыми подношениями и предельным постоянством (см. [там же, с. 33–34]).
Намеченное Цюрхером направление исследования связано с сопоставлением процессов культурной адаптации в Китае всех трех иностранных монотеистических «авраамических» религий —христианства, иудаизма и мусульманства. Развитие этих сопоставлений может пролить свет на многие аспекты проблемы межкультурного взаимодействия. Выражение догматов иудаизма в конфуцианских понятиях в надписях середины XVII в. из кай–фэнской синагоги очень близко к ранним китайскоязычным христианским текстам (отметим, что эти надписи появились более чем через полвека после прибытия в Китай иезуитов). Не закрывая глаза на это хронологическое пересечение, Цюрхер полагает, что «из–за полного отсутствия коммуникации в ранний период любой объем взаимных концептуальных или терминологических заимствований должен быть исключен. Это выглядит как случай параллельного развития: две маргинальные монотеистические религии адаптировали себя к доминирующей центральной идеологии конфуцианства» [там же, с. 35]. Цюрхер приводит такие иудейские надписи, как《'почитай и пребывай в страхе перед огромностью Небес» (цзин вэй хао тянь 敬畏吴天); «со славою служи Всевышнему Владыке» (чжао ши Шанди 昭事上帝);«необъятные Небеса есть Владыка. Всевышний» (хао тяпь Шанди 吴天上帝);«религия восходит к Небесам» (цзяо бэнь юи тянъ 教本於天).«Небеса» интерпретируются в монотеистическом и персонализованном смысле через понятия о Боге как «Небесах сотворяющих» (цзаохуо тянь 造化天)и «Господе Бессмертном» (Чангиэнчжу 常生主).Утверждалось, что иудаизм как «высший путь, пришедший с Запада» (силай чжи дао) доводит «до полноты» (цюанъ) изначально присутствовавшие в Китае религиозные учения. Примечательно, что иудейская религия соединяется с наиболее отдаленным прошлым Китая, Адам отождествляется с Пань–гу (мифическим существом, чье мертвое тело трансформировалось в Небо и землю), а иудейская письменность возводится к знакам, открытым мифическими правителями древности Фу–си и Юем. Осознание важности наличия связи с китайской древностью нарастало по мере адаптации иудаизма в Китае 一 если в конце XV в. делались достаточно правдоподобные заявления о приходе учения в Китай во времена династии Сун, то в начале XVI в. речь уже шла об эпохе Хань, а в надписи 1663 г. даже об эпохе Чжоу. «Эти заявления говорят о важности исторического прецедента: принятие чуждой доктрины в отдаленном прошлом добавляет к ней уважения и прав существования на китайской земле» [там же, с. 36].
Развивая свои сравнения в применении к теме инкультурации в Китае третьей н самой поздней авраамической религии — ислама, Цюрхер отмечает, что, с китайской точки зрения, переход из синагоги в мечеть был лишь незначительным шагом: «Представляется, что китайцы рассматривали иудейскую религию как измененную форму ислама, и, говоря типологически, позиция двух вероисповеданий стала сходной, поскольку в Китае ислам — чистая универсальная система 一 был сведен на уровень религии этнического меньшинства» [там же, с. 37]. Адаптация ислама схожим образом свидетельствовала о совпадении религиозных положений мусульманства с религиозными верованиями древнего Китая и наличии исторических корней в мифической истории. Надпись конца династии Мин в мечети в Сиани гласила: «Император Яо сказал: „Почитай Небеса. Правитель Тан сказал: „Через почитание повседневно совершенствуешь себя“· Вэнь–ван сказал: „Почитай Всевышнего Господа' Конфуций сказал: „Не о чем молиться тому, кто провинился перед Небесами**. Все эти речения относятся к тому же и доказывают, что [ислам и конфуцианство] разделяют одинаковую веру» (там же).
В трактате Ма Аньли (1878 г.) в поисках общих исторических корней ислам был отнесен к временам Фу–си и предполагалось, что это учение доминировало в Китае в течение «золотого века» Трех династий. Позднее, когда учение Пророка было попрано еретическими взглядами, сам Конфуций, передавший потомкам «Пятикнижие», тем самым «сохранил традицию Шанди» (там же). В надписи в мечети Ханчжоу, составленной в 1648 г. старостой мусульманского кружка (даотаи) и носителем степени цзинъ–ши, мечеть сравнивалась с храмом Конфуция (см. [там же, с. 38]). Надпись гласит, что сам Конфуций выразил свое восхищение великим Святым с Востока, ссылаясь на фрагмент из Ле–цзы который, в свою очередь, превратился в апологетических писаниях буддистов в доказательство интуитивного знания Наставником Подлинного откровения (из надписи в той же мечети от 1670 г., составленной чиновником, служившим в Ведомстве ритуалов). В том же тексте явно заявляется принцип — «подлинная религия и конфуцианство дополняют друг друга», тогда как в надписи 1743 г. заверяется, что ислам полностью согласуется с понятиями Яо, Шуня, Чжоу–гуна и Конфуция в отношении соблюдения сыновней почтительности и преданности правителю. С другой стороны, провозглашается, что «подлинная вера» полностью отличается от «пустых» практик буддизма и даосизма.
Интересно, что, несмотря на необходимость поступать в соответствии с ветхозаветной заповедью «не сотвори себе кумира», последователи иудаизма в Кайфэне в контексте китайской культуры целиком восприняли понятия о поклонении предкам, включая и идею о «восприятии их божественных милостей» (сян гиэньхуэй). Надпись 1663 г. гласит, что похороны должны проходить в соответствии с китайскими церемониальными правилами, то же относилось и к свадебным ритуалам. Как отметил Цюрхер, иудаистская община отличалась от христианской, поскольку жила в специфической замкнутой этнической группе, члены которой не пытались обращать в свою веру китайских язычников, тогда как иезуиты занимались этим с самого начала.
Согласно Э.Цюрхеру «культурный императив» адаптации иностранной религии в Китае формулировался следующим образом: «Никакая маргинальная религия, проникающая извне, не может пустить корни в Китае (как минимум на социальном уровне) до тех пор, пока она не соответствует шаблону, который был определен в поздние имперские времена четче, чем когда–либо. Конфуцианство представляло собой чжт— „ортодоксальность“ в религиозном, ритуальном, социальном и политическом смыслах; чтобы не быть поименованной се — „гетеродоксией“ и не рассматриваться как подрывная секта, маргинальная религия должна была доказать, что она находится на стороне чжэп» [там же, с. 41]. Представляется, что это обобщение во многом отразило суть той проблемы, которую попытался решить для католицизма Маттео Риччи. Опыт религиозной общины Кайфэна, возникшей в начале XIII в из пришедших в Китай из Индии или Персии последователей иудаизма, важен еще и потому, что Риччи стал первым иностранцем, узнавшим в 1605 г. о присутствии в Кай фэне общины последователей монотеистической религии. Он мог знать, что кайфэнские иудеи использовали для передачи понятия о Боге имена Тянъ, Шанди и также Дао. Правда, он вряд ли согласился бы с Жерне, заметившим, что «сам по себе [китайский] язык деформирует христианское послание, придавая ему чуждые китайские резонансы, которые с ним несовместимы» [вегпес 1985, с. 49].
Проблема перевода была очень сложной, но такого рода критическая аргументация не указывает пути выхода из складывающегося замкнутого круга. Можно согласиться с тем, что употребление имеющегося в той или иной культуре словаря для передачи идей и понятий из иных культур рождает посторонние ассоциации и может оказаться дезориентирующим. Но «придумывание» новых терминов или использование фонетических транскрипций также не сделало иноземную религиозную систему более понятной для китайцев.
Глава 3. «Спор об именах и ритуалах» и католические миссии в Китае (XVII — начало XVIII в.)
Несмотря на то, что иезуиты старательно осуществляли политику культурно–цивилизационной адаптации христианства к идеализированному «изначальному конфуцианству», первые го–нения на христианство с китайской стороны последовали уже в 1616 г. Это произошло лишь через шесть лет после смерти Риччи. Инициатором гонений стал Шэнь Цюэ (1565–1624) из нанкинского Ведомства ритуалов, пославший к императорскому двору три доклада по поводу деятельности миссионеров. Это была первая попытка высокопоставленного чиновника дать бой иноземной «ереси», вылившаяся в арест ряда иезуитов и китайских верующих и получившая название «нанкинского инцидента». Шэнь Цюэ настаивал, что иезуиты прибыли в Китай нелегально и ведут заговорщическую деятельность, расширяют свое влияние, готовя масштабное иностранное вторжение. В январе 1617 г. власти обвинили иезуитов в обмане народа и распространении в Китае варварских обычаев. При этом были приняты во внимание и подозрения по поводу шпионской деятельности иноземцев. Решение выслать миссионеров назад на родину затрагивало даже подвизавшихся на научной работе в Ведомстве астрономии (см. [Young 1983, с. 61]).
Однако Шэнь Цюэ вдохновлялся не только страхом перед политическими замыслами «заморских чертей», но и борьбой за конфуцианскую ортодоксию. Он настаивал, что католики бросили ей вызов, заявляя о равенстве с ней своего учения, тогда как буддисты и даосы давно смиренно согласились на подчиненное положение. Если ранее государственный порядок в Поднебесной строился на недозволенном более никому из смертных ритуале поклонения императора (как «Сына Неба») Небу, то теперь миссионеры ввели понятие о Небесном Господе, который, судя по всему, стоит даже выше Неба, а поклоняться ему может каждый.
Католическая доктрина, именовавшаяся в Китае «небесным учением» (тяньсюэ), вторгалась не только в космологические, но и в социально–политические устои китайской цивилизации. Жерне обращает особое внимание на то, что в обоснование выдвинутых им обвинений Шэнь Цюэ указал на связь Солнца с правителем, Луны — с его супругой, соседних созвездий — с его чиновниками и отдаленных — с его народом. Принесенная иезуитами идея вращения семи хрустальных сфер не только вступала в конфликт с изначальным понятием о холистической тотальности Неба, сбивая с толку народ, но и «тайно подрывала цивилизующее воздействие правителя» [Gernei 1985, с. 61]. Подрывом космологических прерогатив императора выступало и самочинное составление иезуитами календаря.
Китайской бюрократии показалось подозрительным то, что сын Небесного Господа Иисус был казнен в западных странах как преступник. В 1616 г. прозвучали также и темы будущего спора о китайских ритуалах — Шэнь Цюэ отмечал, что христианское учение о рае и аде присутствует в буддизме и даосизме, но ни одно из этих учений не пыталось запретить людям почитать своих предков. Миссионерам также ставилось в вину привлечение к себе людей деньгами, а их этика характеризовалась словами из Мэн–цзы — как у Мо–цзы и Ян Чжу, у них «нет родителей, нет правителя» ()> фу у цзюнъ) (см. [Попов 1904, с. 115]). В ходе преследований распространилась молва, что католики являются новым подрывным тайным обществом наподобие сект Байлянь–цзяо и Увэй, вступивших в тайный сговор с иностранцами в Макао. Миссионерам было приказано отбыть в Гуандун для высылки, но многие остались. Новые гонение последовали в 1622 г. на фоне напугавшего власти восстания секты «Учения Белого Лотоса» (Багмяны/'зяо). Однако у миссионеров еще были высокопоставленные друзья при дворе, прежде всего Сюй Гуанци, благодаря которым враги были побеждены, а сами они возвращены в Пекин.
Дж.Янг отметил, что сравнительно малый размах этого первого антимиссионерского движения «не преуменьшает его исторического значения. Нанкинское антихристианское движение оставило свой след в книге Посецзи (Собрание [работ для] уничтожения ереси). Писания Шэня и прочих продемонстрировали, что их антихристианские мотивы имеют более широкое основание, чем боязнь шпионов» [Young 1983, с. 62]. Первое в Китае собрание антихристианских трудов Посецзи было составлено чжэцзянским книжником Сюй Чанчжи в 1640–х годах и содержало около шестидесяти небольших работ примерно сорока буддистских и конфуцианских ученых конца династии Мин. «Нет сомнений, что они были написаны в ответ на послание Маттео Риччи и его растущее влияние. Некоторые работы были написаны как прямые опровержения Тяньчжу шии» [там же, с. 59–60].
Шэнь Цюэ, настаивая на необходимости разделения китайского и иностранного («варварского»), руководствовался прежде всего соображениями поддержания общественного и культурноцивилизационного порядка. У авторов Посецзи были также и концептуальные доводы, связанные с осмыслением конфликта христианской и неоконфуцианской картин мироздания. Они критиковали не только «скандальные» стороны евангельского учения, излюбленные антихристианами всех времен и народов (вроде «внебрачного» рождения Иисуса и его казни), но и более общие темы теодицеи — почему, к примеру, Бог допустил грехопадение и подверг страданиям бесчисленные поколения людей? Предполагаемое совершенство Бога представлялось несовместимым с ущербностью сотворенных им Адама и Евы. По поводу догмата Троицы вопросов было еще больше — присутствие в дни воплощения Иисуса одного Бога на Небе и еще одного на земле было непостижимым, еще более нелепым казалось предположение о том, что Бог мог оставить управление мирозданием на целых тридцать три года земных странствий.
Помимо доводов, основанных на бытовом здравом смысле, другая линия опровержения христианства в Посецзи основывалась более на скептицизме, чем на разуме как таковом. К примеру, католики утверждают, что буддистские доктрины причины и следствия и переселения душ расплывчаты и недоказуемы. Но кто докажет истинность католического учения о рае и аде? Негативные сравнения христианства с буддизмом и даосизмом неоднократно встречаются как в Посецзи, так и в прочих подобных работах того времени. «Исключительно на доктринальных основаниях ортодоксальные интеллектуалы того периода часто склонялись к отвержению буддизма и даосизма как еретических или, как минимум, помещали их на низшую позицию vis–à–vis конфуцианства. Но когда доходило до защиты китайской культуры в целом, два традиционных учения чаще находили защиту в лоне ортодоксии, пытавшейся выставить все доступные силы против нового иностранного вторжения» [Cohen 1978, с. 562]. В Посецзи присутствовал также юридический аргумент, указывавший на противоречия между деятельностью католиков и уложениями кодекса династии Мин, запрещавшего, к примеру, массовые ночные собрания. Один из авторов Посщзи по имени Хуан Чжэнь ссылался на свой разговор с Алени: «В соответствии с Десятью заповедями их учения, иметь наложницу, чтобы заиметь мужского наследника, большой грех. Это означает, что все императоры, имевшие жен и наложниц, отправились в ад. Я спросил его: „У Вэнь–вана было много жен и наложниц. Что же с ним?“… Он ответил: „Я не стал бы говорить этого в присутствии других, но боюсь, что он отправился в ад“» (цит. по [Young 1983, с. 68]). Такой приговор для Вэнь–вана, почитаемого за основателя культурно–цивилизационной традиции Китая, не мог не потрясти рядового носителя конфуцианского сознания.
В сборнике также присутствовала неоконфуцианская тематика. Риччи осудили за невнимательное изучение древних текстов, что привело его к ошибочному истолкованию Великого предела (тайцзи) как зависимого или «акциденции» (илай), а не изначального и всепорождающего. Господство янминизма заставляло образованных людей противиться христианскому противопоставлению Бога мирозданию (тянъди) и человеку. Как существовавшее различие между христианским индивидуальным движением к Богу и конфуцианским стремлением к самосовершенствованию, так и христианское равенство всех людей перед Богом подрывали градации конфуцианского этико–космического устройства. Как отмечает Дж.Янг, очевидная антииностранная направленность сборника Посецзи имела под собой глубокие доктринальные основания — «в то время как в христианстве фундаментальной доктриной было существование всемогущего божества, конфуцианские книжники предпочитали безличную всеохватывающую космологию» [там же, с. 75].
Таким образом, нескольких десятилетий деятельности иезуитов в Китае было достаточно для того, чтобы конфуцианская бюрократия еще при династии Мин ощутила угрозу своему существованию. «Помещая себя за пределами и выше социально политического порядка вместо совмещения с ним и усиления его, как это делали установившиеся культы, христианство угрожало разрушением этого порядка. Оставаясь внешним и имея другую природу, оно несло вероятность разрушения самих основ общества и государства, которые опирались на уважение к тотальному порядку и не обращали внимания на любое противопоставление между духовным и мирским» [Сегпе1 1985, с. 105]. Несмотря на периоды примирения и сближения между императорским двором и миссионерами, на низовом уровне чувство тревоги продолжало накапливаться.
После окончания преследований в 1622 г. в Гуандун прибыл немецкий иезуит Йоханн Адам Шалль фон Белль (1591–1666). Нестабильность в Китае усиливалась, и вскоре иезуитам пришлось увидеть закат власти Минов — в 1644 г. в Поднебесной воцарилась маньчжурская династия Цнн. Будучи талантливым астрономом и инженером, Шалль оказался полезным для всех — сперва он отливал пушки для Минов и помогал им оборонять Пекин, позднее он добился расположения и у Цинов. Первый император новой династии Шунь–чжи покровительствовал Шал–лю, выдав ему тысячу ляпов на строительство церкви в Пекине (ныне она известна как «Наньтан» и расположена поблизости от ворот Сюаньумэнь) и пожаловав его титулом «проникающего в сокровенное наставника учения» (тун сюаиь цзяо ши Щ££ВД). Современный исследователь Лу Яо полагает, что пик влияния Шалля на императора пришелся на 14–й год правления Шунь–чжи, после чего правитель увлекся буддизмом. «Десять заповедей были главной частью того, что Шалль сообщил Шунь–чжи о христианстве. Хотя Шунь–чжи слушал внимательно, он не мог исполнять заповеди, поскольку „не мог жить без физических наслаждений“. Шестая заповедь требует от христиан моногамии, что не подходило императору. Поэтому Шалль вскоре отказался от надежд на обращение императора» [Ьи Уао 1998, с. 68]. Несмотря на погружение Шалля в научные занятия, он оставил ряд вероучительных текстов, среди которых наибольшую известность получила двухтомная работа Чжучжи гтньчжэн (Многие свидетельства Божественного управления, 1636). В ней Шалль доказывал китайцам бытие Бога с помощью аргументации естественной теологии, подчеркивая, что у всех объектов мироздания есть общая причина и частная направленность развития, тогда как без промысла Творца движение вещей непременно пришло бы в беспорядок.
Не менее влиятельными были немецкие иезуиты Андре Коффлер и Михаэль Бойм, последовавшие за разбитыми Минами на юг Китая. Ставшая вдовствующей императрицей наложница последнего императора была христианкой по имени Елена, а ее сын Юн–ли был окрещен Константином. Это символическое событие было связано с призрачными надеждами последних Минов на получение помощи от западных держав. Однако истории с римским императором Константином (IV в.), введшим в империи христианство, в Китае было не суждено повториться — маленький китайский Константин Юн–ли был убит маньчжурами. Надежды на получение помощи от западных держав, за которой отправился в 1650 г. Бойм, также не оправдались.
При работе иезуитов над составлением календаря, точность которого превзошла расчеты местных китайских и мусульманских астрономов, также возникла внутренняя проблема, связанная с конфликтом христианской веры и китайской традиции, — миссионеры сомневались, позволительно ли им принимать китайские чиновные должности придворных астрономов и составлять календари, используемые китайцами для языческих целей определения счастливых и несчастливых дней. Этот вопрос, дошедшии до папского престола уже после смерти Шалля.был решен положительно (см. [ЬаЮигеие 1929, с. 106]).
В 1662 г. на престол взошел юный восьмилетний маньчжурский император Кан–си, в годы правления которого сближение католических миссионеров и двора дошло до наивысшей отметки. Однако начало его правления ознаменовалось жестокими гонениями на миссионеров, исходившими от регентов при малолетнем Кан–си. В 1664 г. Шалль был арестован и брошен в тюрьму по целому ряду обвинений — начиная от замышления беспорядков и проповеди ереси до искажения календаря. Около двадцати пяти миссионеров были задержаны и препровождены в Кантон.
Антагонист Шалля Ян Гуансянь (1597—1669) начиная с 1659 г. подавал петиции ко двору с нападками на иезуитского астронома и его «западный» календарь. Его аргументы относились не только к якобы неточному исчислению календаря, но и к общей идее, что Китаю не стоит унижаться до заимствования у западных варваров. В 1664 г. Ян Гуансяню удалось достичь временного успеха, убедив трон, что в 1658 г. Шалль выбрал несчастливый день для похорон новорожденного сына императрицы, что привело к ранней кончине ее и императора Шунь–чжи. Дж.Янг отметил, что — по иронии судьбы — в конечном счете именно «вера маньчжуров в шаманизм спасла жизнь Шалл я» [Young 1983, с. 83], поскольку на следующий день после оглашения ему приговора в Пекине произошло землетрясение и напуганный императорский двор воспринял это как плохое предзнаменование, после чего Шалля освободили. Старенький Шалль вскоре умер, а через несколько лет Кан–си восстановил его титул «проникающего в утонченное наставника учения», заменив лишь первоначальный знак сюапь 玄(сокровенное) на вэй 微(утонченное). После вое–шествия на трон молодого Каи–си миссионер Вербист использовал тактику Ян Гуансяня, обвинив его как действующего главу Ведомства астрономии в составлении неточных календарей. Дело закончилось поражением Яна и изгнанием его на родину.
Однако «спор Ян Гуансяня с Адамом Шаллем, вразрез с распространенными представлениями, не был мотивирован профессиональной ревностью. Ян сознавал свою некомпетентность в астрономии и шесть раз просил двор об отставке с должности главы Ведомства астрономии. Лишь по настоянию императора он занимал должность три года» [там же, с. 85]. Ян Гуансянь вошел в китайскую историю, создав ряд антихристианских памфлетов, собранных вместе и изданных в 1665 г. под названием Бу дэ и (Не могу иначе). Название Бу дэ и восходит к тексту Мэн–цзы, где в во второй части главы Тяпьвэньгун (ЗБ:12) древний философ говорил, что спорит с еретическими взглядами Ян Чжу и Мо–цзы не потому, что любит этим заниматься, а потому, что «не может поступать иначе (цзы бу дэ и е 子不得已也)》(см. [Stainton 1977, с. 130]; перевод см. [Попов 1904, с. 116]). Подобным образом Ян Гуансянь представил себя продолжателем дела защиты истинного (чжэн) пути мудрецов их «подлинными учениками» от ложных (се) учений, начатого в древности Мэн–цзы н продолженного впоследствии Хань Юем в борьбе с буддизмом.
П.Коэн отметил, что приведенные в этой работе аргументы были порождением острого, пусть даже не очень беспристрастного ума, отражающие знакомство Яна с основами ранней христианской истории и вероучения. Работа Ян Гуансяня стала популярной и часто перепечатывалась. Она была пронизана ощущением тревоги, вызванной вторжением миссионеров, хотя в то время столь сильная обеспокоенность не соответствовала реальному уровню опасности (см. [Cohen 1978, с. 562]). Одной из отправных точек для критики Ян Гуансянем учения католиков стало изображение сцен распятия Христа из книги миссионера Шалля, составленной в 1640 г. Иллюстрации были воспроизведены Ян Гуансянем в Бу дэ и как прямое доказательство подрывного и антигосударственного характера христианского учения, способного бросить вызов политическим устоям Поднебесной. Исследователи отмечают, что для Ян Гуансяня единственным источником информации о христианском вероучении был катехизис Риччи Тянъчжу шии (см. [Young 1983; с. 87]). Этот инцидент косвенным образом подтвердил миссионерскую правоту Риччи, предпочитавшего скрывать от китайцев образы распятого Иисуса. Однако в глазах Ян Гуансяня это умолчание выглядело как настоящий обман, который раскрылся лишь благодаря неосторожности преемников Риччи: «В своих книгах Риччи сказал лишь о том, что заслуги Иисуса заключаются в Спасении мира через его Воскресение и его вознесение на Небеса. Он заботился о том, чтобы не упомянуть тот факт, что его (Иисуса) приговорили к смерти, вот каким образом он смог привлечь чиновников империи, все они были обмануты. Это величайшая измена со стороны Риччи» (цит. по [Menegon с. 322]).
Неприязнь Ян Гуансяня к миссионерам основывалась на убежденности в необходимости защиты конфуцианских ценностей от пришлой религии Небесного Господа. Его вопросы напоминали сомнения из Посецзи — Ян Гуансянь также спрашивал о том, кто правил Небесами в течение тридцати трех лет земной жизни Иисуса, и заявлял, что, в соответствии с учением христиан, до династии Хань в мире просто не было Бога. Учение о грехе выглядело для него неприемлемым — настоящий «конфуцианский» Бог сотворил бы Адама совершенным и добродетельным, какими были первые китайские правители, и тогда Адам не принес бы потомкам столько несчастий. Сомневаясь в смысле земной жизни и проповеди Иисуса, Ян Гуансянь рационалистически замечал, что настоящий Бог не стал бы заниматься чудесами с излечением больных и хождением по водам. Но более всего Яна возмущали претензии иезуитов на родство их учения с конфуцианством.
Доказывая посюстороннюю материальность Неба (
гпянь), Риччи представлял
Тянъчжу и
Шанди именами одного Бога; в свою очередь, Ян Гуансянь считал
тяпъ высшим безличным началом, поддерживающим единство человека и мироздания. Такое Небо состояло из полярных начал
инь–ян и не было порождено или сотворено, оно скорее было тождественно Великому пределу или принципу
(ли). Неоконфуцианская трактовка
тянь представляла Небо как оформленный принцип, а принцип есть
тянь без форм. Поднимая голову, человек видит
тянь и из уважения называет его
Шанди, рассуждал Ян Гуансянь, тогда как понятие о
Тяньчжу оказывается, на его взгляд, совершенно излишним. На основании чжусианской трактовки
тянь и
ли «Ян Гуансянь отождествил
Тянь и Шанди. Поскольку, в соответствии с „Книгой перемен'
тянъ было тождественно
тайцзи,из этого следовало, что
Шанди становится другим именованием для безличного неоконфуцианского Великого предела. Логика не слишком убедительна, но замысел вполне ясен: конфуцианский
Шанди никогда не будет частью христианской ереси» [Young 1983,с. 91]. Смысл
Тяньчжу так и остался непроясненным — Ян Гуансянь предположил, что это могла быть одна из пневм–энергий
ци、порождаемых движением и покоем Великого предела. Хотя Ян был сильно обеспокоен тем, что миссионеры готовят тайный заговор с целью захвата Китая, но все же главной темой была культурная несовместимость традиций
[54].
В 1669 г. император Кан–си взял бразды правления в свои руки, и ситуация стала благоприятствовать деятельности миссионеров. Ко двору был приближен новый лидер иезуитской миссии фламандец Фердинанд Вербист (1623–1688), прибывший в Китай в 1659 г. и пострадавший в ходе гонений 1664 г. Он победил мусульманского придворного астронома в состязании на составление календаря, что привело к облегчению участи задержанных ранее в Кантоне миссионеров. Кан–си, следуя примеру поддерживавшего дружеские отношения с патером Шаллем императора Шунь–чжи, учился у Вербиста математике. Вербисту было поручено делать астрономические приборы и пушки (в том числе и ремонтировать отлитые ранее Шаллем). О причинах ранней кончины Вербиста Д.Тредголд написал: «Если бы император так не настаивал, чтобы тот сопровождал его во многих своих путешествиях, Вербист мог бы прожить и подольше» [Treadgold 1973, с. 2–20].
Вербист и его помощник Луи Були о составили Бу дэ и бянъ с опровержением доводов Ян Гуансяня (первую часть — в 1665 г., вторую —в 1669–1670 гг.). Они продолжили спор о неоконфуци–анском пьянь — иезуиты настаивали на своем понимании мира, подчеркивая, что состоящее из инь—ян Небо не самодостаточно и должно было быть сотворено Богом. Тянъ древних китайцев было синонимом Творца (Шанди), полагали они вслед за Риччи, и потому следует различать два понимания тянъ. Первое имеет чисто физический смысл и указывает на материальную вселенную и движение небесных тел. Однако китайцы называли именем Тянъ также и стоящую за этим движением божественную силу, известную христианам на Западе под именем Тусы— Deus, или Небесный Господь. В древних китайских текстах, полагали миссионеры, Тянъ было именем христианского божества. Если Ян Гуансянь в духе неоконфуцианской аргументации отождествлял тянъ с принципом (ли), то миссионеры вновь воспроизвели томистскую аргументацию Риччи, опирающуюся на разделение цзыли (самодостаточного–субстанциального) и илай (зависящего–акцидентального). Нави и духи существуют, поскольку могут опереться на принципы Неба и земли, но у них нет силы порождения, при этом ли (принципы) принадлежат к категории навей и духов. «Когда Ян пытался подсказать, что христианское божество есть часть инь—ян, иезуиты переиначили этот аргумент и поместили ли (принципы) в категорию илай» [Young 1983, с. 100]. Тянъ не может относиться к принципам (ли), поскольку оно самодостаточно, оно также не может быть Великим пределом. По мысли Булио, «Великий предел мог иметь некоторые атрибуты, схожие с Небесным Господом, но во всех отношениях он стоит ниже. Это Небесный Господь породил все вещи, материальное небо и его пределы, позволил Великому пределу управлять всеми вещами» [там же, с. 100–101]. С точки зрения миссионеров, «подформенное» Небо не может управлять всеми вещами. Неоконфуцианская теория изначальности Беспредельного (уцзи) была ими отвергнута. Утверждение Ян Гуансяня о том, что Бог есть два ци, было признано абсурдным, при этом Булио называл ци одним из четырех первоэлементов. Это положение также присутствовало в Тянъчжу шии, демонстрируя влияние и важность идей Риччи для миссионеров последующих десятилетий.
Однако Булио и Вербисту пришлось идти далее и пытаться прояснить для китайцев смысл Троицы и Воплощения. По Булио, рождение Сына Божия стало возможным в результате соединения изначальной основы (юань mu) Бога и человеческого «природного тела» (син ?пи). Христос имел две природы, его божественность и человечность были подобны двум ветвям одного дерева. При рассмотрении смысла Воплощения Булио отметил, что изначально Бог уготовал для человека вечное счастье в раю, но грех первых людей разрушил этот план. Однако Бог не хотел оставлять людей во грехе, и ему нужно было найти способ Спасения с соблюдением требований гуманности (жэнь) и долга (w) Если бы Бог простил грехи без наказания, это было бы нарушением и тогда как исполнение такого наказания противоречило бы жэнь. «Интересно отметить, что христианское божество Булио во многих отношениях было конфуцианским богом» [там же, с. 102]. Искупление могло быть совершено только Богом, обладающим силой (дэ) спасения всех тварей. Все поступки Бога соразмеримы с моральными категориями и, жэнь и дэ— загробный суд и воздаяние связаны с тем, что Бог следует справедливости (и).
Христос обладал природами Бога и человека, убеждали иезуитские апологеты, а рождение его на земле не имеет ничего общего с физическим бытием Бога. Это произошло в Иудее, а не в Китае потому, что она была единственной в мире страной, знавшей слово Бога, там жили первопредки человечества Адам и Ева. Рождение Иисуса от Девы было указанием на уникальность Христа и преодоление греховности человека. Рождение Бога–Сына в бедности и его страдания указывают людям на незначи–мость богатства, общественного положения и наслаждений. Если Ян Гуансянь полагал, что понятие о воздаянии в аду или раю было украдено христианами у буддистов, то иезуиты настаивали на обратном. Они также старались довести до китайцев понятия о свободе воли и моральном выборе, полученные человеком от Бога, замышлявшего искоренить зло в зародыше. Подчеркивалось, что в западных странах уже почти два тысячелетня люди живут в гармонии и без насилия, тогда как в Китае распространение буддизма вовсе не улучшило людские нравы. Все стало бы совсем иначе, если бы китайцы поверили в Небесного Господа. «Но особенно интересно здесь то, что иезуиты подчеркивали моральные и мирские аспекты христианства. Дабы убедить китайцев в существовании Бога, они были готовы предложить мирный конфуцианско–христианский миропорядок. С одной стороны, Булио подчеркивал проблему Неба и ада в загробной жизни. В то же время он говорил китайцам, что рай на земле возможен через обращение в христианство. Христианство было как минимум поверхностно китаизировано, когда оно „христиани–зовало“ конфуцианский Китай» [там же, с. 105].
В 1678 г. Вербист приступил к составлению всеобъемлющего изложения западной диалектики и философии, надеясь, что учение Аристотеля откроет китайцам путь рационального познания католического богословия. В 1683 г. в прошении к императору Кан–си, сопровождавшем представленное собрание переводов западных текстов, Вербист писал, что без знания философии и методов умозаключения ни астрономия,ни любая другая наука не сможет дать надежных непротиворечивых результатов (см. [Golvers 1999,с. 38–39]). Собрание Вербиста получило название Цюилисюэ (Учение об исчерпании принципов); сочетание цюпли восходит к неоконфуцианской трактовке познания как «классификации вещей и исчерпания принципов» (гэу цшнли) (см. [Dudink, Standaert 1999, с. 16]). Выбор наименования является достаточно примечательным, поскольку среди трудившихся в Китае иезуитских миссионеров сложился устойчивый стереотип отвержения неоконфуцианства как собрания заблуждений, отдалившего образованных китайцев от принятия христианства.
Однако дерзкая мечта иезуитов о включении западной философии после одобрения императором в обязательный набор текстов для экзаменов на чиновную должность не сбылась. ЬСан–си отверг собрание Вербиста и приказал уничтожить текст. Миссионеры оправдывали свой провал тем, что бдительные придворные недруги христианства разгадали их замысел и сумели оказать негативное влияние на Кан–си. В феврале 1685 г. Вербист написал своему начальнику Филиппуччи в Кантон: «Наша философия не может быть опубликована, так как раввины (библейская мета中ора для китайских министров из Ведомства ритуалов и академии Ханълинь. — А.Л.) убедили императора, что в ней скрыты основы христианского учения.·.» [Golvers 1999, с. 48]. На примере деятельности Вербиста современный исследователь Н.Голверс подчеркнул, что иезуиты в процессе общения Китая и Запада использовали научные знания в качестве инструмента. При изложении основ естественных наук иезуиты следовали изученной ими на латыни философии и логике Аристотеля. На определенном этапе своей деятельности миссионеры пришли к выводу о необходимости ознакомления с аристотелизмом и самих китайцев, дабы снабдить их необходимыми для понимания математики и естественнонаучных дисциплин основами знаний и методологии. Доказательства превосходства знаний западной астрономии о физическом небе должны были не только послужить защитой для иностранных проповедников, но и «породить веру в трансцендентальное небо и тем самым — несмотря на огромные культурные и социологические барьеры — проложить дорогу к распространению христианского учения» [там же, с. 33].
Оставленные Вербистом вероучительные работы несли на себе отпечаток пережитого конфликта, что побуждало миссионера смягчать обличительный тон в адрес буддизма и китайской традиции в целом. Написанная им около 1070 г. книга Гаоц.к юапъи (Изначальный смысл покаяния) получила распространение после того, как в 1071 г. миссионерам было позволено вернуться к разоренным после гонений церквам и жилищам. Сонре–менныи исследователь текста Дж.Вайтек указал на отожд<ветвление Вербистом воли Ьожией с традиционным китайским понятием о «небесном принципе» (тяпь.ш), заповедей Бога— со знакомым китайцам с древних времен понятием о «небесном мандате» (тяпышн), а исправления покаявшегося грешника — ( понятием о «подлинном пути» {чжэн дно). Примечательно и то, что земной аналогией прошения Богом грешников Вербист из брал китайский императорский днор, любящий своих подданных, прощающий раскаивающихся в своих преступлениях и карающий упорствующих во зле Вайтек подчеркивает, что паи–лучшее понимание миссионерского метода Вербиста дают про веденные в Гаоцзе юанъи сопоставления буддистской и католической практик избавления от грехов. Указывая на буддистские методы участия в строительстве храмов и пагод, раздачу милостыни и воздержание, Вербист стремился не столько развенчать их, сколько указать на их неполноту — к примеру, у бедняка нет средств на постройку храма или раздачу милостыни, вегетарианство может быть вредным для больного и т.д. Равным образом грешник не добьется прощения н пожертвованиями на ремонт католического храма, так как людям необходимо покаяние перед лицом Господа, чего пе заменят чтение «Лотосовой сутры» или бесчисленное повторение имени Будды Наньу Амитофо. Вайтек заключил, что Вербист сумел тактично воздержаться от нападок на буддизм, показывая при этом превосходство христианства «Па ранних этапах деятельности миссии этот подход создал проблемы для Риччи и его сотоварищей. Вместо этого Вербист показывал как сходства, так и различия между христианством и буддизмом. Он не скрывал их, но также и не пастраив.ш враждебно тех, кто шел путем, отличным от его собственного» [\Vitek 1999, с. 711.
Столь же умеренной была критика в адрес буддизма в составленном Вербистом катехизисе Цзяояо сюйлунь (Введение в основы веры), первое издание которого увидело свет в 1670 г. Споря с непримиримостью и запальчивостью коллег, Вербист призывал их к уклончивой агностической осторожности в осуждении «прегрешении» Будды, предостерегая от прямолинейных утверждений о том, что Будда определенно не мог знать ни крупицы божественной истины и ныне неизбежно пребывает в аду (см. [там же, с. 149–450]). Вербист не был оригинален, и его роль в становлении китайского католицизма можно сравнить с той, на которую некогда претендовал Конфуций, говоривший, что он «не создаст, а передает». Вербисту удались обобщить уже сложившуюся традицию китайско язычной проповеди иезуитов, чем ои весьма помог «формированию» и стабилизации религиозной традиции церкви в Китае [Shih, llsing–san 1994, с, 438]. Несмотря на отсутстипе значительных новаций, катехизис Бербиста представлял солидное изложение вопросов существования Бога, бессмертия души и загробного воздаяния, которое было дополнено подробным рассказом о смысле Страстен Христовых. Цляо–яо сюняунь Всрбиста не стоит наравне с Тяпьчжу шии Риччи, зта работа не была привлекательной для китайских читателей в целом. Однако она оказала очень заметное и длительное воздействие на китайскую христианскую общину. «Вплоть до сегодняшнего дня два подчеркнутых в ней аспекта — а имении Страсти Нашего Господа Иисуса и главенство папы — характеризовали и еще продолжают характеризовать учение католической церкви ь Китае» [там же, с. 134 ].
Ряды католиков росли, но большинство неофитов относились к низшим слоям общества. После смерти Вербиста н 1G88 г. его при дворе Кан–си сменили французские иезуиты Буве и Гср–бпйон. В 1G93 г. они нолучили резиденцию недалеко от императорского дворца, где была построена ноиая «ссвсрнал» церковь «Бэйтан» (1703 г.), украшенная надписями, исполненными лично Кан–си. 11оиым гонениям католики подверглись в 1691 г. по шшциатиье местных властей в провинции Чжзцзян. Император Kiin–cii не был настроен ьрлждебно к миссионерам, но Ведомство ритуалов оказывал о сильное противодействие их деятельности. Одпаки дипломатическое ведомство было целиком на стороне иезуитои и благодарность за их помощь па переговорах с русскими послами. Всршшшй деятельности католических миссий XVII в. стал указ Кан–си от марта 1G92 г., защищавший сущест· вующне церковные постройки и гарантировавший свободу богослужения. Латуретт отмечает, что, хотя «привилегия проповеди и крещення не была дарована явно, эдикт был столь благоприятствующим, что местные власти навряд ли препятствовали бы и этому» [Latourette 1929,с. 126]. В указе подчеркивались заслуги миссноиерои н области астрономии, артиллерии и дипломатии, отсутствие у новой религии бунтарских устремлений. «Своими научными достижениями на службе у государства иезуиты наконец получили законное» хоть и не и полной мере, терпимое отношение к деятельности их церкьи. Это был триумф политики, начатой Валиньяно κι Риччи, быстрый рост христианской общины казался гарантированным. Однако эдикт был издан не без противодействия со стороны влиятельных кругов и особо подчеркивал, что власти нечего бояться новой религии. Как только христианство показалось бы подрывающим устои государства, оппозиция быстро использовала бы возможность возобновить нападки. Позиция церкви оставалась ненадежной» [там же, с. 127].
Истоки внутрицерковного спора о пределах культурной адаптации
Внешние опасности, проявившиеся в ходе антикатолических репрессий в 1616 и 1664 гг., не стали фактором сплочения католических миссий. В то время как конфуцианская бюрократия пыталась защитить от миссионеров традиционный миропорядок, миссионерские оппоненты иезуитов пытались защитить христианскую веру от ненадлежащего смешения с «языческой» культурой Китая. Стремление иезуитов избежать конфликта христианства с существующими в Китае культами Конфуция и предков вызвало противодействие францисканцев и доминиканцев. В нараставшем внутри миссионерских кругов с начала XVII в «споре об именах и ритуалах» можно выделить два аспекта. «Политическая» сторона была связана с внутренними конфликтами внутри римско–католической церкви между иезуитами и орденами францисканцев и доминиканцев, а также иезуитами и янсенистами. «Интеллектуальная» сторона была связана с оценкой «степени истины, могущей быть приписанной частям конфуцианской доктрины, и уважения, подобающего китайской традиции» [Тгеас^оИ 1973, с. 2–21].
Спор об именах
Разногласия возникли по поводу того, какое слово или сочетание из китайского лексикона более всего соответствует Богу католической религии. Риччи указывал на два китайских традиционных термина, наиболее близко передающих христианское понятие о Боге, — «Небо» (Тянь) и «Всевышний Владыка» (Шанди). Понятие Тянь обозначало в китайской традиции высшую безличностную силу или высшее природное начало, но несло при этом слишком сильный пантеистический и натуралистический характер. При использовании его для обозначения христианского Бога сложившаяся традиция употребления этого понятия неизбежно несла с собой ряд культурно–контекстуальных ассоциаций, затрудняющих передачу новых для китайской традиции религиозных понятий о Боге как личностном Абсолюте, внеположном тварному миру. Понятие «Всевышний Владыка» было наиболее близким из того, что удалось найти в лексиконе китайской культуры, но Шанди древних китайцев никогда не был вездесущим Богом–Творцом монотеистической религии, а лишь одним из многих божеств, появившихся в несотворенном и безначальном мироздании.
Современный западный теолог Х.Кюнг отметил двойственность наименования божества в китайской традиции (Тянъ и Шанди) и сопоставил ее с двойственностью имени Бога в Ветхом Завете — Яхве и Элохим. Трактуя Шанди как антропоморфного и ассоциирующегося с правящей династией высшего повелителя всех природных божеств и духов, а Тянъ — как менее антропоморфную космическую и моральную силу, направляющую судьбы всех человеческих существ, Кюнг заявил, что «оба имени соединились воедино во время династии Чжоу для обозначения одного высшего бытия, одной всеохватывающей силы» [Kting, Ching 1989,с. 100]. Аналогично в раннеизраильской религии он выделяет имя Яхве、трактуемое им не в духе традиционной схоластики как статическая онтологическая декларация самотождественно–стн Бога, но в духе М.Бубера, как указание на «историческую и динамическую волю Бога». Последующее слияние в Ветхом Завете имен Яхве и Элохим олицетворило идею мощи божества в персонализованном единстве. Кюнг уподобил это слиянию Тянь ii Шанди в китайской традиции, «однако, по контрасту с Тянь и особенно Дао,даже Элохим сохраняет полностью личностный характер» [там же, с. 100].
Эти соображения подсказывают нам, почему христианские миссионеры не пошли по пути ранних буддистских интерпретаторов китайской мысли. В истории остались свидетельства попыток христианских миссионеров использовать китайскую фонетическую транскрипцию имени Бога. Для соединившей иудейский н греческий культурный миры духовной традиции трудно было определить первичное имя Бога (Яхве, Элохим、Теос). Важно и то, что буддизм не стоял перед проблемой передачи имени персонифицированного монотеистического Бога–Абсолюта, всемогущего Творца из–за отсутствия в его доктрине понятия о нем. Известный историк китайской мысли Чэнь Юнцзе подчеркивал, что Конфуций в своих работах ни разу не говорил о верховном божестве Ди, часто упоминая о Небе (Тянь): «Его Небо целенаправленно и является господином всех вещей. Он постоянно упоминал о тяньнин — мандате, воле или приказе Неба. Однако для него Небо более не является величайшим из всех духовных существ, которое правит в персонифицированной манере, но лишь Высшее Бытие, которое лишь царствует, оставляя свой моральный закон действовать самому по себе. Это путь, по которому должна развиваться цивилизация и действовать люди» [Chan Wing–Tsit 1969, с. 16]. Отвержение Шанди и принятие Тянь отсекло бы христианство от древнекитайской религиозной традиции, но могло бы сблизить его с мыслью самого Конфуция Однако оппоненты иезуитов позднее запретили оба этих термина.
Иезуиты не были чрезмерно озабочены проблемой адекватности китайского имени христианского Бога, широко используя в своей проповеди понятия Тянь и Шанди. Это, несомненно, помогало им привлекать на свою сторону часть конфуциански образованной бюрократической элиты, но в то же время оставляло открытым весьма существенный вопрос: а во что (или в Кого), собственно, поверили эти неофиты? Скептики полагали, что знакомые имена так и не наполнились для этих китайцев новым смыслом, оставляя их в рамках привычных традиционных представлений о божественном. Ранние миссионеры были рады найти в китайской классике термины Шанди и Тянь, равно как и упоминания о «служении Небу» (ши тянь), «уважении к Небу» (цзин тянь) и «страхе перед Небом» (взй тянь). Для иезуитов, глубоко убежденных в универсальной природе христианства, было логичным предположить, что китайцы уже знали Бога истинного в прошлом или как минимум были «озарены светом естественного разума». «Эти вербальные аналогии оказались в центре серьезного замешательства как среди китайцев, так и среди миссионеров, оказавшись также в центре разногласий, которые последовали и выросли со временем в диспут о ритуалах» [Gernet 1985, с. 25–26]. Миссионеры старательно отобрали фрагменты из классики, содержавшие упоминания о тянь и Шанди. Во второй главе Тяньчжу шии Риччи цитирует 11 фрагментов из древнекитайских текстов, содержащих сочетание Шанди. Его китайские друзья порекомендовали ему Шанди как эквивалент Тяньчжу, принятого как китайское именование Бога еще в 1583 г Риччи подумал, что нашел путь, по которому можно постепенно привести китайцев к христианству, полагая, что древние китайские книги доказывают то, что Шанди и Тяньчжу отличаются только по имени.
На миссионерском собрании в Макао в 1603 г. точка зрения Риччи была подтверждена — было признано, что китайские классические книги могут содержать элементы, полезные для распространения христианства в Китае. «Вплоть до смерти Риччи в 1610 г. никто не осмеливался оспаривать мудрость установления равенства между Всевышним Владыкой из китайской классики и Богом христиан. Фактически вся политика Риччи основывалась на сходстве, существовавшем между понятиями этики в античности и учениями христианства, следующими за аналогией между Всевышним Владыкой и Небесным Господом» [там же, с. 30].
Патер Никколо Лонгобардо первым высказал озабоченность тем, что китайцы рассматривают Шанди не как личностного, уникального, всесильного Бога–Творца, но скорее как анонимную оживляющую силу вселенной. Его трактат De Confucio ejusque doctrina tractatus (1623 г.), опубликованный в 1701г. в Париже на латыни под эгидой общества Парижских и зарубежных миссий, стал оружием против позиций иезуитов. Лонгобардо резонно отметил, что сложность и фрагментарность китайских классических книг требуют опоры на комментаторскую традицию, а отказ от этого может вызвать упреки в непонимании иностранцами их смысла. Сподвижник Риччи Сюй Гуанци в беседе с Лонгобардо однажды сказал, что Бог католиков не имеет ничего общего с Шанди из китайской классики, однако с практической точки зрения лучше всего исходить из того, что Шанди обладает всеми атрибутами, приписываемыми Тянъчжу (см. [там же, с. 34]). Сомневавшиеся в правоте иезуитов отмечали, что Шанди в китайской традиции смешивается с динамизмом природы и силой порядка и порождения. Его действие не прекращается ни на момент. Именно поэтому, высказываясь по теме Бого–воплощения, Ян Гуансянь заметил, что если бы Шанди родился на Земле и провел на ней тридцать три года, то вселенная осталась бы без хозяина, что остановило бы процессы трансформации и порождения.
Основоположник иезуитской миссии в Китае Микеле Рудже–ри впервые ввел «правильный» термин «Небесный Господь» (Тянъчжу) по совету одного из неофитов. Этот термин был использован в его катехизисе Тянъчжу шилу, опубликованном в Кантоне в 1584 г. и распространенном более чем в четырех тысячах экземплярах. Риччи сохранил этот термин в катехизисе Тянъчжу шии (1603г.), и в итоге это наименование было утверждено папой Климентом XI в Cum Deus Optimus (1704 г.), что было провозглашено в Китае его легатом Турноном в 1707 г.
Что же означает Тянъчжу? Современный «Большой словарь китайского языка» дает четыре значения этого сочетания: 1. «имя духа», 2. «именование господина всех небес», 3. «последователи католицизма называют Шанди как Тяньчжу», 4. «именование императора в царстве Алодань во времена династии Южная Сун» [Ханъюй дацыдянь, 1988, т. 2, с. 141]. В главе 28 «Исторических записок» Сыма Цяня говорится о принесении Цинь Шихуаном жертв знаменитым горам, большим рекам и восьми духам. «В число восьми духов входили: первый дух, который звался Тянь–чжу, — Небесный владыка, жертвы приносились ему в Тяньци…» [Сыма Цянь, с. 160]. Далее следовали Земной владыка, Владыка войны, Владыка силы инь, Владыка силы ян, Владыка луны, Владыка солнца, Владыка четырех времен. Если бы католики были уж очень щепетильны, то они должны были бы отказаться и от этого «языческого» имени. Как обобщил К.Лундбек, «термин Тяньчжу был странным, он не звучал как надлежало для китайских книжников. Он не встречался в классической литературе, и, более того, есть буддистское божество с таким же названием. Во–вторых, решение использовать термин Тяньчжу и однозначно быть приверженными к нему было сознательной оппозицией явному искушению принять Тянь и Шанди — слова, известные каждому в Китае» [ЬипсИэаек 1994, с. 132].
Использование иероглифа тянь (небеса–небо–природа) как синонима христианского Бога привело к ряду проблем. Сам Риччи был весьма осторожен и, настаивая на использовании Тянъчжу лишь цитировал иногда классические речения, относящиеся к Тянь и Шанди, дабы продемонстрировать приближение древнекитайских мудрецов к Божественной истине. Другие миссионеры не стеснялись сообщать китайцам о тождественности Тянь и Тяньчжу, при этом использование Тяньчжу было лишь вопросом целесообразности, связанной с меньшей двусмысленностью этого термина. Католические миссионеры не были единодушны в вопросе о том, в какой мере Тянь и Шанди могут передавать понятия о христианском Боге. В течение XVII в. термин Тяньчжу использовался официально для богослужений и катехизации, тогда как остальные термины также встречались в дискуссиях. Францисканцы и доминиканцы отрицательно отнеслись к сделанному М.Риччи и развитому иезуитами выбору символов языка местной культуры. Их спор с иезуитами о божественных именах, равно как и о совместимости участия в ритуалах поклонения предкам с христианским вероисповеданием, был закрыт папским указом 1704 г., положившим конец иезуитским поискам возможностей достижения более гибкой инкультурации христианства в Китае. Ватикан утвердил в качестве единственного наименования христианского Бога сочетание Тянъчжу — Небесный Господь. Это сочетание стало основой для сложившегося китайского наименования римско–католического вероисповедания как Тяньчжу цзяо — «религия Небесного Господа».
Китайские книжники XVII в. обвиняли Риччи в искажении китайской традиции, особенно неоконфуцианской, — утверждение миссионеров, что Тяньчжу есть Шанди、является уловкой, поскольку все знают, что Шанди и Тянь есть одно и то же, а их запрет на поклонение Небу непоследователен (см. [Gernet 1985, с. 198]). Некий придворный мандарин утверждал: «Тяньчжу не как живой человек, сидящий на Небе, но добродетель, доминирующая на Небе и управляющая им, которая во всех вещах и в нас самих, поэтому можно сказать, что наши сердца есть то же, что Тяньчжу и Шанди» [там же, с. 200]. Им трудно было примириться с разрывом единства и признать миссионерский тезис, что Небо и земля, человек и Небесный Господь есть три разные реальности.
Предложенное Ян Тинъюнем именование Бога Дафу му — «Великий Родитель» (букв. «Великий Отец–Мать») решало серьезную проблему, соотнося имя Бога не с порожденным (каковым является в китайской культуре Шанди), а с порождающим. Характеристика «мать», «предок» связывалась в китайской традиции с бесконечным и безначальным всепроникающим путем — Дао. Хотя термин Дафуму не использовался для передачи понятия «Бог», непосредственно синонимичное ему по культурному контексту понятие Дао вошло в китайский перевод Нового Завета для обозначения открывающих Евангелие от Иоанна слов о Божественном Логосе, бывшем начале» и до сотворения мира, принадлежащего Богу и совпадающего с ним своей божественной сущностью.
В «Апологии» (Цзюйцзе, 1616 г.) патеры де Пантойя и де Ур–снс писали, что «Небесный Господь (Тяньчжу) есть Господь, сотворивший Небо, землю и все сущее. Господь Небесный, которому служат в западных странах, идентичен Небесам, которым поклоняются в Китае; он идентичен Всевышнему Владыке необъятных Небес (хао тяпь Шанди), которому в Китае приносятся жертвоприношения. Только ποτοΝίγ, что в западных языках мы стремимся к четким различиям, мы чувствуем свою обязанность использовать термин Шанди· Поэтому Тянь,Шанди и Тяньчжу есть одно и то же» (цит. по [ZUrcher 1994, с. 51]). Подобная терминологическая индифферентность передалась китайским христианским ученым. Ван Чжэн в своем трактате заключал, что как только верующий понимает, что все имена относятся к Богу, «мы можем называть Его Тянь, Тяньчжу или Deus (Тусы) или Шанди — зачем беспокоиться о терминологических различиях?» [там же, с. 51]. Как и в случае с понятием о природе (сип), Цюрхер призывает проводить различие между сознательной ассоциацией между Тянъ и христианским Богом в миссионерской политике адаптации вероучения и прочтением этой аналогии китайскими чиновниками–книжниками. Здесь нет ничего уникального и присущего исключительно раннему китайскому христианству, «это универсальная черта межкультурного терминологического заимствования, и многие примеры могут быть приведены из истории раннего китайского буддизма» [там же, с. 52].
Несмотря на все попытки иезуитов объяснить, что Небеса всегда должны быть соотносимы с понятием о Небесном Господе, это название несло за собой шлейф своих изначальных семантических значений — высший порядок вещей, моральный порядок и воздаяние во вселенной. Для обращенного в христианство книжника, знавшего как минимум «Четверокнижие» с комментариями Чжу Си, принятие учения о Небесном Господе означало большую персонализацию Тянъ и большую конкретизацию понятия о естественном воздаянии путем добавления некоторых новых сюжетов, знакомых в их буддистской форме, — суд над душой после смерти, небесные воздаяния и адские наказания. В этом контексте христианские темы изначального греха, Воплощения и Искупления имели тенденцию к маргинализации, а «конфуцианский монотеизм» оставался прикованным к знакомым для книжников фрагментам из классических текстов.
Спор о ритуалах
Не менее ожесточенными были дебаты о религиозном смысле китайских «ритуалов». Чтобы ощутить эмоциональное напряжение спора, обратимся к трудам православного иеромонаха Николая (Адоратского), следующим образом излагавшего в конце XIX в. причины неустройства в деятельности католических миссий: «Счастливые, спокойные и уважаемые в правление императора Кан–си, миссионеры сами стали портить свое привилегированное положение вмешательством в придворные интриги, завистию и взаимными ссорами. Превышая образованием других собратий, иезуиты с самого появления своего в Китае смотрели сквозь пальцы на некоторые обряды и обычаи китайцев, заключавшие в себе более политический и нравственный смысл, чем религиозное верование. Так, иезуиты, выпустив из „Десятосло–вия“ вторую заповедь, терпели почитание предков и поклонение их теням, потому что боялись разрушать основной догмат китайских верований. Кроме того, иезуиты давали крещеным языческие имена, допускали браки с шести–и семилетнего возраста, а при браках — языческие обычаи. Такие послабления иезуиты называли невинным покровом вроде иудейского закона. Завидуя иезуитам, доминиканцы и францисканцы, при помощи мандаринов, недовольных приближением иезуитов ко двору и их интригами, восстали против снисходительного потворства своих соперников, подняли вопль на всю Европу об искажении иезуитами чистоты христианской религии языческими добавлениями и за разрешением вопроса о чистоте католической веры китайской церкви обратились к суду папы» [И.Н.А. 1885(a), с. 17–18].
Риччи и его последователи исходили из того, что католицизм может быть совмещен с такими существенными элементами китайской традиции, как почитание Конфуция и поклонение предкам. Они полагали, что это не «язычество», а повседневные ритуалы китайцев, которые могут быть приспособлены к нуждам христианства. На вопрос, пребывает ли Конфуции в аду, иезуит Фуртадо дал блестящий по уклончивости ответ: «Знающие Бога и любящие его более всех вещей и проведшие свою жизнь в этой любви и знании спасены. Если Конфуций знал Бога и любил его более всех вещей и ушел из жизни с таким знанием и любовью, то он, несомненно, спасся» [Dunne 1962,с. 274]. Другие миссионеры старались определить конфуцианских мудрецов хотя бы в чистилище, тогда как буддистские и народные китайские божества, по их словам, были обречены на ьгукн в вечном адском пламени (см. [Gernet 1985, с. 178]). С точки зрения иезуитов, из всех китайских верований наименее проблематичным для католиков был культ Конфуция. Этот подход основывался на предположении, что Конфуций был не более чем великим моралистом, педагогом и политическим мыслителем, тогда как конфуцианство является чисто светской доктриной, а ритуалы, исполняемые в конфуцпанскнх храмах, должны рассматриваться как «светские» церемонии, выражающие уважение и благодарность. Подобная позиция вполне согласовывалась с позицией китайской «школы старых письмен», считавшей Конфуция ученым н учителем, сохранявшим и развивавшим древнюю культуру, но не сверхъестественным персонажем, посланным непосредственно Небом для основания новой династии. Внешняя форма ритуалов во времена проповеди иезуитов как минимум не противоречила такому заключению — в конфуцианских храмах вместо фигур — «ндолов» присутствовали лишь таблички с именами, не было и открытых молитв, обращенных к Мудрецу, к которому применялась вполне умеренная терминология. Но даже иезуиты запрещали шэньши участвовать в тех торжественных церемониях в честь Конфуция, на которых совершались жертвоприношения животных, так как это, по их мнению, было очевидным суеверием (см. [Мтапнкл 1985, с. 21]).
Отметим, что в 1530 г., почти за пол века до прибытия иезуитов в Макао, император Цзя–цзин реформировал культ Конфуция. «Идолы» Конфуция были удалены и замещены «табличками духа». Конфуция лишили титула ван, указывавшего на царственный ранг. В различные времена Конфуция почитали под различными титулами, но после этих реформ, лишивших его связи с придворными рангами и убравшими намек на божественность, Конфуций именовался чжи шэи сяпь ши Кун–цзы («достигший мудрости первый учитель Конфуций»). Китайские книжники одобрили эти изменения, осуждая излишнее число почетных титулов, приписывавшихся Конфуцию в прошлом, и замену его изображений деревянными табличками. Во времена династий Мин и Цин простые люди не имели права почитать Конфуция, и посвященные ем)’ храмы пустовали. Будь то в столице или в маленьком городе, только в первый и пятнадцатый день месяца чиновники и книжники приходили в храмы для воздаяния должного Конфуцию — дабы почтить книжников, возвеличить истин) и поблагодарить Великого Учителя. Практически все вовлеченные в «полемику о ритуалах» образованные китайские христиане отрицали обвинения в том, что это поклонение совершается для получения благословении от Конфуция. Они настаивали, что его учение истинно, велико и несравнимо, ибо имеет свои началом Небо (пьянь), но, в соответствии с трактатом Ли цзи, «цель ритуалов состоит в прославлении книжников и почитании истины». Однако чтобы стать чиновником, человек должен был сдать экзамен на знание конфуцианских текстов, так что благодарность относилась не только к учению о морали и добродетели, но и к личной административной карьере.
Другой темой споров был культ почитания умерших предков. Миссионеры пытались понять, действительно ли китайцы верят в то, что личность усопшего может сохраняться в материальном предмете. Бумажный объект с написанным на нем именем усопшего помещался по китайскому обычаю перед телом, сопровождал его до могилы, а после похорон возвращался в дом и помещался на маленький алтарь, где ему возносили молитвы скорбящие. Эта бумага затем заменялась более постоянной формой обычно изготовленной из дерева, табличкой духа, с именем умершего, указанием его семейного статуса и общественного положения. На ее оборотной стороне писались даты рождения и смерти усопшего. Эта табличка как бы представляла личность усопшего и содержала надпись шэнь вэй (место духа) (см. [там же, с. 6]).
Иезуиты доказывал», что души усопших не нуждаются в каких–либо материальных подношениях· Ритуалы поклонения могут выражать благодарность предкам и уважение к ним,но просьбы и молитвы могут быть адресованы только Богу, а не какой–то душе или духу, которые все равно не в состоянии даровать счастье или предотвратить беду. С другой стороны, верующим все же разрешалось размещать принесенную еду у могилы в качестве символического жеста, соответствующего словам о Конфуции, служившем мертвым так, как «если бы они присутствовали живыми» (ши шэп жу изай). Не было возражений и против помещения изображений предков на домашний алтарь, однако на нем строго возбранялось размещать «идолов». Четкое разделение должно было проводиться между бао, выражением благодарности, и эгоистической молитвой ци. Китайские христиане должны были исключить любые религиозные элементы буддистского или даосского происхождения. Постепенно они создавали практику синкретических ритуалов. Патер Алени пытался трансформировать похоронные обряды совместно с одним из китайских христиан: на стол, перед которым были размещены традиционные приношения еды, были помещены вместе деревянная табличка н крест. На седьмой день,когда,согласно ритуалу, церемониально предлагается еда, она сперва была освящена христианской молитвой благодарения за пищу, после чего была роздана присутствующим, символизируя для них возможность обрести Божественное благословенье в будущем. Сообщается, что патер Алени одобрил эту практику, особенно из–за использования распятия. Цюрхер подчеркивает, что традиционный религиозный термин минфу 冥輔 может вводить в заблуждение, так как относится к благословениям, получаемым в последующем усопшим (см. [Zilrcher 1994, с. 62]). Другой пример «синохристианских ритуалов» — похороны отца Сюй Гуанци, принявшего христианство за год до смерти в 1607 г. По китайскому обряду, Сюй Гуанци облачился в грубые белые одежды, катафалк был воздвигнут в церкви, вокруг него зажжены свечи, и христианская месса была совершена среди воскуряемых благо–воннй и гимнов (см. [Ricci 1953, с. 477–478]).
Причин для взаимного непонимания было достаточно. Во–первых, объекты поклонення и ритуальные жесты китайцев были подобны тем, которые западные христиане использовали в своих религиозных обрядах, «и потому могли быть легко истолкованы в свете такого мышления. Во–вторых, миссионеры при–были из мира, где было огромное, временами непреодолимое, разделение между живущими и мертвыми, между светским и святым» [Minamiki 1985, с. 11]. Более того, миссионеры прибыли из Европы, недавно пережившей смуту, разделение церкви и Реформацию. Противостоявшая протестантам римско–католическая церковь пошла по пути консервации догм и установлений, требуя от своих членов послушания и единства. Минамики полагает, что в центре католического спора о китайских ритуалах был вопрос «символического смысла предметов и жестов, вовлеченных в ритуал» [там же, с. 206]. Проблема состояла в том, что иезуиты искали древний, разумный и совместимый с христианством смысл этих ритуалов, но сталкивались они с живой и очень сложной реальностью, которую наблюдали и их коллеги из других католических орденов. Смысл ритуалов оценивался субъективно и по западным стандартам, без учета китайского социального и культурного контекста. Другой вопрос — каким образом трактовали смысл ритуалов сами китайские власти. Миссионеры пытались расшифровать символическое содержание ритуалов, и здесь им было трудно избежать двусмысленности. Ведь если формы ритуалов сопротивляются изменениям, то и смысл их мог в разные исторические периоды подвергаться таковым. Осуждение ритуалов было связано с трактовкой их как «суеверий». При порицании конфуцианских ритуалов миссионерами упоминались: именование Конфуция «святым», «темные» церемонии, «менее темные» церемонии, общее участие в обрядах, пение ритуальных песен, создание алтаря перед образом Конфуция. Что касается культа предков, то католические проповедники с жаром обсуждали «темные» ритуалы, общий культ мертвых, приготовление еды для усопших, помещение еды на могилах, предложение еды усопшим, сожжение ритуальных денег на похоронах, использование свечей и благовоний, падение ниц и коленопреклонения на похоронах, поклоны (коутоу), использование «табличек духа» и обладание ими, определенные надписи на этих табличках, молитвенные прошения к усопшим, взносы на строительство «языческих» храмов (см. [там же, с. 212]).
Иезуиты не только дозволяли китайским неофитам сохранять местные ритуалы, но и опускали для них часть католических обрядов. К примеру, они не стали вводить среди обращенных китайцев практику поста и воздержания от работы в воскресенье, полагая, что китайцы и так голодают, а запрещать им работать — значит запрещать им есть (см. [Dunne 1962, с. 272]). Они также прибегали к упрощенному крещению женщин без приложения слюны к их ушам, соли к губам, масла к груди и голове. За это иезуитов также критиковали, однако такое решение максимально соответствовало местным обычаям, запрещающим любое прикосновение мужчины к женщине за пределами семейного круга. Иезуиты запрещали обращенным возносить молитвы и прошения к мертвым и не позволяли им сожжение бумажных денег. Они также осудили веру в то, что мертвые получают «питание» от приношений им еды. В то же время они разрешали использование цветов, свечей и благовоний на похоронах, равно как и владение «табличками духа». Ношение траурных одежд и исполнение поклонов (коунюу) перед табличками они расценивали как жесты уважения к мертвым. Все это отвечало магистральному направлению политики Риччи: где ничто ясно не указывало на суеверие, он проявлял терпимость, но в то же время пытался постепенно привести церемонии в соответствие с христианской практикой (см. [там же, с. 289–296]).
Самой деликатной была проблема христианской оценки в качестве суеверий государственных культов жертвоприношений Небу и земле, совершаемых лично императором. Параллельно возникал вопрос о том, не является ли христианское поклонение Небесному Господу скрытой формой посягательства на исключительную сакральную прерогативу императора. Любые дискуссии в этом направлении имели бы весьма рискованный характер, ибо никто не отрицал, что ритуальная практика жертвоприношений Небу (цзяо) и земле (гиэ) и близкие к ним церемонии молитвы о богатом урожае (ци нянь) содержат обращения к сверхъестественным силам. С точки зрения иезуитов, такие молитвы должны были бы считаться суевериями. Однако открытое заявление иностранцев о «суеверности» исполняемых императором ритуалов стало бы прямым посягательством на устои власти в Поднебесной.
В соответствии с позицией иезуитских миссионеров, внутри общего понятия о жертвоприношениях (цзи) необходимо было проводить различие между теми церемониями, которые выражают благодарность (бао энь) и уважение (цзин), и молитвами к сверхъестественным силам (ци), направленными на получение чего–либо помимо обращения к Богу. Жертвоприношения императора Небу и земле трактовались как оправданные «общественные» (гун) деяния, отличающиеся от эгоистических частных суеверных молитв. Одновременно почитание христианами Небесного Господа трактовалось как выражение благодарности (бао), а не как жертвоприношение (цзи), что должно было снять с них обвинения в посягательстве на прерогативы императора.
«Ритуал [носит] частный [характер], но [выражает] общественное чувство (ли сы эр цин гун)» [ZQrcher 1994, с. 59]. Этот аргумент был развит в конце XVII в. фуцзяньским католиком Ли Цзюгуном — правитель возносит молптвы за урожай, ниспослание дождя или снега, но совершаются они от имени народа. Цюрхер отмечает,что такая аргументация в основе своей сводится к конфуцианскому противопоставлению «частного» (сы) как негативной ценности «общему» (гун) как ценности позитивной. Государственный культ был оправдан с точки зрения традиционной аргументации как деяние «от имени народа и во имя народа», но это не затрагивало сути христианских сомнений в его суеверности и идолопоклонничестве.
Примечательно, как христианская трактовка Шанди повлияло на направление размышлений о христианизации китайских культов образованными неофитами. Чжу Цзунъюань в сочинении на провинциальных экзаменах «Ритуалы г!зяо и шэ должны служить Шанди» высказал соображение, что цзяо и шэ есть два различных способа выражения своего почтения к Богу (Шанди). В своей внешней форме и месторасположении они отличаются друг от друга, поскольку храм Неба подчеркивает покровительство Бога, тогда как храм земли в своих ритуалах вспоминает благость и щедрость Бога, вознося ему благодарность за дары земли. Последующие поколения, полагал образованный китаец, более не понимали этого, рассматривая Небо и землю как две божественные силы. Фраза «ритуалы цзяо и шэ должны служить Шанди» восходит к классическому тексту Чжун юн (Срединное и неизменное) (гл. 7:19): «Церемонии жертвоприношении Небу (цзяо) и земле (шэ) служат Верховному Владыке (Шанди),а церемонии, совершаемые в храмах предков, совершаются для предков. Если понять церемонии, поклонения Небу и земле и смысл великого поклонения и осеннего поклонения предкам, управлять царством будет так же просто, как взглянуть на ладонь» [Chan Wing–Tsit 1969,с. 104]. Чжу Цзунъюань открыто провозгласил, что с позиции христианства все публичные жертвенные культы становятся излишними, подобно тому как в западной нудео–христианской традиции после Воплощения обряды принесения в жертву Богу животных были отменены. Он решительно настаивал на том, что все старые жертвенные ритуалы не должны и не могут более использоваться.
Но в других случаях религиозный характер ритуала ннкто не оспаривал. Наиболее наглядным представляется пример культа чэнхуана («божества стен и рвов»), оберегавшего вверенный ему город. Культ городского божества был направлен не на вы раже–ние почтения, но на получение защиты чэнхуана или даже их группы. Новый чиновник при вступлении в должность приходил в храм чэнхуана и давал клятву, а затем являлся туда дважды в месяц для ее повторения. Существовало разделение полномочий между земным чиновником и потусторонним чэнхуаном— первый заботился о живых, тогда как городское божество занималось наказанием мертвых. Оно должно было также карать злодеев и поощрять тех, кто почтителен со своими родителями и послушен властям. Раздающий поощрения и наказания чэнхуан на христианский взгляд был несомненным языческим божеством. Однако китайские христиане были против не городских божеств как таковых, но определенных видов суеверных обрядов, существовавших в этих храмах, прежде всего гаданий. Считалось, что «нездоровые» ритуалы могут быть исключены, а местные чиновники должны рассматривать поклонение чэнхуану как путь к Богу.
В составленном между 1630 и 1640 гг. китайским католиком Ли Цзюбяо Коудо жичао (Собрание устных поучений за каждый день), представляющем собой записи бесед патеров Алени и Ру–домино с китайскими верующими и «интересующимися», содержится информация о том, как решал эту проблему Джулно Алени. Он отверг предложение рассматривать чэнхуанов как младших божеств, подчиненных Небесному Господу, ибо такая трактовка вела бы к пантеизму. Тем более он не принял предложение другого китайского ученого распространить этот подход не только на эти божества, но и на всех домашних и местных божеств земли, гор и вод, священных вершин и великих рек, т.е. на весь комплекс публичных и общественно признаваемых культов. Вместо этого Алени заявил, что такие местные божества должны отождествляться с ангеламн–храннтелями. С древнейших времен такие жертвоприношения были свободны от идолопоклонничества или суеверных молитв. Фактически основатель династии Мин уже предпринял шаг в этом направлении в 1370 г., когда он отменил все титулы чэнхуанов, ввел одну стандартную молитву и распорядился уничтожить их изображения. Алени предложил интересный христианский вариант адаптации этого культа. Поскольку ангелы–хранители, которым поручена защита городов, не обладают собственной властью, верующий должен обращать свои молитвы к чэнхуану с просьбой «передать» их Небесному Господу. Чтобы сделать ясным то, что конечной инстанцией для молитвы является Бог, надпись на табличке в храме чэнхуана должна гласить: «Божество, которое охраняет этот город по приказу Небесного Господа» [Zürcher 1994, с. 57]. Отождествление божеств города с ангелами–хранителями присутствует в работах китайских христиан; например Чжу Цзунъюань с похожей аргументацией утверждает, что эта ритуальная практика выродилась в суеверный культ и должна быть очищена. Алени советовал христианизовать культы местных божеств, но отверг культ божества войны Гуань–ди. Чжу Цзунъюань принял культ чэнхуана, но все домашние подношения, совершаемые в начале Нового года, полагал суевериями. Разумеется, предложения Алени о христианизации храмов чэпхуапов так и не стали реальностью. Какие бы решения ни предлагались, было ясно, что иезуитам и китайским христианам было очень нелегко определить границы дозволенного.
Как это следует из примера Тянъчжу шии, иезуиты понимали неблагоразумность проповеди таинств христианства без длительной подготовки. Однако за долгие годы катехизации им не удалось передать все теологические нюансы таинств Троицы и Воплощения даже самым образованным из китайских неофитов. Троичность божества трудно укладывалась в метафизические представления китайцев, а идея гонимого и распятого Бога для них была возмутительна, как и для большинства иудеев, что отмечал еще Лонгобардо (см. [Gernet 1985, с. 224]). Внутрицер–ковные противники иезуитов упрекали их в том, что они проповедуют в Китае лишь Христа Славы, не упоминая о его жертве и страданиях. Не дожидаясь итогов исполнения задуманной иезуитами программы длительной трансформации китайского мировоззрения, оппоненты перешли от слов к делу.
Споры о пределах культурной аккомодации начались сперва в рядах самих иезуитов. В 1628 г. иезуитские миссионеры провели собрание под Шанхаем, на котором приняли решение о запрете использования термина Шанди как эквивалента для христианского Бога, оставив его в виде исключения в работах самого Риччи, столь популярных у образованных слоев в Китае. Францисканский патер Кабаллеро посетовал в 1668 г., что под предлогом того, что взгляды Риччи не были осуждены, понятие Шанди вернулось в обиход, в первую очередь в иезуитских кругах. Большинство иезуитов не хотели отказываться от этого эффективного аргумента (см. [там же, с. 32]). Позже вопрос о ритуалах был поднят служившим в 1633–1637 гг. в Китае доминиканцем Хуаном Баптисто Моралесом. В 1643 г. он поставил перед созданной папой Григорием XV Святой Конгрегацией пропаганды веры (Congregatio de Propaganda Fide) ряд вопросов, выражавших сомнение в риччианской политике культурной адаптации. Среди них были следующие:
• должны ли китайские христиане, как и прочие католики, хотя бы раз в год ходить на исповедь и причащаться;
• могут ли миссионеры при крещении женщин не использовать слюну и соль, а также отказывать женщинам в соборовании;
• можно ли позволять китайцам давать деньги в рост под 30% и позволяется ли живущим ростовщичеством заниматься этим и после обращения в христианство;
• могут ли христиане вносить деньги на общинные жертвоприношения языческим божествам;
• могут ли они присутствовать на обязательных официальных жертвоприношениях, поклоняясь при этом тайно носимому ими кресту, но делая вид, что поклоняются идолу;
• могут ли они участвовать в жертвоприношениях Конфуцию или в пожертвованиях на похоронах;
• могут ли они поклоняться табличкам предков и предлагать жертвы мертвым в других случаях помимо похорон;
• надо ли сообщать обращающимся за крещением, что новая вера запрещает любое идолопоклонство и жертвоприношения;
• могут ли христиане применять к Конфуцию понятие шэн — «святой»;
• могут ли они помещать в церквах таблички с пожеланием императору десяти тысяч лет жизни;
• можно ли возносить молитву за души умерших китайцев— нехристиан;
• если китайцев шокирует вид распятия, необходимо ли говорить о нем с ними и показывать его им (см. [Хаюигеие 1929, с. 136]).
Грамотно составленный вопрос содержит в себе половину ответа. Несведущие в делах Китая, но поднаторевшие в теории и практике вероучения теологи из Святой Конгрегации пропаганды веры однозначно осудили как «неприемлемое» участие китайских христиан в ритуалах поклонения Конфуцию, которое признавалось недозволительным даже и в том случае, если бы те, вместо находящегося перед ними образа Конфуция, направляли свое внимание на скрытое на теле католическое распятие. Поскольку из объяснений Моралеса вытекало, что китайцы верят в то, что в ходе поклонения деревянной «табличке духа» в нее и впрямь спускается дух усопшего предка, эта практика также была запрещена. Запрет действовал и в случае «несуеверного» использования табличек, помещенных рядом с изображениями Христа и святых. Китайским католикам было разрешено устанавливать рядом с гробом с телом покойника «алтарь» с «табличками духа», цветами, свечами и благовониями — это было терпимо до тех пор, пока стол с табличками воспринимался как «предмет мебели», а не настоящий алтарь. По поводу именования Конфуция шэп четкого терминологического ответа из Ватикана в Китай не последовало, однако было пояснено, что это было бы допустимо при наличии у термина достаточно широкого смысла, выходящего за пределы «истинной и совершенной святости».
Современный ученый–иезуит Дж.Минамики отметил ряд чрезвычайно важных особенностей доклада Моралеса. Прежде всего, Моралес впервые довел до Ватикана вопрос о совместимости католицизма с китайскими ритуалами. Он попытался осмыслить религиозное значение современных ему китайских обрядов XVII в., тогда как иезуиты были более всего озабочены проблемой поиска в китайской культуре следов древнего монотеистического культа. Ответы Святой Конгрегации пропаганды веры были напрямую предопределены формулировками представленного им доклада: «Ритуалы были описаны Моралесом не в нейтральных, но в строго религиозных терминах вроде altare, sacrificmm, genuflectio, templum, sacerdos (алтарь, таинство, коленопреклонение, храм, священник. — А.Л.). Таким образом, заранее предполагалось, что ритуалы обладают религиозным характером, и именно на это описание опирались теологи для суждения о различных предложениях» [Minamiki 1985, с. 28]. Важно и то, что в формулировках Моралеса появилось понятие о «гражданских и политических» ритуалах, противопоставляемых впоследствии ритуалам «религиозным». Описанные Моралесом ужасы иезуитских послаблений побудили в сентябре 1645 г. папу Иннокентия X издать запретительный декрет Святой Конгрегации пропаганды веры. Однако это было временное решение с оговоркой «пока не решено иначе». То был исторический шаг, после которого спор о китайских ритуалах перестал быть «исключительно восточной проблемой; на него обратил внимание и [о нем]стат высказывать суждения европейский мир» [там же, с. 28].
Иезуиты нанесли ответный удар, направив в Рим своего посла итальянца Мартино Мартини (1614–1661), который служил в Китае с 1643 г. и построил в Ланьси под Ханчжоу церковь, где крестил около 250 человек. В 1650 г. он отбыл в Европу, и, добравшись к 1654 г. в Рим, на аудиенции у папы Александра VII получил одобрение методов своего ордена. Следуя известным рассуждениям Риччи, иезуиты постарались доказать, что «идоло–поклонская секта» конфуцианцев не имеет священников, не совершает жертвоприношений, а поклонение покойному Конфуцию ничем не отличается от поклонения китайских учеников своему живому учителю. Обращая внимание на терминологические нюансы, Мартини подчеркивал нерелигиозную суть китайских ритуалов, которые происходят в залах (aula), а не в храмах, тогда как поклоны на похоронах совершаются не перед алтарем, а перед столом (tabula) (см. [там же, с. 30]). На основании пояснений Мартини китайским католикам в 1656 г. было позволено участвовать в гражданско–политических ритуалах, соблюдать «очищенные от суеверий» ритуалы поклонения усопшим, при этом их можно было совершать даже вместе с нехристианами. Более того, дозволялось их участие в «суеверных» ритуалах, если перед этим было сделано заявление о христианской вере (см. [Latourette 1929, с. 137]). После этой успешной миссии Мартини вернулся в 1657 г. в Китай, где продолжил служение в Ханчжоу вплоть до своей кончины.
В споре наступил перерыв. Иезуиты сумели убедить в своей правоте францисканцев и августинцев, им мешала лишь враждебность доминиканцев. В период пребывания в Кантоне, куда их изгнали в 1665 г., миссионеры (девятнадцать иезуитов, три доминиканца и один францисканец), после того как возымели силу меморандумы Ян Гуансяня, провели «конференцию», которая длилась сорок дней и завершилась в январе 1668 г. Одно из ее решений затрагивало проблему китайских похорон — неофитам было рекомендовано участвовать в похоронах и вести себя по–христиански. Была также полностью подтверждена верность миссионеров решениям 1656 г. Не были согласны с этим единственный францисканец Антонио Кабаллеро и доминиканец Доминго Фернандес де Наварретте.
Когда в 1692 г. император Кан–си издал указ о терпимости к христианству, разногласия среди миссионеров и победа антиие–зуитской позиции свели на нет перспективы распространения и культурной адаптации католической веры в Китае. В 1693 г. папский викарий в приморской части Китая французский священник Шарль Мегро (1652–1730) осудил учение Риччи, практику участия христиан в китайских традиционных ритуалах и использование китайских понятий о Боге. Мегро учился теологии в Сорбонне, в 1680 г. поступил на службу в Парижские зарубежные миссии (МЕР). Он прибыл в Фуцзянь в 1684 г., где числился апостолическим викарием без епископского сана. Мегро исходил из того, что защитившее позиции иезуитов сообщение Мартини во многом скрыло истину. Однако своим решением он нанес чувствительный удар не только по иезуитам, но и по всей католической миссии, поскольку его атака на китайские ритуалы состоя лась на следующий год после указа Кан–си, что произвело на им ператора чрезвычайно неблагоприятное впечатление Составленный Мегро «Временный мандат или декрет преподобного Шарля Мегро, апостолического викария Фуцзяни и епископа Конона» (Declaratio seu Maudatum Proxñsionale Ulustnssnra ас Reverendissimi Domini Caroli Maigrot, Vxcarii Apostohci Fokiensis, ñutir Episcojn Cononmsis) от 26 марта 1693 г. содержал семь запретов, распространявшихся изначально лишь на миссионеров в Фуцзяни:
1. Помимо европейских имен, которые могут быть выражены только варварским путем через китайские иероглифы и слова, мы провозглашаем, что единственный и истинный Boi (Deus optimus et maximus) должен называться исключительно именем Тяпьчжу — Небесный Господь, которое было принято уже долгое время. Два других китайских термина Тяпь— Небо и Шанди— Всевышний Владыка должны быть запрещены полностью; и тем более никто не может заявлять, что любые китайские отождествления с этими двумя именами — Тянь и Шанди есть тот же Бог, которому поклоняются христиане.
2. Мы строго запрещаем установку в любой церкви табличек с написанными иероглифами цзин тяпь (уважать Небо, лат. coelum eolito). Более того, мы приказываем убрать в течение двух месяцев такие уже установленные таблички вместе с другими табличками и надписями того же направления, содержащими имена Тяпь и Шанди. По Нашему суждению, все эти таблички, особенно с иероглифами цзин тянь, не могут быть свободны от идолопоклонства…
3. Мы провозглашаем, что вопросы о темах спора, представленные [папе] Александру VII, во многом были не правдивы; по этой причине ответы, данные по праву и мудрости святого престола миссионерам, зависели от обстоятельств, и они не могут браться как основа для дозволения китайцам поклоняться Конфуцию и предкам.
4. Миссионеры никогда и ни под каким предлогом не должны позволять христианам исполнять, принимать участие или присутствовать при торжественных церемониях или жертвоприношениях, приносимых два раза в год Конфуцию и предкам. Мы провозглашаем эти ритуалы опороченными суеверностью.
5. Мы возносим хвалу всем миссионерам, ищущим пути устранения использования табличек в память об умерших в частных домах, поскольку они работают для Евангелия, мы увещеваем их продолжать делать это. В тех случаях, когда трудно положить конец использованию табличек, оно должно быть сокращено до приемлемого масштаба,и такие иероглифы, как шэнь цзу 神祖(дух предка), шэнь вэй 神位(место духа), лип вт f:·位(место души), должны быть удалены, и только имя усопшего может добавляться к иероглифу вэй. До рассмотрения святым престолом мы не хотим полностью исключать такие таблички в вышеупомянутой форме и считать их суеверием. Б тех местах в частных домах, где обычно помещаются такие таблички, должна быть добавлена написанная крупными иероглифами декларация, заявляющая о христианской вере усопшего н о почтительности детей и внуков по отношению к предкам…
6. Мы указываем, что не должно распространяться в устной или письменной форме ничто, способное ошибочно привести неискушенного человека к заблуждению и открыть дорогу суевериям, как–то:
—что философия, которой учат китайцы, не содержит никаких противоречий с христианством, если понимается правильным образом,
—что наиболее мудрые древние китайцы хотели называть Бога, причину всех вещей, именем Тайцзи (Великий предел),
—что Конфуциево поклонение духам носило более гражданский, чем религиозный характер,
—что книга, называемая китайцами И грин、есть сумма наилучших физических и моральных учений.
Мы строго воспрещаем распространение этих и им подобных [учений] в нашем викариате в письменной или устной форме, как неверное, неразумное и скандальное.
7. Миссионеры должны позаботиться о том, чтобы христиане не читали в школах книги, насаждающие атеизм и другие суеверия в души студентов, но миссионеры должны побуждать их бороться против явных ошибок и наставлять своих учеников относительно возможных ошибок в доктрине о Боге, сотворении мира и превосходстве христианской религии. Помимо этого, миссионеры должны чаще собирать христиан вместе, чтобы они не вставляли в свои писания ничего из школы книжников, контрастирующего с христианской религией, что случается часто» (цит. по [Collani 1994,с. 152–154]).
Дж. Минамики полагает, что «важнейшая часть» распоряжения Мегро — это третий раздел, где утверждается, что на основании личного разбирательства тот убедился в неправоте Мартини. Хотя это было лишь местное пастырское послание, Мегро хотел вынудить святой престол заново обратиться к этой теме, «пересмотреть факты и данные, выработав новое суждение по ритуалам» [Мтаппкл 1985, с. 39].
Этот указ вместо порядка и единения вызвал в рядах католи ческнх миссионеров и их паствы дестабилизацию. Иезуиты отказались принести клятву послушания, а китайские христиане испугались обвинений со стороны Ведомства ритуалов. В 1693 г. в письме папе Иннокентию XI Мегро пояснял причины, поб\дившие его к введению жестких запретов. Небо — Тяиь в его понимании не могло быть христианским Богом, но лишь материаль ным физическим объектом, в связи с чем таблички с надписью цзин шшъ было необходимо запретить. Концепция близкого хри стианству «изначального конфуцианства» и мысль о том, что китайцы когда–то поклонялись Богу истинному, представлялись ему глубоко ошибочными. В конце концов в «Истории прихода христианства в Китай» Риччи сам признал современных ему китайцев атеистами. Мегро же распространил эту характеристик) на всю историю китайской культуры, сославшись на иезуита Франческо Брапкати (1607–1671), назвавшего Чжу Си наиболее известным атеистом в Китае. В Тяньчжу шии Риччи также критиковал неоконфуцианское понимание Великого предела как высшего начала мироздания. Однако Мегро пошел дальше и сделал общий вывод о том, что никаких следов религии в Китае нет, что Конфуций был «князем и доктором атеизма», а следовательно, «китайский император был величайшим атеистом своего времени, так как публично исповедовал атеизм. Исходя из этого, все таблички с надписью цзин тяиь должны быть запрещены, подобно тому как христианам было запрещено поклоняться рим скомубогу Юпитеру» [Со11ат 1994, с. 156].
Отождествление христианского Бога с китайским понятием о Небе (Тяиь) улучшало восприятие католицизма конфуцианской бюрократией, полагавшей, что это совпадение может быть расценено как залог беспроблемной интеграции христианства с существующим официальным культом Неба. Как отметил Жер–не, знаком такого рода рассуждения может служить подарок, преподнесенный императором Кап–си миссионерам, — собствен поручная каллиграфическая надпись из двух иероглифов — цзин тяиь (уважать Небо). Развешанная по церквам, она вызвала немало споров, но «эти два слова были как тактичной ссылкой на то, что Кан–си воспринял как сущность христианства, так и приглашением следовать заведенным в Китае порядкам» [Сегпе! с. 139].
Тем временем Мегро сталкивался со все более сильным противодействием. Португальские иезуитские миссионеры ставили под вопрос легитимность Мегро как апостолического викария, у него были трения с иезуитами и китайскими христианами. Иезуиты не лишали китайских христиан Святых Таинств даже после их участия в ритуалах поклонения предкам. Христиане Фуц–зяни потребовали, чтобы Мегро установил таблички цзип тянь в своей церкви. Он расценил это как самовольное вмешательство в его дела и весной 1700 г. запретил иезуитам проводить их миссионерскую работу (см. fCollani 1994, с. 160]). В глазах китайцев удаление табличек с надписью цзин тянь, данных самим императором, было актом оскорбления иностранцами императорского величества, поэтому христиане Фуцзяни открыто выступили против Мегро.
Стремление иезуитов подать китайскую культуру в квазихри–стианском обличье и добиться от Ватикана признания их политики культурной аккомодации вызвало обратную реакцию. В 1700 г. теологически!! факультет Сорбонны наложил запрет на книгу французского миссионера Луи ле Конта «Новые сообщения о современном состоянии Китая», где утверждалось, что знающие Бога Истинного китайцы могут послужить примером современным западным христианам. Напомним, что в 1693 г. Мегро уже осудил положение о том, что «понятая правильным образом китайская философия не противоречит закону христианскому» (Sinica philosophia si bene intelligatur nihil habere Legi Chrislianae contraria). Семинария Парижских зарубежных миссий объявила о своей солидарности с ним, а теологический факультет Сорбонны исходил из позиции, близкой к запрету Мегро, осудив в 1700 г. книги иезуитов. Запрещение книг ле Конта и Шарля ле Гобьена перевело «спор о ритуалах» в «неистовую схватку в спекулятивной теологии. По сути,однако, спор был не о христианских догмах, а о некоторых обычаях китайцев, и для его разрешения требовалась, помимо теологов, помощь историков, этнологов и знатоков синологии» [Minamiki 1985, с. 40].
В 1700 г. иезуиты обратились к Кан–си за разъяснениями по поводу ритуалов. В своем письме они утверждали, что поклоны перед изображением Конфуция олицетворяют огромное уважение к Учителю, а не мотивируются «прошением» у него мудро–С1и, должности илн жалованья. Аналогичным образом почитание усопших предков трактовалось исключительно как выражение любви к ним, а не просьба о покровительстве. Кан–си ответил: «Написанное очень хорошо и гармонирует с Великим Путем. Почитать Небеса, служить правителю и родителям, уважать учите ie» и старших — это закон всех людей в империи. Так что это верно, и ни одна часть не требует исправления» (цит. по [там же, с. 41–42]). Кан–си и иезуиты сошлись в том, что китайцы поклоняются Конфуцию лишь как Учителю и не просят защиты у мертвых, но лишь выказывают любовь к ним и воздают память о сделанном ими при жизни добре, тогда как Тяиь есть не материальные небеса, а невидимая высшая сила. Однако этим иезуиты невольно усугубили конфликт. В Риме посчитали, что Кан–си вмешивается в сугубо церковные дела,тогда как китайский император решил, что Ватикан своими указаниями посягает на социально–политический климат в его империи. При этом позиция иезуитов была по–своему логична — ведь если ритуалы имели гражданский характер, то и заниматься ими должна была светская власть в лице Кан–си.
Декрет Святой Конгрегации от 1704 г. Cum Deus Optimus поддержал все выводы Мегро, кроме шестого, отложив его до получения более полной информации. Он должен был быть объявлен папским легатом де Турноном во время визита в Китай. В 1704 г. церковное использование Тянь п Шанди было запрещено наряду с надписями об «уважении к Небесам» — цзин тянь. Одним из последствий этого запрета стал пересмотр ранних иезуитских текстов —к примеру, в последующих изданиях труда Риччи Тяпьчжу шии Тянь и Шанди как именования Бога всегда заменялись на Тяньчжу. Были запрещены жертвоприношения Конфуцию и предкам, равно как н таблички с надписью «место духа» усопшего. Для христиан было признано недопустимым участие в торжественных ритуалах почитания Конфуция и предков. Более того, запрещалось участие также в ежемесячных «малых церемониях», па которых чиновники получали степени и должности. Поклоняться табличкам предков дома или на могнлах нельзя было более ни вместе с нехристианами, ни без них. На этих табличках дозволялось отныне писать одно только имя покойного без добавления слов «место духа» (лип вэй), дабы нехристиане не подумали, что у христиан те же верования, что н у всех остальных.
На этой основе сложились две последние апостолические конституции, завершившие в начале XVIII в. церковную дискуссию о китайских ритуалах. Важным для политики культурной адаптации было сделанное допущение «пассивного материального присутствия христиан на церемониях», однако это положение не было развито. Для доведения этого решения в Китай н был направлен легат де Турнон (в 1701 г. он получил сан патриарха Антиохийского). Само его прибытие на место назначения в апреле 1705 г. вызвало скандал, ибо португальцы отнеслись к его миссии как к нарушению их влияния в Азии. Латуретт философски заметил, что посочувствовать можно обеим сторонам конфликта: Турнон, сильно заболевший и неопытный, оказался в Китае практически в изоляции и без поддержки, тогда как миссионеры опасались, что молодой и не знающий Китая легат угрожает основам созданного ими дела (см. [Latourette 1929, с. 143]). Поехав на встречу с Кан–си вместе с Турноном, Мегро оказался неспособным повторить по просьбе императора отрывок из классиков,прочесть три или четыре иероглифа с висев–шего за троном свитка, узнать китайское имя Риччи или подтвердить, что он читал Тяньчжу шии (см. [Treadgold 1973, с. 2–24]). В запальчивости Турнон обвинил Кан–си и весь Китай в атеизме, на что император заметил, что без знания канонов невозможно так безапелляционно обсуждать их содержание.
Кан–си объявил Турнону,что если христианство не удастся совместить с конфуцианством, то европейцам не будет дозволено оставаться в Китае. В ходе дискуссии император потребовал от Мегро подробного отчета н списка изречений из конфуцианских книг, противоречащих христианству. Несмотря на нежелание и попытки сослаться на авторитет Ватикана, Мегро все же исполнил приказ, собрав ряд таких конфуцианских высказываний и сгруппировав их в пятьдесят пунктов. Среди прочего он написал, что учение Конфуция о Великом пределе (тайцги) и Беспредельном {уцзи) не соответствует христианству по той причине, что образующий ?паиц^и принцип (ли) не может быть творцом всех вещей. По его мнению, китайская космология предсуществования тайцзи и хаоса противоречит христианской доктрине сотворения мира из ничего. Он доказывал, что есть и другие неприемлемые китайские «догмы», утверждая, что император приносит жертвы не только Небу и земле, но и звездам, горам, четырем частям света, что противоречит христианству (см. [Collani 1994,с. 164]). Два маньчжурских мандарина, посланные к Мегро с приказом Кан–си, указали ему, что учение о тайцзи и у цзи принадлежит вовсе не Кон 中 уцию,а Чжоу Дуньи. Заявление Турнона, что Мегро является специалистом в китайских классических текстах, было дезавуировано императорским указом в июле, а в начале августа состоялась беседа императора Кан–си с Мегро в присутствии миссионеров, но без Турнона.
Весомость христианской антиконфуцнанской аргументации Мегро была значительно ослаблена в глазах императора тем, что апостолический викарий вновь не смог процитировать на память даже двух слов из конфуцианского «Четверокнижия» или вспомнить как следует его содержание. Терпеливо и настойчиво Кан–си пытался убедить Мегро в том, что тот заблуждается относительно табличек с надписью цзин тянь. В ответ на известное заявление о том, что Тянь не означает Небесного Господа, император ответил: «„Я очень удивляюсь вам. Не говорил ли я, что Тянь является намного лучшим выражением для Небесного Господа, чем Тянь чжу или Тяньди ванъу чжи чжу 天地Й物之主(Господь Неба, земли и десяти тысяч вещей)? Тянъ универсально обозначает Небесного Господа и десять тысяч вещей. Скажите мне, почему люди говорят мне ваньсуй (десять тысяч лет)?“ Мегро ответил: „Это означает, что они желают Вашему Величеству бесчисленных лет“. На это Кан–си назидательно сказал: „Хорошо, учитесь из этого: подлинный смысл китайских слов не всегда совпадает с их буквальным значением"» (цит. по [там же, с. 166]). Кан–си был сильно раздражен «ученостью» Мегро н непримиримостью Турнона. В декабре 1706 г. император принял решение о выдворении Мегро из страны, имевшие с ними связь местные христиане могли быть наказаны, желающие остаться должны были получить разрешение (пяо), предварительно согласившись соблюдать правила Риччи. Турнон в феврале 1707 г. .выпустил в Нанкине эдикт, основанный на папском решении 1704 г. и осуждающий использование терминов Шанди и Тянъ, участие в ритуалах поклонения Конфуцию и предкам, современную практику употребления табличек предков. Он пригрозил всем непослуш–ным отлучением от церкви (такой строгости не было в распоряжении от ноября 1704 г.) и запретил любую свободу интерпретации, которую можно было требовать по указу 1656 г.
Поскольку миссионерам для дальнейшей работы в Китае надо было получать разрешения, Турнон опубликовал указания, каким образом они должны отвечать на вопросы при обращении за его получением. Миссиоиеры были обязаны говорить, что принимают лишь те обычаи и церемонии, которые соответствуют христианскому закону; они не могут ни приносить жертьы Конфуцию или предкам, ни разрешить эти церемонии христианам под своим руководством. Они также должны были сказать, что не одобряют китайский обычай использования «табличек духа» для усопших предков. Свою позицию следовало пояснить несоответствием всех этих практик поклонению истинному Богу и окончательным решением вопроса святым престолом в 1704 г В конце концов надо было ссылаться на то, что так распорядился патриарх Антиохийский (коим являлся Турнон), «несущий в себе оракула суверенного понтифика» [Minamiki 1985,с. 55]. Представители Парижских зарубежных миссии отказались получать разрешения, августинцы и иезуиты согласились. Турнон, содержавшийся китайцами практически под домашним арестом, получил от желавшего вдохновить его Ватикана в 1707 г. сан карди–нала, но умер в 1710 г. в Макао после получения известия о повышении.
Деятельность Турнона не принесла в ряды миссионеров единства, их позиции и практические подходы к решению проблемы оказались полярными, по вопросу о ритуалах между ними обозначилось общее несогласие. По сути, Турнон поставил миссионеров перед неразрешимой задачей. Им надо было выбирать между получением ггяо на условиях согласия с одобренными Кан–си правилами Маттео Риччи или же следовать инструкции Турнона и быть выдворенными из Китая. Следующим шагом в споре стал папский декрет 1710г., запретивший христианам любые публикации на темы китайских ритуалов и связанные с этим дебаты без разрешения Ватикана. Наказанием за ослушание было отлучение от церкви.
В марте 1715 г. папа Климент XI обнародовал буллу Ex ilia die, подтвердивш)ю запреты распоряжения 1704 г. и эдикта Турнона 1707 г., потребовав от всех миссионеров и священников в Китае послушания под страхом отстранения от служения и отлучения от церкви. Им было отказано в любых правах на интерпретацию, которую можно оыло использовать для задержки или отмены выполнения указанных посланий. Ex ilia die должна была положить конец практике неисполнения миссионерами под разными предлогами постановлений Ватикана. Все миссионеры были обязаны дать клятву на Библии перед комиссаром, апостолическим гостем, епископом или апостолическим викарием о подчинении этой булле. В подписанном виде эти клятвы надлежало отправить в Рим. Без принесения такой клятвы миссионер не допускался к исполнению своих обязанностей, «формула клятвы против китайских ритуалов была введена как моральный инструмент для контроля за мыслями и действиями миссионеров» [там же, с. 62]. Иезуитам осталась единственная лазейка — чисто гражданские или политические церемонии, не запятнанные суеверием, можно было терпеть, вопросы относительно этих церемонии надлежало адресовать вышестоящем)’ начальству. Обнародование такой буллы в Пекине было трудной задачей, а иезуиты по–прежнему искали пути обхода запретов, хотя генерал ордена иезуитов в 1711г. обещал подчиниться существующим папским решениям.
В такой напряженной ситуации Ватикан направил в Китай второго легата. Патриарх Александрийский и апостолический гость Жан Амброз Шарль Меццабарба отбыл из Рима в мае 1719 г. В этот раз с полного согласия Португалии легат прибыл в Макао, в конце сентября 1720 г. Кан–си принял его, надеясь, что конец спора о ритуалах уже близок. Когда император наконец увидел буллу Ex ilia die, то пришел в гнев и исчеркал ее замечаниями о том, что европейцы не могут быть судьями китайских обычаев, что теперь христианство в таком виде мало отличается от даосизма и буддизма, а его представителям было бы лучше запретить проповедь в Китае (см. [Latourette 1929, с. 148]). Мец–цабарба вел себя тактичнее предшественников и на встречах с Кан–си заявлял, что хоть и должен провести в жизнь папскую буллу, но ему позволено в отношении ритуалов допустить определенные послабления, а по возвращении в Рим он обязательно донесет до папы мнение китайского императора. Для смягчения ситуации Меццабарба представил Кан–си «восемь уступок», дававших возможность для маневра при соблюдении буллы и дозволявших китайским христианам:
1. иметь дома таблички предков с их именами, но с обязательным добавлением рядом изложения христианского верова ния о душе и отречения от любого рода суеверий, способных вызвать скандал;
2. участвовать во всех не являющихся суеверными или сомнительными церемониях поклонения предкам;
3. почитать Конфуция светским образом при условии, что его табличка не содержит суеверных надписей, и помещать перед табличками свечи, благовония и еду, но должна быть сделана декларация веры церкви;
4. совершать коленопреклонения и падения ниц перед гробами и должным образом поправленными табличками предков;
5. использовать на похоронах благовония и свечи при наличии соответствующего письменного пояснения;
6. помещать еду на столах перед табличками мертвых, если при этом делается заявление христианской веры и единственная цель состоит в выражении уважения к мертвым;
7. совершать принятые обычаем поклоны коутоу в Лунный Новый год и по другим случаям, но перед правильно поправленными табличками;
8. зажигать благовония и свечи перед поправленными табличками и могилами, если выполнены все необходимые условия (см. [Latourette 1929,с. 148–149; Minamiki 1985,с. 64–65]).
Эти уступки открыли новые возможности для широких интерпретаций в выполнении ритуалов. Кан–си остался недоволен, и в его в беседе с Меццабарбой было много иронии — так, он язвительно заметил, что «если папский декрет вдохновлен Святым Духом, то таковым должен был быть Мегро, поскольку документ соответствует его позиции» [Latourette 1929, с. 149]. Разрешения на постоянное проживание в Китае Меццабарба так и не получил. Уезжая в Европу и увозя с собой прах Турнона, он направил миссионерам пастырское послание по поводу «восьми уступок», строго предупредив, что они, будучи предназначенными для руководства священников, не должны переводиться на китайский или маньчжурский языки либо попадать в руки местных христиан. Иезуиты нарушили его предупреждение и перевели это пастырское послание для своих прихожан.
Очевидно, что многие разрешения Меццабарбы противоречили нормам Ex ilia die, что лишь усугубило конфликт. На основании отчета своего посланца Меццабарбы папа Иннокентий XIII в своем указе генералу ордена иезуитов потребовал, наконец, подчиниться папским распоряжениям под страхом запрета приема в орден новых членов и посылки миссионеров в Китай. Генерал сообщил о подчинении всем требованиям и обещал исключить строптивцев из ордена. В декабре 1733 г. в двух пастырских посланиях на тему ритуалов епископ Пекинский распорядился исполнять буллу Ex ilia die в соответствии с данными Меццабарбой разрешениями и четыре раза в год оповещать китайских христиан о том, что дозволено, а что нет. В сентябре 1735 г. папа Климент XII начал пересмотр данных Меццабар–бой «восьми уступок». До конца расследования он не дожил, но в июле 1742 г. папа Бенедикт XIV утвердил буллу Ex quo singulari,в которой одобрил прежнюю буллу, аннулировал уступки Меццабарбы и впредь запретил миссионерам ссылаться на них при толкованиях, отличающихся от апостолических конституций Ватикана.
В Ex quo singula ή приведен пространный исторический обзор спора миссионеров, разделившихся на тех, кто считал церемонии в честь Конфуция и предков гражданскими, и тех, кто считал их проявлениями суеверий. Появилась и новая карательная санкция — непослушным миссионерам было велено вернуться в Европу для наказания, а оставшиеся в Китае должны были дать клятву верности папским указам. Клятва была старой, но с добавлением осуждения «восьми уступок» Меццабарбы. Главной целью новой буллы было «подтверждение апостолической конституции Ex ilia die и согласие миссионеров на абсолютное подчинение ее директивам» [Minamiki 1985,с. 75].
Отмена разрешений Меццабарбы породила острые проблемы. Исходя из приоритета папской Ex quo sitigulari,апостолический викарий Фуцзяни запретил китайским христианам иметь даже поправленные таблички предков и жечь перед ними свечи и благовония. «Христиане были лишены всех традиционных внешних знаков, которые выражали их уважение к мертвым, хотя использование подправленных табличек ясно разрешалось указом 1704 г. С другой стороны, апостолический викарии Шаньси и Шэньси полагал, что терпимое, даже имплицитно, в Ex ilia die должно быть разрешено, поэтому христианам может быть позволено сохранить подправленные таблички, совершать коутоу и возжигать свечи и благовония на похоронах. По его мнению, Ex quo singulan аннулировала „восемь уступок“ как таковые, без осуждения церемоний, уже дозволенных в Ex ilia die» [там же, с. 76].
Подлинным финалом споров о китайских ритуалах были не столько папские буллы 1715 и 1742 гг., сколько решение папы Климента XIV распустить орден иезуитов (Dominicus ас Redemptor, 1773). Этому решению предшествовали широкомасштабные нападки на моральную теологию иезуитов, большие подозрения вызывала и их политическая роль. Перед этим, в 1759–1767 гг. орден был запрещен в Португалии, Франции, Испании и в Королевстве обеих Сицилии, после чего он держался лишь за счет поддержки папы Климента XIII.
Поток запрещений не иссякал и во второй половине XVIII в. В 1769 г. Святая Конгрегация пропаганды веры запретила христианам жертвовать на общественные мероприятия по восстановлению или постройке храмов или для поклонения идолам В 1777 г. в ответ на запрос из Сычуани были осуждены поклоны перед усопшими. Конгрегация посоветовала проводить захоронение тела до выполнения ритуалов с поклонами. По поводу возжигания свечей и благовоний было рекомендовано «не бояться скандала». В 1776 г. возникла проблема с табличками предков: обращенные в веру семьи переставали о них заботиться и могли быть наказаны за это властями. В ответ было предписано разделять собственные таблички семьи и таблички своего клана, хранимые семьей. В первом случае «суеверные» таблички надо было уничтожать, так как передача их другим означала бы сокрытие христианами веры или участие в культе. Во втором — их следовало возвращать по праву собственности должному владельцу. В 1792 г. Святая Конгрегация указала, что китайские христиане могут следовать местному обычаю уборки могил, но в иной день, чем нехристиане. Суеверные ритуалы исполняться не должны, и следует читать принятые католической церковью молитвы за усопших. В 1793 г. был подтвержден запрет на падение ниц перед гробом. В 1798 г. встала проблема поведения христиан после участия в экзаменах на должность. Считалось, что некоторые из них после их успешной сдачи шли в храм Конфуция,падали ниц и возжигали свечи и благовония перед алтарем Мудреца. Другие же подкупали чиновников, дабы те признали их больными и позволили им не участвовать в послеэкзаменацион–ных торжественных ритуалах. В этой связи Святая Конгрегация пояснила, что участие христиан в таких ритуалах недопустимо, как недопустима м ложь для неучастия в них под предлогом болезни
[55].
Особый интерес в этой истории представляет позиция самого Кан–си. Жерне предположил, что император мало интересовался христианством, рассчитывая прежде всего на ту практическую пользу, которую могли ему принести миссионеры. Целеустремленно стараясь завоевать симпатии всех этнических и религиозных групп, он вырабатывал соответствующий подход к каждой из них. «Несомненно, Кан–си проводил тот же курс по отношению к миссионерам, которые были определенно полезны ему по причине их познаний во всех областях, не только в науке. Не может быть сомнения и в том, что Кан–си рассматривал миссионеров как представителей отдаленных царств, из которых они прибыли. Религия с трудом входит во все это» [Gernet 1985, с. 136].
С этой точкой зрения спорит Дж.Янг, полагающий, что, если бы вмешательство Кан–си в «спор о ритуалах» было «основано исключительно на политических и прагматических соображени ях, у него не было причин настаивать на позиции Риччи в вопросе о поклонении предкам и ритуалах Конфуция» [Young 1994, с. 93]. Весной 1707 г. император выпустил указ, в котором говорилось, что те, кто не следует правилам Риччи, более не имеют права оставаться в Китае. «Если из–за этой практики папа запрещает вам продолжать распространять вашу религию, оставайтесь в Китае, поскольку вы уже отреклись от мира. Я предлагаю вам остаться, даже если папа против того, чтобы вы продолжали идти по пути Риччи. Если по докладам Турнона папа говорит, что своим послушанием вы оскорбляете Тяньчжу, я защищу вас. Вы в Китае давно и привыкли к его атмосфере… те из вас, кто получил вид на жительство, будут рассматриваться как китайцы. Успокойтесь и не бойтесь» (цит. по [Young 1994, с. 94]). Император Кан–си мог бы продемонстрировать свою абсолютную власть, проигнорировав папскую буллу Ex ilia die или изгнав из страны миссионеров. Однако он, обращаясь к миссионерам, пошел по пути разъяснений и увещеваний. Весьма примечательно, что китайский император не только высказал сожаление по по воду разрушительных последствий поведения Турнона и Мегро, но даже оценил ситуацию с позиции христианской доктрины: «Это определенно не является волей вашего Бога, который ведет людей к добрым делам. Я часто слышал от людей с Запада, что дьявол может сбить людей с пути — может быть, именно это и произошло…» [там же, с. 94]. Однако на представленном ему переводе Ex ilia die Кан–си написал, что после прочтения сего документа задался вопросом о том, каким образом невежественные миссионеры могут что–то проповедовать: «Никто из них не умеет читать китайские книги, но они проповедуют многие доктрины. Это действительно смешно. Они проповедуют те же ереси, что и буддистские монахи или даосские священники. Отныне им нет нужды распространять их доктрину в Китае, и мы это запрещаем. Таким образом мы избежим многих неприятностей» (цит. по [Gernet 1985, с. 186]).
В декабре 1720 г. перед прибытием Меццабарбы Кан–си вновь собрал миссионеров для того, чтобы сообщить свои взгляды на проблему. Подчеркнув, что его правление не проводит различий между своими и чужими (бу фэнь пэй вай), император попытался донести до слушателей свое понимание смысла табличек предков (гуп пай), находящихся в китайских храмах и семьях. Они выражают уважение к предкам и потому имеют лишь символическое значение. Конфуция чтут потому, что сформулированные им моральные добродетели и принципы человеческих взаимоотношений представляют собой вечные истины, побуждающие людей служить вышестоящим и предкам. По мысли Кан–си, это сопоставимо с христианским почитанием святых за их дела (см. [Young 1994, с. 96]).
Происшедшее кардинально изменило статус католицизма в Китае. Согласие китайцев принять у себя христианских миссионеров основывалось на указе императора Кан–си от 1692 г., но его преемник император Юн–чжэн в ответ на растущие подозрения относительно тайных политических мотивов иностранных миссионеров в 1724 г. отменил это решение. От китайских христиан потребовали официального отказа от веры, иностранные миссионеры, за исключением прикрепленных к Ведомству астрономии, должны были покинуть Китай, католическая собственность была конфискована и использовалась для светских нужд. «Последующие 120 лет христианство официально определялось как еретический культ, мало отличающийся от тайных обществ, которые периодически ставили под угрозу стабильность существования династии» [Cohen 1978, с. 545]. Запрет императора Юн–чжэна привел к классификации христианства в кодексе Цин как запрещенной секты, наподобие «Учения Белого Лотоса». Статья о запрете христианства была удалена из этого кодекса лишь в издании 1870 г. (см. [там же, с. 563]). По мнению Р.Энтенманна, римско–католическая церковь и впрямь соответствовала определению китайской секты, разве что тип отношения к миру был разным — воинствующе оппозиционный у «Учения Белого Лотоса» и пассивный у католиков (см. [Entenmann 1996, с. 8]). При этом между ними был ряд сходств — обе «секты» практиковали общинные богослужения с литургией, пением, чтением канонов и проповедью. Сходства были и в теологии — оба течения полагали, что некогда произошло отчуждение человечества от Творца, но Спасение возможно через покаяние и опору на посредника. При этом обе религии ожидали прихода Мессии (см. [там же, с. 22]). В качестве примера исследователь взял город Цзянцзинь провинции Сычуань, где отмечалась значительная миграция из других провинций. Новоприбывшим «религиозная принадлежность давала ощущение сообщества, компании, взаимной поддержки и духовного утешения, предоставляя альтернативное общество и объяснение мира, которое для многих было более осмысленным, чем предлагаемое ортодоксальным конфуцианством. Народные религии, основанные на конгрегациях, давали последователям ощущение причастности к сообществу избранных н существенно компенсировали чувство разрушенного родства и деревенских связей. Они также обещали большую удачу в этой жизни и спасение в следующей. Хотя секта „Учения Белого Лотоса“ была наиболее важной из народных религий Сычуани XVIII в., римско–католическая церковь также восполняла эти функции» [там же, с. 10]. Для иллюстрации возникавших культурных конфузов весьма примечательно сообщение о том, что во время гонений 1746 г. через несколько дней после ареста лидера секты «Учения Белого Лотоса» в Синьду поблизости от Чэнду местный начальник заметил на стене здания миссии в Чэнду образ Девы Марии и сообщил об этом своему начальству, видимо полагая, что это изображение У шэн лаюму — нерожденной и почитаемой Матери, которой поклонялись в секте (см. [там же, с. 12]). На допросах пойманных сектантов власти хотели прежде всего убедиться, что оказавшиеся в их руках христиане не являются последователями «Учения Белого Лотоса». Католиков обвиняли в соблюдении постов и пении священных текстов на общих собраниях мужчин н женщин —эти практики смешивали их с сектантами из «Учения Белого Лотоса». Хотя католики не были вегетарианцами, они постились в определенные дни, называя эту практику чжай, т.е. тем же словом, что использовалось последователями «Учения Белого Лотоса» для их вегетарианства (см. [там же, с. 23]).
Впрочем, принадлежность к католической церкви не спасала «сектантов» от кары. Во время арестов штрафовали и наказывали тех, кто учил христианству, и обратившихся в зрелом возрасте, тогда как принятие христианства как веры родителей считалось меньшим проступком, скорее свидетельствующим о выражении сыновней почтительности. Китайских католиков заставляли подписывать заявления об отступничестве, содержавшие признания в том, что они исповедовали христианство по ошибке и незнанию, и обязательство воздерживаться от этой религии в будущем (см. [там же, с. 17])· Католическая церковь потом снимала грех отступничества и возвращала людей в свое лоно. «В середине XVIII в. католицизм стал народной религией, укоренившись в китайском обществе. Иностранное происхождение пе представлялось особо важным ее приверженцам, их соседям или даже властям. В самом деле, преследования 1755 г. не затрагивали вообще никаких иностранцев. Китайские католики жили в мире со своим нехристианскими соседями. Когда между ними вырастал конфликт, участие католиков в нелегальной религии давало их противникам преимущество в споре. Однако такого рода конфликт обычно не вызывался религиозными различиями, но просто отражал заурядные экономические и общественные конфликты Китая XVIII в.» [там же, с. 23].
Пределы «синохристианского» синкретизма
Длившийся почти столетие спор о китайских ритуалах стал гротескным вариантом диалога культурных традиций Китая и Запада — за тысячи километров от Китая в Риме решали вопросы о смысле понятия Шанди и ритуалов поклонения Конфуцию. Ограниченность ватиканских богословов была очевидной, а «расстояние между Римом н миссиями исчислялось не только в морских милях, но и в радикальных различиях в культурном наследии и фоне. Главным камнем преткновения стала концентрация принятия всех решений в Риме» [Minamiki 1985, с. 221].
В XX в. оценки деятельности иезуитов кардинально изменились —ныне в ннх видят предшественников современной парадигмы межкультурного взаимодействия. Старое упрощение сменилось новым, и в ходе возвышения Риччи и иезуитов как пионеров диалога Китая и Запада на задний план уходит христианское измерение этого долгого спора. Высказывается мнение, что, хотя «некоторые современные авторы пытаются видеть конфликт б абстрактных понятиях или как столкновение двух цивилизаций, Востока н Запада, на деле китайцы не были активно или сознательно вовлечены в спор, который был прежде всего борьбой двух типов западного сознания — традиционного и консервативного, с одной стороны, прогрессивного и авантюрного —с другой» [Cummins 1962, с. 1]. Но кто был более авантюрен —иезунты,пытавшиеся «врасти» в мир китайской образованной элиты, или их оппоненты, бесстрашно бросившиеся со своей проповедью в низы общества? Для объяснения происшедшего была представлена даже «теория заговора» — разрушение иезуитской миссии якобы было инспирировано янсенистами из Парижских зарубежных миссий при помощи Святой Конгрегации пропаганды веры. Конгрегация доверила им реконструкцию миссий в Восточной Азии, а ее архивист Вильям Лесли во второй половине XVII в. снабжал Парижские миссии секретными документами иезуитов, на основании которых их дело было разрушено (см. [Нау 1956]).
Суть современных западных дискуссий о содержательном смысле «спора о ритуалах» состоит по большей части в определении возможных путей настоящего и будущего взаимодействия культур. К примеру, Д.Тредголд назвал ошибочным мнение о том, что распространение христианства в Китае невозможно, если не будет оставлена древняя культурная традиция. По мнению ученого, это даже эмпирически неверно, ибо на момент смерти Риччи в 1610 г. в Китае было около 2,5 тысяч христиан, а через столетие, во времена «спора о ритуалах», в десять раз больше. Кроме того, с точки зрения ортодоксальной христианской теологии существует множество причин для сохранения культурной традиции Китая, нежели для отказа от нее. Д.Тредголд сослался на Климента Александрийского, который «был занят проблемой христианизации греков — миссионерской задачей, стоящей ближе всего к китайской задаче в христианской истории, поскольку надо было начинать в стране с высокоразвитой культурой, которой, как и китайцы, обладали греки» [Treadgold 1979, с. 186].
Современный иезуитский ученый ДжДанн в книге «Поколение гигантов» пошел по пути оправдания деятельности иезуитской миссии в Китае, трактуя «спор о ритуалах» как пример того, что может произойти в случае «превращения практической по своему характеру проблемы в предмет изобилующей неопределенностями спекулятивной полемики» [Dunne 1962, с. 287]. По его мнению, после того как обсуждение темы обрело спекулятивный характер, ее решение стало невозможным. Данн оправдывал позицию иезуитов тем, что они запрещали китайским книжникам участвовать в церемониях лишь явно суеверного характера, например в торжественных поклонениях Конфуцию. С другой стороны, они дозволяли своим неофитам участвовать в посвященных предкам торжественных ритуалах, за исключением явно суеверных обрядов, наподобие сжигания бумажных денег. Иезуиты полагали, что китайские ритуалы, превратившись в гражданские церемонии, были секуляризованы и очищены от своего религиозного содержания.
По мнению Цюрхера, путь интеграции христианского единобожия в ядро китайской ортодоксальности (чжэн) должен был быть найден изнутри конфуцианской традиции. В этом случае сущность «спора о ритуалах» сводится к тому, что М.Риччи пошел по пути приспособления христианского вероучения и ритуальной практики к конфуцианской ортодоксии, тогда как его оппоненты, отвергая возможность компромиссов по вопросам веры, поставили христианство в оппозицию к официальной ортодоксии. Это не была вина иезуитов — догма Воплощения не находила понимания у образованных слоев, недоумевавших, почему Иисус пришел в мир в телесном виде и с низким статусом. Троичность также не была понятна, особенно при изложении этой догмы туманным даосско–буддистским языком. Создание трудами миссионеров и их последователей религии тянъчжу–изма означало появление на китайской сцене некоего монотеистического учения, которое условно можно назвать «христианством Ветхого Завета» — в нем был сильный и всемогущий Бог, но не было уникальности Спасителя.
Тредголд полагал, что споры BiiyTpn католической церкви имели далеко идущие последствия для межцивилизационных отношении между Западом и Китаем, похоронив надежды на синтез «очищенного конфуцианства с западной наукой и римско–католическим христианством». По мнению ученого, позиция Ватикана не только разрушила иезуитскую миссию, но и подорвала «влияние западной мысли на Китай на столетие вперед». «Спор о ритуалах» имел как религиозное, так и культурное измерение благодаря образованности иезуитов и их попытки учредить миссию на интеллектуальных основаниях для того, чтобы сделать ее привлекательной для китайских книжников. Вероятность создания иезуитами «синохристианской» цивилизации зависела не только от политики императора, но и от способности самих иезуитов продолжить работу в культурной области и завоевать уважение конфуцианских книжников. «Синохристиан–ская» цивилизация могла преуспеть только в том случае, если «книжники рассматривали бы ее как серьезную альтернативу». С завершением «спора о ритуалах» «синкретизм в форме комбинации очищенного конфуцианства с западным знанием и римско–католическим христианством был дискредитирован» [Treadgold 1973, с. 2–31].
«Наиболее фундаментальным элементом этого христианизированного конфуцианства была персонификация высшей космической силы, или принципа, трансформация абстрактного, безличностного Неба в личностного Небесного Господа. Для китайских христиан поклонение этому Тяньчжу было символом их веры; в каждом выражении христианской доктрины эта персонификация конфуцианского Неба образует первую и наиболее фундаментальную тему» [Zürcher 1997, с. 622]. Возникшая на китайской почве разновидность христианства была охарактеризована как «конфуцианский монотеизм» (тяпьчжу–изм), в котором существеннейшие для европейской традиции темы Воплощения, Страдания и Воскресения Спасителя были оттеснены на задний план центральной фигурой Бога–Творца, высшего правителя вселенной, «родителя» и судьи (см. [там же, с. 623J) «Конфуцианский монотеизм» опирается также на предположение иезуитов о существовании в древнем Китае собственного монотеистического учения о Боге как части Божественной Истины, открытой Богом человеку. В итоге в «синохристиан–ском» дискурсе христианская доктрина Нового Завета оказывается второстепенной на фоне ветхозаветных тем Бога–Творца и Судьи, что становится предпосылкой для формирования «подлинного тяиьчжу–изыз в котором личность Иисуса не играла вовсе никакой роли» [Zürcher 1994, с. 50].
Подобная тенденция к пренебрежению новозаветными доктринами или даже к их полному исключению стала серьезной проблемой с точки зрения христианской каноничности шедшего в Китае в XVII в. «синохристианского синтеза». Однако суть сложного выбора, вставшего перед Ватиканом в XVIII в., можно сформулировать не только как «принять китайские обряды безоговорочно или неизбежно потерять Китай» [Etiemble 1966, с. 289], но и как «приспособить христианство к китайской мысли и жизни за счет утраты его существенных черт или вести борьбу за эволюцию китайской системы» [Rosso 1948, с. 224].
Глава 4. Французские иезуиты и христианская герменевтика китайской культуры (конец XVII — начало XVIII в.)
В конце XVII в. на фоне нападок на незуитов со стороны Ватикана и охлаждения к их деятельности со стороны императорского двора в Китае среди иезуитских миссионеров зародилось крайне примечательное интеллектуальное течение. Его представителями были несколько французских иезуитов, пытавшихся найти в китайских классических текстах прообразы или «фигу–ры» библейских патриархов и событий, дабы в итоге доказать изначальное знакомство китайцев с Божественным Откровением.
Основателем этого течения стал патер Жоакен Буве (1656–1730), к научно–религиозным поискам которого присоединились Жозеф де Премар (1666–1736), Жан Франсуа Фуке (1665–1741) и Жан–Алексис де Голле (1664–1741). Это движение динамично развивалось с конца XVII по середину XVIII в., однако в то время идеи его представителей из–за действовавших запретов были почти неизвестны за пределами ордена иезуитов. Попытки поиска в древнекитайской культуре следов христианского Откровения были высмеяны французскими светскими и церковными учеными в 20–30–е годы XVIII в., после чего о работах Буве, Премара и Фуке надолго позабыли.
Сторонников этого направления называли по–разному. Внут–ри миссии их зачастую именовали «и цзин и стам и» из–за особо пристального внимания к изучению текста
И цзина (Книги перемен). Немецкий иезуит Килиан Штумпф дал своим увлеченным древними китайскими канонами
(цзип) французским коллегам имя «цзинистов» (kinistae); современники называли их также «символистами» (см. [Collani 1981, с. 16]). Применительно к ним в Европе закрепилось понятие «фигурализм» (figurism), так как теоретическим основанием изысканий служила «фигуральная или типологическая интерпретация следов христианской традиции, по утверждению его представителей, найденных в древних китайских книгах» [Lundbaek 1991, с. 11]. Примерно в 1730 г. историк Николя Фрере при определении этой группы французских иезуитов использовал термин «фигуралисты», изначально носивший уничижительный оттенок. Лундбек поясняет, что «фигурализм есть иное наименование для типологии, особого и иногда спорного вида интерпретации, использованного для экзегезы определенных библейских текстов. В этом смысле 中игу–рализм так же стар, как и церковь» [там же, с. 109]. Некоторые исследователи считают, что понятие «фигурализм» вводит в заблуждение и его лучше было бы оставить в стороне, не будь оно уже так прочно вошедшим в употребление. Руле упоминает и другие употреблявшиеся современниками названия учения Буве и его сторонников — «буветизм», «иероглифическая наука», «Фу–си —енохистские патеры», «ицзинисты»
[56]. Лундбек также под–черкивает, что название «фигуралисты» не в полной мере отражает сущность этого направления, так как отыскание «фигур» в древних китайских книгах было лишь частью их обширной экзегезы. Однако следование традиции побудило его сохранить это название, но в расширенном виде, и именовать их «китайскими фигуралистами» [там же, с. 110]. Наилучшим названием для этого течения Руле счел использованный Луи Порке термин «мифологисты», указывающий на «общую озабоченность демифологизацией китайских классиков и обнаружение их библейских корней и истоков», характеризуя при этом миссионерский фигурализм как «мифологическую интерпретацию конфуцианства» [Rule 1986, с. 155–156].
Исторически зарождение фигурализма в католической миссии в Китае было связано с определенным типом спекулятивной теологии, распространившимся в Европе. Основной посылкой этого направления было признание существования изначального откровения христианских догм, при этом фигуральная, или типологическая, интерпретация образов и событий Ветхого Завета должна была указывать на последующие события из Нового Завета
[57]. В качестве примера применения такого подхода к древнеегипетской традиции, способного повлиять на формирование китайского фигурализма, указывают на труды иезуитского ученого Афанасиуса Кирхера (1602–1680), доказывавшего явлен–ность высшей божественной мудрости в египетских иероглифических письменах (см. [Lundbaek 1991, с. 14]).
Европейских ученых того времени шокировала смелость, с которой миссионеры–фигуралисты применяли выработанную внутри церковной традиции экзегетическую методологию к древнекитайскому материалу. Результаты фигуралистских изысканий вызывали в научном сообществе в лучшем случае глубокий скепсис — «в конце концов фигурализм был деянием веры, которая не поддавалась логике или, скорее, создала собственную закрытую неопровержимую логику» [Rule 1986,с. 173]. Нега тивное отношение к фигуралистам определило и то, что в Париже в то время действовали янсенисты
[58] предсказывавшие неминуемое обращение в христианство евреев, падение римском церкви и прочие грандиозные события на основании «фигур» Нового Завета, прежде всего Апокалипсиса. Такова была ирония истории: ученые круги отвергли рассуждения фигуралисгов, со чтя их идеи сумасбродными отражениями на китайском материале неприемлемого янсенизма, но сами янсенисты также приложили руку к подавлению Ватиканом иезуитских методов культурной адаптации в ходе «спора об именах и ритуалах».
М.Лакнер предложил использовать двойное определение фи–гурализма, рассматривая его одновременно в «широком смысле» как интеллектуальную предпосылку н в «узком смысле» как производную этого течения в Китае. В первом случае фигурализ как герменевтическая традиция библейской экзегетики оказывается практически ровесником христианской традиции в Европе «Фигурализм должен рассматриваться как вид универсализма, основанный на общих истоках человечества, эзотерическом откровении истины изначальному мудрецу вроде Гермеса Трисме–гиста, вечном и божественном характере этого откровения» [Lackner 1991, с. 129–131].
В китайском варианте фигурализма речь шла о поиске следов библейского повествования в культуре, весьма отличной от родного миссионерам мира средиземноморской цивилизации. «Буду–чи убежденными, что вся история человечества содержится в Библии, миссионеры пытались интерпретировать историю Китая в соответствии с иудеохристианской традицией… для большинства из них не было сомнений в том, что Китай был заселен потомками Ноя и что потоп времен императора Юя мог быть только библейским Потопом» [Gernet 1985, с. 129]. Поиск предков китайцев на Ноевом Ковчеге формально не противоречил слову Библии, но большинству современников эта задача показалась чересчур экстравагантной и странной, а приведенные фигу–ралистами доказательства — недостаточно научными и прочными.
Главным объектом исследований китайских фигуралистов стала китайская «Книга перемен» (И цзип), которую как до фигу–ралистов, так н после них миссионеры (в особенности протестанты) предпочитали трактовать как низкопробное гадательное пособие, свидетельствующее об испорченности китайских нравов язычеством. Однако Буве и его ученики открыли в И цзине таинственный религиозный смысл, дышащий тайной Божественного Откровения. Напомним, что ответ на вопрос о том, каким образом ценящие древность китайцы смогли начисто позабыть о библейском смысле своих классических книг и о своем родстве с Ноем, был сформулирован иезуитами еще при Риччи — уже тогда миссионеры утверждали, что причинами забвения стали сожжение книг при династии Цинь (221–207 гг. до н.э.) и многочисленные искажения текстов, умышленно внесенные работавшими по «дьявольскому наущению» буддистами, даосами и неоконфуцианцами Эта идея была подхвачена и развита китайскими католиками — к примеру, Сюй Гуанци заявлял, что в Китае изначальное знание Евклидовой геометрии также было утрачено из–за сожжения книг императором Цинь Шихуаном. Тема уничтожения древних текстов прослеживается в Китае как в буддистской, так и в христианской апологетике. Две соперничавшие традиции соприкоснулись в истолковании древней истории о «сне императора Мин ди» — около 65 г. н.э. император династии Хань вдохновился идеей отправить посольство на Запад для поиска сияющего золотого божества, явившегося ему во сне. Если у буддистов не было никаких сомнений в том, что императору приснился Шакьямуни, то, по христианской версии, это случилось как раз в те времена, когда апостол Фома проповедовал Евангелие в Индии. К несчастью, китайское посольство преждевременно соприкоснулось с буддизмом, который в результате непростительной ошибки получил распространение в Китае, ввергнув страну в тяжелейшие суеверия Будды, именовавшегося миссионерами «чудовищем Фо» (см. [Zürcher 1994, с. 53–54]). По сути своей фигурализм иезуитов стал углублением и развитием их позиции в вопросе о китайском имени Бога. Признание за китайской цивилизацией обладания почти утраченным знанием о Боге Истинном и ветхозаветной традиции облегчало проповедь веры среди китайцев, снижая сопротивление новым взглядам со стороны консервативного общества. Вместе с тем выступление в защиту идентичности библейских и древнекитайских повествований сделало фигуралистов нарушителями запретов Ватикана на отождествление китайских понятий о божестве с христианским Богом.
В целом «фигурализм, или типология, был основан на вере в то, что Бог, властитель истории и людей, мог предуготовить события и направить руку пишущих таким образом, чтобы они указывали на будущее. Как только была установлена истина или „большая вероятность“ того, что древние китайские книги являются священными текстами, наподобие Библии, то не было ничего плохого в поиске в них пророчеств, фигур или типов — напротив, это был долг ученого, овладевшего для этого древнекитайским языком» [ Lundbaek 1991, с. 168]. Для обоснования своих взглядов фигу радистам требовалось углубленное исследи вание китайского исторического и текстуального материл При этом их повышенное, по сравнению с другими миссионерами, внимание к изучению китайского языка объясняется не только практическими потребностями, но и надеждой на то, что из–за долгой изоляции страны китайский язык изменился меньше европейских и сохранил в себе наибольшее число элементов изначального 一 данного Богом — языка человечества. «Фнгура–лнзм это не просто запоздалый всплеск умирающей традиции, но попытка создания нового культурного н религиозного синтеза. Он признавал ключевую роль языка в культурной герменевтике и межкультурном религиозном диалоге; он старался заменить неясности теологической терминологии универсальной четкостью математических формул. „Моисей** и ,,КитшГ‘ могли, в итоге, примириться, если бы их оказалось возможным [дедуцировать к общему коду, к всеобщему „герметическому** языку» [Rule 1994, с. 321].
Фпгуралистам приходилось решить непростую задачу — к концу XVII в. иезуиты уже убедились в том, что их высокие оценки китайской культуры, как н любая позитивная информация о загадочном Китае, используются европейскими вольнодумцами для подрыва авторитета католической церкви и Священного Писания. По прибытии в Европу тезисы иезуитип о близости конфуцианской морали п дреьнекптииской религии Шапди к христианству быстро обращались в антиклерикальные аргументы сторонников Просвещения, нашедших в Китае пример совершенной и высокоморальнон, но абсолютно атеистической монархии. Узнавая о Китае и его цивилизации, все большее число европейцев задавалось вопросом о том, можно ли считать отсутствие в древней китайской истории упоминаний об Адаме и Iloe наилучшими доказательствам11 научной несостоятельное ι и библейской истории. Европейские мыслители — волыюд)мцы того времени понимали, что поступающая из Китая информации трудно согласуется с данными Библии, и,опираясь на китайскую историю, они выступали против авторитета Священного Писания.
Избранный мыссионерами–фигуралистами путь поиска и классических китайских книгах скрытого доселе божественного смысла был адресован сразу двум цивилизационным мирам — их изыскания должны были убедить китайцев в том, что библейское предание уже давно стало неотъемлемой частью их культуры, н одновременно посрамить европейских скептиков, указывавших на KiiTaii как на пример процветающей атеистической цивилизации. «Фигурализм мог показаться универсальным решением людям, прибывшим из интеллектуальной среды, в которой хронология, мифология и обычаи неевропейских цивилизаций использовались для подрыва традиционных верований. Если бы они с помощью древних китайских книг смогли продемонстрировать, что китайцы сохранили следы примитивного откровения и что их история есть „фигуральная версия до–Потопной библейской истории человечества, тогда они одновременно укрепили бы в вере европейских скептиков и убедили бы китайцев в равенстве христианства и их собственных древнейших верований. Это соблазнительное видение объясняет настойчивость, преданность н упорство фигуралистов» [Rule 1986,с. 154】.
Вновь подчеркнем, что проблема совмещения китайской и библейской истории волновала иезуитских миссионеров задолго до Буве, Фуке и Премара. Уже на заре деятельности католических мисси!! в Китае делались попытки выявить взаимосвязь библейской и древней китайской истории. Рнччи исходил из того, что отсутствие в китайских классических книгах упоминании о библейских событиях не означает, что их не было, равно как отсутствие в Ветхом Завете упоминаний о древнекитайских мифических правителях Фу–си и Шэнь–нуне не означает, что они не существовали (см. [Ricci 1985, [395], с. 332–333]). Если бы Риччи стоял на позициях фигурализма, то он сказал бы, что от–сутствие упоминании в Библии Фу–си и Шэнь–нуна означает именно то, что как собственно китайских «туземных» персонажей их и вправду никогда не было — ведь под их именами скрыты ветхозаветные патриархи, образы которых исследователь должен раскрыть за внешними китайскими обличьями. Несмотря на это важное отличие фигурализм вобрал в себя фундаментальную рнччианскую предпосылку о тождестве ветхозаветно го Яхве и древнекитайского Шанди — ведь если после Потопа и гибели прежнего человечества потомки Ноя заселили весь мир, в том числе и Китай, то они не могли принести с собой знания о другом едином Боге, кроме Яхве.
Попытки обоснования единства истории человечества предпринимались в Китае и ранее. Хуан Гонзалес де Мендоза в 1585 г. заявил, что Китай был населен племянниками Ноя, иезуитский миссионер Руджери отыскивал «пророчества» и «оракулы» христианства в китайских верованиях. Лонгобардо отождествлял Фу–си с Зороастром, а Габриель Магальяэш в своей «Истории Китая» замечал, что II цзип рассматривается китайцами как «глубочайшая, ученейшая и таинственнейшая из всех книг на земле», и приписывал ее Фу–си, первому правителю Китая, правившему после Потопа. Луи ле Конт даже писал о «следах» знания о Боге Истинном, переданного сыновьями Ноя, которые можно найти в китайских исторических книгах. «Но все эти работы были адресованы европейской аудитории, столкнувшейся с проблемой соотнесения китайской древности с принятым библейским каркасом. И никто не счел их особо значимыми или систематически развил эти замечания» [Rule 1986, с. 153].
Немаловажно и то, что свои фигуралисты были до этого и среди китайцев, чему были собственные глубинные культурные предпосылки, ибо «всякая китайская маргинальная религия иностранного происхождения демонстрировала тенденцию к обоснованию своего раннего присутствия на китайской земле, обрисовывая свою духовную родословную Учение Небесного Господа тут не было исключением» [Zürcher 1994, с. 52]. Убеждение иезуитов в том, что в древности китайцы были знакомы с важнейшими божественными истинами, сопоставляется Цюрхером с распространявшимся буддистами преданием о наличии в отдаленной китайской истории некоей ранней идеальной стадии процветания буддизма. Здесь можно отметить «некоторое сходство с фантастическими теориями фигурализма, который в строгом смысле является продуктом европейской спекуляции, дальневосточным ответвлением поиска вечной мудрости, скрытой в работах Гермеса Трисмегиста и египетских иероглифах. Случайно китайские христиане развили то, что можно назвать «протофигуралистскими» теориями, основанными на идее знакомства Китая с божественным откровением во времена Фу–си. Наиболее радикальным продуктом этого протофигурализма была работа Шао Фучжуна конца династии Мин Тяньсюэ шо (Рассказ о Небесном учении), автор которой отыскивал некоторые христианские догматы (отметим Троицу и Непорочное зачатие) в гексаграммах II цзина [там же, с. 52]. «Протофнгуралистская» работа Шао Фучжуна привлекла внимание Ж.Жерне утверждением о том, что все католическое учение Небесного Господа происходит из II цзина. Матерь Божья символизируется в тексте гексаграммой кунь (земля, мать). Кунь есть Мать, поэтому она несет Дитя в своих руках, а Небесный Господь есть Сын, которого она родила. Символом Небесного Господа показана гексаграмма чжэнъ (молния), а в соответствии с формулами И цзина чжэнъ есть «старший сын» символа г^лкъ, являющийся гексаграммой для Неба. Он занимает место Неба, чтобы применить свою силу’, и держит в руках три небесных куска дерева, пораженных молнией. Троице соответствуют гексаграммы чжэнь, кань и гэнь, все они порождены Матерью — куиь (см. [Gernet 1985, с. 195–196]). Можно видеть, что эта работа очень близка по духу «ицзинистским» изысканиям того же Буве.
Вместе с тем «протофигуралистские» изыскания первых китайских католических апологетов вызвали решительный отпор со стороны носителей конфуцианской ортодоксии. Напомним, что автор антихристианского сборника Бу дэи Ян Гуансянь прославился не только нападками на мнссионера–астронома Адама Шалля, но и полемикой с доморощенным китайским фигурали–стом католиком Ли Цзубаем, автором работы Тяньсюэ чуапъгай (Очерк передачи Небесного учения, 1663). Описывая раннюю библейскую историю от сотворения Адама Богом (Шанди) и придерживаясь идеи взаимозаменимости имен Шанди и Тянъчжу, Ли пришел к выводу, что колыбелью человечества была Иудея, откуда люди позднее расселились по всему миру. Одна из групп переселенцев пришла в Китай под руководством некоего вождя, который позднее получил имя Фу–си — первого легендарного правителя Китая. Фу–си и его соплеменники были предками современных китайцев, они же принесли в Китай утраченную позднее религию Шанди. Утверждение об иностранном происхождении Фу–си (а вместе с ним и всех китайцев) было воспринято Ян Гуансянем как национальное оскорбление. Он возмущенно написал: «В книге Шалля утверждается, что один человек и одна женщина были сотворены как первопредки человечества. Он был не настолько дерзок, чтобы утверждать, что все люди в мире являются потомками его религии (расы). Но в соответствии с книгой Ли, однако, наш Китай есть не более чем ветвь Иудеи; наши древние правители, мудрецы и учителя являются выходцами из еретической секты; и наши классики и учения мудрецов, передававшиеся из поколения в поколение, есть не более чем остатки еретической религии. Есть ли предел этой глупости?» [Cohen 1963, с. 25; Young 1983, с. 86].
При дальнейшем рассмотрении идей фигуралистов стоит помнить о том, что их христианская мечта о приведении Китая к вере путем обнаружения общих корней двух цивилизаций наталкивалась на эмоциональное противодействие самих китайцев. Тем казалось, что иностранцы хотят лишить их национальной идентичности, и потому разговоры об общности происхождения из Иудеи и возможности проследить истоки древнекитайской традиции от Ветхого Завета выглядели как «предательство моральных традиций Китая и основателей его цивилизации» [Gernet 1985, с. 130].
Ицзинистский фигурализм Буве
Основатель фигурализма Жоакен Буве
[59] получил образование в иезуитской семинарии La Fleche, где показал хорошие успехи и изучении древннх языков и естественных наук. В эти годы он увлекся древними тайнами — еврейской каббалой, пифагорейской и платонической философией, с интересом изучал египетские иероглифы и учение Гермеса Трисмегиста. В 1685 г. Буве был послан к императорскому двору в Пекине как «королевский математик» Людовика XIV. Он достаточно быстро сумел выучить китайский и маньчжурский язык настолько, чтобы дават!> уроки геометрии, анатомии и философии императору Кан–си. В качестве посланца Кан–си Буве возвратился во Францию и 1693 г., представив королю посвященное ему жизнеописание китайского императора. В 1698 г. Буве с десятком более молодых миссионеров (среди них были Премар и Фуке) вновь отбыл в Китай, где и оставался до своей смерти в 1730 г. Все годы пребывания в Китае Буве не расставался с мечтой иезуитов о «христианизации сверху», надеясь обратить в христианство китайского императора. Однако многие миссионеры до него безрезультатно пытались добиться этой цели, и потому Буве решил искать новый путь в борьбе за душу Кан–си, взывая к его разуму и авторитету китайских классиков. В начале первого десятилетия XVIII в. Буве вел из Пекина актншгую переписку с другими иезуитами в Китае, пытаясь увлечь их своими фигуралистскими идеями. Найдя единомышленников, Буве использовал все свое влияние при императорском дворе. Добившись в 1711 г. перевода в Пекин Фуке, он также привлек Голле и Премара к совместной работе по исследованию и комментированию
И цзина. С 1713 г. Фуке служил в Пекине вместе с Буве до 1720 г., а с 1714 по 1716 г. с ним работал Премар.
Наставники миссии относились к исследовательским начинаниям Буве без большого сочувствия и препятствовали его работе в силу уже вступивших в действие папских запретов на использование древних китайских имен Бога и терпимость к китайским ритуалам. Стоит напомнить, что уже в 1693 г. папский викарий Мегро категорически запретил распространять сужде–1шя о том, что китайская философская мысль не противоречит христианству, что мудрые древние китайцы хотели называть Бога именем Тайцзи (Великий предел) и что книга И цзин вобрала в себя лучшие учения о природе и морали. Буве пошел на сознательное нарушение церковной дисциплины, обращаясь к поиску в // цзипе якобы скрытых от поверхностного взгляда следов Божественного Откровения Еще в 1697 г. он выступил с письмом в защиту практики использования иезуитами терминов Тянъ и Шанди, равно как и помещения табличек цтп тяпь (почитание Неба) в китаиских католических церквах. Споря с распоряжением Мегро, Буве заявил о важности трех из осужденных в нем позиций —совместимости китайской философии жизни с христианским законом, возможности использования понятия Тайцзи для обозначения имени Бога как первопричины всего сущего н оценки // цзина как лучшего изложения моральной и природной доктрины китайцев. Буве заявлял, что посредством анализа таинственных символов — «фигур. «Книги перемен», в которые заложил боговдохновенные принципы сам Фу–си, он выявил надлежащие способы интерпретации ее текста. Он полагал, что лучший путь для внедрения католической доктрины в Китае — это демонстрация ее совместимости с принципами древнекитайской традиции (см. [Witek 1982,с. 148–149]). Не приняв запретов Мегро, подтвержденных впоследствии Ватиканом, Буве настаивал на поиске в китайской классической литературе свидетельств близости древнекитайской традиции христианству. Раскрыв исконный христианский смысл любимой и почитаемой китайскими книжниками древности, он собирался привести китайскую образованную элиту к вере.
У наставников миссии были все основания для тревоги по поводу активности Буве. В 1702 г. тот представил императору Кан–си работу Тяньсюэ бэпьи (Изначальный смысл учения о Небе). По замыслу автора, это было собрание ^прекраснейших высказываний из классических книг Китая», согласующееся с христианским вероучением и подобранное в форме катехизиса. Отличие этой работы Буве от других подобных ей иезуитских компиляций состояло в значительном акценте на цитировании И цзипа и признании знакомства древних китайцев с догматом Троицы. Работа, названная недоброжелателями «беспорядочной и полной ошибок», была отвергнута как императором, так и наставниками миссии. Поскольку в Тяньсюэ бэньи Буве настаивал на том, что китайцы знали и знают Бога Истинного под именами Тянъ и Шанди, высказывается мнение, что эта работа была вкладом не столько в фигурализм, сколько в «спор о ритуалах» (см. [Rule с. 162]). Опасаясь беды, начальники Буве, чьи отношения с императорским двором все более обострялись, запретили ему говорить с Кан–си «о сверхприродных тайнах христианского закона». Тем не менее сам Буве был полон решимости продолжать изучать «естественную теологию» китайской классики, и в особенности И грин, тем более что эти исследования вызывали интерес и поддержку со стороны Кан–си. В 1711 г., когда Буве доставлял Кан–си вино и лекарства, ему было велено прибыть ко двору со всеми его работами по И цзипу и использованными в работе китайскими и европейскими текстами. Император спросил его, насколько достоверны его открытия в И цзипе— на это Буве ответил, что все основано на неоспоримых принципах чисел, геометрии, астрономии и традициях старейших и наиболее уважаемых наций. Кан–си заинтересовался ицзинистскими исследованиями иностранца и попросил Буве сразу представить их краткое изложение, а впоследствии передавать копии новых разделов из его исследований. В 1718 г. начальство строго запретило Буве без своего предварительного одобрения знакомить императора с любыми своими экзотическими теориями.
Интерес к
И цзипу, а также к
Шу цзипу и
Ши цзипу привел Буве к заключению о том, что в своей основе китайская классика восходит к до–Потопному наследию Иудеи. Около 1704 г. он укрепился во мнении, что центральным текстом китайской культуры является
И цзин отражающий традицию «иероглифической науки» древнего мира, а легендарный составитель гексаграмм
И цзина Фу–си был отождествлен нм с ветхозаветным патриархом Енохом. Буве все более склонялся к идее изучения китайской классики на основе предпосылки о единстве человечества, сотворенного одним Богом. Буве заключил, что обнаружил в
И грине следы изначального Откровения, потерянного в других культурах или искаженного там до неузнаваемости. Классические тексты в Китае изменялись, поэтому фигуралисты должны были отделить в них от позднейших искажений исконный смысл, переданный сыновьями Ноя. Сделать это было нелегко — никаких оригиналов мифических до–Потопных книг не сохранилось, а прямое текстологическое сравнение китайских классиков с древнееврейскими или древнеегипетскими текстами было затруднительным. Наиболее неповрежденным фрагментом до–Потопной древности фигуралисты сочли схему гексаграмм
И цзина и потому решились искать тайны Божественного Откровения прежде всего в них. Знакомство фигуралистов с материалами китайской истории побудило их отказаться от попыток обоснования происхождения мудрости язычников из Поднебесной от пророка Моисея. Им пришлось идти к истокам библейской истории до Ноя и Еноха, получившего традицию в устной передаче от Адама. В изложении Премара концепция согласованной «синобиб–лейской» истории по Буве сводится к тому, что Ной собрал книги Еноха
[60] и взял их с собой на Ковчег для обращения к вере людей после Потопа. Впоследствии из этих книг выросли все религиозные писания иудеев, при этом книги Еноха и пять конфуцианских канонов суть одно и то же, отличия же китайских текстов от произошедших из того же источника писаний Моисея и книг древнееврейских пророков относятся к расхождениям языкового характера, но не к доктрине. Более того, у китайцев нет исторических записей, восходящих к периоду до эпохи Чжаньго. Хотя их монархия существует уже 4000 лет, она основана Симом, сыном Ноевым. На этом основании все содержащиеся в китайских книгах упоминания о событиях, произошедших до этого периода, есть «фигуры», или прообразы. Потоп при императоре Яо из китайских книг и Потоп при Ное — одно событие, описанные в
Шань хай цзин океаны и горы есть образы жалкого состояния мира после грехопадения, а Великий Юй есть «фигура» Иисуса Христа. Упоминаемое же в летописи
Чунь цю царство Лу не имеет ничего общего с нынешней провинцией Шаньдун — это Иудея, где и был пойман чудесный зверь
Цилинь. Шэн, или Иисус Христос, есть единственный предок всех людей, и лишь ему иод именем
Хоуцзи и
Шанди приносили жертвы китайские императоры древности (из письма Премара, апрель 1716 г.) (см. [1лтс1Ьаек 1991, с. 116]). Таким образом, европейские скептики были посрамлены — ведь оказалось, что Китай был причастен к библейской истории человечества уже с момента Творения!
Мысль о том, что старший сын Ноя Сим принес до–Потоп–ную культурную традицию на Дальний Восток, стала определяющей для исследований иезуитских фигуралистов. Для Буве наиболее естественным путем объяснения присутствия упоминаний о Мессии в И цзине было предположение, что эта книга не является китайской и принадлежит к иудеохристианской традиции [там же, с. 112]. Исследуя древнекитайские тексты, Буве пришел к выводу, что китайцы изначально имели представление о Боге, Святой Троице, Мессии, грехопадении и Судном Дне, а также наказании за зло, ангелах, первочеловеке Адаме, Потопе, Воплощении Христа, Искуплении. Многие исторические и мифологические имена представлялись фигуралистам прообразами Бога, Троицы или Иисуса Христа. Отождествлявшийся с Енохом и Гермесом Трисмегистом первый китайский правитель Фу–си выступал «фигурой» Христа, так же как Желтый император Хуан–ди и чудесный зверь Цилинъ,возвещающий в китайской традиции не только мир и благополучие, но и рождение Мудреца. Предполагалось, что при правильной трактовке китайцы легко узнают в ицзиновском понятии о «мудреце–святом»> (тэн) самого Иисуса Христа. В отличие от Риччи и других первопроходцев миссии иезуитов в Китае, Буве практически не интересовался конфуцианской традицией. В письме к Премару он заявил, что считает Конфуция «мифологическим» и «чистым образом Сына Божия» (цит. по [Rule 1994,с. 321])·
Теории фигуралистов невозможно судить по одним лишь критериям научности, рациональности и доказательности. Буве был миссионером, движимым и одержимым идеей своего долга, звавшего его к поиску следов пророчеств о Спасителе в неведомой западным христианам китайской культуре. Он полагал, что древние восточные пророки и святые учителя естественного закона обладали таким же божественным знанием принципиальных тайн закона Иисуса Христа, как и Святые Отцы Церкви. Цитируя текст Ли ipu. Буве утверждал, что упоминаемое там Великое Единое (тай и), в результате разделения которого пояь–ляются Небо и земля (это разделение трактовалось Буве не только в креационистском, но еще и в тринитарном ключе), есть синоним Всевышнего Владыки (Шанди). Ссылаясь на Ши цзи, он доказывал, что в древности китайцы приносили жертвы н поклонялись тай и как единому наивысшему Богу. Китайские иероглифы представлялись фигуралистам вместилищем сакральных тайн, смысл которых был утрачен в результате деформации письменности. Буве пытался дать обоснование своим гипотезам со ссылкой на анализ иероглифов. Он отметил, что знак 伏 фу из имени Фу–си состоит из компонентов 人 жшь (человек) н 犬 цюпнь (собака). На этом основании Буве интерпретировал знак фу как обозначение человека–собаки, утверждая, что Гермес Трисме–гнст также представляется с головой собаки на человеческом теле, и находя здесь подтверждение тождества «фигур» Фу–си и Гермеса. Трисмегиста. Второй знак си был истолкован как имеющий отношение к жертвоприношениям и роли Фу–си в качестве распорядителя жертвоприношений, что подтверждалось ссылкой на близкий по написанию знак 犠 си、указывающий на жертвен–ное животное. Буве также утверждал, что Фу–си именуется другим именем — Тайхао 太旲,истолкованным как «трижды великий», тот же смысл имеет имя Трисмегист (см. [Mungello 1977, с. 54–55]).
Многие библейские образы были обнаружены Буве непосредственно в гексаграммах И цзина. К примеру, шесть черт гексаграммы трактовались им как динамические этапы, соответствующие шести дням труда Бога в процессе Творения, три непрерывные линии триграмм представляли Троицу, а прерванные — грех и разрушенное единство человечества. Можно понять, почему Руле охарактеризовал методологию христианской ицзини–стики Буве как «простую до крайности» [Rule 1986, с. 164].
Позднее Буве обратился к разработке теории трех этапов развития мира на основе
И цзина. Увязывая свою концепцию с китайскими представлениями о культурной истории, Буве сопоставил китайское понятие о трех
И цзинах, в соответствии с которым до нынешнего текста существовали еще два утраченных (при этом первый вариант принадлежал лично Фу–си), с тремя нормативными стадиями христианского понимания истории: совершенство «золотого века» до грехопадения; период после изгнания из рая, когда люди и ангелы бунтовали против Бога; период после прихода Спасителя, когда мир обретает возможность вернуться к его изначальному состоянию. Содержащееся в
И цзине понятие
сянътянъ (доприродное) трактовалось как период от Творения до Вознесения Господа, а
хоутянъ (послеприрод–ное) — как указание на период от Вознесения до «конца света». Эта почти циклическая доктрина движения от совершенства к упадку и поиску восстановления совершенства, отраженная также в китайской литературе, согласуется с общими понятиями христианства. Заметим, что идея библейско–ицзинистской теории трех периодов Буве заинтересовала Кан–си, что могло быть связано с ее близостью к китайским представлениям
[61].
Сообщения иезуитов о культуре и религии Китая нашли в Европе немалый отклик и были восприняты многими великими умами того времени, среди которых был видный философ Готфрид Вильгельм Лейбниц. Общим объектом интересов Лейбница и Буве был прежде всего
И цзин[62]. Пиетет Буве перед
И цзипом был столь велик, что его ученик Премар написал: «Он был одержим своими идеями и никогда не стал бы слушать людей, которые не согласились бы с ним в том, что
И цзин есть прекраснейшая, величайшая, ученейшая, святейшая и благотворнейшая книга, когда–либо написанная человеком. Чем больше на него нападают, тем более нетерпимым он становится, поскольку уверен, что такие нападки есть дело дьявола» [Ьипс1Ьаек 1991, с. 115]. Лейбница и Буве сближали еще и поиски «универсальной культуры» человечества и гармонизации религий различных культур. Возлагая на Лейбница большие практические надежды, Буве уповал на то, что затормозившиеся планы иезуитов по ознакомлению Евро пы с китайской наукой и культурой все же смогут реализоваться «Буве и Лейбниц соглашались в своем понимании использования науки как инструмента религии, что явилось отражением оптимизма по поводу потенциальных плодов, которые можно было пожать от применения науки, и было очень симптоматично для возникающего европейского просвещения» [Мш^еИо 1977, с. 56].
Фигуралистские идеи Буве стали одним из источников, сформировавших представления Лейбница о китайской мысли. В письме к Лейбницу от 8 ноября 1700 г. Буве охарактеризовал И цзии как древнейшую китайскую книгу, которая стала источником всей китайской науки и философии, возможно превосходящей европейскую. Он характеризовал этот текст как драгоценное наследие китайской древности, отражающее высшую степень гармонии различных отраслей знания. Буве считал, что все последующие комментарии лишь исказили первоначальный смысл структуры из 64 гексаграмм, тогда как ее составитель Фу–си сумел выразить в ней высшие принципы бытия. Универсальность системы И цзина подкреплялась универсальностью трактовки ее создателя — для Буве самое имя Фу–си было китайским вариантом имени одного общечеловеческого «законодателя», известного многим древним народам. «Буве видел в 64 гексаграммах и их 384 линиях отражение гармонии небесных движений, со всеми необходимыми принципами, поясняющими природу всех вещей и причины порождения и упадка… Определив соответствие между числами Фу–си и теми, что давали Пифагор и Платон, Буве пришел к выводу, что они проистекали из одной системы. Далее он заметил соответствие нумерологических тайн каббалы и последовательно пришел к связи древней китайской философии с платоновской и древнееврейской, рассматривая их как общее откровение Творца» [там же, с. 47–48].
В своих исследованиях бинарной системы исчисления и гексаграмм И цзина Лейбниц пришел к выводу, что знакомство древних китайцев с бинарной арифметикой свидетельствует о том, что Божественное Откровение естественной теологии было дано всему человечеству. Здесь было и обратное влияние Лейбница на фигуралистов — для Буве решающим фактором в разработке его «системы» стала переписка с Лейбницем в 1697–1703 гг. (см. [Lundbaek 1991, с. 17]). Повышенный интерес Лейбница к графическим символам И цзипа, его вера в наличие богоданных универсальных математических структур, его позитивное отношение к разработкам иезуитов — все это было большим стимулом для Буве. «Отец фигурализма» видел в лейбницев–ском бинарном исчислении путь обоснования своих интуитивных представлений об общих палестинских корнях всего человечества, способных объединить культуры Запада и Китая. В 1701 г. в письме к Лейбницу Буве сообщал о своем желании познакомить с математическими открытиями немецкого философа о связи чисел и творения мира императора Кан–си.
Буве уделял большое внимание китайской письменности и полагал, что китайская иероглифика обладает логико–нумерологической структурой, освоение алгоритмов которой значительно упростит для европейцев задачу изучения китайской письменности. К концу 1707 г. Буве разработал собственную сложную схему нумерологии И цзина. Цитируя письмо, написанное ему Лейбницем, Буве заметил, что система нового математического исчисления поможет не только обычному использованию чисел, но и развитию научной теории. Подобно тому как в двоичной системе все числа состоят из комбинаций единицы и нуля, все существа уникально происходят от Бога и ничто. Буве пояснил последнее, указав на геометрическую фигуру, идущую за Великим пределом и соответствующую первому обращению Земли. Первое разделяется надвое, два на четыре и так далее до тех пор, пока не получается число 64, представляющее число гексаграмм в И цзине (письмо к де Майла от 3 декабря 1707 г., см. [ Witek 1982, с. 153]). В 1712 г. Буве составил отчет о своих взглядах для руководства ордена иезуитов. Он пояснил, что естественные символы не отличаются от материальных объектов, выражая невидимые творения Бога. В И цзиш для этого использовался термин ваньсян (десять тысяч образов), обозначающий все символы или образы, происходящие от Всевышнего Творца. Научные символы зависят от рациональных чисел, ибо при создании Неба и земли Творец наделил материальные объекты наук определенными качествами. Но выше всего стоят те нумерологические проявления (rationes numéricas), где изначальная истина скрыта под покровом тайны. В последнем случае под покровом внешнего смысла находится истина христианства. Буве полагал, что традиции китайцев ближе к христианским таинствам, чем взгляды западных язычников Он утверждал, что император одобрил его исследования, в частности его взгляды относительно нумерологических оснований, по которым мир был сотворен в превосходном состоянии.
Фуке и опровержение исторической реальности Трех династий
Фуке подключился к фигуралистским дискуссиям в 1709 г. Он работал вместе с Буве в Пекине с 1711 по 1720 г., когда жил в столице в резиденции французских иезуитов и работал над составлением географических карт Китая. В 1722 г. Фуке был отозван из Китая в Европу, где окончил свои дни епископом в Святой Конгрегации пропаганды веры, боровшейся с вероучительной неустойчивостью иезуитов.
Современные исследователи считают Фуке «единственным последовательным фигуралистом», шедшим своим путем, «не следуя ни за Буве в его пророческих взлетах, ни за де Премаром в бесплодных поисках следов Откровения; но концентрируясь на „фигурах“, или символах, китайских классиков» [Rule 1986, с. 167]. Он сравнительно мало интересовался пророчествами, поисками откровений и построением универсальных систем, сосредоточившись прежде всего на нахождении доказательств получения китайцами своей традиции непосредственно из рук сыновей Ноя. «Когда Буве концентрировал свое внимание на числовых и геометрических прогрессиях в И цтне, Фуке со своим интересом к даосизм) вышел за пределы этого» [Witek 1982, с. 202].
Со временем Фуке все более обращался к даосской классике и пришел к выводу, что противопоставление даосизма конфуцианству необоснованно, так как Дао дэ цзип не только не исключал развитие добродетелей гуманности и справедливости, но на самом деле реализовал их через проповедь идеала Мудреца (гиэн–жэнь), истолкованного им как прообраз христианского Спасителя. Опираясь на широкий круг даосских текстовых источников, Фуке пытался доказать, что понятие Дао означает Бога, а шэн–жэнь— Мессию. Такой подход вышел за рамки установки Риччи на синтез с конфуцианством при одновременном отвержении буддизма и даосизма — «так иезуитская интерпретация конфуцианства стала иезуитской интерпретацией даосизма» [Rule 1986, с. 170].
Основные постулаты своего фигуралистского истолкования китайской классики Фуке обобщил следующим образом: во–первых, в соответствии с китайскими источниками, происхождение древних китайских книг было божественным, и они происходили от Тянъ и Шанди\ во–вторых, иероглиф дао указывает в этих таинственных книгах на вечную мудрость и именно того Бога, которому поклоняются христиане; в–третьих, сочетание тпаицзи в правильно понятом смысле в этих книгах обычно обозначает Дао, которое есть эквивалент Шанди или Тянь (письмо Фуке к Гиберу от 26 октября 1719 г., см. [Witek 1982, с. 207]). Все эти положения вошли в самый длинный фигуралистский трактат Фуке — «Проблема теологии» (Probleme theologique) (август–ноябрь 1718 г.). Работа концентрировалась вокруг предпосылки о том, что в древних китайских памятниках Дао было синонимом Высшего Бытия, которому поклонялись христиане. Это подкреплялось ссылкой на то, что многократные упоминания о Мудреце (шэн) пророчествуют о христианском Мессии. На этом основании Фуке пришел к выводу, что древние книги Китая сохранили в себе тончайшие христианские истины и славнейшие тайны этой религии. В написанной в 1718–1720 гг. книге «Вход в храм древней мудрости» (Propylaeum temph veteris sapientiae) Фуке также исходил из предпосылки общности древнеиудейской и древнекитайской мудрости.
Обосновывая божественность Дао, Фуке обнаружил в нем нормативные теологические атрибуты Высшего Бытия: единичность и триединство божественной природы, сообщающейся с внешним через сотворение мира, но не нуждающейся ни в чем внешнем, обретающей телесность, чтобы стать видимым примером героической доородетели, и могущей иметь много других имен помимо тех, что употребляют христиане. В трактовке Фуке Дао предстало как творец и хранитель вселенной, как правитель людских дел, субстанциально единый с Небесным Господом. Оставался лишь вопрос о степени обоснованности проведенной Фуке проекции атрибутов Бога христианской теологии на китайское дао. «Фуке обратил внимание на то, что дао обладает различными смыслами, например: путь, истина, доктрина, или закон. Но добираясь до существенной точки, дао надо было рассматривать как предшествующее всем вещам и полностью недоступное человеческому сознанию» [там же, с. 211].
Фуке подчеркивал встречающиеся в древнекитайских даосских текстах
JIe–цзы и
Чжуан–цзы «квазихристианские» идеи непознаваемости и непорожденности всепорождающего
дао. В первой главе книги
Ле–цзы он обнаружил китайское разделение четырех этапов Творения, якобы сообразующихся с христианской доктриной:
тайи (великая простота–перемена),
тайчу (великое начало),
тайши (великое начинание) и
тайсу (великая простота субстанция)
[63]. Предшествовавшая творению «Великая простота» была «душой Христа», соединенной со Второй ипостасью Трои цы до сотворения ангелов, человека, неба и земли.
Тайи есть Бог, а также Слово и Святой Дух, производящие величайшее из всех изменений, а именно переход от небытия к бытию. Вайтек заметил по этому поводу, что христология Фуке входила в противоречие с решением Константинопольского синода 534 г., предававшего анафеме провозглашающих предсуществование души Христа, соединенной со Словом до Воплощения. «Не понятно, почему Фуке сделал эту ошибку, но она серьезно под рывает его аргументы в интерпретации этого фрагмента ил
Ле–цзы» [там же, с. 156, примеч. 27].
В «Проблеме теологии» Фуке собрал все возможные фрагменты из китайской классики, доказывающие, что Дао есть воз можное имя для христианского Бога. Хотя запрет Ватикана касался прежде всего Тянь н Шанди, позиция Фуке явно не соответствовала требованиям вышестоящих духовных властей. Введение в оборот фигуралистских и иезуитских изысканий понятия дао было новаторским, так как до этого миссионеры сравнительно мало изучали даосские тексты, а сам Риччи заклеймил даосизм как врага христианства в Китае. Следуя традиции, Фуке полагал, что Шанди и Тянь могут быть именами христианского Бога, а Дао является их полноправным эквивалентом. В целом он все же старался не нарушать запреты и потому пытался подчеркнуть, что рассуждает не о современном употреблении китайских имен Бога для нужд проповеди, а об их изначальном смысле, содержащемся в древних книгах.
До прибытия в Кантон в 1721 г. Фуке придерживался разделявшегося многими иезуитами мнения, что китайские ритуалы поклонения Конфуцию и предкам не содержат ни суеверия, ни идолопоклонства. И напротив, наряду с Буве он полагал, что поклонение китайского императора Тяпь и Шанди было идолопоклонством, так как император при этом отождествлял своих праотцев с Высшим Бытием (см. [там же, с. 246]). Проблема имен и ритуалов была столь запутанной, что многие миссионеры были удивлены — ведь Фуке утверждал, что императорский культ поклонения Шанди был идолопоклонством уже несколько тысячелетий назад, но одновременно спорил с запретом на использование имен Тянь и Шанди, к тому же желая использовать для именования Бога еще и категорию Дао, принцип (ли) и бинар инь–ян. Эти упреки из письма д’Энтреколля (9 сентября 1722 г.) показывают, что, «смешивая вопрос терминов с проблемой китайских ритуалов, тот не вполне воспринял тонкие нюансы во взглядах Фуке» [там же, с. 249, примеч. 248].
В 1712 г Фуке поддержал Буве, утверждая, что его умозаключения, будучи направленными на гармонизацию с китайской системой философии, никоим образом не ведут к атеистическим выводам. Хотя в писаниях Буве не провозглашались истины христианства, невозможно отрицать, полагал он, что, как демонстрирует Ицзин с его нумерологическим единством, знание о Творце может быть получено через сотворенные вещи. «Термин шайи (великое одно—единое) есть эквивалент Шанди. Если же нет, то все дело ордена иезуитов будет проиграно. Фактически, добавил Фуке, тпаицш (Великий предел) есть иной термин для Бога, как показали патеры да Коста и Инторчетта в своих комментариях к Лунь юй» [там же, с. 207].
После возвращения в Европу в 1723 г. Фуке сказал кардиналу Джудиче, что термины Тянь и Шанди были осуждены правильно, хотя сами по себе они не заслуживают порицания, так как в древности в китайской классике обозначали Бога. Но поскольку культ Тянь и Шанди впоследствии стал идолопоклонским, то нет нужды продолжать обозначать этими именами христианского Бога. В то же время, Тяньчжу был в его глазах еще менее подходящим термином для Бога, так как ассоциировался с Буддой, «самым страшным идолом Востока» [там же, с. 272]. На вопрос кардинала о том, есть ли у китайцев какое–нибудь имя для обозначения Бога, Фуке ответил, что не знает другой нации с таким большим количеством классических книг и таким плохим их использованием.
В беседе с кардиналом Фаброни Фуке, демонстрируя согласие с решениями святого престола по вопросам терминов, еще раз подчеркнул, что
Тяньчжу подходит для Бога Истинного еще менее, чем
Шанди и
Тянь, так как в
Ши цзи содержится упоминание о том, что император Цинь Шихуан поклонялся восьми духам
(6а шэнь), первым из которых был
Тяньчжу, за которым следовал
Дичжу, а далее следовали боги войны, бинар
инь—ян, солнце, луна и четыре времени года. Другая причина — присутствие в китайских храмах табличек с именем
Тяньчжу с идолопоклонским знаваемости и непорожденности всепорождающего
дао. В первой главе книги
Ле–цзы он обнаружил китайское разделение четырех этапов Творения, якобы сообразующихся с христианской доктриной:
тайи (великая простота–перемена),
тайну (великое–начало),
тайши (великое начинание) и
тайсу (великая простота–субстанция)
[64]. Предшествовавшая творению «Великая простота» была «душой Христа», соединенной со Второй ипостасью Троицы до сотворения ангелов, человека, неба и земли.
Тайи есть Бог, а также Слово и Святой Дух, производящие величайшее из всех изменении, а именно переход от небытия к бытию. Вайтек заметил по этому поводу, что христология Фуке входила в противоречие с решением Константинопольского синода 534 г., предававшего анафеме провозглашающих предсуществование души Христа, соединенной со Словом до Воплощения. «Непонятно, почему Фуке сделал эту ошибку, но она серьезно подрывает его аргументы в интерпретации этого фрагмента из
Ле–цзы» [там же, с. 156, примеч. 27].
В «Проблеме теологии» Фуке собрал все возможные фрагменты из китайской классики, доказывающие, что Дао есть возможное имя для христианского Бога. Хотя запрет Ватикана касался прежде всего Тянъ и Шанди, позиция Фуке явно не соответствовала требованиям вышестоящих духовных властей. Введение в оборот фнгуралистских н иезуитских изысканий понятия дао было новаторским, так как до этого миссионеры сравнительно мало изучали даосские тексты, а сам Риччи заклеймил даосизм как врага христианства в Китае. Следуя традиции, Фуке полагал, что Шанди и Тяпь могут быть именами христианского Бога, а Д如 является их полноправным эквивалентом. В целом он все же старался не нарушать запреты и потому пытался подчеркнуть, что рассуждает не о современном употреблении китайских имен Бога для нужд проповеди, а об их изначальном смысле, содержащемся в древних книгах.
До прибытия в Кантон в 1721 г. Фуке придерживался разделявшегося многими иезуитами мнения, что китайские ритуалы поклонения Конфуцию и предкам не содержат ни суеверия, ни идолопоклонства. И напротив, наряду с Буве он полагал, что поклонение китайского императора Тянъ и Шапди было идолопоклонством, так как император при этом отождествлял своих праотцев с Высшим Бытием (см. [там же, с· 246]). Проблема имен и ритуалов была столь запутанной, что многие миссионеры были удивлены — ведь Фуке утверждал, что императорский культ поклонения Шанди был идолопоклонством уже несколько тысячелетий назад, но одновременно спорил с запретом на использование имен Тянь и Шанди, к тому же желая использовать для именования Бога еще и категорию Дао, принцип (ли) и бинар инь–як. Эти упреки из письма д’Энтреколля (9 сентября 1722 г.) показывают, что, «смешивая вопрос терминов с проблемой китайских ритуалов, тот не вполне воспринял тонкие нюансы во взглядах Фуке» [там же, с. 249, примеч. 248].
В 1712 г. Фуке поддержал Буве, утверждая, что его умозаключения, будучи направленными на гармонизацию с китайской системой философии, никоим образом не ведут к атеистическим выводам. Хотя в писаниях Буве не провозглашались истины христианства, невозможно отрицать, полагал он, что, как демонстрирует И цзин с его нумерологическим единством, знание о Творце может быть получено через сотворенные вещи. «Термин тайи (великое одно—единое) есть эквивалент Шанди. Если же нет, то все дело ордена иезуитов будет проиграно Фактически, добавил Фуке, тайцзи (Великий предел) есть иной термин для Бога, как показали патеры да Коста и Инторчетта в своих комментариях к Лунь той» [там же, с. 207].
После возвращения в Европу в 1723 г. Фуке сказал кардинал)' Джудиче, что термины Тянь и Шанди были осуждены правильно, хотя сами по себе они не заслуживают порицания, так как в древности в китайской классике обозначали Бога. Но поскольку культ Тянь и Шанди впоследствии стал идолопоклонским, то нет нужды продолжать обозначать этими именами христианского Бога. В то же время, Тяньчжу был в его глазах еще менее подходящим термином для Бога, так как ассоциировался с Буддой, «»самым страшным идолом Востока» [там же, с. 272]. На вопрос кардинала о том, есть ли у китайцев какое–нибудь имя для обозначения Бога, Фуке ответил, что не знает другой нации с таким большим количеством классических книг и таким плохим их использованием.
В беседе с кардиналом Фаброни Фуке, демонстрируя согласие с решениями святого престола по вопросам терминов, еще раз подчеркнул, что Тяньчжу подходит для Бога Истинного еще менее, чем Шанди и Тянь, так как в Ши цзи содержится упоминание о том, что император Цинь Шихуан поклонялся восьми духам (6а шэнь), первым из которых был Тяньчжу, за которым следовал Дичжу, а далее следовали боги войны, бинар инь—ян, солнце, луна и четыре времени года. Другая причина — присутствие в китайских храмах табличек с именем Тяньчжу с идолопоклонским смыслом. Ни с одним из кардиналов он не разговаривал о китайских ритуалах поклонения предкам или Конфуцию [там же, с· 273].
Фуке предполагал, что основные догматы христианства могут быть обнаружены в древнекитайских текстах. В качестве показательного примера применения фигуралистского метода Фуке исследователи указывают на его трактовку Конфуция. Воссоздавая историю его жизни, Фуке продемонстрировал хорошую осведомленность в древнекитайских источниках. Однако его интерпретация известных слов Конфуция «Я передаю, но не творю, я верю в древность и люблю ее. Осмелюсь в этом сравниться с Лао Пэном» (Лунь юй 7:1) окрасила их в христианские тона. Китайские исследователи до сих пор спорят о том, кто такой этот Лао Пэн — мудрец Лао–цзы, некий близкий современник Конфуция или аристократ эпохи Инь (см. [Переломов 1998,с. 109]). Фуке же предположил, что названный в Чжуап–цзы именем Пэн Цзу Лао Пэн есть Предок Пэн — то есть сам Адам. Считается, что Конфуций получил свое знание в ходе визита в царство Чжоу, где он повстречал Лао Даня или Лао–цзы, хранителя записей. Эти записи, из которых Конфуций и Лао–цзы почерпнули свои идеи, очевидно, были «записями из раннего мира, которые Ной сохранил на Ковчеге, или их копиями», принесенными в Китай после Потопа. Название царства «Чжоу» 周 означает «всеобщее», что проистекает из его предназначения к сохранению всеобщего учения. Древнее название Китая «Чжун–го» — «Срединное царство» было применено к Китаю по ошибке, но оно прекрасно подходит к Иудее, откуда и было когда–то позаимствовано (см. [Rule 1986,с. 172]). В остальном Фуке достаточно близко следовал мысли Риччи, обвиняя ханьских комментаторов и последующих неоконфуцианцев в искажениях изначального смысла текстов после их сожжения.
Как настоящий фигуралист, Фуке уделял серьезное внимание символике языка, считая китайские иероглифы чистыми образами подлинных идей. Фигурализм вел к признанию некоей «двойственности» китайской иероглификн, в силу чего за повседневным смыслом знаков, который, несмотря на общепринятость, — поверхностен и вторичен, скрыт иной, таинственный и божественный смысл, нуждающийся в расшифровке. Когда скептики заметили Фуке, что конфуцианские книги содержат прежде всего открытую для всех моральную доктрину, а не тайное религиозное учение, тот ответил следующим «силлогизмом»: «В И цзипе и в других канонических книгах доктринальная система одна и та же,она выражается иероглифами одной и той же природы. По доктринальная система И цзина полностью символична. Поэтому она полностью символична и в других канонических книгах» [там же, с. 173]). Фуке полагал возможным найти в И цзиш зашифрованный мистический смысл, думая, что каждая из линий в гексаграмме означает соответствующее число, которое обладает соответствующим свойством, указывая на тайны Спасителя или событие в Его Церкви.
Продолжая фигуралистскую традицию истолкования китайских иероглифов, Фуке утверждал, что иероглиф 天 тянь (Небо) состоит из компонентов 二 «два» и 人 «человек», что может быть прочтено как пророчество о приходе второго Адама, т.е. Христа (см. там же). Он также видел в иероглифах имени Фу–си образ собакоголового Гермеса Трисмегиста и был уверен, что древнекитайски» мифический император Яо на самом деле есть Бог (Шанди), считая китайское имя Яо фонетической производной от древнееврейского Яхве (из работы «Попытка предварительного введения в значение канонов» Essai d'Introduction Preliminaire a l.Intelligence des Kings) (см. [там же, с. 175]).
Главным для Фуке было дать китайцам ключ к пониманию их собственных «святых、> писаний, передававшихся в их культуре в виде канонов (цтн). Предполагалось, что после этого китайцы сами поймут, что их ритуалы изначально носили характер священнодействия, а потом были испорчены, — а это побудит их к восстановлению присущей древности утраченной святости с помощью западных миссионеров. 11 Фуке, и Риччи пытались обратить Китай в христианскую веру методом аккомодации, но для Фуке древние тексты китайцев были священными, а не мирскими. Китайские религиозные ритуалы для него также изначально были святыми, а лишь потом стали суеверными и ндолопоклонскими, тогда как для Риччи они изначально были гражданскими и политическими. Риччи пытался отринуть неоконфуцианское «учение о природе и принципе» (син ли сюэ) и понять конфуцианство в первоисточнике, признавая возможность согласия христианских требований с существующим моральным укладом Китайской империи. Фуке пошел дальше и заявил, что истины католицизма мистическим образом скрыты внутри самих классических текстов. В общем, «фигура–лнзм Фуке был радикальным отходом от Риччи» [Witek 1982,с. 308].
Проблема китайской хронологии
Фуке внес значительный вклад в дискуссию по китайской истории, в частности пытался сформулировать всеобъемлющую фигуралистскую систему, основанную на следующих предпосылках:
1. Первый человек Адам знал не только тайны религии, включая грядущего Искупителя, но также все науки и искусства, которые ему было доверено передать потомкам «в графической фор ме», «через бесконечное множество символов».
2. Некоторые из потомков Адама получили ключ к этим мистическим символам, или каббале, в особенности Сиф и Енох «Тайная традиция» была возрождена Моисеем, и вновь, уже после вавилонского плена, — Ездрой.
3. Каббала сохранялась не только устно, но и в книгах, которые держали в секрете от простых людей.
4. Эти книги были спасены на Ноевом Ковчеге и вместе с устной традицией переданы всем народам земли. Наиболее обширные и лучше всего сохраненные истоки этой древней традиции могут быть найдены в Китае, а изучение древних китайских кнш поможет восстановить «древние тайны» и систематически изложить «божественную науку» (см. [Rule 1986, с. 171]).
Проблема отношения к мифическим совершенномудрым правителям китайской древности стала одной из крупных трудностей для иезуитских миссионеров. Как правило, они исходили из того, что «примитивная религия и добродетели „золотого века“ просуществовали в Китае особенно долго, на что указывают древние мудрые правители: Хуан–ди, Яо, Шунь, Юй, Чэн Тан, Вэнь–ван и У–ван, а также факт отсутствия кровавых жертвоприношений, сыновняя почтительность и хорошие брачные законы „Золотой век“ скромности, невинности и удовлетворенности длился в Китае, как думалось, более 2500 лет после Потопа Причина его продолжительности в том, что Китай был закрыт всему новому и иностранном)', что означало бы только изменение к худшему. Эта религия существовала не для целей обтег–чения правления в Китае, но сама по себе» [Collani 1990, с. 44].
Эту идею надо было согласовать с библейским преданием
о Потопе и праотце нынешнего человечества Ное, у которого было три сына — Сим, Хам и Иафет (Быт. 9:18). Большинство миссионеров надеялись, что китайцы произошли не от плохого сына Хама, а от хорошего Сима. Потомки Хама стали поклоняться идолам, а потомок Сима Фу–си поклонялся Богу истинному, заложил основы китайской нравственности и зафиксировал принесенные с собой знания в гексаграммах
II цтна. Но, как подчеркивал иезуитский миссионер Филипп Купле (1G23–1693), само по себе это еще не означало, что китайцы произошли от иудеев, хотя и имели схожую мораль и обычаи. Сам Купле рассматривал имя Сим (в западнохристианской традиции пишется Shem) как трансформировавшееся в китайском языке в
гиэн — «порождать»
[65], видя в этом дополнительное доказательство происхождения китайцев от Шема (Сима) из колена Ноева (см. [там же, с. 45]).
Касаясь проблем китайской хронологии, Купле отмечал, что Китай был населен уже через 2000 лет после Потопа (т.е. через 2456 лет после Творения и за 2500 лет до Христа). Для обоснования этого Купле датировал события, описанные в китайских летописях, в соответствии с Септуагинтой, а не Вульгатой
[66], по которой Творение относилось к 4004 г. до н.э. и библейский Потоп —к 2349 г. до н.э. Признание датой рождения Фу–си 2952 г. до н.э. с одновременной опорой на Вульгату создавало для миссионеров сложную проблему. Это означало бы, что китайская историческая хронология охватывает время до Потопа, так как дата рождения Фу–си предшествовала бы Потопу на 603 г. и всеобщая патримония Ноя оказалась бы под вопросом. В свою о.че–редь, из этого следовало, что в человеческой истории была вторая линия развития, параллельная Ною. Для выхода из затруднительна! ситуации была использована одна из хронологий Септуагинты, в соответствии с которой мир был сотворен в 5200 г. до н.э., Потоп был в 2957 г. до н.э. В этом случае рождение Фу–си имело место через пять лет после Потопа (см. [Mungello 1990, с. 192]). Купле признал наличие проблемы, связанной с разрывом в шестьсот лет между датировкой Потопа по Вульгате и началом китайской истории от рождения Фу–си. Однако он не пытался решить проблему, ссылаясь исключительно на Септуагннту, п указывал, что в китайских анналах есть своя ссылка на потоп при императоре Яо, чье правление началось в 2357 г. до н.э., а это хорошо подошло бы к «вульгате кой» дате — 2349 год до н.э. Но и это хронологическое совмещение не решило бы проблему, так как, по китайским источникам, история начиналась задолго до правления Яо (см. [там же, с. 193–194]).
В ходе дискуссии о хронологии ранней китайской истории в октябре 1709 г. Фуке выступил с опровержением распространившихся взглядов. «Со своей приверженностью фигурализму и отрицанием ранней китайской хронологии Фуке встал на путь, который отличался в других областях и от взглядов его иезуитских собратьев на вопросы китайской истории и литературы» [Witek 1982, с. 166]. Он утверждал, что китайских династии Ся, Шан и Чжоу в истории не было и они должны восприниматься как образы. Главной задачей Фуке было доказать, что Фу–си был реальным человеком. Тогда Три династии следовало бы поместить до или после Фу–си, но невозможность сделать это требовала доказательств их несуществования. Фуке подчеркивал, что в китайских источниках Фу–си приписывают открытие гексаграмм (гуа), создание иероглифики и составление классических текстов. Одновременно в китайских летописях говорилось, что получен ные Конфуцием классические книги были изменены в древно сти, на основании чего Фуке предположил, что Три династии предшествовали Фу–си. Обратившись к тексту Ле–цзы Фуке заключил, что ко времени жизни Ян Чжу, который, по китайским представлениям, жил около 600 г. до н.э., через четыре–пять веков после Вэнь–вана и У–вана, династия Чжоу уже многие века не существовала. Он также пришел к выводу, что историческая хронология в Китае была прервана отдаленным во времени Потопом, так как в меньшем временном интервале традиция сохраняется легче.
Обратившись к памятнику Сюнь–цзы, Фуке отметил содержавшееся в главе 4 замечание о том, что, «хотя Три династии исчезли, их законы и уложения правления сохранились в сохраненных памятниках», но все же усомнился в том, что династия Чжоу существовала при жизни Сюнь–цзы. Больше всего подозрений вызвали у него замечания Сюнь–цзы об основателе династии У–ване как бунтовщике и узурпаторе. Фуке озадачивало то, почему ни Конфуций, ни Мэн–цзы, ни Сюнь–цзы не отправились ко двор) Чжоу, чтобы предложить услуги по улучшению правления. Тем не менее он признавал, что эра этой династии, скорее всего, закончилась в период Борющихся царств, да и сам Кан–си соглашался, что в этот период не было императора. Фуке задался вопросами о том, почему Шу цзин и другие классические тексты пользуются в Китае таким большим уважением, почему узурпаторы вроде У–вана упоминаются в священных книгах, куда никто не имеет права добавить ни одного иероглифа, тогда как великие начинания династий Хань или Тан сведены к уровню заурядных историй. Авторитет Конфуция не был для Фуке весомым аргументом, и он связывал длительность сформировавшейся еще до Конфуция китайской традиции почитания канонов с тем, что они были книгами «Божественного оракула и предсказаниями Искупителя».
Завершающим ударом Фуке было заявление, что лунные и солнечные затмения, зафиксированные в IUy и,зин€, Ши цзине и летописи Чунь цю、не могли случиться в то время, которое указывалось китайцами. Ссылаясь на мнение знаменитого астронома того времени ЛСаи–Доминика Кассини, что китайский год был или слишком длинен, или слишком короток, если измерять по распространенным в то время стандартам, Фуке заявлял, что в трех классических произведениях были приведены ошибочные астрономические данные. Он основывался на сведениях о затмениях и стал первым западным ученым, отметившим это несоответствие (см. [там же, с. 159–166]).
В 1726 г. Святая Конгрегация пришла к выводу о неприемлемости взглядов фигуралистов, полагавших, что И цзин предшествовал Потопу 11 патриархам и что под именами различных китайских «идолов» можно прийти к познанию истинного Бога. Обсуждая взгляды Фуке, умеренный фигуралист Премар писал, что он согласен с ним в том, что Тянь и Шанди обозначали Истинного Бога. Более того, он согласился, что Шэнжэнь в китайских классических книгах был указанием на грядущего Искупителя. В этом нет сомнений, если прочитать И цзип. Однако современные ученые — не атеисты, как утверждал Фуке, жертвоприношения императора — не идолопоклонство, а основатель правящего дома не равен Шанди.
Что касается историко–хронологических изысканий Фуке, то в письме к генералу ордена иезуитов,написанном в 1723 г., когда новый император Юн–чжэн уже начал принимать меры против миссионеров, Премар был весьма категоричен: «Фуке думает что его идеи о ранних династиях в Китае важны. Я — нет. Он хочет продемонстрировать папе и римской курии, что древнейшие китайские книги, в особенности Шу цзин, не китайского происхождения, а пророческие книги, принадлежащие иудео–христианской традиции. Он будет доказывать, что первые три Династии 一 Ся, Шан и Чжоу никогда не существовали и являются чисто легендарными периодами. Надо помнить, что для китайцев эти книги есть каноны (цзин), содержащие истинную, великую и неизменную доктрину, без каких–либо ошибок. Нападать на них — все равно что нападать на Моисея перед лицом иуде· ев·..». И вместе с тем он разделил мнение Фуке о том, что династии Ся, Шан и Чжоу никогда не существовали, а древние правители от Яо до У–вана являются «типами», или «фигурами», Господа Р1исуса Христа (см. [Lundbaek 1994, с. 135, 183]).
Премар и лингвистический фигурализм
Премар вошел в историю как умеренный и осторожный фи–гуралист, уделявший первостепенное внимание изучению китайского языка. Уроженец Нормандии, в 1683 г. он стал членом ордена иезуитов, в 1696–м изучал теологию в семинарии de la Flèche, где повстречался с закончившим учебу раньше него Фуке.
В первые годы пребывания в Китае Премар из провинции Цзянси переписывался с Буве и следовал по его стопам, но в 1714–1716 гг. в их отношениях наступил разрыв. Буве искренне полагал, что сам Бог призвал его в Китай и что его интуитивные фигуралистские текстологические находки рождаются под влиянием божественного вдохновения. Со временем эта уверенность в своей избранности для божественной миссии просвещения язычников стала раздражать Премара, считавшего многие выводы Буве необоснованными. Премар был учеником Буве, воспринявшим многие фигуралистские установки учителя, но он гораздо серьезнее относился к анализу первоисточников.
В 1716 г. по просьбе руководителей иезуитской миссии в Китае Премар дал собственную оценку фигуралистским теориям своего учителя Буве. Так, следуя официальным церковным установкам и —видимо, не в последнюю очередь — своим эмоциям, Премар осудил Буве как «сумасшедшего», упорно настаивавшего на том, что лишь он один понимает истинный скрытый смысл китайских текстов. Более благосклонно относясь к Фуке, Премар все же указал, что патеры Буве и Фуке не только нарушают папский запрет на употребление терминов Шанди и Тянь, но и «бесстыдно» используют массу китайских философских понятий, как–то: принцип (ли), путь (дао), бинар ингу—ян, Великий предел и Беспредельное, Великое Единое — для обозначения Бога. Кроме того, они нарушали табу руководства на разговоры с китайцами о том, что их древние книги имеют мистическое содержание, а три первые династии не существовали (см. [Lundbaek 1991, с. 116]).
«Отступничество» Премара было мотивировано прежде всего желанием избежать конфликта с руководством миссии. Как и его коллеги Буве и Фуке, Премар видел особую ценность в И цзине и стремился отыскать зашифрованный и утраченный смысл китайских иероглифов. В то же время он избегал крайностей. В отличие от Буве он не акцентировал тождество Фу–си, Еноха и Гермеса Трисмегиста, а также не пошел по пути Фуке, отрицая реальное существование Трех династий. «Для Премара фигурализм был не заменой старой иезуитской интерпретации конфуцианства, но дополнением к ней, помогающим справиться с трудностями, возникающими при соотнесении нового Откровения с китайской традицией» [Rule 1986, с. 179]. И вместе с тем Премар соглашался с Буве и Фуке в том, что*китайские каноны (цзин) и иероглифы не были созданы в стране, известной ныне под названием Китаи. Возможно, полагал он, они являются наследием древнейших времен, и это можно и нужно доказать с опорой на текстологию. Считая Мегро невеждой, чьи неразумные запреты поставили под угрозу деятельность миссии в Китае, Премар призвал вернуться к методам Риччи и признать Бога Истинного тождественным Тянь и Шанди из древних китайских книг Ши цзин и Шу цзин. После того как будет обретено полное понимание смысла китайских иероглифов, открылась бы столбовая дорога для проповеди христианства в Китае — но на пути к этому Премар предлагал соблюдать осторожность и не поступать опрометчиво. Связывая задачи фигуралистов с наследием Риччи, Премар отмечал, что решенная Риччи задача катехизаторского ознакомления китайцев с атрибутами Бога имеет свое продолжение— китайцам надо рассказать о Христе и, пользуясь методологией Риччи, продемонстрировать скрытое знание о Спасителе в древних текстах. В письме генералу ордена иезуитов в сентябре 1723 г. он сообщал об успехе фигуралистов в деле убеждения китайцев в том, что Иисус Христос есть Святой (шэп), тончайшие пророчества о котором приводятся в И цзиие, Шу цзин*, Ши цзине, а также в структурах китайских иероглифов (см. [Lundbaek 1994, с. 136–138]).
Доказывая, что тема Спасителя для канонической китайской литерату ры центральная, Премар опирался на слова доциньско–го конфуцианского философа Мэн–цзы о том, что летопись Чунь цю посвящена Мудрецу, расширительно доказывая, что к этой фигуре обращены все китайские писания. Но для Премара тем Мудрецом был не Конфуций, а сам Мессия. Премар не был чужд христианских интерпретаций событий китайской истории — к примеру, известное из Ши цзина свержение У–ваном злого шан–ского правителя Цзе носило в его трактовке нравственный и даже сакральный смысл, так как У–ван служил аллегорией Христа, а Цзе — поверженного им Сатаны.
В 1728 г. Премар надеялся получить поддержку от короля Франции — не только денежную, но и моральную, для планируемых им поисков следов упоминании о Боге и Христе в древних китайских текстах. Такая поддержка «старшего сына церкви» оказалась бы очень кстати для обхода запрета Святой Конгрегации (см. [Lundbaek 1991, с. 44]). Однако спор об именах Шанди и Тянь, в который ввязался Премар, был не только застарелым, но и официально закрытым церковными запретами. Желание Пре–мара соблюдать дисциплину, не противореча при этом своим фигуралистским убеждениям, заставляло постоянно подчеркивать, что его позиция в споре об именах есть личное мнение. Когда он попытался обосновать, что запрет Ватикана на использование имен Шанди и Тянь при евангелизацни китайцев имеет прежде всего практическое значение, тогда как в «закрытых» теоретических исследованиях их приемлемость все же можно обсуждать, разразился скандал и был поставлен вопрос об отзыве Премара в Европу.
Премар полагал, что необходимо изучать древние формы китайских иероглифов, ибо логично предположить, что именно они могли запечатлеть часть той Божественной истины, которая была когда–то известна в древнем Китае. Адресатом переписки Премара в Европе был ученый–ориенталист Этьен Фурмон (1683–1745), в тридцать лет избранный членом французской Académie des Inscriptions et Belles–Lettres. В конце l725r. он писал ему, что «изучение китайского языка является самым прекрасным и самым утешительным учением, которому только может посвятить себя христианский философ, помимо изучения Библии. Вы увидите это, как только решитесь проникнуть в священные символы, являющиеся основой этих драгоценных текстов» [там же, с. 26]. Текстологический аспект доказательства был принципиально важен для Премара, и потому он рассматривал древний словарь Шовэнъ цзецзы как наиболее важную для фи–гуралистов китайскую книгу после конфуцианских канонов (см. [там же, с. 31]). Спецификой фигуралистской филологии Премара стала попытка доказать христианскую наполненность китайской иероглифики путем «рассечения» иероглифов на компоненты, в том числе и через обращение к вышедшим из употребления древним формам написания иероглифов, дающихся в Шовэнъ.
Поиск скрытого мистического смысла в графических формах китайских иероглифов Премар унаследовал от своего учителя Буве, что нашло отражение в его ранней (1712–1714) работе «Опыт словаря иероглифов» (Essai de dictionnaire hiéroglyphique). Откидная точка вправо ' означала у Буве не менее чем Бога, а состоящий из двух черт иероглиф А жэнъ (человек) был истолкован как особое указание на Иисуса — вторую ипостась Троицы. Иероглиф 'ÿt гуап (свет) был разложен Буве на компоненты — _L(He6o), (второе лицо Троицы) и (человек), что означало несущего свет миру воплощенного Бога. Смысл иероглифа ^ ку (горечь, страдание) был сведен к компонентам (растение) и 古(древний), что означало труды и страдания людей после съедания плода запретного дерева из райского сада (см. [там же, с. 128]).
Лундбек отмечает, что Премар унаследовал введенное Буве христианское истолкование простых иероглифов: знак' как указание на Бога, знаки 一 и (один), 二 вр (два) и 三 сань (три) как ппостаси Святой Троицы, знак А жэнь как указание на Иисуса, 十 ши (десять) как крест, компонент 3 как Рука Господня, □ коу (рот) как вселенная, /』、А сяо жэнь (мелкие люди) понимались как грешники, компонент 丄一как Небо и т.д. Несмотря на скрыт)ю иронию в описании изысканий своего учителя, в собственных исследованиях Премар отнес знаки и эр саиь к высшему разряду «указующих на объекты» (чжи ши), так как они не составлены из иных компонентов. Подобный герменевтический подход к китайской письменности открывал огромные горизонты для истолкований. К примеру, знак Ш. чэн (ехать на чем–то, использовать что–то) был разложен на (Бог), А (Иисус), 十(крест) (I 北 бэй (север), что означало примерно следующее: по воле Отца Христос спустился на землю и в нужный момент взошел па крест как на колесницу. Эта таинственная колесница должна прибыть с севера, как говорил пророк Иезекииль. Еще более насыщенным христианской символикой оказался китайский иероглиф 來 лай (приходить). Как Буве, так и Премар видели в нем образ Великого Человека на кресте (木).Два небольших повторенных знака А А (человек) Буве трактовал как грешников вообще, а Премар — как упоминаемых в Евангелиях двух разбойников, между которыми Христос был распят на Голгофе (см. [там же, с. 129]).
Можно видеть, что при исследовании китайской культуры фигуралисты «охотились» прежде всего на графические и нумерологические символы, поддающиеся христианскому истолкованию. К примеру, знак 美 мэй (красота) на первый взгляд не содержит в себе ничего специфически христианского. Но при разложении его на элементы 大(великий) и 羊(баран) он сразу обретает приписываемую соотнесенность с великим Иисусом Христом, Агнцем Божиим (см. [Lackner 1991, с. 141]). Если современная форма начертания иероглифа не оставляла места для такого маневра, Премар обращался к словарю Шовэпъ и рассматривал древнюю форму написания знака. К примеру, иероглиф 善 гиаиь (добро) писался ранее как . Иероглиф, состоящий из «барана» (Агнца) между двумя ключами «речь», указывал, по мнению Премара, на ветхозаветные пророчества о приходе Мессии и на слова, обращенные к людям воплотившимся Христом (см. [Lundbaek 1991, с. 31]).
В письме Э.Фурмону в сентябре 1728 г. Премар поднял вопрос об ошибочности понятия об «атеизме» китайцев Он спорил с распространенным в миссионерских кругах того времени умозаключением, что если неоконфуцианский философ Чжу Си был атеистом, а все современные ученые равняются на Чжу Си, то все они также атеисты. Премар обратился сперва к неокон–фуцианской космологии Великого предела в трактовке Чжоу Дуньи, доказывая, что ни Чжоу, ни его ученики, включая Чжу Си, атеистами не были. Учение о принципе (ли) и пневме (ци) он истолковал наподобие европейских интеллектуальных конструкций, выделяющих в механизме вселенной материю и движение, но при этом вовсе не исключающих наличие Бога, давшего перво–материи толчок (см. [там же, с. 105]). В подтверждение этом)' Премар искал и находил цитаты из неоконфуцианскои классики, где якобы материальное Небо (тяпъ) отождествлялось с Господом или подчинялось его управлению.
В 1725 г. Премар направил Фурмону свое исследование, в котором попытка фигуралистского истолкования китайской письменности была обоснована ссылкой на египтологические исследования итальянского иезуита Мельчора далла Бриджа, устано вившего знание древними египтянами Святой Троицы. Впрочем, особо пристального внимания египтологии там не уделено, что дает основания считать упоминание о далла Бриджа уловкой, маскирующей идеи Премара от пристального внимания начальственного ока. В центре той работы стояла мысль об исключительном христианском профетическом значении И цзина, строившаяся на мессианском истолковании встречающихся в китайском тексте упоминаний о великом и добродетельном Мудреце (шэн). Если китайцы под «совершенномудрым» понимали своего собственного «учителя десяти тысяч поколений» — Конфуция, то для французских миссионеров это было указание на божествен ную сущность, на приход Спасителя. Из этой предпосылки следовал вывод, что эти «пророчества» были получены китайцами откуда–то извне, но ключ к божественным тайнам И цзина был утрачен, и теперь приобщенные к Слову Божьему иезуиты хотели его им возвратить (см. [там же, с. 121–123]). Развивая эту тему, в письме к Фурмону в 1731 г. Премар отметил ошибочность появившихся утверждений о том, что он предпочитает китайские каноны Библии и ставит китайцев выше иудеев. «Для меня грины стоят намного ниже Ветхого Завета. Но что дало иудеям это преимущество? Им были даны божественные предсказания, Сын Божий воплотился среди них, а они не узнали его, поскольку не поняли смысла пророчеств и убили Творца Жизни. С другой стороны, что выиграли китайцы от унаследования и сохранения этого драгоценного текста (И цзин)} Они забыли его смысл много веков назад. Это сокровище, которое скрыто от них. Сказать это — еще не значит предпочесть китайцев иудеям… Лишь одно неопровержимо: когда мы показывали уважение к их цзипам и показывали им, что их предки знали и поклонялись тому же Богу, о котором мы им говорим, христианская религия процветала. Из этого факта я всегда заключаю, что если бы мы сделали следующий шаг, показав им Спасителя в тех же цзинах, более чем половина Китая была бы сейчас христианской…» (цит. по [там же, с. 160]).
Среди оригинальных конфуцианско–христианских сопоставлений Премара, приведенных в этой работе, стоит упомянуть «богочеловеческую» трактовку знака и (перемены). Разложив иероглиф на составляющие компоненты «солнце» и «луна», тот пришел к выводу, что это непосредственное указание на Христа как богочеловека — ведь «солнце» символизирует Бога, Царя и мужа, а «луна» — человека, подданного и жену. В более позднем тексте о мудрости И цзина, приложенном к письму Фурмону от августа 1731 г., Премар истолковал лежащие в основе схемы 64 гексаграмм «два символа、》( ьян и) как аллегоршо Спасителя, т.е. Бога–Человека (см. [там же, с. 137]).
Фиг)ралистские идеи Премара были обобщены в работе «Избранные следы важнейших христианских догм, взятых из древннх китайских книг» (Selecta quaedam vestigia praecipiorum religionis christianae dogmatum ex antiquis Sin arum libris eruta), законченной во второй половине 1720–х годов. Проводником фигуралистских идей Премара в Европе стал Эндрю Рамсей (1686–1743). Составленная Премаром в те же годы китайская грамматика «Notitia Linguae Sinica» оказалась настолько удачной, что была несколько раз переиздана в XIX в. и переведена на английский язык.
Фигуралисты и диалог культур
Помимо Буве, Фуке и Премара к числу фигуралистов иногда причисляют и патера Шарма. В 1753 г. после четверти века жизни в Китае он опубликовал работу с неоконфуцианским названием Cuwiu чжэньцюань (Истинное объяснение природы и принципа). В предисловии к этой работе, осужденной в 1773 г., он восхвалял превосходство пяти конфуцианских классических книг, в то же время поясняя, что их глубокий смысл ускользнул от по–верхностных умов. Более того, он добавил, что многие тексты были утрачены во время сожжения книг при династии Цинь ь 213 г. до н.э., и после того, несмотря на достойные восхищения усилия, удалось восстановить лишь небольшую их часть, так что люди остались в неведении относительно полного и истинного смысла Пяти канонов. Шарм смог обнаружить этот смысл в ка толическом учении Небесного Господа, придя к заключению, что подлинным учением образованных людей китайской древ ности было не что иное, как христианство (см. [Сегпе1 1985, с. 29–30]). Эта работа была опубликована, когда запреты Вати кана, казалось, сделали невозможными дальнейшие утверждения о наличии в китайской религиозности позитивных элементон. Но это также подтверждает живучесть иезуитско–фигурали–стской идеи о глубинном соответствии духа китайских классических книг и сути христианства.
Отличие фигуралистов от Риччи состояло в том, что они, выйдя за пределы освоенного Риччи конфуцианского «Четверо книжия», рассматривали даосские и неоконфуцианские тексты в позитивном смысле, и вступили в спор за создание христианском интерпретации неоконфуцианского наследия, вернувшись к его космологическому источнику — И цзину. И, самое главное, их труды — это переход от поиска в китайской классике упоминаний о Боге–Яхве к отысканию непонятых китайцами пророчеств о Христе.
Среди главных тем китайского фигурализма Лакнер выделил три — вопрос хронологии, происхождение китайской мудрости от колена Ноева и поиск откровения о Мессии (см. [Ьаскпег 1991, с. 135–137]). Буве и Фуке пытались обосновать принадлежность китайской древности не только Китаю, но и общечеловеческой (т.е. библейской) истории. Отсюда следовало, что если Фу–си был архетипом мудреца Еноха, то в китайских книгах должны были быть следы откровения о Мессии, которые оживленно искали все фигуралисты.
Буве, основатель системы, сравнительно мало говорил о «фигурах», акцент в его работах был явно сделан на «пророчествах», а его излюбленным объектом изучения был И цзин, предоставлявший для этого широкие возможности. Фуке, с другой стороны, был озабочен прежде всего тем, чтобы продемонстрировать, что традиционная версия происхождения китайцев, особенно в Шу цзит, является искусной аллегорией, скрывающей за своими «фигурами» ветхозаветную историю. Премар, третий важный фигуралист, разошелся с Буве и Фуке в вопросе об историческом характере китайского классического наследия.
Он придерживался мнения о его фундаментальной историчности, но настаивал на обнаружении в нем «следов» более ранней доктрины, откровения (пусть примитивного) как такового. Таким образом, мы можем утверждать, что лишь Фуке был фигура–листом в строгом смысле. Буве, кажется, придерживался «фигура–листской» позиции, но пошел намного дальше нее, к общей теории символов и пророчеств; тогда как Премар в общем оставил в стороне наиболее «фиг) ралистские» аспекты системы и сосредоточился на «следах» (см. [Rule 1986, с. 155]).
Герменевтика фигуралистов исходила из того, что символы древних китайских мифов обязательно несут в себе христианскую нагрузку
[67]. Это превратило фигуралистские исследования в объект насмешек, а серьезные ученые не обратили на них должного внимания. Тем не менее, «хотя фигурализм может рассматриваться как аберрация в начале ранней синологии, он распространился от иезуитов к другим ранним синологам во Франции и обсуждался до начала XIX в.» [Witek 1982,с. 9].
Однако у фигуралистов были бесспорные научные заслуги Давая оценку работам Премара, Лундбек заметил, что с позиций современной филологии в принципах и практике его лингвисти ческих исследований не было ничего ошибочного. Более того, его филологические исследования китайского языка во многом опережали свое время. Однако «филология Премара и его теология не могут быть разделены. С точки зрения католической теологии (курсив К.Лундбека. — А Л.) труды фигуралистов были безупречны… Не зашли ли они „слишком далеко“ в своих поисках „фигур и типов“? Это не проблема такта. Зашел кто–то слишком далеко или же нет, это проблема, решаемая авторитетом Церкви» [Lundbaek 1991, с. 167].
Для научной публики фигурализм был явлением чересчур церковным, а для католических иерархов — подозрительно вольнодумным и научным. Напомним еще раз, что глава французской миссии д’Энтреколль запретил фигуралистам обсуждать с китайским императором религиозные аспекты своих интерпретаций китайской классики, в порядке исключения Буве дозволялось обсуждать лишь физические и математические проблемы И цзи–па. Начальство опасалось, что погружение в эти сложные вопросы может сбить китайских неофитов с толку, а утверждения о неведомой ранее христианской боговдохновенности китайских классических текстов могут создать у них ложное впечатление, что Китай не нуждается в откровении Библии (см. [Witek 1982, с. 178]).
К.Лундбек отмечает, что историческая судьба фигурализма была решена властью римско–католической церкви — «как только в Риме стало ясно, что происходит среди китайских фигуралистов, руководство иезуитов под давлением Святой Конгрегации пропаганды веры и через начальников в Китае просто подавило китайский фигурализм… Фигуралистское начинание закончилось со смертью трех его протагонистов — Буве в Пекине в 1730 г., Премара в Макао в 1736 г. и Фуке в Риме в 1741 г. В любом случае опробовать его на практике было невозможно. После высылки миссионеров в 1732 г. прошел почти век, прежде чем христианским миссионерам было вновь позволено появиться в Китайской империи» [Lundbaek 1991, с. 168].
Фигуралисты и сами понимали, что далеко не все их идеи будут встречены китайцами с должным пониманием — к примеру, не каждый житель Поднебесной согласился бы с их теорией «химеричности» Трех династий. Вместе с тем они верили в правоту своего дела и пытались спорить о разумности запретов, ремясь раскрыть язычникам догматы церкви через их собственные традиции. «Риччи с его „методом аккомодации“ открыл китайцам новые горизонты, поскольку он нашел цивилизацию, малоизвестную на Западе и неспособную измениться путем ее вестернизации. Почти столетие спустя в поисках моральных норм и некоторых принципов естественной теологии в китайских классических книгах фигуралисты вновь обратились к взглядам Риччи Они полагали, что их система следует плану Риччи. В их сознании не было сомнений, что фигурализм есть расширение пределов аккомодации. Они полагали, что надо не только раскрыть перед китайцами преимущества сомнения, но и пойти вперед и попытаться найти христианские таинства в самих китайских классических текстах. Их система была построена на двух базовых постулатах. Во–первых, китайские письмена есть сакральные по своей природе иероглифы, в которых сокрыты принципиальные религиозные истины. Даже самым образованным китайцам не дано проникнуть в эти скрытые истины, так как они не располагают ключами для их открытия. Во–вторых, факты, найденные в китайской классике, не ограничены китайской историей, как заявляли комментаторы, но являются более общими данными, детализирующими историю и истоки мира» [\Vitek 1982, с. 180].
Однако помимо исторического или конфессионального интереса наследие фигуралистов несет в себе и глобальный «общекультурный» смысл. Лакнер удачно заметил, что «гибридный „восточноазиатский“ мистицизм, доминирующий на Западе в этом столетии, есть не более чем возрожденные фигуралистские идеи в ненаучных религиозных одеждах. Например, немецкии протестантский „фигурализм“ может быть найден в переводах Рихарда Вильхельма. Хотя сегодня никто более не думает, что Фу–си был Енохом или Хуан–ди был Адамом, кто–то может подумать, что Адам был Хуан–ди. Фигурализм не обязательно является улицей с односторонним движением. Чтобы понять этот вечный интеллектуальный подход — а „вечность“ была базовым подходом фигурализма, — может оказаться полезным изучить первые встречи фигурализма с китайской мыслью» [Ьаскпег 1991, с. 143].
Современный исследователь П.Руле справедливо заявил, что наследие фигуралистов не может быть отброшено лишь по причине «фантастичности» излагавшихся идей: они были «самыми способными синологами миссии», и к выводам своим Буве и его последователи пришли «не в силу чудачества или религиозного обскурантизма, но в ходе поиска ответов на главные религиозные и философские проблемы тех дней внутри китайского контекста» [Rule 1994,с. 308]. Французские фигуралисты унаследовали линию Риччи на выявление монотеистических мотивов в древней китайской мысли, значительно расширив сферу поиска точек сближения традиций. Они вышли за пределы освоенного Риччи конфуцианского «Четверокнижия» и приступили к изысканию следов библейской истины в даосских и неоконфуцианских текстах. Они предприняли попытку дать христианское истолкование содержания «Книги перемен», косвенно поспособствовав росту интереса к И цзину в Европе. Опираясь на опыт Риччи в области обнаружения в китайской классике упоминаний о ветхозаветном Боге, фигуралисты приступили к изысканию в китайском наследии не понятых китайцами символических пророчеств о приходе Христа. Признание идентичности библейских и древнекитайских повествований превратило фигуралистов в злостных нарушителей ватиканских запретов на отождествление китайских понятий о божестве с христианским Богом. Усилиями фигуралистов риччианский метод культурной адаптации был доведен до крайности и исчерпан. На смену ему пришла жесткая и бескомпромиссная политика католической церкви по отношению к китайской религиозной традиции, сформировавшаяся и утвердившаяся в ходе «спора об именах и ритуалах».
Глава 5. Развитие христианского миссионерства в Китае в XIX в.
С 1724 по 1844 г. деятельность католической церкви была ограничена императорским запретом. Католические миссионеры продолжали свою священническую деятельность в скромных масштабах, одновременно сохранив свое присутствие и при императорском дворе как ученые и переводчики. Положение иностранных священников стало неустойчивым и незащищенным, церковная собственность легко могла быть конфискована, католики становились объектами преследовании наравне с представителями тайных обществ и еретических сект. Из–ра невозможности продолжать проповедь в городах католичество сохраняло свое влияние лишь на уровне отдельных деревенских общин Сказался и роспуск Ватиканом в 1773 г. общества иезуитов, изначально нацеливавшего свою стратегию на христианизацию Китая «сверху», — на смену ему в 1784 г. в качестве основных попечителей миссии пришли лазаристы, чьей главной задачей было духовное воспитание бедных слоев В 1838 г. в Пекине умер последний из живших в столице европейских католиков священ ник–астроном Пире. КЛатуретт пришел к заключению, что «в 1800 г. во всем Китае было около 200 или 250 тыс. католиков, и их число оставалось достаточно постоянным до 1835 или 1840 1 — [Ьаюигеие 1929, с. 183].
Широкомасштабное возвращение католицизма в Китай состоялось после подписания Цинами ряда неравноправных договоров, наиболее важным из которых был договор 1860 г., по которому французским миссионерам позволялось путешествовать в глубь страны и покупать землю. По мнению П.Коэна, к концу XIX в. ряды католиков «ограничивались бедными крестьянами и горожанами, криминальными элементами и другими сомнительными типами». Хотя к тому времени их насчитывалось около 700 тыс., церковные требования отказа от традиционных китайских «языческих» верований, от продажи и потребления опиума, от участия в народных праздниках (включая театральные представления), от работы в воскресенье, многоженства и культа поклонения предкам вели к тому, что «католики стапови лись, по большому счету, отдельным сообществом, изолированным и часто отчужденным от своих китайских соотечественников. Не должно вызывать удивления, что это сообщество фор мировалось в целом из наиболее обделенных классов — бедных крестьян, лавочников, торговцев, бродяг — людей, чей удел в существовавшем китайском укладе 61.1л наиболее шатким» [СоЬеп 1978, с. 557].
Первые протестантские миссионеры появились в Китае уже в XVII в. — во время своего владычества на Тайване голландцы обратили в христианство несколько тысяч коренных жителей острова. Однако после изгнания голландских колонистов на острове не осталось устойчивой институциональной церкви. По этой причине традиционной точкой отсчета начала истории деятельности протестантских миссий в Китае является сентябрь 1807 г., когда в Кантон прибыл посланец межденоминационного Лондонского миссионерского общества (ЛМО) Роберт Моррисон (1782–1834). Пресвитерианин Моррисон вырос в религиозной семье в Нортумберленде, после учебы в миссионерской школе в 1807 г. был рукоположен в сан и послан в Китай. С 1809 г. и до конца жизни он работал переводчиком и секретарем в Ост–Индской компании. Работа переводчиком сделала Моррисона финансово независимым от скудной поддержки ЛМО, дав ему возможность заниматься наукой. Но людям было «трудно отличить его цели от–целей торговцев, с которыми он работал», что впоследствии негативно сказалось на восприятии китайцами зарубежных миссий в целом (см. [Hughes 1968, с. 61]).
За годы деятельности в Китае Моррисон крестил лишь десять человек, но современники сообщали, что среди них не было «рисовых христиан»
[68]. Это были убежденные люди, а один из них, по имени Лян Афа, ставший евангелизатором и автором популярных вероучительных брошюр, прямо повлиял на ход истории. Именно под влиянием его книг будущий вождь тайпи–нов Хун Сюцюань ознакомился с азами христианства и впервые задумался о своем «родстве» с Небесным Отцом. Принятие Лян Афа в евангелизаторы стало первым протестантским рукоположением китайца.
Среди научных и переводческих заслуг Моррисона не только полный перевод Библии на китайский язык (Шэнътянъ шэншу), но и составление грамматики китайского языка (1815 г.) и трехтомного китайско–английского словаря (1815–1823), в конце 1820–х годов он приступил к изучению гуандунского диалекта. В 1817 г Моррисон получил степень доктора теологии Университета Глазго, он также был членом Британского королевского научного общества.
Указ о запрете христианской проповеди сохранял свою силу в начале XIX в., что повлияло на стиль и содержание работы миссионеров. На протяжении почти трех десятилетий до 1840–х годов главной в деятельности протестантских миссионеров была работа по изучению языка и культуры Китая, ориентированная прежде всего на переводческую деятельность, сопровождаемая осторожными и ограниченными по масштабу проповедническими усилиями. Моррисон вместе с прибывшим ему на помощь от Л МО в 1813 г. миссионером Вильямом Милном создал Англо–Китайский колледж (Инхуа шуюань), нацеленный на подготовку китайских христианских проповедников. Однако по причине запрета на проповедь внутри страны он был расположен за пределами Китая, в Малакке.
В конце XVIII в. протестантские церкви Англии и Америки находились в периоде так называемого Евангелического Возрождения (Evangelic Revival), что повлияло на взгляды священников, несших христианское послание другим народам. Спустя сто летие Э.Хьюз писал, что «для людей этого мировоззрения, будь они англиканами, пресвитерианами, баптистами, конгрегацио–налистами или методистами, существовало лишь одно возможное видение человечества. Либо человек обретает личную веру в Иисуса Христа и искупляющую силу Его смерти, освобождаясь этой верой от греха и спасаясь для будущей жизни, либо он есть дитя гнева и разрушения, погруженное в несчастье и грех, — это был век глубокой личной набожности и узколобой нетерпимости» [Hughes 1968, с. 63–64]. Хотя в мотивации миссионеров присутствовало альтруистическое желание помочь «дальнему своему» на другом конце света спастись от вечных мук пребывания в адском пламени, бескомпромиссность к нехристианским формам духовной жизни не давала им возможности увидеть позитивные стороны китайской культуры, равно как и предвидеть возможные негативные последствия ускоренной христианизации Китая.
Р.Ковелл полагает, что, в отличие от ранних или современных им католических миссионеров, протестанты поначалу не были готовы к мученичеству как к цене за проповедь. Можно предположить, что именно отсюда выросло их желание заручиться силовой поддержкой западных держав, которые должны были «взломать» для них запертые двери Китая. «Ничто другое не представлялось им значимым, кроме самого проникновения в Китай. Непонимание происходящего, возможно, с самого начала стало роком для миссионерского предприятия. Никаких реалистических альтернатив для них существовать не могло… Они не смогли увидеть, что сделает с ними силовое вторжение такого рода, что оно сделает с провозглашаемым ими христианским посланием, с огромным нехристианским обществом и немногочисленными храбрыми неофитами. С того времени и до 1949 г. Евангелие в Китае провозглашалось в контексте силы» [Covell 1986, с. 83]. В этом контексте китайцам трудно было отделить религиозную веру иностранных миссионеров от их национальных амбиций, а их проповедь любви — от прикрывавшей работу миссионеров «дипломатии канонерок».
К 1840 г. протестанты крестили менее ста китайцев, и «главное мерило достижений протестантов в этот ранний период надо искать не в урожае душ, а в закладке фундамента для будущей работы. Одним из наиболее важных оснований было создание, хотя и в примитивном изложении, обширного корпуса христианской литературы на китайском языке» [Cohen 1978, с. 548]. Показателем высокого приоритета, который отдавался литературно–издательской работе, является то, что среди ранних миссионеров были профессионально обученные печатники — к примеру, Уолтер Генри Медхерст из ЛМО и Сэмюэль Уэллс Вильямс из Американского совета. Среди важнейших печатных работ того времени были перевод Ветхого и Нового Завета, завершенный Моррисоном с помощью Милна, китайско–английский словарь Милна и его знаменитая работа «Диалог двух друзей [Чжана и Юаня]» ([Чжан Юань] Лянъю сяшупь, 1819).
«Диалог» Милна стал первой заметной вероучительной брошюрой протестантов, затрагивавшей темы китайской культуры. Коллеги–миссионеры чрезвычайно высоко отзывались об этой сравнительно небольшой работе, хваля ее за простой и живой стиль, ясность изложения евангельского учения. Исследователи полагают, что между 1819 г. и началом XX в. было издано как минимум несколько сот тысяч экземпляров «Диалога», не исключено, что подлинная цифра может превышать один или даже два миллиона (см. [Bays 1985, с. 23]). Состоящая из двенадцати глав работа В.Милна, построенная в форме диалога между двумя китайцами — христианином Чжаном и любопытствующим нехристианином Юанем, во многом напоминает Тянъчжу гиии М.Риччи, но «Диалог» намного проще и короче иезуитского «предкатехизиса».
Поначалу Юань спрашивает о христианах и христианском Боге и узнает, что христиане соблюдают исконно важные для всех китайцев этические нормы, но их Бог не то же самое, что китайское Небо (Тянь), которое было сотворено Богом. Христианин Чжан жалуется другу на несправедливость обвинений христиан в сыновней непочтительности (бу сяо), поскольку на самом деле они через покаяние «исключают зло и возвращаются к добру». В третьей главе речь идет о вере в Иисуса как Спасителя и бессмертии души. После этих бесед и рассказа Чжана о своем раскаянии в былом неверии и обращении в христианство Юань также начинает размышлять о Боге.
Далее Юань возвращается к своему христианском)' другу Чжану и просит объяснить ему учение о воскресении мертвых Эта тема была для него эмоционально острой — год назад он исполнил свой сыновний долг — через несколько лет после смерти отца вскрыл его могилу, омыл кости и переместил их в погребальную урну. Увидев останки отца, Юань пришел в смятение — в ту же ночь он видел во сне отца переродившимся в теле горного козла и стал размышлять о буддистском учении о переселении душ.
Как и следовало ожидать, протестантский автор «Диалога» заставил Чжана осудить учение о реинкарнации, предложив в качестве альтернативы христианское учение о том, что тела возродятся, но в иной форме, а грешники при этом примут наказание. Вновь вводя в изложение конфуцианские этические понятия, В.Милн подчеркнул, что цель христианской молитвы состоит в выражении «сыновней почтительности» к Богу в благодарность за его благословения. Христианин Чжан пояснил Юаню, что ежедневная молитва необходима, но она не дает верующему никаких материальных выгод. В конце книги Юань проводит бессонную ночь в своем саду, с горечью размышляя о вечном наказании за грехи и невозможности для себя «обрести Небо». Сокрушенный и несчастный, он идет за советом к Чжа1гу, который рассказывает ему о Новом Завете и об искуплении человеческих грехов Сыном Божиим, от веры в которого и зависит спасение.
Задаваясь вопросом о причинах популярности и долгожительства миссионерского трактата В.Милна, Д.Бэйс указал на «умеренность в подходе и стиле. Когда не представлялось возможным объяснить христианские концепции, не вст\пая в про тиворечпя с некоторыми традиционными верованиями и прак тиками, Милн старался не подчеркивать эти конфликты. Когда христианин Чжан говорит о древних китайских мудрецах и ука зывает, что их мудрость недостаточна для спасения души, он делает это уважительно, без пренебрежения. Он подчеркивает, что христиане поддерживают традиционные человеческие отношения (жэнъ/1унь или лунъчан), их поведение свидетельствует об их ориентированности на семью. В ранних изданиях никогда явно не заявлялось, что христианам запрещено поклоняться предкам (хотя это предполагалось), и в издании 1906 г. это упоминается только вскользь… Использование в трактате знакомых аналогии в объяснении и частое использование распространенных традиционных моральных фраз {цюй э цун танъ— удалять зло, делать добро; э ю э бао— злое наличие, злое вознаграждение) несомненно смягчили у читателей возникшее недоумение по поводу Прочитанного» [там же, с. 33–34].
С точки зрения вероучения надо обратить внимание на акцентированность в «Диалоге» тем эсхатологии, а с точки зрения проблем межкультурного взаимодействия — на то место, которое было уделено разъяснению отличий Христа от бодхи–саттвы или китайского совершенномудрого· В.Милн подчеркивал, что Иисус действовал в истории для человеческого спасения и его сила — спасать других — основана не на фантазии, а на чудесных делах. Как обобщил Р.Ковелл, «в большинстве христианских писаний не только в этот период, но и во всей истории христианских миссий в Китае грех представлялся как нарушение Божьих законов, требующее наказания; Иисус пришел, чтобы вместо человечества принять наказание за грех» [Covell 1986, с. 97]. Но самое главное, что, несмотря на наивность и прямолинейность работы Милна, он тактично и умело избежал лобовых нападок на китайскую культурную традицию.
Перевод Библии в терминологический спор
Несмотря на длительное присутствие в Китае католических миссий, лишь протестанты в первой четверти XIX в. сделали полный перевод Библии для широкого публичного распространения. Они были уверены в приоритетной важности доведения до китайцев полного текста Писания, следуя в этом своим фундаментальным теологическим установкам. «Как наследники Реформации, они подчеркивали авторитет Писания, полагая, что каждый христианин должен быть в состоянии самостоятельно читать Библию; более того, Библия должна быть также в руках потенциальных христиан. К тому же миссионеры в Срединном Царстве находились под впечатлением ценности, которую китайцы приписывали письменному слову и литературным достижениям, приходя к вере в важность того, чтобы Библия и труды по христианству были доступны на хорошем китайском языке» [Carlson 1974, с. 58].
За несколько столетий труда в Китае католические миссионеры создали множество работ нд китайском языке, но среди них не было полного перевода Библии. Это была сознательная позиция — католики опасались, что многие фрагменты из книг Ветхого Завета без должных пояснений окажутся слишком непонятными и противоречащими фундаментальным ценностям китайской культуры. Иезуиты испросили у Ватикана разрешение на перевод Библии еще в 1615 г., но не воспользовались этим Н.Стандерт объясняет это тем, что перевод Писания не входил тогда в число их приоритетов: иезуиты «ценили рационалыглю теологию выше нарративной, популярную проповедь выше экзе гетики, естественные науки выше текстологических познании» [Standaert 1999, с. 53]. Впрочем, практические нужды богослл жебной и проповеднической деятельности все равно потребовали от ранних католических миссионеров перевода значительно го числа библейских фрагментов. В конце XVII в. в условиях уже сточения контроля за деятельностью католических миссий в Китае получить новое разрешение на перевод и издание Библии оказалось невозможным. Некоторые миссионеры самостоятель но брались за эту работу'. Жан Бассе из Парижских зарубежных миссий успел до своей кончины в 1707 г. перевести большую часть Нового Завета. Попытки перевода Библии предпринимали и францисканские священники Антонио Лаги и Франческо Джо–вино (их труд не сохранился), а также иезуит Луи де Пуаро, завершивший к 1803 г. полный перевод Нового Завета и частичный — Ветхого. «Все эти переводы предпринимались отде тьны–ми людьми по собственной инициативе, они не проистекали из коллективного усилия или решения церкви. Более того, они никогда не издавались и никогда не использовались широкой аудиторией» [там же, с. 33].
В 1805 г. Британское и Зарубежное Библейское общество было проинформировано о наличии перевода Бассе в фондах Бри танского музея. Для изучения рукописи на предмет пригодности к изданию для распространения среди китайцев была создана специальная комиссия, которая, в свою очередь, обратилась к знатокам китайского языка. Выяснилось, что перевод содержал четыре Евангелия, Деяния апостолов и все послания апостола Павла (за исключением Послания к Евреям). Комиссия признала аккуратность перевода и изящество текста, однако «из стиля и слов следовало, что он был сделан по Вульгате под руководством иезуитов» (цит. по [The Chinese Repository. Vol. IV, N° 6, с. 251]). На итоговое отрицательное заключение повлияло и то, что расходы на издание найденной рукописи были сочтены чрезмерно высокими. Однако перед отбытием в Китай в 1807 г. Р.Моррисон обзавелся копией рукописи Бассе, что помогло ему в работе над собственным переводом.
Собственный полный китайский перевод Библии протестанты создали менее чем за два десятилетия после начала миссионерской работы в Китае. Два различных перевода были сделаны почти одновременно: один был подготовлен Джоном Лассаром и Джошуа Маршменом, другой — Моррисоном, которому помогал впоследствии В.Милн. Первые книги в переводе Моррисона—Милна были опубликованы в 1810 г., и вся работа завершена 12–13 лет спустя. В свою очередь, Лассар и Маршмен в 1810 г. перевели Евангелие от Матфея, а в 1822 г. — всю Библию. Моррисон завершил работу над китайским текстом Деяний Апостолов также в 1810 г., а полный текст Библии в его переводе был готов в 1823 г.
Даже те из протестантских миссионеров, что весьма пессимистично оценивали возможность мирного сосуществования традиционной китайской культуры и христианства, высоко оценивали работу Моррисона и Милна по переводу Нового Завета на китайский язык. Джон Макгован, убежденный сторонник идеи несовместимости путей Христа и Конфуция, с восторгом писал о перспективах передачи евангельских истин на китайском языке: «Люди, не знающие этого языка, утверждали, что будет невозможным передать удивительные мысли, тонкие оттенки смысла, мягкий и патетический язык Библии при помощи этих громоздких китайских иероглифов. Как будто Бог дал Откровение, которое невозможно полностью передать четверти человечества! Люди забыли, чго Библия — восточная книга, полная образов и уподоблений, изобилующая иллюстрациями из мира природы, которые лучше всего могут быть поняты под восточным небом. Придя в Китай, она оказалась ближе к дому, чем в тех краях, где тоскливые зимы и свинцовое неоо. Китайский язык — один из красивейших в мире, в котором будут увековечены Святые Писания, в нем есть гибкость и изящество, чувственность, дающая возможность передать всю нежность, пафос, поэтику и возвышенные мысли этой самой замечательной книги» [MacGowan 1889, с. 17].
Однако добиться этих результатов было весьма непросто. Протестантам пришлось искать свои пути перевода Библии, видоизменяя терминологию, использованную прежде римско–католическими миссионерами. К этому их побуждало желание создать более адекватный перевод Священного Писания и добиться терминологического размежевания с католиками. В ХУШ в. Ватикан запретил использование китайских терминов Шанди и Тянъ, а протестанты хотели избежать употребления принятого католиками имени Тянъчжу. Поиск нового китайского имени для христианского Бога оказался непростым. Ряд видных протестантских миссионеров (Уолтер Медхерст, Джон Стронак, Вильям Милн, В.Локхарт, В.Мирхэд, Дж.Эдкинс) предлагали использовать для передачи ключевых библейских понятий китайские фонетические транскрипции, никак не связанные с терминологическим аппаратом, сложившимся в китайской классической культурной традиции. В качестве прецедента они ссылались как на прежнюю практику китайских буддистов, так и на собственный опыт: «Поначалу, когда мы прибыли, имя Иисус было срав нительно неизвестным, однако теперь оно знакомо каждому, кто хоть раз слышал нашу проповедь или прочитал хоть одну брошюру» [Covell 1986, с. 89]. Если можно было затранскрибировать имя Иисус Христос как Есу Цзиду, сделав его узнаваемым, то почему бы не поступить также и с именем Бога–Отца?
Стоит отметить, что в данном случае протестанты повторили опыт католических миссионеров XVI в., использовавших китайскую и японскую транскрипции латинского
Deus (Бог). По аналогии протестанты предложили использовать китайскую транскрипцию имени Яхве. Она должна была сопровождаться разъяснением проповедника о том, что речь идет о высших существах, которым люди приносят жертвы н поклоняются, наиболее чтимым и совершенным из них является Яхве, и никому, помимо него, поклоняться нельзя. В первой половине XIX столетия такие попытки были реализованы на практике, в результате чего на свет появились невразумительные для китайских читателей сочетания
Ехэхуа (耶和華)и
Ехохуа (耳火華)· Вот что писали по этому поводу в протестантском миссионерском журнале «The Evangelist» в начале 1830–х годов: «Миссионеры островов Южных морей ввели как имя Бога понятие
Ехохуа. Ни в одной из книг римских миссионеров мы не обнаружили того, чтобы они сделали это имя известным среди китайских неофитов. Протестантский миссионер предложил использовать на китайском имя
Ехохуа, ибо местные жители иногда спрашивают об имени нашего Бога. И почему бы не ввести это имя, под которым он открыл себя и которое было известно его народу во все века мира?.. Заимствование китайских слов
(е хо хуа) «отец», «огонь» и «цветок» или «пламя» будет напоминать читателю о горе Синай, когда Иегова спустился в пламени, чтобы провозгласить: „Я Иегова, Бог твой“》(цит. по [The Chinese Repository. Vol. II,с. 47])
[69].
Позднее в качестве табуированного имени Бога тайпины использовали именно эту транскрипцию. В середине XIX в. У.Медхерст пришел к выводу, что использовавшееся ими понятие Шэнье (Божественный Отец) восходит к ошибочному истолкованию сочетания «Бог Иегова» (Шэнь Ехэхуа ?фЦ№1£), встречающемуся в первом томе работы Лян Афа. Медхерст предположил, что тайпины по незнанию поняли это сочетание как «Бог–Отец [по имени] Хэхуа» (Шэнье Хэхуа), не восприняв иероглиф е как часть имени Бога. Однако наложенный тайпинами запрет на использование всех трех иероглифов из сочетания Ехэхуа косвенно указывает на то, что они понимали их принадлежность к имени Бога, а в сочетании шэнье иероглиф е мог выступать сокращением имени Ехэхуа. И Эбер считает датой начала протестантского спора о терминологии 1843 год, когда в Гонконге прошло собрание миссионеров. Активная дискуссия продолжалась в 1840–1850–е годы, после чего в 1860–е наступило временное затишье. «Спор вспыхнул вновь с середины 1860–х до 1870–х, начавшись с серии ста геи в „The Chinese Recorder“, и разгорелся с новой силой в 1890–е годы, когда затеяли создание Объединенной Библии» [Eber 1999, с. 138]. Основной спор среди протестантских переводчиков Библии разгорелся между сторонниками терминов Шанди и Шэнь. В переводе Моррисона и Милна китайское имя Бога передавалось иероглифом Шэнь (Дух), а понятие «Святой Дух» — сочетанием шэн фэн (Святой ветер).
Аргументы «за» и «против» использования иероглифа шэнь были глубоко проанализированы и оспорены Джеймсом Леггом (1815–1897) в 1852 г. (см. [Legge 1852]). Уроженец Шотландии, Легг прославился как наиболее выдающийся миссионер–ученый XIX столетия, он был не только миссионером ЛМО в Гонконге (1843–1873), но и первым профессором китайского языка и литературы в Оксфорде (1876–1897). Его переводы китайских классических текстов, увидевшие свет после 1860–х годов, вплоть до наших дней сохранили свое научное значение и широко используются во всем мире. Однако первый серьезный шаг в направлении изучения древнекитайских текстов Леггу пришлось сделать в 1850–1851 гг., в бытность свою настоятелем Гонконгской теологической семинарии. Глубокое исследование древнекитайских текстов в поиске аргументов в защиту именования Бога сочетанием Шанди стало одной из первых важных ступеней в становлении научной карьеры Легга.
Главным оппонентом Легга был американский протестантский миссионер из епископальной церкви Вильям Бун, который выдвинул ряд культурологических и теологических доводов в пользу передачи библейских понятий о Боге через китайское Шэнь (Дух). По его мнению, китайцы вообще не имели представления о сущности, могущей быть названной Богом, и потому в их языке нет адекватного понятия для се выражения. В традиции Ветхого Завета древнееврейское элохим («боги», мн. ч. от Эл ~ «Бог») стало позднее обозначением абсолютного персонифицированного Бога монотеистической религии. Традиционной китайской культуре был свойствен политеизм, и общим именем для всех божеств в ней является Шэнь. По аналогии с элохим понятие «боги–духи» (гиэнь) могло бы стать основой для формирования китайского понятия об Абсолютном Боге христианства. Отсюда был сделан вывод, что из шэнь может быть образовано понятие, аналогичное библейским ветхозаветному древнееврейскому эло–хам и новозаветному греческому теос. Доводы В.Буна и его единомышленников в пользу передачи христианского понятия о Боге через китайское шэнь сводились к следующему:
1. Шэпъ — родовое имя китайских божеств и потому подходит для перевода древнееврейского элохим и греческого теос на китайский язык.
2. Шэнь — всеобщий термин, настолько всеохватываюιι;ι11i, что даже Шанди рассматривается как шэнь во многих высказываниях в китайских классических книгах.
3. Шэнь может указывать как на истинного Бога, так п на ложных богов. Это не так в случае с Шанди.
4. Шэнь может расширительно обозначать «Творца» или «Господа», как это уже произошло с греческим словом теос (см. [Covell 1986, с. 88]).
Опираясь на исследование китайских текстов,Дж.Легг оспорил эти аргументы. Он заявил, что у китайцев начиная с докон–фуцианской древности бытовало понятие о Боге — Шанди、которое наилучшим образом передает понятие о христианском Ьогс. Легг полагал, что в древности китайцы однажды уже приблизились к познанию Бога Истинного, что н было запечатлено в их понятии о Шанди. Эти аргументы практически повторяют осуж–денные Ватиканом мысли М.Риччи и его сподвижников из числа иезуитских мнсснонеров XVII в. Отметим, что Легг решительно отвергал идею транскрибирования имени Яхве, опасаясь, что китайцы воспримут его как имя собственное иного божества, отличного от Шанди. Легг отверг возможность передачи понятия о Боге через какое–либо «общее имя» («духи» — шэнь), без колебаний выбрав древнекитайское понятие «Всевышний Владыка» — Шанди. Он отметил близость этого понятия к католическому термину Тяньчжу, считая Шанди более предпочтительным. Аргументация сторонников использования термина Шанди может быть обобщена следующим образом:
1. Его буквальный перевод означает «Верховный–всевышний правитель–владыка». Понятия «Владыка» — Ди и Шанди предстают в китайских классических текстах взанмозаменимыми.
2. Китайцы верят, что Ди сотворил все вещи.
3. В древнекитайской классической «Книге писаний» (Шу цзин) о Ди говорится, что он «придал человечеству добродетельную природу», и это сближает его с христианским понятием о Боге как 1ворце и источнике морального закона.
4. Ди рассматривается китайцами как властитель, провиденциально заботящийся обо всем мироздании. Это близко к христианскому учению
5. Китайцы верят, что Ди есть то же, что и Небеса (Тянь) или Небесный Господь (Тянъчжу).
6. Высочайшее религиозное поклонение китайцев адресовано Ди.
7. В религиозной традиции китайцев существует множество божеств, которым поклоняются и к которым обращаются как к Ди (см. [там же, с. 87–88]).
Противники этой точки зрения полагали, что Ди и Шанди есть имена «ложного Бога», которому поклонялись впавшие в грех идолопоклонства китайцы. Епископ Бун замечал, что в китайской традиции Ди ассоциируется с даосским Яшмовым Владыкой (Юйхуан дади), подчеркивая, что Шанди для китайцев есть то же, что Зевс для греков или Юпитер для римлян. К тому же иероглиф ди используется и в слове хуанди (император), так что, в случае его использования при переводе первой заповеди Моисея, неискушенные китайцы могут подумать, что им следует поклоняться только императору, а это будет противоречить духу Библии и укреплять их в грехе обожествления светской власти.
Сторонники Шэнь отмечали, что взаимозаменимость понятий ди и пьянь в китайских классических текстах также может привести китайских христиан к поклонению Тянь со всеми нежелательными последствиями впадения в пантеизм. В связи с этим Бун опасался, что идея христианского Бога будет просто смешана с китайской мировоззренческой триадой Небо—земля–человек. Он также доказывал, что термин ди не будет соответствовать контексту многих речении из Писания, предупреждающих против поклонения «ложным богам», — в Китае никто никогда не слышал ранее предостережений от поклонения «ложным властителям–ди». Поскольку ди не может использоваться таким образом, непонятные увещевания миссионеров не отвратят китайцев от греха многобожия.
Однако Легг не стал исключать понятие шэнь из китайского христианского лексикона, указав на иной путь его использования —оно не может передать смысл слов «Бог» или «божества», но наилучшим образом выражает понятие «Дух» (др. — евр. руах、 греч. пневма). Легг не согласился с использованием понятия лин («дух–душа»), употребленного некоторыми протестантскими миссионерами для передачи понятия о Святом Духе. На основании своего изучения классических китайских текстов Легг заявил, что шэнь является сущностной природой Духа, тогда как лип выступает его качественной характеристикой («утонченность–просветленность» 一 цтп мин). В итоге он выступил противником перевода христианских понятий «Бог» как шэнь (дух — божества — Божество) и «Святой Дух» как лин (душа — утонченность —просветленность).
Основные участники спора согласились, что все они желают найти и использовать наиболее подходящее родовое понятие, ясно обозначившее бы все существа, которым китайцы поклонялись как богам. Защитники использования термина Шанди полагали, что именно он соответствует таким требованиям и, что более важно, передает понятие высшего божества, сотворившего все вещи. Сторонники употребления гиэпъ доказывали, что это как раз и есть единственное родовое понятие, поскольку идея превосходства монотеистического Шэнь как Бога может быть легко объяснена китайцам. Иными словами, сильным аргументом в пользу шэнь была способность передавать родовое понятие о божестве, тогда как Шапди оптимально передает идею единичного Бога–Творца. Однако то, что шэнь более адекватно выражает множественные понятия «дух» или «духи», было использовано его противниками как сильный контраргумент. У.Медхерст заявил, что это популярный термин, относящийся ко всем видам существ, которые могут быть названы «духами, злыми духами или оборотнями». Более того, шэнь может обозначать человече–ский дух или душу. Так как же можно, спрашивал Медхерст, использовать один и тот же термин для обозначения и Бога, и единичной человеческой души?
Этот спор не получил окончательного завершения. В протестантских Библиях разных деноминаций для обозначения Бога использовались и используются оба варианта 一 Шанди и Шэнь, что автоматически исключало употребление знака шэнь в том же тексте для передачи понятия о Святом Духе, что заставляло обращаться к термину лин. В варианте Бог — Шанди также можно было встретить использование понятия Дух — лин что мотивировалось стремлением протестантов сделать свою терминологию отличной от католической. В англиканской Библии 1870 г. для обозначения Бога было использовано понятие Чжть Шэпь (Истинный Дух–Божество), не получившее широкого распространения, равно как и встречавшиеся в других протестантских переводах понятия Тяпьфу (Небесный Отец) и Шанчжу (Всевышний Господь).
Спор Легга и Буна развернулся в начале 1850–х годов на фоне изменившегося положения миссий в Китае. После «опиумных войн» на волне расширения проповеднической работы среди китайцев большинство миссионерских обществ согласились сотрудничать в работе над улучшением перевода Библии, для чего в Шанхае был создан «Комитет по исправлению». Несмотря на спор о Шэнь и Шанди, Новый Завет был переведен в редакции Шанхайского комитета в 1850 г., что касается Ветхого Завета, то по поводу принципов его перевода возник спор — часть членов комитета настаивала на литературном стиле для образованных классов, тогда как другие предпочитали менее литературное и более доступное издание для менее образованных слоев общества. «В 1850–е большинство американских миссионеров использовали термин Шэнь чаще, чем Шанди. Однако около I860 г. миссионеры начали отходить от Шэнь к Шанди, и к 1864 г. большинство из них использовали последний термин… термин Шэнь привел к большолгу количеству недоразумений среди тех, кто слушал христианскую проповедь, и китайские помощники и пасторы, предпочитавшие Шанди, оказали сильное влияние на миссионеров» [Carlson 1974, с. 59].
Появившаяся в 1850*е годы так называемая «Делегатская версия» Нового Завета стала важным шагом на пути создания единого варианта китайского перевода Писания. При подготовке «Делегатской версии» комиссия переводчиков разделилась по национальной принадлежности участников — руководившие проектом англичане выступали за именование Бога сочетанием Шанди и Святого Духа — иероглифом гиэпь, тогда как американцы предпочитали Шэнь для Бога и шн для Святого Духа. Предпочтения разошлись не только в терминологии, но и в выборе стиля перевода: «Британская сторона целеустремленно ориентировалась на хороший классический китайский стиль, даже если это означало принесение в жертву точности перевода изначального текста, тогда как американцы ради получения точного перевода Допускали стилистические погрешности» [Zetzsche 1999,с. 78]. «Делегатская версия» опубликована британцами в 1852 г., а в 1859 г. своя Библия появилась у американцев. Хотя «Делегатская версия» расценивалась многими как недостаточно буквальная, эрудиция переводчиков и шлифовка текста снискали в те дни широкое признание. Принятая Британским и Зарубежным библейским обществом, она к 1859 г. выдержала одиннадцать изданий и использовалась вплоть до 1920–х годов (см. [Cohen 1978, с. 552]).
Споры о терминах были сопряжены с оценками китайской культуры и ее религиозной составляющей, что затрагивало прежде всего использование Шанди. Часть протестантских миссионеров солидаризовалась с отвергнутым Ватиканом мнением иезуитов о том, что на ранних стадиях развития в китайской культуре присутствовало понятие о существовании истинного Бога «При изучении китайской мысли самым разочаровывающим становится то, что понятие о Боге было более ясным и влиятельным в ранней литературе, чем в поздней» [Gibson 1902, с. 85). С этой позиции изначальное китайское понятие о Боге–Шанди обретало значительную ценность, так как давало христианскому проповеднику возможность осуждать современную ему практик)' китайского язычества и идолопоклонства не только с позиций иноземной религии, но и с опорой на почитаемую аудиторией китайскую древность. К примеру, миссионер Дж.Гибсон трактовал Шанди и Тянь (Небо) как синонимы, но его историческая оценка Конфуция оказывается негативной, ибо древний мудрец подменил личностного Бога — Шанди более отвлеченным и деперсонализованным Небом — Тянь. Как Гибсон, так и многие его коллеги исходили из того, что в Китае XIX в. императорский культ поклонения Шанди и народные поклонения предкам практически исчерпывают религиозные аспекты конфуцианства.
Когда в 1860–е годы среди протестантов вновь встал вопрос об объединении терминологии, Джозеф Эдкинс и Генри Блоджет предложили использовать для перевода Библии на разговорный диалект «католическое» имя Тянъчжу [Eber 1999, с. 148 — 149]. Протестантские миссии на севере Китая первоначально поддержали эту идею, но на юге она вызвала среди миссионеров недовольство и опасения по поводу того, что их «перепутают» с католиками. Идею поддержал известный переводчик Писания Самуил Шерешевский, заявивший, что о Шанди невозможно думать как о Творце, поскольку это имя из китайского мифологического пантеона. Его аргументы опирались прежде всего на практические рассуждения — он полагал, что китайцы достаточно хорошо знают имя Тянъчжу, оно никогда не было обращено к идолу (что на самом деле не совсем так), к тому же его уже используют в своих книгах католики и православные. Шерешев–ский надеялся, что если все противники использования Шанди объединятся вокруг Тяньчжу,то терминологическому спору будет положен конец [там же, с. 151].
Позднее появилась общепризнанная «объединенная версия» Библии 1919 г., снискавшая за свою популярность неофициальное имя «Библии короля Якова» (King James) китайских христиан. Но и она вышла в двух изданиях, дабы удовлетворить тех, кто предпочитает Шэнь или Шанди. В 1922 г. в фундаментальном обзоре «Христианская оккупация Китая» сообщалось, что «проб* лема терминов все еще разделяет нас, н никто не чувствует этого так, как Библейское общество, которому приходится публиковать определенные версии с двумя наборами терминов». Для обозначения имени Бога термин Шанди использовался в 98% Библий, изданных в 1920 г. на классическом китайском языке, и в 89% Библий на разговорном языке, а термин Шэнь — в 2% и в 11% соответственно [Stauffer 1922,с. 453]. Последние редакции китайской Библии для диаспоры используют Шандщ подготовленные для распространения в Китае соответственно используют Шэпъ.
Отметим, что разделение католиков и протестантов нашло отражение и в лингвистической форме их китайских самоназваний —протестантизм именуется по–китайски гт1дуцзяо («религия Христа»), а католицизм — тяньчжуцзяо («религия Небесного Господа»). Протестанты н поныне используют для передачи понятия о Боге традиционные китайские термины Шанди и Шэнь, католики — заимствованный из второстепенных слоев буддистского религиозного лексикона термин Тяньчжу. Напротив, для обозначения понятия «Дух» протестанты используют менее подходящее лип, а католики — более удачный с точки зрения контекста его использования в китайской культуре термин гиань. Для экуменнческнх нужд китайские христиане используют понятие «Всевышний Господь» (Шанчжу).
Взгляды миссионеров и их критика китайской культуры
Если подход римско–католической церкви к китайской культуре был ограничен «сверху» запретительными папскими буллами XVIII в., то прибывшие в Китай в начале XIX в. протестанты имели шанс сформировать новую парадигму позитивного отно–шения к ней. Но эта возможность открыть новую страницу в межцивилизационном диалоге Китая и Запада не реализовалась — на ранних этапах работы миссий протестантские миссионеры унаследовали и активно развивали линию на конфронтацию с китайской культурой.
Описывая общие контуры процесса китаизации протеста» тизма, Дж. Фэрбенк указал на его три основных этапа. Первым шагом выступает использование китайского персонала, вторым — определение китайских терминов, в которых выражалось бы протестантское христианство, заключительный шаг китаизации христианства — получение официального статуса законного или еретического учения (см. [Barnett, Fairbank 1985, с. 9]). Можно заметить, что уже на первых этапах этого процесса миссионеры заняли по отношению к китайской культуре критически–наступа–тельную позицию, которая начала смягчаться лишь в самом конце XIX столетия.
Несмотря на исторически сложившуюся нелюбовь к «папистам», протестантские миссионеры включились в споры которые вела в XVII–XVIII вв. римско–католическая церковь по поводу пределов адаптации христианства к китайской традиции и китайским ритуалам. Многие протестантские миссионеры XIX в видели в китайской традиционной культуре неприемлемую аль тернативу христианству, задаваясь, подобно Дж. Макгова1гу из JIMO, вопросом: «Христос или Конфуций — кто из них?» Признавая значение Конфуция для китайской культуры, Макговап был крайне пессимистичен в оценке перспектив развития христианской веры в конфуцианском окружении. Он писал о конфуцианстве, что с его «сложной системой, простирающейся от императора на его троне дракона и, в большей или меньшей сте пени, вплоть до каждого подданного его владения, представляет ся, что христианство никогда не сможет найти опору в Китае и существовать рядом с ним. Только один может царствовать. Даже независимо от нашей твердой веры в то, что Евангелие должно быть религией всего мира, некоторые черты конфуцианства убедительно показывают, что оно не смогло в обычном смысле стать народной религией. В нем нет личностного бога, нет будущего, нет спасителя, нет ответов на тысячи вопросов, задаваемых сердцем. Такая вера неизбежно терпит поражение в отдаленной перспективе…» [MacGowan 1889, с. 205].
Но даже те из ранних протестантских миссионеров, что отвергали конфуцианство, все же возлагали на последователей этой древней китайской традиции больше надежд, чем на последователей других религий. Например, первый протестантский миссионер Р.Моррисон, заметил, что практиковавшееся в то время конфуцианство (начало XIX в.) было «неполным». По его мнению, китайские последователи конфуцианства не знали Бога, имея представление лишь о материальном Небе; в области морали им были известны «пять добродетелей», но они не знали о первородном грехе. Моррисон утверждал, и этой линии аргументации следовали позднее многие другие миссионеры, что «доктрина и знание, данные Богом через Иисуса, были необходимы для преодоления неадекватности конфуцианства» (цит. по [Соsе11 1986, с. 96]).
Однако не все преемники Моррисона были настроены на долгое и трудоемкое изучение культуры Китая, им хотелось побыстрее приступить к своему главному делу — обращению китайцев в веру. Несмотря на запрет, миссионеры предпринимали самочинные попытки начать проповедь и распространение религиозной литературы во время поездок в глубь страны. Уже в середине 1830–х годов отношения миссионеров из ЛМО с официальными властями на юге Китая становились все более конфликтными. Чиновникам не нравилось поведение иностранцев, а миссионеры пришли к убеждению, что местные чиновники якобы преднамеренно презрительно относятся к иностранцам, дабы унизить их в глазах населения. Китайские чиновники сопровождали иноземных миссионеров, чтобы держать под контролем их деятельность. «Надменность и нахальство мандаринов обычно находили ответ в поведении миссионеров. Объявляя, что христианские смирение и благоразумие не поставлены под сомнение, миссионеры заявляли, что не желают, чтобы с ними обращались даже в слегка неуважительной форме. Когда китайские чиновники желали, чтобы миссионеры встали в их присутствии, те намеренно садились. На оскорбления отвечали оскорблениями, на неуважение неуважением. Если распространенные ими книги сжигались чиновниками, миссионеры поступали так же с подарками, преподнесенными от имени императора. Такая политика „око за око, зуб за зуб“ была оправданна, утверждали проповедники, поскольку ощущали, что в противном случае они будут усугублять надменность чиновников, увеличивая трудности в будущих переговорах и ясно доказывая, что являются „варварами“ — слишком невежественными, чтобы понимать реальную ситуацию, и слишком слабыми, чтобы ей противостоять» [там же, с. 78–79]. Чувство противоречия усиливало уверенность миссионеров в правоте своего дела — они полагали, что можно и нужно проповедовать Евангелие, если этому противятся «силы зла», пусть даже в лице китайского императора. Они утверждали, что запрещения, связанные с торговлей, к ним не относятся, ибо они не торгуют, а делают добро, тем более что законы Бога везде одни и те же и Он желает, чтобы человеческие существа поддерживали отношения друг с другом.
Хотя уровень знания протестантскими миссионерами языка и культуры Китая постоянно повышался, их оценки духовного содержания китайской культуры не прогрессировали в той же степени. Причины этого явления удачно раскрыты М.Рубинштен ном при анализе мотивов, легших в основу негативных оценок китайского общества и религиозной жизни китайцев в годовом отчете Р.Моррисона (январь 1817 г.): «Он критично подходил к тому, что видел, связывая свое восприятие упадка Китая со слабостью его религиозных институтов. Он чувствовал, что должен продемонстрировать превосходство Запада, которое предопределено христианской верой. И чтобы Запад и его религиозные системы выглядели сильнее, ему нужно было сделать так, чтобы китайские верования выглядели слабее. Если бы он смог разрушить миф о том, что Китай обладал высшей цивилизацией, то тогда он смог бы рационализовать необходимость принятия китайцами того, что было для них чуждой и еретической системой верований. Он создавал условия для протестантского евангелизма. Тогда лидеры Американского совета приняли бы его аргументацию для посылки миссионеров в Срединное Царство» [Rubinstein 199(3,с. 119].
В первой половине XIX в. в Старом Свете вряд ли нуждались в дальнейшем развенчании мифа о совершенстве китайской цивилизации. В континентальной Европе светская аудитория уже давно забыла о былом очаровании вольнодумцев–просветителей XVIII в. естественной моралью китайцев и их якобы совершенным государственным устройством. А для правоверных католиков папские буллы начала XVIII в. оставались непререкаемой основой для осуждения языческого характера китайских верований. Миссионерская критика была востребована прежде всего в Северной Америке и Англии,которые не прошли через католические споры об «именах и ритуалах» прошлых веков. Сознательно или бессознательно, в своих письмах и отчетах, направляемых на родину, в своих книгах, предназначенных для аудитории в их странах, миссионеры стремились продемонстрировать моральное и религиозное банкротство китайской культуры. Необходимо отметить, что в XIX в. выходившие на Западе книги о деятельности миссий в Китае служили одним из важных каналов ознакомления с китайской цивилизацией. Разумеется, образованные люди, ученые предпочитали более глубокие и академичные издания, но достаточно широкии круг читателей, относившихся к разным деноминациям, получал почти всю информацию о культуре и религии Китая, его современных социальных и политических проблемах из писаний своих миссионеров. Эти негативные оценки отражали как личное разочарование миссионеров от встречи с безразлично–настороженной аудиторией и враждебно настроенными чиновниками, так и сознание необходимости концентрации усилий для реализации своего призвания — проповеди христианства Склоняя общественное мнение в пользу миссионерства, они формировали негативный образ китайской культуры.
По мере роста мощи империалистических держав и под их давлением в Китае усугублялся кризис цинской династии, что побуждало мнссионеров ко все большей непримиримости в оценках. Ускоряющийся распад традиционной китайской системы они воспринимали не столько как последствие иностранного вмешательства, сколько как свидетельство ее внутренней слабости и как нагляднейший аргумент в пользу ее скорейшего слома и замены христианскими ценностями. Критика китайской культуры была адресована не только церквам на Западе, но и самим китайцам. Вот что в 1851 г. писал о проповеднической работе среди китайцев миссионер J1MO Джозеф Эдкинс (1823–1905): «Я прибыл с братом–миссионером в Лунхуа. Большие толпы людей собрались по поводу ежегодного Праздника весны. Мы пытались сделать наше заявление против практики идолопоклонства возможно более понятным; но священники были раздражены более, чем обычно… Прибыли в Кеанг–ван на другой праздник. Шум… сделал проповедь практически невозможной. По этой причине мы удалились в старый храм на окраине города. Вскоре собралась большая аудитория, среди них были актеры, они слушали около часа, практически не покидая свои места, пока мы говорили им, что их предрассудки ошибочны и их конфуцианство крайне ущербно, после чего открыли им нечто из величия христианства» (цит. по [Cohen 1978, с. 564–565]).
В то время как западная культура становилась все более секу–лярной, миссионеры в Китае продолжали видеть не только в местных религиях, но и во всем, что их окружало, идолопоклонство и язычество, зло и суеверие. В 1849 г. миссионер Р.С.Мак–лай писал: «Когда мы говорим с соседом, [то думаем, что] он поклоняется отвратительному идолу. Мы встречаем знакомого на улице — значит, он как раз возвращается с идолопоклоннической церемонии. Если незнакомец приветствует нас и обращается на улице, наш опыт подсказывает, что ему нужны деньги. Друг захотел навестить нас — значит, рядом сидит язычник. Так смотрим ли мы вокруг с желанием научиться и с симпатией к тем, к кому мы будем обращать наши увещевания? [Мы лишь повторяем] — ах, одиночество жизни здесь таково, что лишь благодать Божия может сделать ее терпимой» (цит. по [Carlson 1974, с. 72J) Западные миссионеры, запугав себя устрашающим образом пропитанной антихристианскими суевериями китайской культуры, не только добивались от китайцев принятия христианства, но также требовали от них отказа от всего, что выглядело в глазах миссионеров как суеверие или идолопоклонство.
Евангелизаторский максимализм миссионеров зачастую вел к поверхностным интерпретациям культурных и ценностных различий, объективно существовавших между цивилизациями Китая и Запада. К примеру, во второй половине XIX в. стали весьма распространенными споры на тему о том, является ли Китай «нацией лжецов». Вот образ самодовольного и презрительного образованного китайца, рассуждающего на темы конфуцианской морали, нарисованный в конце XIX в. английским миссионером Дж.Макгованом: «Он будет цитировать прекраснейшие отрывки из затрагивающих эту тему писаний мудрецов. Красота добродетели обитает здесь, все это выглядит привлекательно и рождает симпатию, жемчужины одна за другой падают из его уст, и мы инстинктивно говорим: „Какой он чудесный человек!“ Ничего подобного. Его образование научило его говорить таким образом, но его сердце не троггуто словами великих мужей, которых он цитирует, и когда дело дойдет до делания денег, он будет действовать так, как если бы он был абсолютно лишен принципов Он использует свое образование просто как рычаг для достижения своих целей… Он агностик, чистый и простой, и он согласен оставить нерешенными великие проблемы жизни, которые навяжут себя его сознанию. Язычество бессильно сделать челове ка добрым. Когда нация теряет Бога, немедленным результатом становится упадок во всех направлениях — Китай тому свидетельство» [MacGowan 1889, с. 44–45].
Национальные поведенческие стереотипы проецировались миссионерами на реалии окружавшего их китайского общества, дополняя конфликт религиозных установок столкновением социальных идеалов. Американские миссионеры были поражены отсутствием у китайских христиан «патриотизма ь заботы о со циальном благосостоянии, их готовностью извратить истину для прикрытия членов своей семьи, их иным пониманием брачных уз, фактом, что чувство долга перед семьей превосходит чувство обязательств перед церковью (что вылилось в непотизм среди китайских работников). Миссионер приписывал эти культурные различия языческим влияниям и весьма честно обьявлял войну всей китайской системе ценностей», при этом чувство культурного превосходства у иностранцев легко превращалось в ощущение превосходства расового, что отвергалось китайцами (см. [Varg 1958, с. 35]).
На рубеже ХГХ–ХХ вв. пресвитерианский миссионер Дж.Гибсон в результате своей попытки сопоставить декларируемые конфуцианские моральные нормы с реальностью пришел к схожим заключениям. Он писал, что в Китае повсюду развешаны иероглифы «гуманность», но множество людей умирает от нищеты, голода и болезней. Он осудил жестокость наказаний и пыток, заметив, что повсюду превозносимая конфуцианцами «честность–доверие» соседствует с повсеместной погруженностью в ложь. «Мы не только принадлежим к христианскому народу, мы также имеем преимущество происхождения, по большей части от старой тевтонской массы одной из заметных добродетелей которой, даже во времена варварства, было уважение к истине. Для нас трудно понять фальшь среди нехристианских восточных рас. Мы можем понять человека, который под давлением лжет, чтобы спасти себя от неприятных последствий своих ошибок, но китаец лжет… привычно, постоянно и беспричинно» [Gibson 1902, с. 247]. Пытаясь объяснить причины этой лишенной необходимости и безбрежной китайской «лжи», Гибсон связал ее частично с «практикой» и частично с «общими принципами», сопоставляя китайскую манеру социального общения с игрой в карты — правда заставляет выкладывать карты на стол, а ложь позволяет держать игру под контролем. Обсуждая содержание этих споров, современный исследователь Р.Ковелл отметил, что «для большинства жителей Северной Америки и Европы истина есть соответствие фактам, реальности. Для китайцев истина есть то, что способствует гармонии. Гармония выходит за пределы соответствия так называемой объективной реальности; она включает соответствие человеческой реальности. Этот акцент на человеческом измерении в каждой ситуации, иногда с явным пренебрежением к „фактам“, вызвал у многих иностранцев ошибочные обвинения китайцев во лжи, в искажении истины» [Covell 1986, с. 11]. Однако в то время мало кто был способен на рассмотрение «лживости» китайцев как части уникальной культурной реальности, имеющей свое право на существование.
По этому поводу стоит заметить, что неприглядный расизм, казалось бы полностью несовместимый с новозаветной верой в неразделенность «эллина и иудея», все же был присущ миссионерскому сообществу. Это проявлялось прежде всего в тех случа ях, когда кто–то из миссионеров нарушал сложившиеся «правила игры» и сокращал дистанцию между «белым человеком» и «туземцем». В 1878 г. канадский пресвитерианский миссионер Джордж Лесли Макай (1844–1901), вошедший в историю со своим опытом «стоматологической евангелизации» (за 20 лет служения на Тайване он выдрал 21 тысячу больных зубов), женился на мест ной девушке из своей паствы, что «вызвало резкий критический ответ других миссионеров» [Cohen 1978, с. 568]. В его семье бы ло трое детей, но большинство миссионеров продолжало осуждать его решение — спасать души китайцев было нужно, но любить их предполагалось «на расстоянии».
Бескомпромиссность протестантских миссионеров XIX в во многом была обусловлена их теологией, окрашенной пиетизмом, акцентом на Божественной благодати и греховности человеческой природы Можно вспомнить Гриффита Джона (1831–1912), прибывшего в Китай в 1855 г. от Л МО. Он стал одним из ведущих евангелистов в Центральном Китае и, несмотря на упорное противление китайцев, совершил много проповеднических поездок по региону. В его словах, произнесенных в мае 1877 г., звучит убежденность, что социально–реформаторские усилия в Китае не должны заслонять традициошгую задачу христианских миссий. Г.Джон заявлял: «Как миссионеры мы верим, что в Китае мы повинуемся велению нашего Господа; цель нашей миссии — учить, делать христиан из этой великои нации. Что бы ни делали другие, вот наша работа. Мы здесь не для того, чтобы помогать осваивать ресурсы этой страны, не для ведения коммерции, не для простого развития цивилизации, но для борьбы с силами тьмы, чтобы спасти людей от греха и покорить Китаи для Христа. Коммерция и наука хороши на своем месте. Мы не должны недооценивать их важность. Они могут развить в Китае новую и более высокую форму цивилизации — цивитизацню, которая принесет изобилие богатства, богатые запасы знаний и многие изобретения для облегчения бремени существования, делая жизнь счастливее, чем она есть. Но все это не может отве тить на единственное духовное желание, успокоить единственное духовное стремление или влить жизнь в Боге в одну–единственную душу. Одно лишь Евангелие есть сила Ьога в спасении; спасение от вины и царства греха, от моральной и духовной нищеты — вот великая нужда китайцев» (цит. по [Lutz 1971, с. 11]). По признанию Г.Джона, Китай был «ужасающе мертв», и потому любые светские планы и организации мало что могли сделать для великого народа, которому была необходима лишь жизнь в Святом Духе и Христе
[70].
Боевому задору миссионеров приходилось сталкиваться с реалиями китайского общества, а создание христианских общин из китайцев неумолимо требовало учета местных культурных традиций, обычаев и нравов. К.Смит в исследовании истории христианской общины Гонконга подчеркнул, что, «когда церковь устанавливала себя в Китае, ей надо было прийти к соглашению с центральной объединяющей ценностью китайского общества — концепцией сыновней почтительности, выраженной в поклонении предкам внутри контекста базовой социальной организации китайского общества — клана» [Smith С.Т. 1985, с. 195].
В понятиях традиционного китайского мировоззрения человек был частью семейного клана, принадлежность к которому обусловливала «привязанность его жизни» к некоей родовой и исторической идентичности. Однако были такие, кто оказался за пределами этой системы, — например китайцы, жившие в Сингапуре, Пенанге, Малакке, Бангкоке и Батавии. В понятиях традиционной этики они, покинув могилы своих предков, совершили акт сыновней непочтительности. Именно на них была нацелена в начале XIX в. работа китайских протестантских миссий. «Их маргинальная социологическая, психологическая и географическая ситуация сделала их поддающимися переводу в другую систему ценностей и приспособлению к другой социальной организации, представляемой христианской церковью. Как только происходило это изменение, они отходили от тех структур, которые олицетворяли для китайцев идентичность и ценность» [там же, с. 196]. Наиболее легко переходили в христианство национальные меньшинства с окраин Китая (прежде всего южных), растворенные среди ханьцев и желавшие сохранить отличие своей культурной идентичности от культурной традиции большинства.
В то же время, сами ханьцы были склонны принимать христианство, оказавшись в положении меньшинства среди других народов.
Обращения в христианство в Гонконге во второй половине XIX в. во многом были связаны с факторами «личного одиночества и культурной изоляции» иммигрантов, которые получали поддержку со стороны общины и стремились соответствовать ее запросам. «Однажды обращенному, обученному христианским моральным ценностям, ознакомленному с некитайскими типами поведения и мышления человеку по возвращению в родную деревню в Китае было трудно адаптироваться к тому,что казалось естественным перед его эмиграцией. Так, он часто находил Гонконг более приемлемым местом жительства. Оно было достаточно китайским, чтобы чувствовать себя вернувшимся домой, но это было также место, где не требовали соблюдения всех старых обычаев, к некоторым из которых он больше не испытывал симпатии» [там же, с. 201].
В своем исследовании К.Смит привел завещание гонконгского христианина, дьякона из конгрегации Л МО, написанное в 1869 г., где тот заявил: «Я должен благодарить Бога–Отца, который дал мне возможность обладать домами и землей в Гонконге». Его сын, умирая в молодом возрасте в 1873 г., завещав свою собственность жене и двум маленьким детям и оставив их на попечение своего старшего брата, говорил, что «не имеет нужды делать много распоряжений, но молится десять тысяч раз Богу, Небесному Отцу, о благословении всей нашей семьи, что является его сердечным желанием». Смит отмечает, что «в завещании сына отражена большая озабоченность традиционным семейным единством, но с обращением к Богу о необходимом благословении, а не к традиционным добродетелям экономии и усердия как средствам, гарантирующим дальнейшее семейное благополучие. Этот пример иллюстрирует значительный перенос ценностей от семейного биологического сообщества к трансцендентной реальности, которая не привязана непосредственно к материальному и ощутимому» [там же, с. 203].
В конце XIX в. основным объектом деятельности протестантских миссионеров по–прежнему оставались нижние слои общества. Рассмотрим подробнее модель работы среди сельского населения на юге Китая, предложенную пресвитерианским миссионером Дж.Кэмпбеллом Гибсоном, чьи лекции получили в свое время широкую известность и были использованы многими начинающими проповедниками (см. [Gibson 1902]).
В качестве лучшего момента для беседы с людьми он назвал вечерние часы, после того как крестьяне закончат свою работу, поедят и соберутся в холодке на окраине деревни, чтобы отдохнуть. Гибсон отметил дружелюбие китайских крестьян и их настроенность на беседу, предложив начинать разговор с вопросов о посевах и прочих деревенских делах. После этого крестьяне начнут строить догадки о целях путешествия иностранца и его китайских спутников — охота, деловые цели, кто–то может предположить, что перед ними миссионер. После этого миссионер рассказывает, что его дом находится далеко за морями, но он уже давно живет в Китае и знает китайский язык, удивляя всех его владением. Подчеркнув, что он не состоит на службе Ее Величества и не является ни охотником, ни купцом, он рассказывает о своем миссионерстве примерно следующее: «Проходя через вашу деревню, я подумал, что вы можете захотеть услышать, что люди подразумевают под поклонением Шанди. Если вы хотите услышать об этом, я буду счастлив поговорить с вами, но если вы слишком устали после дневной работы, то я не буду вас тревожить». Предполагается, что реакция будет заинтересованной, и после этого миссионер говорит о том, что, несмотря на все различия в языке, культуре, одежде, цвете кожи и т.д., китайцы и жители Запада похожи друг на друга, что он может понимать чаяния китайцев, поскольку все люди созданы одним Богом, сотворившим Небо и землю.
Далее Гибсон выделяет две возможные линии аргументации. Первая связана с природой, и она более предпочитаема местными проповедниками, приводящими примеры из сельскохозяйственной жизни, показывая, как Бог посылает свет и дождь, давая хлеб с Небес. Хотя эта линия аргументации легко может быть развита в идею единобожия, именно в этом Гибсон и видит ее уязвимость. «Говоря сразу же об одном истинном Боге и поклонении Ему, говорящий неизбежно будет идти к разговору о ранней стадии идолопоклонства, и прежде чем он сможет изложить великие начала христианского учения, он может вовлечь себя в конфликт с идолопоклонством, которое в конце концов есть единственная форма религиозного поклонения, практически известная здесь людям» [там же, с. 154]. По £>той причине Гибсон предложил после общего упоминания о Боге и его отеческой доброте вообще не затрагивать вопроса об идолопоклонстве, сказав слушателям лишь то, что Бог настолько добр и благодатен, что заслуживает любви и служения.
После констатации внешнего единства всех людей миссионер обращается к миру чувств и эмоций, которые также всеобщи, поэтому все люди обладают известными в китайской традиции «семью чувствами» (радость, ярость, горе, страх, любовь, ненависть и желание). Вслед за тем Гибсон советует менять тему и начинать задавать крестьянам вопросы о том, есть ли среди жителей их деревни «совершенные люди», делающие всегда одно лишь добро; дети, которые всегда слушаются своих родителей; жители, которые никогда не врут или никогда не играют в азартные игры. Эти вопросы направлены на то, чтобы пробудить н людях способность к различению истинного и ложного, врожденность которой постулирована в конфуцианской традиции (можно вспомнить о «четырех началах» Мэн–цзы). После получения людских признаний в недобрых делах, пусть даже чужих, проповедник представляет учение о Христе как Спасителе, способном разрушить оковы греха, вслед за чем становится возможным обсуждение вопроса о поклонении идолам. Гибсон предостерегает, что осуждение поклонения предкам может быть очень чувствительно для китайской аудитории, и предлагает делать акцент на христианской этике. «С самого начала христианство должно показывать себя через плоды, порождаемые им в жизни своих последователей, и многого можно достичь, когда мы чаем китайской аудитории некоторую уверенность, что в моральных вопросах наше учение на стороне истины» [там же, с. 157–158].
Как на признак позитивного сдвига в отношении местного населения к христианству и в доказательство «половины победы», Гибсон указывает на то, что если на ранних этапах миссионерской деятельности в Южном Китае люди считали христианство плохим учением, то позднее стали оценивать его как хорошее, но слишком трудное. По его мнению, это свидетельствует и том, что люди пришли к признанию высоты христианских идеалов и осуждению тех зол, представления о которых сложились в их сознании. Гибсон привел стандартные возражения китайской аудитории — христианство обвиняют в подстрекательстве к отвержению отца и матери, звучат ссылки слушателей на невозможность отказа от своих обычаев, заявления, что они не могут верить в Бога, которого никогда не видели. Гибсон охарактеризовал эти возражения китайцев как «в общем разумные и реальные» и тем самым весьма отличающиеся в лучшую сторону от опыта христианской проповеди в Индии, где обычными откликами аудитории становятся метафизические суждения типа «человек и Бог едины», «все божественно», «ничто не существует» или «все–есть иллюзия» [там же, с. 163–164]. Гибсон полагал, что более всего китайцев отвращает от принятия христианства убеждение, что миссионеры учат их «презирать предков и отрекаться от родителей, или, как это заявляет более выразительная китайская идиома, что у христиан „нет отца и нет матери. Есть определенные шаблонные возражения против христианского учения, которые переходят постоянно из уст в уста среди наших китайских слушателей… Христианский проповедник может достаточно свободно говорить об идолах, но ему нужно говорить осторожно и с определенной мягкостью о практиках и чувствах, связанных с поклонением предкам» |там же, с. 82].
О понимании Гибсоном религиозной ситуации в Китае того времени могут свидетельствовать следующие слова: «Народные религии рассматриваются не с точки зрения истины или лжи, но на основании их практической пользы, пли их возможной опасности для гражданского порядка и общественного мира. Короче, подход китайского правительства к религии очень напоминает происходившее в Римской империи» Он интересовался даосизмом и ранним буддизмом, останавливая свое внимание на интересе первого к природе и на достоинствах учения Гаутамы. Оба течения критиковались им за практику идолопоклонства, выразившуюся, например, в буддистском почитании бодхисаттв. По мнению I ибсона, оба учения являются меньшим препятствием на пути распространения христианства в Китае, по сравнению с конфуцианством, из–за того, что они основаны на страхе, с уходом которого эти «суеверия» потеряют свою основу. В свою очередь, конфуцианство удерживает людей, опираясь на моральное учение и лучшие человеческие чувства. Именно поэтому его можно сравнить с «мертвой рукой, захват которой должен быть ослаб лен, прежде чем Китай сможет стать свободным и принести свои возрожденные силы служению Богу во Христе» [там же, с. 118].
Весьма важны для понимания проблемы взаимодеиствия цивилизаций предложения Гибсона по использованию китайского традиционного культурного материала в христианской проповеди. Он счел полезными пробуждающие интерес слушателей ссылки на китайскую литературу и историю — ведь даже самые невежественные из них обладают чувством величия своей национальной истории, это льстит их самолюбию. В то же время, Гибсон выразил свое отрицательное отношение к использованию в проповеди цитат из конфуцианской классики. По его словам, так поступают лишь наиболее бездумные и необученные местные проповедники. Он согласился с мнением опытных миссионеров, что «проповедь, в которой цитируется Конфуций, есть испорченная проповедь».
Вот как он пояснил причины своего отвержения конфуцианской классики: «Китаец, хоть он, в соответствии с моделью собственного умственного развития, и проницательный резонер, в процессе мышления редко бывает строго логичен. Если вы цитируете ему Конфуция, то он заключает, что не мысли Конфуция согласуются с вашим учением, но что ваше учение взято у Конфуция. Поэтому такие цитаты могут создать впечатление, что мы в итоге лишь укрепляем веру в учение конфуцианских книг. Нет необходимости в публичной проповеди вступать в ненужные коллизии с этими почитаемыми авторитетами; но будет лучше, если мы будем основывать наше христианское учение на его должной основе и воздерживаться от цитат, эффект которых будет как минимум двусмысленным» [там же, с. 165]. Это вовсе не отрицает, по его мнению, пользы широкого использования в проповедях китайских пословиц и исторических фактов. Протестантские евангелизаторы должны обладать хорошим знанием китайской истории и литературы, что даст возможность более близкого контакта даже с наиболее невежественной частью аудитории.
Либеральные представления Гибсона побуждали его яысту пать против свойственного традиционно» китайской культуре акцента на подчинении индивида семье н общине. Он серьезно критиковал китайскую практику «сыновней почтительности», в особенности право отца распоряжаться жизнью детей. Его ужасало то, что отец может покончить с сыном, позорящим семью, в том числе и закопав его живым, не преступив при этом ника кой закон. Современный исследователь Дж.Худ охарактеризовал отношение Гибсона к конфуцианству как «амбивалентное» [Hood 1986,с. 178], так как оно сочетало его осуждение за культивирование идеалов самодостаточности человека и связи морального поведения с индивидуальной природой человека (а не с Богом) с позитивными оценками установленных конфуцианством моральных норм. Признание универсальности многих норм конфуцианской этики приводило его к заключению, что Китаи нуждается не столько в новом наборе жизненных установок, сколько в «новом заряжающем источнике жизни», которым и должно было стать христианство.
Обращение к высшим классам общества и попытки диалога с китайскими традициями
В XVII в. иезуит Маттео Риччи рассматривал буддизм как главного китайского соперника христианства, а конфуцианство —как его потенциального союзника Позднее Ватикан осудил его за излишне смелую адаптацию католичества к китайской культуре, после чего все китайские религиозно окрашенные традиции автоматически попали в разряд врагов христианства. Позднейшее отторжение протестантскими миссионерами китайских традиционных религий распространялось как на «лживую этику» и «поклонение идолу Учителя» конфуцианцев, так и на «суеверия» даосизма и буддизма. Однако уже в XIX в. некоторые протестантские миссионеры, прежде всего Вильям А.П. Мартин и Тимоти Ричард, попытались, подобно Риччи, найти в китайской традиции духовных союзников.
Американский пресвитерианский миссионер Вильям Александр Парсонс Мартин (1827—1916) родился в семье пресвитерианского священника и учился в Университете Индианы. Его уверенность в преимуществах методов естественной теологии и наличии взаимосвязи науки и религии укрепилась во время обучения в Пресвитерианской теологической семинарии в Нью–Олбани после окончания университета [Kwang–Ching Liu 1966, с. 14].
В 1849 г. Мартин был рукоположен в сан, а в 1850 г. прибыл в Китай. Десять лет его миссионерская работа проходила в Нинбо, он хорошо овладел китайским языком. После кратковременной поездки на родниу он с 1863 г. обосновался в Пекине, преподавал английский язык, в 1866–1867 гг исследовал в Кайфэне памятники местной иудаистской общины. Наиболее важное место в его наследии занимает работа Тянъдао су юань («Истоки Небесного пути», известная также под английским названием Christian Evidences — «Христианские свидетельства»). Написанная в 1854 г., книга выдержала около полусотни изданий. Четыре издателя одновременно печатали Тянъдао су юань В .А.П.Мартина, и «невозможно установить, сколько десятков тысяч экземпляров было продано» [Stauffer 1922, с· 444]. Она не только знакомила китайцев с азами христианства, изложенными с позиции «естественной теологии», но и служила учебным пособием для языковой подготовки миссионеров, использовалась в теологических школах для обучения проповедников. В начале XX в, в опросе, проведенном Обществом христианской литературы, за нее про–голосовалн как за лучшую книгу на китайском языке (см. [Covell 1986, с. 99]). Логика изложения говорила о переходе от постижения природы и человека к познанию идеи Бога–Творца Книгу открывало утверждение, что «великий путь» (да дао) не принадлежит в отдельности ни Китаю, ни иностранцам, но восходит к Богу, который одинаково может быть назван именами Шэпъ、 Тяньчжу, Тяпьфу или Шанди. Примечательно, что здесь же сразу появляется имя Конфуция — идея всеобщности христианства вводится через сравнение с проникновением Конфуциева «шести–канония» из одного царства Лу во все царства Китая (см. [Дин Вэйлян 1904, с. 1]). Грехопадение было истолковано Мартином в понятиях конфуцианской антропологии как утрата «изначальной доброты» (бэнь шань). При изложении проблем естественной теологии, дабы дать читателю представление о «мире невидимом» через познание мира видимого, затрагивались темы астрономии и происхождения Вселенной, зарождения жизни, биологии и психологии человека. В книге было дано достаточно научное объяснение причины возникновения небесных тел из вращательного движения изначальной субстанции Вселенной, при этом Бог трактовался как высший источник гравитационного принципа. В ходе обсуждения проблем зарождения жизни В.Мартин использовал большое число понятий из китайской традиции, например учение о «пяти элементах» (у сии). Пытаясь провести различие между теорией порождения жизни принципом (ли) и христианской доктриной Божественного Творения, он акцентировал погруженность природы, или принципа, в мир материального, тогда как подлинный Гворец должен возвышаться над этим миром. Мартин коснулся традиционной китайской теории порождения всех объектов мироздания двумя полярными силами инь и ян, сопоставляемыми с осенью и весной, холодом и теплом (см. [там же, с. 7–8]). Дипломатично избегая ее прямого осуждения, он заметил, что у этой теории нет достаточных подтверждений, тогда как погода, среда, мутации и выживание сильнейшего являются лучшими объяснениями различий видов живых существ, чем взаимодействие инь и ян.
Обращаясь к строению человеческого организма, В.Мартин охарактеризовал его как показатель творческой способности Бога, различая христианское понимание Творения и китайскую концепцию «порождения человека Небом» (Тяиь шэн жэнь). Подчеркивая наличие замысла Творения, он вместо европейской метафоры часов использовал более понятное для китайскоп аудитории сравнение с домом или металлическим предметом. Анализируя уникальные инстинкты рыб, птиц и зверей, В.Мартин прибег к сопоставлению термина — «инстинкт» (бэньит) с чисто китайским понятием врожденного общепринятого морального знания и способности (лян чжи, лян нэп). Он стремился выстроить понятную китайцам иерархию мироздания, в которой животные подчинены человеку, человек — Небу, при этом все эти сферы (Небеса, мир людей и мир животных) едины. В целом, чтобы сделать свои аргументы доступными для неискушенного читателя, Мартин пытался соединить изложение основ христианского вероучения с распространенными китайскими представлениями о мире и природе (см. [СоуеИ 1986, с. 100–102]).
Сходная попытка привести китайцев к богопознанию через естествешгую теологию была предпринята во второй половине 1850–х годов Александром Вильямсоном, прибывшим в Китай в 1855 г. от ЛМО. Задаваясь вопросом: «Что есть Высшее Бытие, или Сила (дао, таицзи), и принцип (ли)?», он обращался к традиционному китайскому материал)'. Используя различные цитаты из Чжу Си и сунских неоконфуцианцев, Вильямсон пытался обосновать, что ответ на этот вопрос должен относиться к некоему деятельному и разумному высшему началу. Он указывал, чт о традиционные китайские концепции не соответствуют задачам описания этого личностного начала, так как, по его мнению, дао в китайской культуре — «предельный покой», таицзи суть «пустота», а ли («принцип») — погружен в материальное бытие и неотделим от него Исходя из этих предпосылок развивалась аргументация в пользу усвоения китайской культурой христианского понятия о персонифицированном Боге, которому присущи сознание и знание Пресвитерианский миссионер Хэмпдэн Дубоуз также выступал за самое широкое привлечение для проповеди христианства в Китае теории «пяти элементов», данных о человеческой физиологии, естественной истории, астрономии и «книги природы» в целом. Такое направление проповеди обосновывалось тем, что в Китае не было адекватной подготовки к восприятию Евангелия, подобной той, что осуществилась через культурно–цивилизационное присутствие иудеев в Римской империи (цит. по [Соvе11 1986, с. 99]).
Завершив посвященный «естественной теологии» первый раз дел Тяньдао суюанъ рассмотрением качеств («добродетелей» — Эз) Бога, Мартин перешел к рассмотрению содержания христианства и его роли в жизни общества, используя во второй части книги ряд китайских понятий. Он сохранил идущую от трудов иезуитов линию на опровержение буддизма и даосизма с одновременным обоснованием неполноты конфуцианской доктрины — «Будда верил в предыдущую жизнь. Конфуцианцы не верили в возвращение жизни. Даосы верили, что нынешнюю жизнь можно продлевать и удерживать от распада» [Дин Вэйлян 1904, с. 23]. Мартин подчеркивал, что в «пяти взаимоотношениях» (у лунь) традиционной этики отсутствовало шестое и главнейшее для западной религиозной парадигмы — взаимоотношение человека и Бога (см. [там же, с. 38]). В его работе рассматривались и собственно вероучительные темы: в одной из глав на основании библейских пророчеств приводятся доказательства бытия Бога, в другой повествуется о чудесах Иисуса.
В главе «Толкование сомнений для пояснения истинного пути» Мартин анализирует вопросы, которые возникают у китаи–цев при знакомстве с положениями христианского вероучения Так, возраст Земли, согласно Библии, составляет шесть тысяч, а по китайским классическим книгам, — сорок–пятьдесят тысяч лет. Признав, что здесь нет однозначного ответа, Мартин отмечает, что в китайских текстах истоки появления понятий тайцзи、инь—ян, имен Пань–гу («первого человека, называемого в Библии Адам») и древннх правителей Яо и Шуня прослеживаются не настолько ясно, чтобы сформировать надежное сравнительное суждение. Связав с климатическим фактором проблему существования разных человеческих рас, он указывал на их изначальное единство (в частности, на общность белых европейцев и черных индийцев посредством принадлежности тех н других к индо–европейской языковой семье).
По поводу предания о семи днях творения он пояснил, что в нем говорится о порядке сотворения мира, а не об определенном отрезке времени, заметив, что библейский рай — Эдем был и Азии и располагался рядом с первыми четырьмя центрами цивилизации —Индией, Китаем, Вавилоном и Египтом. Отвечая на вопрос о том, почему Иисус родился в маленькой ГТалестипе,он заявил, что монотеизм иудеев был хорошей подготовкой к проповеди Евангелия, к тому же расположение Палестины на стыке трех континентов открывало возможности для его распространения среди других народов. Мартин также подчеркнул, что во время пребывания на земле Иисус практиковал сыновнюю почтительность (сяо) в отношении к своей семье и к Богу (см. [там же, с. 47]). Затрагивая чувствительный для носителей китайской культуры вопрос о том, надо ли после принятия христианства отворачиваться от Конф)о;ия, он дипломатично заявил, что здесь существует различие, определяемое в понятиях широты п узости, но не истины и ошибки.
Протестантские миссионеры того времени ориентировались на преподавание истории, географии и науки, пытаясь тем самым привнести в Китай европейский контекст понимания христианского вероучения. Как отмечает Р. Ко вел л, публикации B.NlapTiHia были нацелены на то, чтобы бросить вызов традиционному китайскому мировоззрению, стремящемуся к сакрализа–цни природы. В своих рассуждениях о «небесном путн» {тяпьдпо) он подспудно проводил мысль о том, что китайцы могут начать покорять природу, которая не наделена разумом ичувствами. Ыа этом пути китаизации «естественной теологии» христианская доктрина и наука разделились, так как Мартин исходил из того, что китайцы пе воспримут чисто религиозную христианскую литературу. Он нацеливался прежде всего на пробуждение у китайцев интереса к западной культуре и ее научным достижениям в надежде на то, что со временем это пробудит в них интерес к христианству. «К сожалению, этот евангелизм был, по существу, миссионерским. Он был нацелен, как видится, на то, что когда невежество, страх и суеверия будут удалены, то все экономические, военные, социальные и образовательные проблемы Китая исчезнут. Мартин часто идеалистично и упрощенно применял к сложным ситуациям моральные максимы и банальности, практически не принимая во внимание исторические, экономические или социологические реальности» [Covell 1986, с. 114].
Протестантов в XIX в. волновала не только проблема поиска адекватного имени Бога, но н совместимости христианства и китайских «ритуалов». В Мартин вспоминал о своих попытках запретить новообращенным поклонение табличкам предков как о своей ошибке, β итоге он солидаризовался с позицией иезуитов в их полемике конца XVI — начала XVII в., направленной против францисканцев и доминиканцев. Он полагал, что если бы тогда отправление ритуалов поклонения предкам было разрешено хотя бы на время, то император ЬСан–си, приняв крещение и приведя элиту Поднебесной в христианство, мог бы стать современным Константином. Мартин сожалел об отсутствии у протестантов единства мнения по вопросу о ритуалах и отвергал перспективы запрета китайских культов. Он призывал не «устранять» проблему, а найти для нее временное решение, продолжи искать постоянное. Историческая функция ритуалов состояла, по его мнению, в фиксации династических преемствен–ностей,доведении ннформацни о важных событиях в империи, в поощрении ценностей морали и храбрости через обращение к почитанию ушедших. Хотя к этой системе была примешана большая доля суеверий н идолопоклонства, она все еще служила тройной социальной цели: укреплению уз семейного союза и стимулированию активной благотворительности; поощрению самоуважения и установлению моральных ограничений, а также поддержанию некоторой веры в реальность духовного мира.
Несомненно, что, как и другие миссионеры, Мартин не мог допустить того, чтобы церковь санкционировала идолопоклонство. Он отверг как форму, так и содержание несовместимых с христианством ритуалов, предполагающих молитвы и жертвы усопшим предкам, возносимые к ним как к опекающим божест–вам. Он хотел изменить некоторые китайские ритуалы, дабы молитвы, обращенные к предкам, выглядели как выражения «естественных чувств». Он принял как форму, так и функцию коленопреклонений и поклонов, утверждая, что, хотя эти действия являются идолопоклонством в одном контексте, они определенно не таковы в другом. Столь же двусмысленными он счел восхваления мертвых и обращения к ним. Мартин предложил разрабатывать сообразные с христианством функциональные замены китайских ритуалов — например возлагать цветы или сажать их на могилах предков взамен подношений им еды и питья.
По мнению Мартина, трудности протестантизма в вопросе о ритуалах были связаны не с боязнью идолопоклонства как такового, но с отвращением к «любому виду связи с мертвыми». Корни этой протестантской антипатии он усматривал в чрезмерной реакции на догмы римско–католической церкви. Он призвал восстановить естественные выражения чувств к мертвым если не среди связанных традицией церквей на Западе, то как минимум среди конгрегаций в Китае, где протестантские миссии и церкви только начали свою деятельность. После трагических событий восстания ихэтуаней Мартин не изменил своего мнения относительно китайских ритуалов, полагая, что «поклонение предкам, хотя оно и окрашено суевериями, существенно отличается от поклонения идолам. О них не думают как о божествах, к их защите взывают, но от них не ожидают обладания большой властью. Наделе семья скорее полагается на их заслуги, нежели чем на их силу… Являются ли идолопоклонством приношения еды и падения ниц? И то и другое противоречит нашему вкусу и обычаю, но вовсе не обязательно конфликтует с духом христианства. Человек, который за обедом ставит столовый прибор для покойной жены, не превращается из–за этого в плохого христианина. Элемент суеверия будет исправлен с ростом знаний. Ритуалы, исполняемые перед табличками, внесли огромный вклад в поддержание веры в бессмертие души, они не имеют себе равных, когда служат скреплению семейных уз. Этот институт настолько благотворен, что, даже если бы мы и могли уничтожить его движением пера, мы не должны считать такой поступок оправданным. Когда станет известно, что семьи могут стать христианскими, держась в то же время за своих предков, мы можем ожидать, что целые кланы потянутся в церковь Христа. Если же наши миссии будут упорствовать в осуждении поклонения предкам, то весьма вероятно, что в один прекрасный день китайское правительство создаст государственную церковь, которая воплотит ключевые учения христианства, оставив их во владении предков» [Martin 1902, с. 118–119].
Однако большинство современников были не в состоянии принять такой «открытый» подход к китайским ритуалам. Это особенно ясно проявилось на Объединенной миссионерской конференции 1890 г. в Шанхае, отвергшей его взгляды. Гилберт Рейд зачитал на конференции доклад отс^ствовавшего Мартина о китайской традиции поклонения предкам, к которой христиане должны быть терпимы, так как она отражает лучшие черты человеческой природы. 430 делегатов восприняли это как призыв к идолопоклонству. Рейд заступился за Мартина, утверждая, что элементы китайских ценностей сыновней почтительности и братской любви находятся в гармонии с христианством, а любовь к людям может распространяться и на ушедших из жизни. Эти идеи были осуждены влиятельным консервативным миссионерским деятелем Хадсоном Тэйлором (1832–1905), основателем Китайской внутриконтинентальной миссии (КВМ) — крупнейшего миссионерского общества, действовавшего в Китае во второй половине XIX в. и ставившего своей задачей максимально широкую евангелизацию низших слоев общества на всей территории страны. Позицию Мартина и Рейда поддержал лишь Тимоти Ричард.
В итоге конференция осудила поклонение предкам как «несовместимое» с христианством и потому нетерпимое, но воздержалась от окончательного осуждения его как идолопоклонства. Во избежание лобового конфликта с китайской традицией миссионеров призвали к тому, чтобы те поощряли китайских верующих к почитанию памяти усопших и проявлению уважения к живущим родителям, так как церковь также признавала сыновнюю преданность одной из величайших добродетелей. «Щедрость, показанная Мартином и Рейдом по отношению к китайским обычаям и культуре, была редкой. Однако эта щедрость и несогласие Рейда и Ричарда с доминирующими консервативными взглядами сигнализировали о появлении либеральных умов, которые переросли доктрины о язычестве XIX в.» [Lian Xi 1997, с. 173]. В начале XX в. на юбилейной конференции 1907 г., где присутствовало много китайских делегатов, несовместимость ритуалов поклонения предкам с христианством была констатирована вновь. Однако минимальное соблюдение обычая сыновней почтительности церковь сочла «желательным» и была выражена надежда на то, что китайские христиане сами найдут некий приемлемый для всех и достойный путь, отвечающий этой потребности.
Что касается прозвучавших на конференции 1890 г. слон Хадсона Тэйлора о том, что название доклада Мартина «Призыв терпимости» (Plea for Toleration) не может даже об*суждаться ни одной протестантской организацией, то год спустя один автор написал: «Мусульмане, более чистые монотеисты, чем христиане, будучи сами китайцами и имея представление о китайском сознании, нашли средства аккомодации к китайскому поклонению предкам; несомненно, что то же сделали бы и китайские христиане, если бы миссионеры немногим более доверяли движению естественных чувств китайцев в их сердцах вместо публичного оскорбления всей нации, страстно отрицая то, что бук вально дороже жизни для них, пряча предмет от будущих дискуссий ii закрывая дверь от нового света» [Michie 1891, с. 51].
Примечательно, что Мартин обратил свои взор не только к конфуцианству, но и к буддизму. Он полагал, что три основные религии Китая (конфуцианство, даосизм н буддизм) выступают в реальной жизни как взаимодополняющие п каждая из этих религий представляет историческую ступень развития китайской духовной традиции. О и оптимистично смотрел на перспективы превращения христианства в новую, четвертую ступень становления религиозной мысли Китая. Мартин предложил соотносить христианское вероучение с китайскими религиозными системами как «наследниками буддизма». Он пришел к выводу, что два основных элемента буддизма — вера в божественное существо и в бессмертие души внесли свой и клад в духовную подготовку Китая к переходу к христианской эпохе. Это религиозное мировоззрение весьма отличается от традиционной китайской культуры с ее поклонением природным объектам или великим мужам прошлого. Наполненная буддами и бодхисаттвами — добрыми, справедливыми и провиденциальными существами,духовная вселенная буддистов не формирует существенной экзистенциальной привязанности к ним. Это религиозное мировоззрение весьма отличается от традиционной китайской культуры с ее поклонением природным объектам или великим мужам прошлого. Хотя в буддизме не сформировалась монотеистическая тенденция к поклонению единому Будде и сохранялась сильная атеистическая тенденция, Мартин бесстрашно заявил, что «хвала буддистским божествам достойна, быть возложенной как жертва к стопам Иеговы» [Covell 1986, с. 124J. Ему пришлось сделать оговорку, что буддистская доктрина жизни после смерти, смешавшись с учением о переселении душ, была испорчена. Однако в контексте необходимости усиления религиозного измерения излишне секулярной китайской духовной традиции все ошибки буддистской доктрины были перевешены сильным акцентом на нематериальной стороне души и ее будущем существовании в состоянии, согласующемся с поведением человека в настоящем. По мнению Мартина, эти элементы буддизма образовывали наилучшую, по сравнению с материализмом даосов или агностицизмом конфуцианцев, подготовку китайской цивилизации к принятию христианской веры. Более того, он полагал, что основные добродетели христианства уже проповедуются буддизмом. Обращаясь к сформировавшемуся терминологическому аппарат)' китайского христианства, Мартин пытался показать, что многие буддистские термины (рай, ад, дьявол, душа, жизнь будущего века, новое рождение, пришествие, грех, покаяние, воздаяние) были взяты сначала католическими, а затем и протестантскими миссионерами, «спрыснуты свягой водой и освящены для нового использования». Если Божественное провидение и в самом деле готовит Китай к восприятию Евангелия, как это было уготовано для Европы во времена Римской империи, то историческое проявление этого высшего промысла Мартин усматривал в формировании в средние века религиозной терминологии китайского буддизма, на основании которой после XVII в. был создан словарь для христианства. Иными словами, если в средние века буддизм смог преодолеть сопротивление имевшейся религиозной традиции, предоставив временное решение духовных проблем китайской культуры, то ныне западное христианство призвано «восполнить восполняющее», компенсируя неполноту буддизма и исправляя его ошибки. «Давая китайцам пример иностранной веры, пробившей себе дорогу и укоренившейся, несмотря на сопротивление, мы готовим их к ожиданию повторения этого явления. Как буддисты они научены верить, что нынешняя форма веры не является окончательной, и ждать ее более полного выражения в более просвещенном веке Чиновники обычно смотрят на христианство как на разновидность буддизма, так не подготовило ли это их вместе с народом к более охотному принятию христианства как выражения их чаяний?» [Магйп 1889, с. 203].
Миссионер ЛМО Джозеф Эдкинс рассматривал подготовительную миссию буддизма весьма практически, не сомневаясь в том, что его распространение в прошлом облегчило восприятие христианства простыми людьми в настоящем Вслед за Мартином он также отметил понятийно–терминологическую близость буддизма и христианства, добавляя, что эти термины обретают христианское звучание лишь по мере обучения библейской доктрине, в противном случае взгляды обращенного будут продолжать носить буддистский характер. В частности, он отметил, что китайский термин мо, используемый христианами для передачи понятия «демон», ассоциируется с идеей одержимости и что буддистскии дьявол — могуи не так «выраженно зол», как Сатана в христианской мысли (см. [Covell 1986, с. 125]). Те протестантские миссионеры, что не пытались осмыслить отношения хри стианства и буддизма на уровне глобальных теологических и культурологических обобщении, также отмечали близость китайских о кол о буддистских сект к христианству. Канадские протестантские миссионеры Дж. и Р.Гофорты вспоминали об одном из китайских обращенцев по имени Ван Мэй, принявшем христианство в середине 1890–х годов: «Многие из так называемых китайских религиозных сект тесно связаны с буддизмом. „Искатели заслуг“ (merit–seekers, син–шан–дэ) практически полностью рекрутируются из этих сект. Их этические стандарты морально ставят их выше обычных язычников; и нередко они становятся искренними искателями чего–то более высокого и лучшего вокруг себя» [Goforth J., Goforth R 1931, с. 43]. Ван Мэч описан ими как молодой человек, посвятивший немало времени и сил для совершения паломничеств к «языческим святилищам» и приобретший в округе репутацию «святого». Впервые услышанная христианская проповедь привела его в негодование. После того как миссионер Макгилливрэй привел ему слова из послания апостола Павла к Ефесянам: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2: 8–9), раздраженный китаец спросил у протес тантского проповедника — значит ли это, что годы его паломничеств и исканий ничего не стоят? В ответ на это он получил пор мативный протестантский ответ: «Абсолютно ничего». Через некоторое время Ван Мэй решил продолжить эту беседу, но был поражен видом играющих в теннис миссионеров, что совершенно не сочеталось в его глазах с обликом служителей религии. В конце концов, по рассказу миссионеров, Ван Мэй все же пришел к христианству и стал убежденным сторонником протестантской теологии спасения только через благодать. В этой истории присутствует немалый привкус нравоучительности, однако с точки зрения проблем взаимоотношения культур весьма примечательно упоминание Гофортов о том, что когда китаец на время присоединился к католикам, то заявил им о том, что не видит разницы между образом Девы Марии и Гуанышь, в равной степени являющихся «идолами». После этого, для умиротворения бескомпромиссного верующего, католики якобы переместили образ в другую комнату в школьном помещении (см. [GoforthJ., Goforth R. 1931, с. 63]).
Примечательно и отмеченное Р.Ковеллом влияние на мысль В.Мартина катехизиса М.Риччи Тяпъчжу шии (см. [Covell 1986, с. 102]). Мартин сознательно изучал труды иезуитов и в своей миссионерской работе ориентировался на использование их методов. П.Дуус также сравнивает В.Мартина с М.Риччи и замечает, что Мартин не типичен для протестантских миссионеров XIX в. (в качестве типичной фигуры приводится X.Тэйлор, стремившийся за максимально короткий срок охватить проповедью Библии наибольшее количество китайцев). Следуя общим миссионерским целям, Мартин также полагал, что светское сознание Китая должно быть изменено посредством приобщения к западной науке. Но все же он «не ограничивал себя обычными миссионерскими целями. Евангелизм приносил немедленные, но ограниченные плоды. Более важной, чем прозелитизм, была подготовка оснований для последующего, более широкого принятия христианства. Такие основания опирались на изменение форм китайской культуры в тех областях, где они были несовместимы с верованиями и практиками христианства, отметая в сторону суеверия, аморальные социальные обычаи и бесплодные пути мышления. И в этом задачи христианства и науки были переплетены друг с другом» [Kwang–Ching Liu 1966, с. 32–33].
В традиционной китайской культуре Мартин видел позитивную силу, которую надо принимать в расчет и использовать на благо христианству. Поскольку в китайской культуре уже существовало древнее представление о Боге — Шанди, то правильным подходом к ней была бы толерантность, а не «иконоборчество». «Христианство должно быть представлено как обогащение классической ортодоксии, как доктрина „Конфуций плюс Христос“, а не „Конфуций или Христос“. Эти взгляды неизбежно вели его к лобовому столкновению с остальным протестантским миссионерским движением» [там же, с. 33]. О томистском рационализме и обращении к аристотелевской логике в проповеди Риччи напоминают и акценты Мартина на важности образования и науки. Он хотел изменить мировоззренческое мышление китайцев, при этом «его апологетические трактаты, его деятельность по переводу Библии, его схема романизации диалекта Нинбо, равно как и основание им миссионерской школы в Пекине, были попытками достучаться до китайского сознания скорее через печатную страницу и классную комнату, чем через уличную проповедь» (там же). Мартин также повторил риччианскую стратегию христианизации Китая «сверху вниз», ощущая, что «обращение Китая будет наиболее эффективным, если оно начнется с высших слоев китайского общества и потом распространится в массы». В этом истоки его настойчивой поддержки движения тайпинов и настоятельного желания работать в Пекине, центре политического влияния в Китайской империи.
Его подход и вправду очень напоминает деятельность ранних иезуитов. «В общем, миссионерская стратегия Риччи была основана на том же треугольнике — гибкой толерантности к существующей структуре китайской культуры, призыве к рациональному в потенциальных обращенцах и попытке завоевать правящий класс до обращения к массам. То, что Мартин знал о работах ранних иезуитских миссионеров, ясно из его последующих работ. Он даже использовал некоторые из аргументов иезуитов в беспокойном вопросе о переводе слова „Бог“. Доктрина „Конфуций плюс Христос“ также принадлежала иезуитам, полагавшим, что принципы китайской классической этики вовсе не противоречили учению христианства» [там же, с. 34].
В попытке применить наследие М.Риччи к реалиям XIX в. Мартин не был одинок, однако его коллеги действовали в этом направлении весьма поверхностно. Например, заложенная Мат–тео Риччи традиция облачения в китаиские одежды была подхвачена протестантскими миссионерами. Даже сотрудники консервативной КВМ в середине 1850–х годов под влиянием преподобного Дж.Бердона взяли обычай носить китайское платье Этот обычай «из–за его явных преимуществ для жизни и работы во внутренней части Китая стал, за некоторыми исключениями, всеобщим в последующие годы работы миссии» [ВгоотЬаП 1921, с. 14]. Лидер КВМ Хадсон Тэйлор одобрил эту практику как эффективную, ссылаясь при этом на новозаветный образ Иисуса Христа, пришедшего в мир как самый простой человек, рожденный среди иудеев и разделивший их обычаи, язык и — в том числе — платье. Обосновывая необходимость такого поведения, он писал: «В мире, возможно, нет другой такой страны, где религиозная толерантность восходила бы до таких больших пределов, как в Китае. Главное возражение правителя и людей в адрес христианства состоит в том, что это иностранная религия, и потому есть тенденция относить верующих к иностранным нациям. Я не уникален во мнении, что иностранное платье и повозки миссионеров, в определенной степени повлиявшие на некоторых из их неофитов и учеников, иностранный вид церквей, иностранный облик, придаваемый всему, что связано с религией, — все это в большой степени воспрепятствовало быстрому распространению истины среди китайцев» (там же).
Самое интересное сопоставление относится к индивидуальностям Риччи и Мартина — оба были людьми «научного склада», с научными открытиями и философскими аспектами науки оба ознакомились на ранней стадии образования, у обоих не было «глубокого религиозного опыта» (последнее обобщение спорно, ибо адекватно сопоставить духовные миры Риччи и Мартина крайне трудно). «Короче, может быть сказано, что их эмоциональная привязанность к христианству была менее сильной, чем их эмоциональная привязанность к западной секулярной культуре. Они оба обладали верой более философской, чем религиозной по своей природе, будучи соответственно менее жесткими и догматичными в своих подходах, чем спасающие души евангелисты» [Kwang–Ching Liu 1966, с. 34]. Для Мартина наука была не просто инструментом привлечения к христианству, а чем–то почти равным христианству по душеспасительным возможностям.
Янг Джон Аллен (1836–1907) принадлежал к американской Южной методистскои епископальной церкви Юга. Уроженец штата Джорджия, он прибыл в Шанхай в 1860 г. В 1868 г. основал еженедельник Цзяохуэи синьбао (Новая церковная газета), в сентябре 1874 г. издание было переименовано в Ванъго гупбао и приобрело популярный характер, отражая темы политики, экономики, науки и религии, находя все новых читателей среди высокопоставленных чиновников. В 1883 г. выпуск газеты прекращен и возобновлен в 1889 г.; Аллен оставался редактором до 1907 г.
В первые два года своего существования еженедельник Цзяо хуэй синьбао вел дискуссии о соотношении конфуцианства и христианства, что отражало заботы первого поколения китайских протестантов, принявших христианство после открытия «договорных портов». Проповедь Аллена носила евангелистский характер, но он был достаточно рационален для размышлений о таких проблемах, как существование зла и примирение вечного наказания с благостью Бога. Сообщалось, что он был готов проповедовать и среди тайпинов (см [Bennett, Liu 1974, с. 162]).
В октябре 1868 г. на страницах Цзяохуэи синьбао появилась статья некоего Сюй Вэйцаня, обращенного в христианство Южной методистскои миссией Обратившись к христианским идеям у инь («ничего не скрывать») и гуан ай («любить всеохватно»), он пришел к выводу, что через них возможно выразить суть библейского учения, которая сводится к Спасению через покаяние и знание Христа и Святого Духа и имеет результатом трансформацию человеческого эгоистического самооправдания в любовь к Богу и человеку. Примечательно, что Сюй использовал традиционные конфуцианские этические понятия гуманности (жэнь) и справедливости (г*), отождествляя «всеохватную любовь» христианства с жэнь, а «несокрытие ничего» — си. Он заключил, что эгоизм и недостаток открытости есть начало греха, тогда как те люди, которые ничего не скрывают и широко любят, возрадуются в истине. В следующем номере Цзяохуэй синь· оао появилась краткая заметка пастора из Нинбо Чжоу Гогуана, отметившего, что, «хотя конфуцианство правильно (чжэн), путь Иисуса лучше». Аллен использовал эту публикацию, чтобы начать дискуссию. Вскоре он опубликовал письмо китайца–нехрис тианина, подписанное именем «Цзе Юйцзы из Сучжоу», который не был враждебен к христианству и писал, что западная вера заслуживает лучшего отношения со стороны китайцев и может частично дополнить конфуцианство. Одновременно он утверждал, что принципиальные положения христианства не выходяп за пределы знакомых каждому китайцу норм жэнь и и. Более того, некоторые принципы христианства вступают в конфликт с конфуцианскими представлениями прежде всего в области семейной этики — ведь принявшим веру более нельзя поклоняться предкам,а некоторые из китайских христиан приняли крещение против воли своих родителей. Он отметил, что китайским христианам недостает образованности — они теряются, услышав ссылку на древность, и потому автор порекомендовал им побольше изучать конфуцианскую классику, а для Библии оставить воскресенья.
В ответ на это письмо было получено девять ответов, публиковавшихся до лета 1869 г. Только один из них принадлежал иностранцу — баптистскому миссионеру Мэттью Уэйтсу из Шанхая, указавшему на фундаментальную разницу между двумя учениями: если конфуцианство для достижения добродетели опирается полностью на «человеческое усилие» (жэнь ли), то христианин, с его озабоченностью вечной жизнью, выводит свои моральные чувства из «трансформации при помощи Духа». Добродетель естественно вытекает из христианского опыта, но это результат благодати Бога и веры человека. Конфуцианство, напротив, рассматривает добродетель как императив, которому человек должен следовать без внешней помощи. В этой традиции человека хоть и побуждали совершенствовать свою природу, но сама она естественно склоняется к гуманности (жэнь) и справедливости (и). «Конфуций учит человека следовать своей природе (шуай сип), но трудно достичь следования этой природе. Конфуцианство учит человека „освящать добродетель“,но добродетель трудно освящать. Со времен Конфуция бесчисленное количество людей изучало эти учения, но очень немногие „действительно культивировали добродетель и практиковали справедливость“》(цит. по [там же, с. 173]).
Еще два автора писем при сопоставлении двух традиций использовали понятие гпяньдао (Небесный путь) для описания христианства и жэнъдао — для конфуцианства. Один образованный христианин из Тяньцзиня обосновывал существование духовных существ и при помощи фразы из конфуцианского классического текста Дасюэ «У вещей есть корень и верхушка» пытался показать, что неоконфуцианец Чжу Си ошибочно отождествил усилия человека по освящению добродетели с «корнями» (бэнъ). Прочие участники дискуссии были менее философичны, но они выступили в защиту христианского мировоззрения против холодного формализма конфуцианской морали и культуры. Большинство авторов откликов подчеркивали, что для христиан повиновение Богу не есть «пустые слова» (стой вэпь), и защищали запрет на поклонение предкам, объясняя при этом, что христианство не отрицает сыновней почтительности сяо как таковой — ведь в ветхозаветных заповедях верующему предписывается чтить своих отца и мать.
Участники развернувшейся на страницах Цзяохуэй синъбао дискуссии настаивали, что подлинное сяо по отношению к родителям должно быть оказано при жизни, а жертвоприношения мертвым отдают не только нетерпимым для христиан идолопоклонством, но и лицемерием. Для миссионеров встреча с цивилизацией, где миллионы людей исполняют ритуалы поклонения предкам, оказалась неожиданностью. Поначалу европейцы оценивали происходящее по аналогии с собственной религией, и им казалось, что китайцы относятся к своим правилам с таким же рвением, как и христиане. Со временем они усомнились в том, что проявляемое китайцами рвение в демонстрации своего сяо носит характер искреннего религиозного чувства. Придя к выводу, что китайская традиция лишена трансцендентального измерения и что она ставит акцент исключительно на посюстороннем мире и моральном совершенствовании, миссионеры сочли ее ущербно неполной. Они предлагали китайской пастве сперва советоваться по спорным вопросам с родителями, но в случае запрета с их стороны следовать требованиям веры. Иными словами, слушаться и почитать родителей нужно, но прежде всего следует исполнять волю Отца Небесного.
Что касается расхожих в то время обвинений христиан в некультурности, проявляющейся в недостаточном усердии в изучении конфуцианской классики, то ответом на них было утверждение, что невозможно обрести спасение во внешнем, в том числе и в учебе, но лишь в искренности личной веры и при помощи божественной силы. Один из участников дискуссии отметил, что под влиянием Духа изменяются все — как мудрец, так и необразованный человек. Не отвергая необходимости изучать конфуцианскую классику, он упрекнул тогдашние образованные слои в том, что они делают это для стяжания мирской славы, обретаемой на государственных экзаменах. Кроме того, изучать нужно и естественные науки, недавно пришедшие в Китай с Запада.
В те времена многие христиане видели в изучении другими китайского наследия исключительно утилитарное средство достижения выгоды и успеха по той причине, что конфуцианские идеи стали экзаменационными темами, а их успешное заучивание гарантировало получение чиновничьей должности и почета Отмечается, что писавшие в Цзяохуэй сипьбао «упорно нападали на формализм и лицемерие в конфуцианском поведении. Им виделись две причины, из–за которых конфуцианцы не смогли жкть по исповедуемым ими нормам. Культура образованных чиновных слоев, которая ассоциировалась с конфуцианством, рассматривалась как нестоящая и вредная, а метафизическая система неоконфуцианской ортодоксии казалась духовно разлагающей» [там же, с. 176]. При истолковании христианского учения внутри ценностного контекста кон фу циан с ко й культуры христианская любовь была призвана очистить сознание людей от эгоистических помыслов и стремления к личной выгоде и карьере, принося с собой более широкое понимание заботы о других людях —прежде всего о человеческой душе, но также н о благосостоянии общества.
Протестантская критика китайской культуры разделилась по аргументации на два основных направления. Часть писавших выступала против культуры элиты императорского Китая, поддерживаемой экзаменационной системой. Другие авторы пытались критиковать философские основы неоконфуцианства. Некто, избравший псевдоним «Бянь Чжэнцзы из Ханькоу», писал, что развитые в неоконфуцианской школе братьев Чэн и Чжу Си понятия о принципе (ли) и пневме (ци) способствовали развитию суеверии и разложили сознание и поведение китайцев. Эта традиция сперва удушила человеческую мысль, а потом вызвала искажения в поступках чиновников, что в итоге привело к страданиям людей. Однако исходная причина всех этих бед коренится в антропо–и эгоцентричном духе китайской философии. Другой автор письма попытался копнуть поглубже и уличить Чжу Си в противоречиях, доказывая, что в его учении лу и г^и соединены с космическими силами: темной — пассивной инь и светлой —активной ян. Но если проведенное Чжу Си отождествле–ние низших духов с инь и высших духов с ян означает их иден–тичность, то низшие духи и божества выступают основой (бэнъ–ти) инь и ян.
Спор о христианстве и конфуцианстве на страницах Цзяохуэй синьбао отразил шедшие в тот период процессы поиска способов китаизации христианского послания для облегчения его понимания местной аудиторией. Несмотря на критический и анти–конфуцианский тон многих писем, пример Аллена и Цзяохуэй синьбао показывает, что, хотя настрой большей части миссионеров отличался нетерпимостью, эта проблема уже в то время беспокоила наиболее образованных и дальновидных из них.
В 1890 г. Ф.Олинджер из Американской методистской епископальной миссии, ранее долго работавший в Сеуле, предложил коллегам более примирительный подход к китайским ритуалам и обычаям. Исходя из того, что жестокие и порочные обычаи надо менять, не дожидаясь, пока все само по себе изменится к лучшему, он предложил следующее:
Во–первых, миссионеры должны помнить, что лучший способ побудить людей воздерживаться хотя бы от некоторой части их обычаев состоит в том, чтобы предложить им взамен нечто лучшее.
Во–вторых, многие из местных обычаев, которые привлекают серьезное внимание миссионеров, не только выражают, но и хранят и формируют цивилизации этих народов. Если они исчезнут преждевременно, то результатом этого, по крайней мере на короткий период времени, станет варварство, а не христианство.
В–третьих, не все обычаи западных христиан таковы, какими они должны быть. Олинджер привел такой пример — европейцам жалко китайских влюбленных из–за того, что обычаи не позволяют им по–настоящему ухаживать. Но нужно сознаться, что «в наших землях многие любят обычай ухаживания из–за того, что могут злоупотреблять им…».
В–четвертых, цивилизованные, хотя и языческие, нации имеют некоторые хорошие обычаи; другие обычаи хотя и странны, но сами по себе невинны; многие, будучи на первый взгляд полностью неправильными, представляются необходимостью или при ближайшем рассмотрении предстают меньшим из двух зол (см. [Lutz 1965, с. 14]).
Однако в конце XIX в. даже либеральный миссионерский подход к местным обычаям не мог не сопровождаться введением ряда строгих ограничений. Олинджер не был радикалом, но он предложил настоятельно требовать от китайских христиан полного отказа от целого ряда обычаев.
Прежде всего, им необходимо бросить «все идолопоклоннические обычаи, все обычаи, признающие любое существо, достойное поклонения, помимо Бога Истинного. Это ставит нас лицом к лицу со всеми ритуалами, относящимися к поклонению предкам, поклонению, которое устроено в этих азиатских культах как бы с присутствием алтаря, жертвы, обращения к божеству и благодарения. Какую бы свободу действий ни предоставлял своим последователям романизм (католицизм. — А.Л.), протестантизм не может пойти на компромисс с чем–то близким этому. Для язычников и для частично обученных христиан это, несомненно, выглядит как буквальное осуществление слов Спасителя об оставлении отца и матери, и много раз, когда я спрашивал кого–то из моей аудитории, кого знал как знакомого с положениями религии, которую я проповедовал, почему он не стал христианином, следовал ответ: „Я не могу оставить моих родите–лей‘‘. Однако не соображения сыновней почтительности ведут язычников к исполнению дурацких и дорогостоящих церемоний поклонения предкам; обычно это рабский страх вызвать недовольство мертвых и навлечь на себя беду» [там же, с. 14]. В качестве противодействия обычаю поклонения усопшим предкам Олинджер предлагает напоминать язычникам о добрых словах родителей, сказанных перед смертью, из–за чего людям будет труднее подозревать покойных в злом умысле, навлекающем болезни и беды на своих детей. Христианам же в минуту временного искушения стоит напоминать об их вере и направлять к признанию в своей привязанности к религиозному обычаю, в котором для них нет уже ничего религиозного. Олинджер заметил, что типичным оправданием христианами своего участия в церемониях является ссылка на то, что они вдруг ощутили чувство обязанности перед усопшими за пришедшее к ним благосостояние. Он вспомнил несколько историй из своей практики. Например, один из первых неофитов методистской церкви, получивший степень на экзаменах, оправдывал свое поклонение на могиле предков чувством обязанности и отсутствием другого предписанного церковью действия, которое могло бы удовлетворить его переполненное сердце. В другой семье одного из сыновей усиленно удерживали от обращения в христианство, дабы впоследствии он смог выполнять необходимые церемонии на могилах предков за всю семью. Олинджер сообщает и о неприятных решениях, которые принимались по этой причине. В Фучжоу при похоронах первого члена местной церкви, который был ее оплотом и примером честного убежденного христианина, а его жена 一 одной из первых чтиц Библии, были исполнены все обычные церемонии. Фейерверки, ритуальные деньги, благовония и рисовые лепешки были более заметны, чем Библия, христианские гимны и молитвы. Вдова оправдывалась, что в отсутствие сыновей братья усопшего взяли в свои руки распоряжение всей похоронной церемонией. На следующем собрании руководства церкви женщина была осуждена и исключена из церкви. «Это удивило и огорчило нас так же, как и ее проступок, но я не слышал, чтобы хоть один сказал, что наказание было несправедливо».
Кроме того, христиане должны оставить все жестокие обычаи. Олинджер подчеркивает, что речь идет нменно об «оставлении», ибо замены им нет и не будет никогда. Это относится к бинтованию ног и продаже детей в том возрасте, когда они более всего нуждаются в родителях. Но надо не только выступать против них, но и искать практические пути их отмены. Например, введение образования для девочек служит одним из средств к достижению той цели, чтобы их не продавали как домашних животных, а родителн–язычники поняли, что ноги для их детей важны так же, как и руки. Помимо этого местным христианам следует оставить все порочные или ведущие к пороку привычки —курение опиума, выпивку, все виды азартных игр, деревенские драки, потасовки на свадьбах и подобное этому.
Наиболее радикальным в своем подходе к китайской традиции и миссионерскому делу из протестантских миссионеров XIX в. был Тимоти Ричард (1845–1919) — английский баптист, прибывший в Китай в 1869 г. Поначалу он проповедовал в Шаньдуне, потом в Шаньси, где ему пришлось помогать в преодолении последствий стихийного бедствия. Будучи уверенным в том, что Китай надо реформировать и христианизовывать сверху, он уделял очень большое внимание образованию, науке, а также личным контактам с высокопоставленными чиновниками и реформаторами. Он был хорошо знаком с Кан Ювэем и Лян Цичао, с 1890 г. в течение четверти века возглавлял работу общества Гуансюэхуэй 廣學會(первоначальное название — Тунвэнь шухут Н文 А會,The Christian Literature Society for China). В его наследии резко пересеклись противоречащие друг другу политические и культурологические установки. С одной стороны, его предложения сделать Китай протекторатом Британской империи для «спасения» его от России и других держав, усилить британский контроль за китайскими университетами и прессой, вплоть до идеи формирования «объединенного центрального правительства» ,состоящего наполовину из иностранцев, снискали ему дурную репутацию сторонника ^империалистического порабо–дурную репутацию сторонника «империалистического порабощения» Китая. С другой стороны, его подход к китайской культуре и буддизму был едва ли не самым толерантным среди прочих видных представителей зарубежных миссий конца XIX в Что касается взаимодействия религиозных культур, то его взгляды были весьма прогрессивными — Ричард полагал, что различные вероучительные истины не находятся в конфликте, но дополняют друг друга.
В области теологии он старался избегать чуждого китайцам акцента на погруженности этого мира в грех, в чем находил себе единомышленников. В конце 1870–х годов протестантский миссионер Дэвид Хилл сказал Т.Ричарду, что после многих лет проповеди без ожидаемого успеха он «заново изучил Новый Завет и обнаружил, что вместо акцента на Царстве Божием на земле, как это делал наш Господь, он проповедовал ранее шгую доктрину и с того времени стал более следовать Писанию и менее — теологии. Он обнаружил в Новом Завете Евангелие, которое делает счастливыми китайцев так же, как и европейцев — Евангелие Царства Божия, где обитают справедливость, мир на земле и во человеках благоволение. Мы пришли в Китай не для проклятии, но во имя спасения; не для разрушения, но во имя исполнения; не для печали, но во имя радости» [Richard 1916, с. 145–116] Т.Ричард вспоминал, что сделанные им ранее собственные заметки практически полностью совпали с мыслями Хилла.
В 1872 г. спор с образованным китайцем об истинности христианства, конфуцианства и даосизма (прежде всего И цзина) убедил Т.Ричарда в том, что «необходимо разраоотать средства освобождения китайских философов от сковавших их цепей суеверий, содержащихся в теории инъ—ян и «пяти элементов», посредством которых они объясняют все таинственные чудеса Неба и земли. Одним из средств преодоления их невежества были несколько лекций с экспериментами по физике и химии дабы дать им подлинное представление о законах естественной философии» [там же, с. 55].
В начале 1880–х годов после голода в Шаньси Т.Ричард пришел к заключению, что преимущество западной цивилизации над китайской состояло в «открытии работы Бога в природе и применении законов природы на службе человечеству. Послушание заповеди Бога позволило Адаму владеть всеми вещами. Применяя законы науки к нуждам человека, западные нации сделали замечательные изобретения, которые были не менее прекрасны, чем чудеса. Я был убежден, что если бы я мог читать лекции чиновникам и ученым об этих чудесах науки, то я смог бы указать им пути применения сил Бога в природе на пользу их соотечественникам» [там же, с. 158].
Ричард внимательно изучал китайскую классическую литературу, а в качестве главного источника по буддизму ему порекомендовали «Алмазную сутру». Он вспоминал, как «китайский друг подарил прекрасную миниатюрную копию сутры в двух томах, написанную от руки… я использовал ее как учебник каждый день по часу, изучая и переписывая классические тексты» [там же, с. 86]. В 1884 г. он натолкнулся на «замечательную книгу, которая прояснила мое сознание относительно секрета влияния буддизма». Это был махаянский текст школы Цзннту «Пробуждение веры» (Да чэн ци синь лунь), который Ричард перевел в 1891 г. (опубликован в 1907 г.). Он очень высоко оценил скрытое христианское значение этого текста, увидев в нем покрытую буддистскими одеяниями «азиатскую форму Евангелия Господа нашего Иисуса Христа». Здесь Ричард обнаружил единство трансцендентного и имманентного, идею спасения верой более, чем делами, глубокое чувство сострадания к миру н знание о Мессии. Отсюда он почерпнул убеждение, что буддистские доктрины гласили об «одной душе,имманентной добру во всей вселенной, об одном Божественном помощнике человека, об индивидуальном бессмертии и росте богоподобия, о важности веры в Бога для порождения добрых дел и о готовности лучших душ приносить жертвы для спасения других». Ричард был просто «поражен христианской природой учения этой книги» [там же, с. 335].
Своим единомышленником в христианской интерпретации китайского буддизма Ричард назвал миссионера и ученого Артура Ллойда, который пытался выявить сходство учении буддистской школы Нитирэн и рассуждений александрийских гностиков. Ллойд доказывал, что в основе «Лотосовой сутры» лежит перевод книги скифского происхождения, в свою очередь восходящей к трудам греческих Отцов Церкви II—III вв н.э. Заимствование, по его убеждению, состоялось во время визита некоего индийского буддиста в Александрию во II в. В книге «Символ веры половнны Японии», опубликованной в 1911 г. после его смерти, Ллойд привлек внимание читателей к параллелям между христианством и буддизмом школы махаяны. Ричард особо отметил его советы, обращенные к христианским проповедникам, —подходить к буддистам с симпатией и терпением, говоря: «Я пойду с тобой, it вместе мы пойдем к Нему, о котором, как ты говоришь, свидетельствовал сам Шакьямуни» [там же, с. 338]. Он также обратился к исследованиям, проводившимся в Японин Е.Гордон, отмечавшей слабое распространение христианства в Стране восходящего солнца из–за незнания миссионерами местных религий. В своем исследовании несторианского памятника из Сиани она утверждала, что многие японские религиозные обряды подобны христианским ритуалам и, видимо, были привнесены в Японию китайскими несторианами около 800 г. (см [там же, с. 339]).
Ричард разделял убеждение, что учения христианства и буд дизма происходят из общего источника — возможно, из Вавилона, имевшего обширные культурные связи с Западной Индией и Персией, равно как и с Иудеей, Египтом и Грецией, откуда и распространились по всему миру семена истинной веры. Он также полагал, что получение Ашвагхошей новозаветной истины могло состояться во время путешествия в Индию апостола Фомы. Опираясь на собственные исследования буддизма, Ричард отметил ряд сходств христианских и буддистских символов — «четыре зверя» вокруг трона, как в Апокалипсисе, Будда — великий лекарь, двенадцать учеников вокруг Шакьямуни, «крестное знамение» во время службы, буддистский ритуал «крещения», форма богослужения в храме напоминала ему католическую мессу. Он пришел к выводу о значительной близости между христианской верой, «Лотосовой сутрой» школы Тяньтай и «Пробуждением веры» школы Цзинту. По его мнению, наиболее близко христианству учение «нового завета высшего буддизма», или махаяны, которое должно быть отделено миссионерами–учеными от затрудняющих проповедь положений буддизма хинаяны.
Исходя из того, что Бог должен был оставить «предварительное откровение» о приходе Мессии и грядущем Спасении не только иудеям и христианам, Ричард полагал, что «Лотосовая сутра» была божественным доевангельским откровением для Азии: «В отношении доктрины бессмертия, которой учатся из Нового Завета народы Запада, мы можем обнаружить, что на Дальнем Востоке возможно найти то, что можно назвать Пятым Евангелием, или „Евангелием лотоса“, которое за пятнадцать веков воссияло через буддистский мир в Китае, Корее и Японии с таким великолепием, что бесчисленные миллионы верят в этот свет в надежде на бессмертие. Для западных ученых будет весьма очевидно, что преподаваемые там чудесные истины принадлежат тому же кругу, что и излагаемые в Четвертом Евангелии истины о жизни, свете и любви. Несение креста, терпеливое перенесение несправедливых и незаслуженных оскорблений внедряются вновь и вновь, тем же кротким языком, что и у самого Апостола Любви» [Richard 1910, с. 134].
Идея поиска обещания прихода Мессии стала основной в интерпретациях Ричардом буддистских текстов. Эта идея отразилась в его трактовке шестой главы «Алмазной сутры», где Будда Гаутама провозгласил пришествие через пять тысяч лет пророка, учение которого будет основано не на одном или нескольких, а на всех буддах, при этом поверившие в него обретут неисчислимые благословения. Поиск параллелей с христианством отразился и на терминологических переводах Ричарда, увидевшего в заимствованном из санскрита китайском буддистском понятии чжэньжу («истинная сущность») указание на Бога Истинного и воплощенного Иисуса Христа. Женский образ бодхисаттвы–спасителя Гуаньинь был истолкован как азиатская аллегория бесконечной любви и сострадания Бога. «Мало значит то, существовала ли Гуаньинь когда–либо как индивид, — важно то, что бесконечная любовь и сострадание возведены в идеал, вдохновляющий жизнь всех добрых мужчин и женщин, так же как Притча о блудном сыне в нашем Третьем Евангелии, в которой мы, христиане, имеем идеал бесконечной нежности и прощения, дающих нам образец того, каков есть Бо^Отец»[там же, с. 135].
Ричард вспоминал о том, как в 1888 г. он повстречался в Пекине с главным буддистским священником. В ответ на слова иностранца о том, что он позван в Китай Богом, тот ответил вопросом: «А откуда вы знаете, какова воля Бога?» Ричард написал об этом: «Разговор с ним убедил меня, что когда мы, иностранцы, судим о буддистах по интеллекту среднего буддистского священника, мы совершаем большую ошибку. Религия, завоевавшая приверженность величайших умов Китая, не может быть запросто отброшена в сторону. Лишь после многих лет исследований я обнаружил, что высшее развитие буддизма (не изначальный буддизм ,основанный Гаутамой, но тот, что начался после христианской эры) практически содержало некоторые из основных доктрин христианства. Но в настоящее время большинство буддистов в Китае путают принципы старого и нового буддизма таким образом, что две школы с трудом можно различить, хотя они сами признают существующие конфликты» [Richard 1916, с.211].
Поиск христианских символов был распространен Ричардом и на китайскую классическую литературу, в частности на известный роман «Путешествие на Запад» (Си ю цзи). К тому времени, когда Ричард в 1913 г. завершил его перевод под названием «Миссия на Небо», ему стало очевидно, что «книга основана на глубокой христианской философии. Глава экспедиции, Наставник, есть аллегорическая фигура Иисуса Христа, и он — помощник во всех трудностях и посредник обращения каждого в его группе, склоняющий гордую умелую обезьяну к покаянию и правильному использованию интеллектуальных даров, преобразует низкие, эгоистические вкусы свиньи в желание самопожертвования, превращает тщеславие дельфина в скромность и глупость дракона в полезность, так что все они послужили делу спасения людей и были приняты на Небесах, где Бог наградил их бессмертной славой. В моем сознании не осталось сомнений, что это работа христианина, пытавшегося евангелизовать Китай. Но потребуется время, прежде чем многие читатели полностью поймут его учение» [там же, с. 343–344].
Еще до появления этой весьма радикальной интерпретации изыскания Ричарда подвергались критике в миссионерских кругах. Он вспоминал, что около 1887 г. решил продолжить прежний поиск общности христианства с китайскими религиями и «опубликовал брошюру о даосизме, указывая, что в нем было истинного, и показывая, где христианство ушло вперед. Это признание чего–то хорошего в местной религии было расценено некоторыми моими молодыми коллегами почти как ересь, и мои методы ведения миссии были оценены как явно неудовлетворительные. Они хотели, чтобы я изменил свои теологические взгляды и подчинился их руководству. Я не мог согласиться ни с одним из этих предложений, поскольку полагал, что мои взгляды соответствуют воззрениям наиболее просвещенных священников на родине, поскольку у меня был многолетний опыт миссио–нерскои работы, которого у них не было» [там же, с. 205].
Ричард отличался не только от своих молодых коллег, но и от ведущих лидеров миссионерской работы того времени. К.Латуретт оставил в своей фундаментальной монографии следующее весьма интересное сопоставление: «Тэйлор и Тимоти Ричард были выдающимися выразителями различных и временами конфликтующих концепций миссионерской деятельности. У них было много общего… Оба решились думать в понятиях всего Китая и пытались сформулировать методы для обращения ко всей нации намного быстрее и эффективнее, чем это делалось их современниками. Они отличались в том, что Ричард мечтал об изменении всех сторон жизни Китая через привнесение целиком каждой черточки западной цивилизации, тогда как Тэйлор ограничивал свои усилия провозглашением Евангелия, как это понималось евангеликами того времени» [Latourette 1929, с. 386–387].
Среди протестантских миссионеров XIX столетия, сумевших понять китайские культуру, историю и общество, добившись при этом успехов в ознакомлении Китая с западной цивилизацией, помимо Тимоти Ричарда и В А П.Мартина важное место занимает имя Гилберта Рейда (1857–1927). Рейд родился в Нью–Йорке, в семье пресвитерианского пастора, а после получения теологического образования он направился в 1882 г. в Китай для работы в американской пресвитерианской миссии. Он был неравнодушен к китайской культуре и уже в юности хорошо изучил китайскую классику. После десяти лет миссионерской работы в провинции Шаньдун он в 1892 г. вернулся на родину, но еще через два года оставил службу в пресвитерианской церкви. Причина такого решения заключалась в том, что, когда в 1892 г. Рейд выступил со своим предложением переноса акцента миссионерской работы с низших на высшие слои китайского общества, пресвитерианская церковь отказала ему в поддержке. Однако Рейд был убежден в своей правоте и решил заняться этим самостоятельно. В 1894 г. в Сан–Франциско он объявил о создании «Миссии для высших классов китайского общества» (Mission among the Higher Classes in China), названной по–китайски Шансянътан fl jg (букв. «Зал возвышения мудрых»). В том же году он вернулся в Пекин и приступил к реализации своего замысла, начав прямые контакты в среде пекинской элиты.
Весной 1897 г. к Рейду присоединился В.А.П.Мартин. Организация получила новое название — «Международный институт Китая» (The International Institute of China), унаследовав прежнее китайское название Шансянътан. Цинское правительство дало официальную санкцию, особо оценив при этом образовательную составляющую проекта и «благородные мотивы» Рейда. Рейду удалось получить у правительства США на деятельность его организации более 150 тыс. долл. (см. [Чжунго байкэ цюань–шу. Цзунцзяо 1988, с. 234]).
Сравнивая программы реформ Г.Рейда и Кан Ювэя, современный исследователь Цзоу Миндэ пришел к выводу, что «Рейд фокусировался на развитии экономики и образования, Кан защищал политическую трансформацию — идею, с которой Рейд не мог согласиться». Задачи просвещения народа Рейд ставил выше установления парламентаризма, «его план реформ был насыщен в сердцевине своей духом конфуцианства, учением о срединности. Это было результатом его продолжительной миссии в Китае. Рейд настаивал, что иностранцы не могут полностью игнорировать китайскую культуру. Как иностранец он вкладывал западное учение в восточный культурный каркас. Хотя Рейд лично не был свидетелем начала Ста дней реформ 1898 г., его работа оказала влияние на это движение» [Bays 1996, с. 86–87].
Цзоу Миндэ пришел к заключению, что поворотным пунктом в миссионерской карьере Рейда стало решение об ориентации в евангелизации Китая на местную элиту, а не на низшие слои об щества. Здесь можно увидеть признак возвращения к миссионерским методам иезуитов, совершившегося в качественно иных исторических условиях. Аналогичные идеи проводились Уолтером Генри Медхерстом и В.А.П.Мартином, но лишь Рейд и Тимоти Ричард попытались воплотить их на практике. Шансянътан воздерживался от яростного прозелитизма, присущего народной проповеди протестантов. Рейд пытался преодолеть настороженную враждебность высших слоев китайского чиновничества к Западу и христианству, избегая оскорбительных выпадов в адрес китайской культурной традиции или заявлений об исключительности христианства. Шансянътан «был не церковью, но интернациональной несектантской миссией, открытой для всех национальностей и религий» [там же, с. 82]. В то время как большинство миссионеров того времени работали в недрах общества, не вовлекаясь в большую политику, Рейд стал предшественником идеологии «социального Евангелия», получившей в Китае распространение лишь в 20–е годы XX в.
Рейд был далек от признания равноправия христианства и китайской конфуцианскои традиции, но, в отличие от других миссионеров, он открыто демонстрировал уважение к последней. Политическая оценка позиции Рейда современниками может оказаться негативной — ведь он стал сближаться с элитой императорского Китая лишь за полтора десятилетия до падения цинской династии и революции, открывшей стране путь к развитию по пути демократии. Однако с точки зрения межкультур–ного взаимодействия она будет скорее позитивной, ибо Рейд видел возможность общей работы конфуцианства и христианства для блага Китая. Находя точку консенсуса в приоритете морали, он полагал, что конфуциански образованная элита воспри мет христианство из–за его сходства с китайской традицией.
Выступая перед коллегами–миссионерами в 1896 г., Г.Рейд призвал учитывать конфуцианизированный менталитет образованных слоев общества, среди которых «исторические и практические стороны христианства будут иметь больший вес, чем провозглашение таинственных догм» [Reid 1896, с. 378] Он также отметил, что традиционный этический акцент конфуцианства требует от миссионеров подчеркивать «справедливые дела, людские добродетели и человеческую прямоту», тогда как идея спасения людей лучше всего может быть выражена в китайском контексте как «помощь людям». Примечательно, что Рейд весьма точно отразил предрасположенность китайских книжников к интерпретации христианства в виде монотеистической религии всемогущего Бога (использованный ранее для именования этого духовного феномена термин «тяньчжуизм» не будет полностью подходящим, поскольку протестант Рейд отвергал правомерность использования Шжь н Тяньчжу, отдавая предпочтение Шанди и Тяпь)\ «В общении с более образованными китайцами я всегда находил, что одна религиозная идея почти всегда вызывает у них согласие и почтение — это идея Высшего существа…Теология, в ее первоначальном смысле, скорее приемлема» чем спорна для китайского ученого. Хотя у нас на родине есть тенденция создавать христоцентрическую, а не теоцентриче–скую систему религиозной истины, я предпочитаю старый метод раскрытия наших религиозных истин любому классу китайцев. Хотя верно то, что в деле спасения и примирения Христос есть путь к Отцу, не менее истинно то, что здесь в Китае идея Бога представляет собой дорогу к правильному пониманию Христа» (там же).
Вот четыре главных позитивных отличия Рейда от основной массы протестантских миссионеров того времени, выделенные Цзоу Миндэ. Во–первых, это прагматизм. Рейд критически осмыслил и изменил свои миссионерские методы, после того как пришел к выводу о малой перспективности проповеди в социальных низах, игнорирующей «верхи» и противопоставляющей себя им.
Во–вторых, он сумел увидеть пагубность настроений большинства миссионеров, почувствовавших себя во второй половине XIX в. спасителями Китая, вольными сколько угодно нападать на местные традиции. Рейд полагал, что основой миссионерской деятельности должна стать роль «культурного посредника», а христианские церкви должны спасать Китай с опорой на западные знания и науку, без оскорблений в адрес его культуры. Не будучи пионером в развитии культурных контактов между китайцами и иностранцами, Рейд был одним из первых, кто в новых условиях попытался развивать контакты с Китаем в тоне уважения к китайской культуре. Т.Ричард вспоминал: «Доктор Гилберт Рейд в его международном институте в Шанхае начал в 1910 г. организовывать ежемесячные собрания для обсуждения заслуг различных религий в работе в Китае и попросил меня действовать как зарубежного председателя, а китайца — как китайского. Он пригласил ведущих представителей конфуцианцев, буддистов, даосов, мусульман и христиан начать дискуссию с докладами о своих религиях. По правилам никто не мог касаться недос–татков других религий, но только сделанного ими добра. Сперва аудитория этих собраний была небольшой, но после революции они стали очень многолюдными, и, когда собирался говорить известный лидер, аудитория не вмещала слушателей» [Richard 1916, с. 354].
В–третьих, подобно В.А.П.Мартину и Т.Ричарду, он считал светскую работу такой же важной, как и спасение душ. Рейд и Ричард предложили новые методы работы для своих церквей практически одновременно — Рейд посоветовал американским пресвитерианам в Китае переключиться с бедных на высшие слои, а Ричард предложил новые образовательные схемы. Когда их попытки провалились, оба ушли из своих церквей. В.Мартин оставил пресвитерианскую церковь еще в 1868 г. Все они считали, что одной проповеди Евангелия недостаточно для обращения китайцев, а западная наука нужна как необходимое добавление. Все трое искали выхода на высший класс, однако Рейд действовал не только через переводы и публикации, как те двое, а и через персональные контакты.
В–четвертых, Рейд «любил Китай и был другом Китая». В отличие от других иностранцев он не был вовлечен в политические интриги по расчленению Китая, «поэтому Люй Хайхуань, тогдашний китайский посланник в Германии, хвалил Рейда как „сдержанного“ и „частично конфуцианизированного“ миссионера, а Лян Цичао указывал, что он „глубоко любит китайский народ“. Если Кан Ювэй представлял свои петиции императору, то Рейд — князьям и государственным министрам, при этом оба они разделяли одну надежду, желая, чтобы Китай был независимым, процветающим и прогрессивным» [Bays 1996, с. 87–88].
Отдавая должное глубине исследовательских усилий Цзоу Миндэ, заметим, что его оценки деятельности миссионеров выглядят излишне оптимистичными и беспроблемными. Дело не только лишь в том, был ли Г.Рейд «борцом за прогресс» Китая или орудием его «империалистического порабощения». Отмечая усилия Т.Ричарда, В.А.П.Мартина и Г.Рейда, «особо ориентировавшихся на то, чтобы вступить в контакт с образованной элитой», авторитетный американский ученый П.Коэн заметил, что «многие протестанты пользовались периодическими сборами кандидатов на государственные экзамены для распространения христианской литературы. В последнем случае, однако, миссионер мог считать себя счастливым, если уходил невредимым». Хотя Ричарду, Мартину и Рейду побои не грозили, «успешно переданное ими выдающимся китайцам послание оказывалось более светским, чем религиозным, по своему содержанию» [Cohen 1978, с. 559].
Желание обратить в веру образованных людей не было чуждо ни протестантам, ни католикам. Стоит помнить, что препятствием для массового следования миссионеров по пути Ричарда, Мартина и Рейда служило не только упоение своей силой или расчет на исключительную роль народных масс в деле христианизации страны, но и опасение утратить уникальность христианского послания, которое оказалось бы растворенным в казавшемся им чуждым китайском культурном контексте. Для этого было необходимо изменить понимание миссионерами места христианства среди других религий, что произошло лишь в первой четверти XX столетия.
Рассматривая историю попыток протестантских миссионеров второй половины XIX в. примирить христианство и китайскую культуру, современный китайский ученый Ван Лисинь выделил различные модели культурной адаптации. Взгляды Дж.Эдкин–са, доказывавшего с опорой на Ветхий Завет идею единого источника культур Китая и западных стран, охарактеризованы как «теория западного происхождения китайского знания» (чжуп сюэ си юань). Иной вариант примирения вражды христианства и китайской культуры — «теория завершения конфуцианства религией Спасителя» (Цзюшицзяо чэн цюань жуцзяо), предложенная немецким миссионером Паулем Кранце. Он исходил из того, что смутные конфуцианские представления о божестве и установленные нормы морального поведения в основе своей согласуются с христианством, однако их полнота может быть раскрыта лишь с принятием веры в Бога–Творца. Концепция Я .Аллена охарактеризована как «учение о равной важности китайского и западного» (чжун си бин члсуи), в соответствии с которой распространение западной культуры в Китае может опираться на китайскую основу. Взгляды Т.Ричарда названы «учением комплексного синтеза» (цзунхэ жунхуэй), предполагающим создание новой китайской культуры с учетом всех достижений, имеющихся в древности и современности, в Китае и за его пределами, в том числе и из иных азиатских стран. Позиция Г.Рейда была поименована как «избирательное заимствование» (цзяпьбе сишоу), нацеленное на консервативное сохранение конфуцианского этического фундамента китайской культуры (см. [Ван Лисинь 1997, с. 34–39])· Приведенная классификация примечательна не только попыткой ее составителя показать различия между взглядами отдельных миссионеров, но и самим фактом позитивного включения западных протестантов в контекст межкультурного взаимодействия.
Коэн писал о китайских христианских реформаторах, что они не были провозвестниками современного и христианского Китая, но лишь «ранними беглецами из закрытого мира конфуцианства. Для большинства из них, как представляется, христианство не стало (как для многих протестантов периода Мэйдзи) мировоззрением, замещающим конфуцианство. Скорее это только подчеркивало тот факт, что другие мировоззрения — обоснованные и уважаемые — были возможны. Когда это стало ясным, конфуцианское общество впервые оказалось в обороне» [Cohen 1978, с. 585]. Реформаторы же сохраняли приверженность конфуцианству, но в измененном виде.
Католики на пути к китаизации
До середины XIX в. культурно–теологические основания китайской католической церкви оставались почти на том же уровне, что и во времена конца династии Мин и начала династии Цин. В католических учебных заведениях в качестве начального учебника по–прежнему использовалась книга Риччи «Подлинный смысл Небесного Господа» (Тяньчжу шии), написанная в форме диалога между китайским и западным учеными. В этой работе была подробно обоснована позиция иезуитов по отношению к китайским религиям, сводящаяся к формуле «дополнять конфуцианство и заменять буддизм» (бу жу и фо).
После двух запретов начала XVIII в., когда духовные власти запретили миссионерам делать шаги навстречу китайской традиционной культуре, а светские власти со своей стороны запретили им проповедовать в Китае, вплоть до второй половины XIX в. католическая церковь не стремилась к излишней интеллектуализации своей миссионерской теологии. Работа среди низших слоев общества ставила на первое место понятность проповеди и поддержание искренности веры среди обездоленных китайских прихожан. «Было непросто построить из такого малообещающего материала христианское сообщество, которое могло бы произвести на страну заметное впечатление. Церковь стала перед опасностью превращения в группу, которая и в будущих поколениях постоянно 1гуждалась бы в наставлениях иностранных священников» [Latourette 1929, с. 334].
В середине XIX в. отмечалась попытка иезуитских и лазарит–ских миссий возродить былой интеллектуальный престиж католицизма в Китае посредством академической и научной деятельности. В 1872 г. иезуиты создали в Цзыкавэй (Сюйцзяхуэй) свой исследовательский центр, у них появилась обсерватория, библиотека, успешно развернулась работа по переводу, составлению словарей н публикации синологических исследований. «Но их нанвысшие достижения — словари и переводы Серафина Кувре–ра и научные монографии, публиковавшиеся в Цзыкавэй в серии Varietes Sinologiques, — лучше подходили для улучшения европейского понимания Китая, чем китайской восприимчивости к христианству» [Cohen 1978,с. 556]. Стоит обратить внимание и на важное замечание К.Латуретта о том, что теперь «католики были защищены иностранными договорами н у них не было такой нужды в благорасположении, которое миссия ученых могла бы снискать у двора и у чиновного класса» [Latourette 1929, с. 340].
У протестантов не было абсолютного преимущества перед католиками, ибо, несмотря на создание полного перевода Библии и важных популяризаторских работ, выдержанных в духе «естественной теологии», они не имели хорошего набора богослужебной и христологическом литературы. Недаром тот же Т.Ричард использовал в своей работе римско–католические публикации на китайском языке и, «удалив из них все папистское и римское, находил их превосходными». В конце 1870–х годов он заказал не только полный комплект католических, но и греческих книг на китайском. Он выписал требник в переводе на анг> лийскнй язык маркиза де Б юта, «Жития Святых» и некоторые другие стандартные работы римского католицизма, «дабы обладать двумя противоположными точками зрения в споре романизма н протестантизма». Ричард отмечал, что в то время имелось очень мало протестантских книг для распространения среди образованных китайцев. Основными были «Западная цивилизация» и «Комментарий к Марку» Э.Фабера, «Естественная теология» Вильямсона, «Ежегодник» Аллена и работы В.Мартина. «Помимо этого у нас не было подходящих книг для интеллигентного китайца» [Richard 1916, с. 96].
Для дальнейшего развития китайского католицизма и его подлинной адаптации к китайской цивилизации требовались усилия местных реформаторов. Видной фигурой на этом поприще стал Ма Сянбо (1840–1939). Он родился в семье ученого–чиновника, его предки несколько столетий назад были обращены в католичество иезуитскими миссионерами, прибывшими в Китай в конце XVI — начале XVII в. В 12 лет он тайно оставил дом и направился в иезуитскую Школу Сюхут (Le College St. Ignace) в Шанхае, впоследствии он вступил в Общество иезуитов. Ма проявил большой интерес не только к теологии, но и к иным разделам западного знания — он выучил ряд классических и современных иностранных языков, изучал математику, астрономию и географию. Это не только соответствовало миссионер–ско–научному стилю ранних иезуитских миссий, но и отвечало актуальным потребностям Китая в развитии современного образования. В юности он отказался от хорошо оплачиваемой работы переводчика во французском консульстве, мотивируя это тем, что изучал языки, чтобы принести пользу Китаю. Несмотря на постоянные конфликты с иностранными миссионерами, Ма до бился больших успехов на ниве образования. В 1872 г., после рукоположения в сан он был назначен иезуитами настоятелем Школы Сюхуэй, но стремление увеличить долю китайского классического материала в сильно «озападненных» учебных программах привело Ма Сянбо к отставке и выходу в 1876 г. из общества иезуитов. После этого он занялся политикой — был помощником Ли Хунчжана, его направляли с миссиями в Корею, Японию, Европу и Америку. Ма стал состоятельным человеком, у него была семья, но обстоятельства побудили его вернуться назад. Он возвратился к иезуитам в 1899 г., а в 1903 г. основал в Шанхае на свои деньги Академию Аврора (Чжэньдапь сюэюань), идеалами которой были провозглашены приоритет науки, акцент на гуманитарном знании и уход от религиозных диспутов Однако у него вновь возник конфликт с французскими иезуитами, на чью организационную помощь он опирался, по поводу их стремления сделать образование излишне западным. Ма вновь покинул иезуитов, чтобы сконцентрировать в 1905 г. свои усилия на создании «Возрожденной Авроры» — Института Фуданъ, из которого вырос в будущем знаменитый шанхайский университет. Китайские интеллигенты, включая Янь Фу и др., поддержали это начинание и помогли собрать для этого необходимые средства. Однако оба эти проекта не увенчались полным успехом, и в 1926 г. Ма создал с помощью бенедиктинцев еще одно учебное заведение — католический Университет Фужэнь. После воссоздания на Тайване в 1956 г. этот университет стал не только авторитетным светским учебным заведением, но и центром современного католико–конфуцианского неосхоластического синтеза.
Наследие Ма Сянбо напоминает, что движение за независимость китайского христианства имело значительную культурную подоплеку. В поисках путей разрешения конфликта он посвятил немало сил обсуждению проблем христианской этики, подчеркивая, что лишь в человеческом поведении совесть успокаивается и обнаруживаются Бог и истина. Он пытался объяснить христианское учение о связи человека и Бога не через воплощение Иисуса, но через близкие конфуцианской культуре понятия о судьбе (мин), природе (сын), пути (дао) и образовании (цзяо) (см. [НауЬое, 1л1 Yungling 1996, с. 133]). Ма Сянбо хотел соединить христианскую этику с традиционными этическими понятиями китайцев, отраженными в конфуцианском учении. Он заявлял, что «никакое действие и никакая мысль человека не должны идти против совести (лян синь), поэтому никакая мысль или действие не могут быть отделены от религии»; «Господь вселенной, который даровал совесть человеческим существам, ясно видит, что каждый из нас говорит, делает и думает в этой огромной вселенной»; «люди прежде всего должны иметь добрую совесть, тогда у них может быть хорошая религия. Совесть есть основание религии» (там же). Ма полагал, что китайское понятие о совести (лян синь), исходящее из текста Мэн–цзы и развитое нео–конфуцианским философом Чжу Си, равно как и понятие об интуитивном знании (лянчжи), также восходящее к Мэн–цзы и детализированное неоконфуцианцем Ван Янмином, идентичны христианскому понятию о человеческой богоданной природе. Эта природа дает человеческим существам возможность различать добро и зло, делать добрые дела и бороться за спасение. Ма Сянбо испытал сильное влияние доктрины Ван Янмина о «внутреннем знании» (лян чжи), считая ее близко соотнесенной с католической теорией души.
В своем стремлении соединить проблематику христианства с конфуцианской традицией и обойти трудные для понимания темы боговоплощения и божественного откровения Ма Сянбо следовал традиции ранних иезуитских миссионеров. В то же время он сохранял основные идеи католицизма, связывая понятие о совести с доктриной первородного греха, равно наследуемого всеми людьми. Вопрошая о верности человека своей совести, он настаивал, что добродетель принадлежит божеству–Небу, но не «гуманным людям», — это делает всех равными перед лицом истины и не дает возможности провозгласить себя выше Бога.
Видя путь к добру пролегающим через христианское покаяние и молитву, Ма Сянбо рассматривал проблемы религии в связи с темами естественной морали и общих поисков духовного спасения мира. Несмотря на свое огромное уважение к западной науке, он отвергал заявления о том, что чем более передовой становится наука, тем бесполезнее становятся мораль и религия. Подобная «чушь», добавлял Ма Сянбо, «ничуть не лучше чем подход к эротической живописи как к искусству или использование средств для увеличения мужской потенции для продления жизни» [там же, с. 77]. Он считал религию единственным решением проблем человеческой жизни, — лишь она способна дать ответы на вопросы о начальном и конечном предназначении человека и связи между людьми и Творцом. «Западный термин «религия» содержит смысл связывания вместе заново. Это понятие соединения связано с природой–характером (сип) и законом (фа), а также с конфуцианским понятием о ритуале. Оно может быть уяснено в понятиях следующих фраз из Ли г^зи: „Следование природе (шк) называется путем (дао); исправление пути называется образованием (цзяо)'' (первые строки Чжун юн). Таким образом, религия устанавливает определенные ограничения для то го, чтобы дать людям моральный эталон, дабы те придерживались лучшего, а не наоборот. Это дает людям возможность обла дать той подлинной свободой, которой они должны наслаждаться, и предохранить их от иллюзий ложной свободы, которых у них быть не должно» (там же).
Ма Сянбо подчеркивал близость духа верности убеждениям и жертвенности среди приверженцев конфуцианского «ортодоксального учения» (чжэнсюэ) и христиан. Он привел в пример жившего в начале династии Мин Фан Сложу, отрезавшего себе язык и кровью написавшего слово «узурпатор» для порицания захватившего власть императора Чэн–чжу, за что он и его семья были казнены, сопоставляя этот пример из китайской истории с трагедией мученичества десятков тысяч китайских христиан во время восстания ихэтуаней. Подчеркивая, что всех их сближает принесение себя в жертву истине, Ма Сянбо призвал обратить внимание не только на ортодоксальное учение неоконфуцианства, но и на «ортодоксальную религию» католицизма. Развивая дискуссию о том, является ли религия «опиумом» или же высшей устремленностью человеческого духа, Ма Сянбо сослался на конфуцианское этическое учение о «преодолении себя и восстановлении ритуальной пристойности» (кэцзи фули): «…опиум, морфий и другие наркотики, конечно же могут отравить тело. Однако религия изменяет человеческую жизнь через истину; это за ставляет человеческие сердца подчиняться с радостью, так что они поклоняются Творцу и практикуют самоограничение для того, чтобы быть социально ответственными (кэцзи фули). Они принимают разум Спасителя как свой собственный и следуют заповедям Творца» [там же, с. 277]. Ма Сянбо очень интересовался проблемами философии, отрицая правомерность использования заимствованного из японского языка термина чжэсюэ, предлагая вместо него сочетание чжичжи (достижение знания), восходящее к классическому конфуцианскому тексту Дасюэ. Он понимал чжусианскую идею гэу чжичжи (классификация вещей и достижение знания) как суть философии, где гэу обозначает не–что вроде анализа, а объектом чжичжи выступает анализ дефиниций объектов мироздания. Для интерпретации логики Аристотеля Ма использовал понятия китайской «школы ймен», буддизма, индийской логики (иньмин сюэ) и метафизики «учения о скрытом–глубочайшем» (сюанъ сюэ) династий Вэй и Цзинь. Труд по логике Микяитань китайского католика Ли Чжицзао стал фундаментом для работ Ма, посвященных аристотелевской логике. Стоит отметить, что разработанный ранними иезуитами путь использования местных понятий включал признание важности западной логической методологии, необходимой не только для познания мира видимого, но и для стройного доказательства бытия невидимого глазу людей Творца.
Схоластическая традиция иезуитов направляла Ма Сянбо в сторону поиска подтверждений теологических доктрин в строгой логике разума. Подобно неоконфуцианской традиции школы «учения о принципе» братьев Чэн и Чжу Си, томисты также делали акцент на «классификации объектов» внешнего мира для «достижения знания». Из–за этого сходства верные заложенной М.Риччи традиции использования местных понятий иезуиты употребляли сочетание чжичжи из формулы гэу чжичжи для обозначения философии как таковой, а не только локальной чжуси–анской традиции. В отличие от неоконфуцианцев они были вооружены аристотелевской методологией логического анализа, что направляло поиски в сторону синтеза этих учений и дополнения китайской философии логическим инструментарием.
Проповедь Российской духовной миссии в Китае
История появления в Китае в начале XVIII в. Российской духовной миссии связана с уникальными обстоятельствами, не похожими на события, окружавшие приход в страну католических или протестантских миссий. Это было «своеобразное учреждение, возникшее в силу исторических случайностей» [Веселовский 1905, с. 1], связанных с пленением цинскими войсками в 1685 г. сотни русских защитников крепости Албазин. Позднейшее попечение российских властей об албазинцах определило главное отличие деятельности православной миссии от миссий из западных стран — на первое место была поставлена задача сохранения веры среди небольшой общины потомков этнических русских, а не проповеди среди китайцев. Содержание миссионерского послания прибывавших на китайскую землю православных и западных священнослужителей также содержало важное отличие Католические и протестантские миссионеры должны были убеждать китайцев принять новую для них религию и требовать от них отречения от «суеверий», унаследованных от предков. Православные священники были призваны напоминать албазинцам о необходимости свято хранить христианскую веру предков, одновременно отвращая их от погружения в мир китай ской религиозной жизни. Такое узкое определение задачи православной миссии избавляло священников от необходимости полемики с носителями китайской традиции для доказательства им превосходства христианской веры. Однако задача предотвращения «китаизации» албазинцев сходным образом заставляла православных служителей миссии осмысливать окружавшую их реальность в понятиях «суеверия» и «идолопоклонства», что сближало их оценки с оценками инославных проповедников. В конце ХУ1 П в. глава Миссии архимандрит Софроний (Грибов ский) сетовал на то, что «дикообразные албазинцы, отстав от своего священника, совершенно следовали своих жен наставлениям и потому стали во всей точности соблюдать китайские обряды, подражая китайцам не только в обычаях, но и в вере …и потому их дети по руководству своих матерей остались со вершенными идолопоклонниками» [там же, с. 10]. Критика членов русской общины и их потомков за чрезмерную податливость давлению китайских нравов сформировала среди православных священников устойчивый образ нуждающегося в духовном окормлении падшего албазинца: «Нерасчетливый, занятый собой и своим благородством, грубый, необразованный, суеверный, вероломный, лукавый, не знающий, чем избавиться от тя готевших над ним свободного времени и несносной скуки, постоянно слонявшийся по улицам, гостиницам и театрам, курии ший подчас опиум, пускавшийся в азартную игру и другие преступные развлечения, больной душой и телом, он скоро очутился в неоплатных долгах у столичных ростовщиков, став в конце концов притчей во языцех» [Краткая история 1916, с. 13].
Частые на протяжении XVIII в неустройства внутри миссии и разногласия среди прибывших из России священников уменьшали эффективность их работы среди албазинцев Количество крещеных китайцев исчислялось единицами, это были прежде всего местные работники при миссии, желавшие таким образом попрочнее закрепиться на службе. 9–я миссия (1806–1821) во главе с архимандритом Иакинфом (Бичуриным) завершилась скандалом и разбирательствами по поводу легкомысленного образа жизни ее начальника, истратившего на приятное общение с китайцами скудные средства Миссии. Тема оценки миссионерской политики 10–й Миссии при архимандрите Петре (Каменском) достаточно сложна. С одной стороны, реакцией на открытый и свободный образ жизни Иакинфа стал акцент на отшельнической замкнутости жизни миссионеров, что не способствовало сближению священников с китайцами и постижению их характера. С другой стороны, частью «антииакинфовской» реакции стало усиление церковно–миссионерской работы среди православной общины в Пекине. Была поставлена задача перевода на китайский язык православных молитвенных и литургических текстов, и это новое измерение деятельности Миссии вполне сопоставимо с направлением аналогичных усилий католиков или протестантов. Приехавший с Петром иеромонах Вениамин «поселился на северном подворье, в Русской роте, близ Успенской церкви, которую албазинцы стали посещать, а он старался беседовать с ними и добился того, что проповедовал им слово Божие на китайском языке» [там же, с. 97]. Требования практики и продвижение западных миссий оказывали прямое влияние на изменение взглядов российских священнослужителей в Китае. По словам современника (1885 г.), «некоторые наши синологи из членов Миссии* (как о Палладии и о. Аввакум) вполне основательно настаивали на том, что Священные Книги на китайский язык переводить не надо. Однако насущная потребность иметь эти книги невольно заставляла забыть такие трудности, совсем подчас непреодолимые и только уменьшаемые глубоким знанием китайского языка и литературы, особенно когда перевод и распространение Священного Писания католическими и протестантскими миссионерами производятся так деятельно в Китае, и сам о. Палладий под конец уступил необходимости и принял участие в переводах» [Ивановский 2000, с. 116].
К началу XIX в. потомки плененных в конце XVII в. албазин–цев слились с миром окружавшей их культуры настолько плотно, что проповедь на русском языке стала для них практически недоступной. Это побуждало православных священников следовать примеру западных миссионеров, проделавших к тому времени большой труд по переводу на китайский язык христианской литературы. Бичурин подготовил краткий катехизис на китайском языке, правда, его потом упрекали в том, что это было извлечение из «католического катехизиса, изданного иезуитами в 1739 г.» [Кртгкая история 1916, с. 87]. Во время 10–й миссии иеромонах Даниил (Сивиллов) перевел на китайский язык «утренние молитвы, зерцало исповедания веры Димитрия Ростовского, молитвы, читаемые за литургией, стоглавник св. Геннадия» [там же, с. 99].
Наставник Миссии архимандрит Петр приложил немало сил к собиранию для библиотеки миссии имеющихся инославных переводов христианских текстов на китайский язык. При 11–й Миссии иеромонах Феофилакт (Киселевский) перевел на китайский язык «краткий катехизис Филарета, две проповеди, два руководства Кочетова — „О законе Божием“ и “Об обязанностях христианина“» [там же, с. 103]. При 12–й Миссии обязанности миссионерской работы нес на себе иеромонах Гурий (Карпов). «Из трудов его по языку нужно упомянуть просмотр прежних переводов огласительных христианских книг и новые переводы на китайский язык: Соборное послание св Апостола Иакова, Последование ко св. Причащению, Священная История с при бавлением краткой Церковной истории, последование Всенощного бдения и Литургии Златоуста, Краткие жития святых за год и Краткая История Ветхого Завета в виде руководства для школьников» [там же, с. 120]. Когда Гурий сам встал во главе 14–й Миссии, им был сделан «сделан полный перевод Порпго Завета, который и напечатан им в Пекине китайским способом, т.е. гравированными деревянными досками, которые и хранились долгое время в библиотеке Миссии. Им же переведены Псалтирь, Требник, Служебник, Пространный катехизис, разговор между испытующим и уверенным, Священная история Ветхого и Нового Завета с краткою церковною историей и др.» [там же, с. 140].
Во второй половине XIX в. деятельность Российской духов ной миссии в Китае обретала все больше черт, хотя бы внешне сближавших ее с западными миссиями. Осенью 1861 г. православные священники впервые вынесли свою деятельность за пределы Пекина и открыли православное училище в деревне Дундинъань, где стали обучаться семеро детей. Однако это расширение сферы деятельности не было сигналом о начале прозелитизма среди китайцев — в Дундинъань было десять жителей с российскими православными корнями. В июне 1882 г. в Японии был рукоположен в сан священника первый православный китаец Митрофан Цзи, бывший катехизатор и учитель школы. После этого во времена 16–й Миссии архимандрит Флавиан (Городецкий) перевел практику богослужения со славянского на китайский язык. Большой прогресс наблюдался и в переводческой работе — иеромонах Исайя (Поликин) в 1860–1868 гг. составил русско–китайский словарь богословских и церковных речении (свыше 3,3 тыс. лексических единиц), в 1883–1884 гг. сотрудники Миссии осуществили перевод полных воскресных служб Октоиха. К началу XX в. православные миссионеры имели три перевода Нового Завета на китайский язык [Иванов 1999]. Вместе с тем в православных переводах сказывалось желание переводчиков как можно ближе придерживаться церковнославянского текста, что привело к введению ими собственной терминологии, отличающейся от использованной западными миссиями. Помимо неоправданного введения транскрипций имен и географических названий из славянской Библии православные тексты выделялись использованием необычного написания имени Иисуса Христа как Иисусы Хмисытосы 林斯合利爾斯托斯), разительно отличавшегося от уже известного китайцам
Есу Цзи–ду[71]. Появление необычных имен и названий можно, по–видимому, объяснить преднамеренным желанием миссионеров сохранить в своих переводах связь с русским Православием, что должно было помочь албазинцам обретать через китайские тексты духовную связь с исторической родиной. Можно предположить, — что ориентация на духовное окормление албазинцев обусловила малое внимание православных миссионеров к волновавшему их коллег терминологическому спору, который сводился к различиям в трактовке китайской традиционной культуры. В XIX в. православные переводы повсеместно использовали «католическое» именование
'Гяньчжу, построенная в Дундинъань православная часовня была снабжена табличкой
Чунбай Тяньчжу шэнсо (Священное место поклонения Небесном)' Господу) (см. [Краткая история 1916, с. 150]). В первое десятилетне XX в. для именования Бога в православных текстах стало широко использоваться «протестантское» имя
Шанди.В 1858 г. граф Путятин поднял вопрос о договорном закреплении свободы проповеди православия в Китае. Испытывая тревогу по поводу распространения в этой стране британцами и французами протестантской и католической веры, он заключил, что России также следовало бы создать в Китае свой духовный форпост еще до того, как время будет упущено и все китайцы будут обращены в западную веру западными миссионерами. Тогдашний глава 13–й Миссии архимандрит Палладий (Кафаров) отреагировал на эти призывы без энтузиазма, указывая на отсутствие у России возможностей для широкомасштабного прозелитизма в Китае, а также на различие политико–дипломатических интересов России и стран Запада. Помимо дипломатически мотивированных призывов «обождать того времени, когда политический горизонт Востока прояснится», в письме Палладия (см. [Палладий 1915]) можно найти примечательные, миссионерски мотивированные оценки китайской культуры. О конфуцианстве было сказано, что оно «выше всего ставит политиче скую мораль», «лишено начал спиритуализма и вместе с тем впадает в грубые суеверия», «внедряет глубокий эгоизм», а «относительно высокие правила его нравственной философии развили в нем горделивое самосознание и спесь и утвердили его в самообольщении». Назвав обращения в христианство из касты конфуцианцев «трудными и непрочными», Палладии предупредил, что китайское правительство в нынешнем виде никогда не примирится с христианством, так что и для православных, еще н^ навлекших на себя в Китае больших подозрений, дело без борьбы не обойдется. «В самом деле, может ли быть мир и общение между животворною верою нашею и застоем конфуцианства; между христианским просвещением и ветхими основами правительственной системы отживающего Китая? Рано или поздно конфуцианство, этот пан Восточной Азии, должен пасть перед силою Креста, вместе с язычеством, как по явлении Спасителя, по свидетельству предания, пал пан классического мира» [там же, с. 39].
Дав краткую характеристику буддизму и народным религиям Китая, затронув при этом также астрологию и геомантию («геог–номию»), Палладий заключил, что «упадок жреческого класса, опустение и разрушение капищ и пустой формализм, господствующий в нравах китайцев», свидетельствуют как о шаткости основ язычества в Китае, так и о том, что «не трудно будет низвергнуть его окончательно». Вместе с тем личные наблюдения за религиозной практикой простых китайцев дали ему возможность заключить, что «религиозный инстинкт, глубоко врожденный человеку, не погас и в этой заброшенной на край Азии нации, он только искажен и извращен временем и особностью Китая». Подобно ранним иезуитским миссионерам во главе с Маттео Риччи, Палладий считал возможным, очистив народные предания и верования от суеверий, найти в китайской древности идею единого Божества, «сознание потребности исправления натуры павшей и ограниченной», а также следы перенесенных когда–то на китайскую почву библейских преданий. Вместе с тем он предостерегал от увлечений «мнимыми подобиями и сходством», что встречалось ранее у католиков.
Не считая возможным для планируемой Православно–проповеднической миссии в Пекине брать за образец деятельность католических миссионеров (последние были обвинены Палладием в том, что сообщают китайцам лишь формы веры, развивают обрядную набожность и делают паству «нелюдимой», отчуждая ее от прежнего круга общения), Палладий предложил ряд направлений по ее развитию Им было указано на необходимость изучения миссионерами разговорного китайского языка для проведения духовных объяснений и письменного — для перевода и составления книг догматического, нравственного и полемического содержания. Палладий! поддержал идею подготовки православных катехизаторов из молодых китайцев, а также призвал дополнить план открытия при Миссии школы и больницы предварительным обучением медицине всех миссионеров, готовящихся к службе на Востоке. Можно сделать вывод, что в середине XIX в. представления православных миссионеров о судьбе китайской культуры или о методах проповеди среди китайцев во многом пересекались с представлениями действовавших в Китае ирюславпых проповедников. Отмежевываясь от крайностей католической проповеди и призывая к политической осторожности, вслед за современниками из числа западных миссионеров Палладий все же разделил широко распространившуюся в те годы концепцию замещения конфуцианства христианством.
Миссионеры и антихристианские выступления
В ХГХ столетии большинство из миссионеров видели в китайской культурной традиции, прежде всего в конфуцианстве, препятствие для распространения веры среди простых китайцев. Миссионеры становились в оппозицию конфуциански образованной бюрократии, служившей хранителем этой традиции. Чиновники также были раздражены привилегиями иностранных миссионеров, которые могли на равных общаться с местными властями, их защищенным неравноправными договорами особым статусом, проведением миссиями образовательных и социальных программ, направленных на укрепление авторитета иностранной религии. Противоречие становилось все более непримиримым — как отметил знаток Китая Дж.Фэрбенк, «миссионеры представляли неустранимую культурную угрозу, поскольку они были соперниками китайской элиты, ученых джентри. Как педагоги, хоть и на иностранный манер, и привилегированные персоны, хоть и под иностранной защитой, миссионеры смотрелись по существу как подрывающие китайский традиционный порядок —как по цели, так и по результату» [Fairbank 1974, с. 10].
Публичная проповедь протестантов среди китайцев была аг рессивной и чувствительно затрагивала ценностно–культурные основы мировоззрения китайских джентри (гиэныии). Эта интонация находила отражение и в миссионерских печатных материалах — к примеру, в 1870–е годы американские миссионеры издали полемическую брошюру Бянъсяолунь (Рассуждение о сыновней почтительности), нападающую на культ поклонения предкам. Т.Ричард отметил, что подобные миссионерские орошюры с осуждением идолопоклонства китайцев и их культа поклонения предкам внесли значительную лепту в отчуждение простых людей от христианства. «Результат был таков, что где бы ни циркулировали эти брошюры, вспыхивали антимиссионер–ские беспорядки, и не из–за злобности китайцев, но из за невежества авторов, которые не изучили в полной мере китаиские идеи и обвиняли местных жителей в грехе там, где не было греха» [Richard 1916, с. 146]).
Не стоит забывать, что сложившееся на Западе разделение сфер науки и религии было трудно донести образованному китайцу, а обращение к естественной теологии иногда лишь запутывало дело. Китайцы с трудом проводили грань между рассказами иностранцев о чудесах науки и о чудесах веры. Образованные горожане часто спрашивали о том, как же Дева может родить младенца и могут ли сами протестанские миссионеры повторить этот опыт в своем семейном кругу. В ответ на отрицательные ответы они резонно замечали, что это нелогично и противоречит идеалам науки, провозглашаемым самими же миссионерами.
В ходе столкновения культурных шаблонов не только миссионеры видели в китайцах лжецов и корыстолюбцев, но и китайцы находили общественное поведение миссионеров вызывающим и скандальным. «Когда мужчины и женщины проводили время в одной комнате, то китайцы полагали, что у них на уме секс. Было еще хуже, когда новоприбывшие одинокие женщины жили в домах женатых пар. Эта практика была эквивалентна китайской культуре конкубината. Такое поведение не было аморальным для китайцев, но определенно противоречило возвышенному учению миссионеров» [Flynt, Berkley 1997, с. 96].
Играла свою роль и сила суеверий. Простые китайцы верили, что для поддержания или восстановления благосостояния общины необходимо избегать конфликтов с местными духами и божествами. Когда миссионеры возводили новые здания, которые по высоте, расположению или ориентации пренебрегали местными геомантическими представлениями (фзишуй), или же когда во время засухи китайские неофиты отказывались принять участие в церемонии призывания дождя, нехристианское население испытывало глубокое беспокойство. Культурный конфликт разрастался, ибо миссионерам платили той же монетой. «Когда китайцы полагали, что миссионеры движимы материальным интересом, миссионеры отвечали тем, что видели в китайцах людей, безнадежно погрязших в мирских делах. Когда миссионеры считали китайцев суеверными, китайцы отвечали глубоким скептицизмом по отношению к наиболее лелеемым верованиям миссионеров. Каждый видел в другом непостижимое. Каждый чувствовал, что другой принадлежит к низшему цивилизационному порядку» [Cohen 1978, с. 565].
В поиске корней противостояния миссионеров и китайской элиты, равно как и многочисленных народных антимиссионер–ских выступлении XIX в., в китайской историографии XX в. принято указывать на империалистическую колониальную политику западных держав, подчинившую деятельность христианских миссий своим целям. Сопротивление западному господству превратило китайские христианские церкви и зарубежные миссии в мишени в ходе борьбы за обретение Китаем достоинства и свободы. Однако эта трактовка событий прошлого делает «долгую традицию китайской враждебности к христианству незамечаемой, отрицаемой или сводимой к сравнительно незначительной». Хотя «миссионеры поздней Цин были главным раздражителем, фактом было то, что они столкнулись с населением, большая часть которого была предрасположена к тому, чтобы испытывать беспокойство. Традиция антихристианской мысли уходит назад, как минимум к поздней Мин. Ее литература была огромна. И она образовала идеологический климат для китайского восприятия христианства во второй половине XIX в.» [там же, с. 560].
Коэн отмечает всплеск антихристианских конфликтов и появление антихристианской литературы в Китае между 1860 и 1900 гг. (см. [Cohen 1963]). Он выделил два типа антихристианской литературы. К первому относятся материалы общего типа, например манифесты, разжигавшие страсти утверждениями, что священники уродуют беременных женщин, выдирают глаза умирающим, занимаются содомией и т.д.
[72]. Невероятное становилось убедительным в результате умелой подачи и многократного повторения. В начале 1860–х годов широко циркулировал запрещенный властями как минимум в трех провинциях памфлет
Лисе цшши, красочно описывавший содомитские обряды христиан. Вторым типом были плакаты или объявления, в которых общие обвинения сопровождались примерами конкретных ситуаций с упоминанием имен или мест. Многие из них содержали призывы к проведению антихристианских акций, они вывешивались в заметных местах и хорошо тиражировались. Коэн сообщает, что в начале 1890–х годов наиболее одиозный антихристианский текст
Гуйг^зяо гайсы (Религия чертей должна погибнуть) был распространен в 800 тыс. экземпляров (см. [Cohen 1978, с. 570]).
В свое время иезуит дю Альд (1674–1743) сообщал из Китая о книге 1624 г., обвинявшей иностранцев в похищении детей, извлечении их глаз, сердца, печени и т.д. Католический обряд соборования вместе с обычаем закрывать глаза мертвым могли дать повод для таких подозрений. Все эти доводы возродились в 1860–е годы. В 1866 г. корреспондент «Таймс» в Китае С.Гранди привлек внимание к прокламации, циркулировавшей в провинции Хунань и прилегающих регионах. Часть седьмая этой прокламации гласила: «Когда [китайский] член их (католической) религии находится на смертном одре, несколько его собратьев по вере возносят молитвы за спасение его души, изгнав перед этим родственников. На самом деле, пока он еще дышит, они извлекают его глаза и вырезают сердце, которые потом используются б их стране для производства фальшивого серебра». Во время беспорядков 1891 г. подобные обвинения, соединенные с другими, еще более невообразимыми, были развешены по всему Китаю, и их источник был в Хунани (см. [Broomhall 1915, с. 56]).
Антихристианские настроения были распространены в Китае во второй половине XIX в., но связь между антимиссионер–скими инцидентами в разных районах не была прямой или непосредственной, за исключением событий 1871 г., когда на юге страны поползли слухи о «миссионерах–отравителях». Фуцзяньские столкновения 1871 г. были частью более обширного движения, в ходе которого вдоль всего южнокитайского побережья на фоне быстрого распространения истории о том, что иностранцы травят китайцев, происходили антимиссионерские инциденты. Объявления, предупреждавшие население о «миссионерах–отравителях», появившиеся сперва в Гуандуне, за несколько недель оказались во многих прибрежных городах и деревнях, в начале августа 1871 г. достигнув Фучжоу. В полном виде история такова: «Предполагалось, что миссионеры испытывали сильное влечение к китайским женщинам и для удовлетворения своих желаний побуждали их становиться христианками, дабы потом прелюбодействовать с ними. К несчастью для миссионеров, они не могли побудить многих китайцев, мужчин или женщин, стать обращенцами. В отчаянии они прибегли к самому презренному плану, нанимая нищих и обращенцев для распространения яда среди китайцев. Он может быть смешан с мукой, другим видом еды или брошен в колодец (или иной источник воды). Жертвы этого яда становятся опасно больными. У миссионеров есть лекарство, которое излечивает болезнь, но они дают его только тем людям (особенно женщинам), которые согласятся стать христианами» [Carlson 1974, с. 129]. Воздействие этого слуха было значительным. Как сообщает в своей работе Э.Карлсон, в Фучжоу люди отказывались есть что–либо приготовленное с использованием рисовой или пшеничной муки, что отражалось на обороте забегаловок и мелких торговцев. Особые меры безопасности были установлены для защиты от «отравления» колодцев, которые закрывали, или заваливали камнями, или же выставляли у них стражу. Однако во время антихристианских слухов и выступлений 1871 г. на юге Китая китайские чиновники действовали на стороне миссионеров, предотвращая распространение листовок, объявляя о наказании за распространение ложных слухов и своевременно решая вопрос о компенсации за причиненный ущерб (см. [там же, с. 131]).
Эти слухи затрагивали глубины сексуальных и расовых эмоций людей, оживляя подозрения и страхи, накопившиеся у не христианского населения в процессе общения с миссионерами и обращенцами. Но если не воспринимать подобные слухи как «первоисточник», то мы не найдем серьезных подтверждений обвинениям миссионеров в посягательствах на своих прихожанок. Исследователи приходят к выводу о том, что «китайские критики миссионерского движения осознавали те изменения, которые произойдут в отношениях полов, и в особенности в роли женщин» [Smith С.Т. 1985, с. 204] Постулаты христианства «предоставляют теологическую основу для равенства полон, теоретически способную освободить женщин от их исторически подчиненной позиции. Китайцы ощутили, что подходы, практикуемые иностранцам» относительно отношений полов, если они распространятся между китайцами, разрушат давно установлен ные обычаи и изменят традиционные структуры» [там же, с. 203] Позднее разразилось антииностраиное восстание ихэтуанси, обернувшееся многими жертвами среди миссионеров и страшным поражением для китайцев. Его история хорошо изучена отечественными н зарубежными учеными. Остановимся лишь на том, как сами миссионеры объясняли истоки этого события и какие выводы они для себя сделали. Среди причин смуты А.Гловер (КВМ), застигнутый событиями в провинции Шаньси и едва сумевший избежать гибели, помимо эмоциональной ссылки на «природную» «расовую» ненависть китайцев ко всему пно–странно\гу, «текущую у них в крови», справедливо указал на торговлю опиумом, ставшую «грехом Англии и горем Китая», крайне ожесточившую китайцев против иностранцев. Указывая на волнения в Шаньси, он отметил негативное влияние на настроения населения геологоразведочных работ, проводившихся за год до этого сотрудниками Пекинского синдиката (Peking Syndicate), и долгую засуху, угрожавшую наступлением голода. Существенный интерес для исследования проблем воздействия христианства на китайскую культуру представляет его заявление о том, что одним из главных факторов дестабилизации была деятель ность римско–католической церкви. Гловер сослался на свидетельство одного из сотрудников КВМ, возложившего всю вину за восстание ихэтуаней на католиков. Развивая тему, он писал: «Неизменным вопросом (как правило, первым), задаваемым нам толпой, был: „Кто вы? Католики?“ Окажись это так, нам бы точно было не пройти. И если когда–нибудь глаза этих люден были полны убийственной ненависти, то это тогда, когда они задавали этот вопрос. Невозможно преувеличить горькое чувство ненависти, которое вызывали римо–католики. Их стремление к мнр–ской власти и дух политических интриг, их тайные и беззастен–чивые методы работы, их высокомерные претензии, их вмешательство в работу судов, опирающееся на угрозы обращения к правительству их страны, их закон целибата, их деспотическое использование священнической власти — все это и многое другое довело местных жителей до белого каления. Брат–миссионер, работающий в Аньхуэй, однажды сказал мне, что во время путешествий по северу этой провинции, где трудились „романисты“ (католики. — А.Л.), он обнар)жил, что само упоминание имении Иисуса вызывало потоки богохульств. По его словам, „римские католики буквально вываляли имя Иисуса в грязи перед людьми; и одного того, что две религии имеют имя Иисуса для своего Бога, уже достаточно, чтобы уничтожить любую попытку заполучить слушателей для Евангелия“» [Glover 1919, с. 8–9].
Стоит обратить внимание на то, как много критических замечаний в адрес римско–католической церкви прозвучало со стороны протестантских миссий после восстания ихэтуаней. Тогда многие протестанты обратились в недавнее прошлое. Т.Ричард в своих воспоминаниях приводит составленную в русле антикатолической аргументации китайского правительства корейскую прокламацию 1864 г. Среди ее пунктов содержатся утверждения, что «Богу надо служить добродетелью, а не попрошайничеством выгод и прощения грехов», что иностранные священники запрещают ритуалы поклонения предкам, что папа требует, чтобы уровень подчинения ему был выше, чем светской власти, что хотя Бог сотворил мужчину и женщину, Ватикан настаивает на соблюдении священниками целибата, нарушая отношения мужа и жены, что учения о Святой Деве, крещении, конфирмации и спасении есть ложь и т.д. Т.Ричард по этому поводу заметил, что этот документ «показывает, как старательно корейское правительство изучило римскую систему пропаганды» [Richard 1916, с. 190–191].
По мере того как протестантский прозелитизм давал свои результаты, миссионеры все чаще обращались к недостаткам католической проповеди, как правило ссылаясь при этом на мнение народа. Гибсон сообщает, что китайцы подходили к нему и говорили: «„Ваш путь правилен. Вы приходите открыто и говорите нам, каково ваше учение. Французские (римско–католические) миссионеры остаются в своих церквах и не выходят, чтобы поговорить с нами, но вам нечего скрывать“. Поэтому свободное религиозное обучение не вызывает раздражения, а повсюду оказывает благотворительное воздействие на общественное сознание» [Gibson 1902, с. 179]. Помимо этого, Гибсон обвинил католическую церковь в предоставлении китайской пастве политической поддержки в отношениях с нехристианскими соседями.
В описании событий последнего десятилетия XIX в. протестантские жалобы на некорректное поведение римско–католической церкви становятся достаточно частыми. Католикам вме няются попытки переманить на свою сторону уже обращенных в христианство протестантскими миссионерами китайцев и их местных катехизаторов обещаниями бесплатного обучения и дармовой еды. Канадские миссионеры в Хунани Дж. и Р.Гофор ты вспоминали, что после успешного начала их евангелизатор–ской деятельности (середина 1890–х годов) «священники Рима, услышав о движении, послали своих агентов, чтобы увести этих людей от нас. Они говорили им, что те обманулись, присоединившись к протестантам» что эти протестанты’ уведенные не в т) сторону монстром по имени Лютер четыреста лет назад, были отвергнуты римско–католической церковью, что у протестантов нет силы или престижа и что во времена гонений они будут оставлены на милость врагов. «Вы в безопасности, — говорили они, — если присоединитесь к великой римско–католической церкви, поскольку за нами стоит великая держава Франция. Помимо этого протестанты не любят вас так, как мы; они не будут заниматься вашими судебными тяжбами или бесплатно учить ваших детей. Вам приходится платить за все, что вы получаете от них. Но подумайте о чудесной любви нашего великого главы, папы римского. Он уже сейчас посылает корабли с сокровищами в Китай, чтобы оказать помощь тем, кто присоединится к нам» [Goforth J., Goforth R. 1931, с. 62]. Таким образом, католики обвинялись протестантами как в нападках на их конгрегации, так и в целенаправленном создании китайской прослойки «рисовых христиан». Римские католики в ответ также не молчали и говорили о протестантах, что они «ведут Китай от Конфуция к кон фузу».
Миссионеры стремились истолковывать движение ихэтуаней не как патриотическое или антниностранное, но как по преиму–ществу религиозное и направленное на утверждение некоей китайской «великой религии», образованной из смешения буддизма, конфуцианства и даосизма для искоренения «еретического» христианства· Обосновывая свою интерпретацию движения ихэтуаней как совместного похода трех китайских религий против христианства, Гловер сослался на существенную поддержк) этому движению, оказанную в марте 1899 г. высшим буддистским духовенством (Lama Abbot), а потом и главой даосской секты (Pope Chang), склонявшим вдовствующую императрицу к уничтожению иностранцев. В свою очередь, официальный антихристианский императорский указ имел конфуцианскую форму, призывая гражданских и военных чиновников следовать 16 священным эдиктам императора Кан–си и учению императора Юн–чжэна против ереси. «Издаваемые ими (ихэтуанями. — А.Л.) указы провозглашались от имени самих божеств и пламенели всем жаром религиозного фанатизма… Одним словом, в движении доминировала религиозная идея. Верно, что оно направлялось против иностранцев как таковых, но корень проблемы лежал не столько в инновациях их варварской цивилизации, сколько в их богохульной религии» [Glover 1919, с. 11]. Гловер охарактеризовал движение ихэтуаней как «явное религиозное преследование», ссылаясь на свой личный опыт, когда толпа кричала ему «Долой вашего Шанди, мы вышвырнем его за моря, чтобы он никогда не вернулся», или солдаты говорили ему о запрете императором проповеди Иисуса, «который принес в Китай так много бед, что его больше никогда не будет в Китае».
Другой современник счел главным врагом китайского христианства даосизм, стоявший за кулисами восстания ихэтуаней. Именно из даосской алхимии он выводил многократно повторявшиеся обвинения в адрес иностранцев в извлечении глаз и сердец китайцев для «получения серебра» — предполагалось, что для того, чтобы иметь такое количество денег, они должны были владеть этим искусством. «Представления даосов лежат в основе безумия боксеров, хотя и нет реальных доказательств, что они или буддистские идеи сыграли в движении какую–то важную роль Пока китайцы остаются в неведении относительно единообразия способов, которыми действуют силы природы, потеряв (если они вообще его имели) представление о причине и следствии: они верят, что рассыпанные черные бобы могут превратиться о армию; что бумажные фигурки, брошенные на ветер или сожженные, могут быть настоящими воинами; что мечи могут стать всепобеждающими посредством заклинаний; что защита духов мертвых может сделать живущих неуязвимыми для пуль маузеров… С этой точки зрения даосская вера есть один из наиболее опасных врагов для мира внутри Китая и для существования нормальных отношений между китайским народом и теми, кто не принадлежит к их расе живущих среди четырех морей. Китайцы смогли в общем принять требования современной науки, не отказываясь полностью от веры в дикие сверхъестественные басни даосов и не освобождаясь нз безжалостных оков, под которыми они бессознательно жили угнетенными два тысячелетия. Полная эмансипация будет достигнута по мере распростра–нения христианства, единственного источника, откуда она может происходить» [Smith А Н. 1903, с. 66]. Современные китайские исследователи видят в восстании ихэтуаней также пример конфликта христианства с основанной на конфуцианстве китай ской традиционной культурой: «К примеру, истоком движения ихэтуаней был Шаньдун, являющийся также родиной основателя конфуцианства Кун–цзы и местом развития конфуцианской мысли, шаньдунские чиновники были противниками разрешения проповеди внутри страны» [Ли Юэхун 1997, с. 120].
Если разделенные многими деноминациями протестанты пытались на общих конференциях вырабатывать единую линию, то никакого сотрудничества с католиками они не искали, кро ме как в случаях потопов или голода. Вплоть цо наступления «коммунистической угрозы» протестанты рассматривали Рим как величайшего Антихриста и, в свою очередь, воспринимались Ватиканом как опасные еретики, подрывающие их проповедь Христа. «В то время протестанты были воинствующими антипапистами, и миссионеры более всех, они воспринимали себя как единственных представителей христианства в Китае и предпочитали игнорировать работу римско–католических миссионеров, подходя к ним как к носителям другой и отчетливо низшей религии, идолопоклоннической веры наподобие буддизма» [Stursberg 1987, с. 26]. Представляется, что эти замечания относятся не столько к исследованию причин восстания ихэтуаней, сколько к теме поисков различными миссиями путей проповеди христианского учения среди китайцев и обоснования собственной ортодоксальности, столь важной для китайского критерия прямоты (чжэн). Агрессивные нападки на католиков можно объяснить и тем, что протестанты были лишены в Китае важной для местной цивилизации «историчности» католиков, так как появились там на два с половиной века позже. Критики деятельности христианских миссий в Китае отмечали, что католические миссии подходили к китайской культуре достаточно унифицировано и потому экстремистские взгляды в их рядах можно было пресечь. В то же время в разделенных протестантских миссиях было возможно безграничное разнообразие практических действий, а географическая разбросанность миссий затрудняла контроль за деятельностью миссионеров.
Влияние антикатолических эмоций населения на протестантские оценки событий 1899–1900 гг. может быть связано не только с плохими отношениями протестантов и католиков, но и с последствиями императорского указа от 15 мая 1899 г. Под давлением Франции миссионерам был гарантирован статус, рав–ныи статусу китайского чиновника. Благодаря этому миссионерское движение предстало как чисто политическая сила. Заметим, что протестанты единогласно отказались принять привилегии, дарованные этим указом, и, пожалуй,лишь здесь можно найти более или менее значимое их отличие от католиков. На самом деле, «во многих своих аспектах римско–католическое миссионерское движение не отличалось от протестантского. Были различия в средствах личного спасения обращенного, акценте на церкви и ее таинствах, отсутствовавшем в протестантской еван–гелизации. Что касается представлений о язычниках, то и католики считали, что те пребывают во тьме и несчастьи. Настойчивость призыва к их спасению подкреплялась тем, что в различных частях страны существовали маленькие конгрегации, которые могли быть проглочены язычеством» [Hughes 1968, с. 65].
Конфликты из–за отношения китайских христиан к «язычески окрашенным» общественным мероприятиям часто приобретали острый характер. Р.Томпсон сообщает, что 13 июля 1901 г. (через год после того как в провинции Шаньси во время восстания ихэтуаней были убиты несколько сот иностранцев и тысячи китайцев) четыре протестантских миссионера и три китайских чиновника собрались для переговоров Они пришли к заключению, что причина имевшего места всплеска насилия состояла в отказе христиан платить за театральные представления. Они были на какое–то время прекращены, однако христианам было рекомендовано в будущем поступать как все, если они желают на таких представлениях присутствовать, а также сдавать деньги на полезные общественные проекты в деревне, что положит конец конфликтам (см. [Bays 1996, с. 53]).
Исторические корни проблемы Р.Томпсон связывает с католическим спором XVIΙ–ХVIII вв о китайских ритуалах. В 1769 г. Рим ясно заявил, что китайские католики не должны жертвовать на «общинные мероприятия По восстановлению храмов или на их строительство, или совершать жертвоприношения идолам». Поскольку после 1724 г. христианство было запрещено, этот спорный вопрос временно отошел на задний план, но после 1860 г. он наложился на весьма сложный политический и дипломатический фон. Католические миссии настаивали, что хри–стиане не должны платить деньги за организуемые сельскими общинами «суеверные действа», требуя у местных властей защиты «неплательщиков» от недовольства односельчан. В последующие десятилетия их примеру последовали и протестанты. Например, в 1861 г. в Фэнтдй (пров. Шаньси) францисканцы решили, что им необходимо распоряжение губернатора, закреп–ляющее права и свободы местных христиан. Основные положения их требований сводились к следующему: не следует требо вать от христиан денег на театральные представления, жертво приношения или ремонт храмов, поскольку они верят в Небес ного Господа (Тяньчжу) и им нужно тратить деньги на свои церкви и церемонии, проводя которые они выказывают уважение к своей религии. Христиане не должны сдавать деньги на то, что не соответствует их верованиям, а в других религиозно ней тральных сборах средств на общественные нужды им следует платить столько же, сколько и нехристианам. В свою очередь, местные власти должны наказывать тех нехристиан, кто вымогает, оскорбляет, вредит посевам и ведет себя агрессивно по от ношению к христианам, отказывающимся вносить деньги на мероприятия, противоречащие их убеждениям (см. [там же, с. 57]). Однако местные чиновники не видели оснований для такого протекционизма, и в тех случаях, когда христиаие отказывались сдавать деньги на «суеверия», им пропорционально поднимали другие налоги и сборы. В январе 1862 г. Цзуюги ямэнь ответил, что христиане могут не платить за представления или храмовые праздники, если убеждения не позволяют им это, но как китайцы они отвечают за все остальные платежи. Формально все было решено, но реальные конфликты не прекратились. Христианские миссионеры считали сборы на театральные представления и храмы по меньшей мере «бесполезными», тогда как общины и местные власти видели в христианах либо мошенников, стремившихся под иностранной защитой избежать пожертвований на общинные мероприятия, либо вообще изменников.
Однако и протестантские миссионеры были не без греха Размышляя о прошлом, современный канадский автор П.Стург–берг замечал, что «наихудшими обидчиками были фундаменталистские проповедники вроде преподобного Джонатана Гофорта, которые не видели в китайской цивилизации и культуре ничего доброго: все было для них лишь язычеством и идолопо клонством. Эти миссионеры были высокомерны в их утвержде нии должного — даже если они видели в себе смиренных служителей Бога, распространяющих Евангелие, — и когда приходила беда и их жизнь была в опасности, они напоминали китайцам о своих договорных правах, как это сделал Гофорт, и не медлили в обращении за защитой к империалистическим державам» [Stursberg 1987, с. 57].
Канадец Дж. Гофорт не был отъявленным злодеем — напротив, в годы своей юности и учебы в Кнокс–колледже он слыл ревностным христианином, по собственной инициативе работая с проститутками и бродягами в трущобах Торонто. Его нельзя осуждать за фундаментализм, но его упорство стало препятствием для миссионерства. В споре между модернистами и фундаменталистами большинство его однокурсников, ставших священниками и настоятелями церквей, симпатизировали «высшему критицизму» и высказывались в пользу либерального подхода к Библии, тогда как Гофорт упорно и настойчиво стоял на своем.
Конфликт фундаменталистов и модернистов доходил иногда до вопиющих крайностей. Однажды сотрудники консервативной КВМ публично сожгли написанный с модернистских позиций «Словарь Библии». «Дональд Макгилливрэй, пионер Северной Хунаньской миссии, был издателем сожженного „Словаря Библии“. Он заметил: „Какой выдающийся почет! Я полагаю, что это единственная христианская книга, которую когда–либо публично жгли в Китае“. Доктор Макгилливрэй сказал, что эта книга впервые донесла до китайских студентов взгляды, разделяемые большинством на Западе, и они спрашивали: „Почему нам не сказали?“» [там же, с. 65–66]. Другой фундаменталист, по имени Вильям Уайт, выпускник англиканского Колледжа Вайк–лифф в Торонто, в конце 1890–х годов прибыл в англиканскую миссию в Фуцзяни. Поначалу он мало отличался от остальных, в полной мере наслаждаясь чувством превосходства англо–саксонской расы. При обращении местных жителей в протестантизм он, сжигая «идолов» и «идолопоклоннические свитки», «амулеты» и «кумирни», «идолопоклоннические молитвенники» и «бумажные деньги», «получал почти чувственное удовольствие от уничтожения домашних богов обращенного» [там же, с. 85]. Китайцам это давалось нелегко, но он заставлял их приносить подобную «реальную жертву» Богу. Потом Уайт перестал сжигать свитки и идолов, просто унося их к себе домой. И если Гофорту не удалось переделать Китай, то Китаю удалось переделать Уайта, который воспылал любовью к китайскому искусству. После перевода в 1907 г. в Фучжоу он переориентировался на работу с образованными слоями населения, что привело его к пониманию значения китайской цивилизации. А его коллекция произведений искусства стала важным вкладом в формирование китайских фондов Королевского музея Онтарио.
Глава 6. Христианство и вероучение тайпинов
Появление в Китае XIX столетия движения тайпинов было одним из прямых последствий развернувшейся с начала века проповеднической деятельности протестантских миссионероп Хотя впоследствии действовавшие в Китае западные христианские проповедники отвернулись от тайпинов и их лидеров как от «богохульников», мотивы такого решения были скорее полнтическими, чем теологическими. Религиозное учение тайпинов по праву можно считать первым в китайской истории «отуземлен–ным», т.е. адаптированным к местным социальным и культурным потребностям вариантом христианского вероучения.
Обращаясь к идейным истокам религиозной проповеди вождя тайпинов Хун Сюцюаня, необходимо указать на труды Лян Афа (Лян Фа, 1789–1855), сыгравшие важную роль связующего звена между распространявшими веру миссионерами и воспринимавшими ее китайцами· Уроженец провинции Гуандун, Лян Афа вошел в историю как один из первых обращенных в веру китайских протестантов, а также как первый китайский священник и проповедник. В возрасте двадцати одного года Лян, работавший в то время резчиком в типографии в Гуанчжоу, повстречался с британскими миссионерами Моррисоном и Милном, готовившими к изданию китайский перевод Библии. В 1815 г. Лян в качестве типографского работника последовал вслед за Милном в Малакку, где тот занимался созданием Англо–Китайского колледжа и типографии. Близкое знакомство с миссионерами и их литературой пробудило у молодого китайца интерес к религиозным проблемам, который начал развиваться как в направлении протестантизма, так и в сторону буддистского учения. В ноябре 181(3 г. Лян Афа принял крещение от Милна, чья проповедь убедила его не только предпочесть христианство буддизму, но и стать проповедником. По мнению П.Р.Бора, при выборе веры Лян Афа привлекли такие стороны христианства в его про–тестанском варианте, как монотеизм, ставший средоточием для выражения сыновнего почтения и моральной основательности, трансформирующая сила Святого Духа и язык культурного иконоборчества. Это означает, что Лян «обратился в христианство не для того, чтобы отречься от идеалов своей собственной китайской моральной традиции, но чтобы достичь их» [Bohr 1985, с. 36].
Свою первую вероучнтельную брошюру Лян Афа составил в 1819 г. под влиянием эмоционального впечатления от возвращения на родину и встречи с родными — ему пришлось столкнуться с тем, что близкие ему люди стали духовно чужими, так как продолжали «поклоняться идолам». Работа Цзюшшу цояо люэ–цзе (Основные краткие записи о спасении мира) была призвана объяснить небольшому кругу родных и друзей основные элементы учения Библии о Боге–Творце и Десяти заповедях. Как отмечает миссионер А.Уайли, автор текста «еще шестью годами ранее был абсолютно незнаком с Евангелием, и потому нельзя было ожидать от этой брошюры глубоких познаний в теологии, однако в целом она представляется евангелистской, серьезной и полезной» [Wylie 1867, с. 22]. Его наставник Р.Моррисон ознакомился с текстом и благословил издание, после чего Лян напечатал его в двухстах экземплярах. Однако по распоряжению местных властей книга и печатные доски были уничтожены, а сам Лян Афа попал в тюрьму. Через пару дней его выручил Моррисон, однако Ляну пришлось вытерпеть три десятка ударов бамбу ковой палкой и заплатить крупный штраф. Позднее из–за запрета на религиозную проповедь в Китае Лян Афа долгое время скитался между родным домом и Малаккой. В 1823 г. он стал проповедником Лондонского миссионерского общества, а в 1827 г. был рукоположен в сан священника. После смерти Моррисона в 1834 г Лян попытался продолжить миссионерское служение в Гуанчжоу, однако репрессии со стороны властей вынудили его вновь покинуть страну.
Взгляд на жизненный путь и духовную биографию Лян Афа помогает глубже понять направленность и настрой созданных им вероучительных книг. Современные исследователи характеризуют Ляна как человека с мизерным образованием, но огромным прилежанием, который постепенно обратился к протестантизм) «фундаменталистско–евангелистского типа» [Kuhn 1978, с. 267]. Однако следует отметить, что причины фундаменталистского окраса проповеди Лян Афа не могут быть сведены к недостатку образования — здесь необходимо учитывать такие важные факторы, как пережитый опыт разочарования в китайском буддизме, равно как и ощущение огромного давления со стороны еще недавно бывшей для него родной «языческой среды» и проводившего политику антихристианских репрессий чиновничества. Не стоит забывать и о том, что его миссионерские наставники Милн и Моррисон были выходцами из крестьянских семей, их интеллектуальный и теологический кругозор не был безграничным. Однако они, как и их незаурядный ученик Лян, успешно компенсировали пробелы в познаниях настойчивостью и целе устремленностью в повседневной работе.
Работа Лян Афа
Цюаньти лянъяпъ (Добрые слова для увещевания мира), в значительной мере повлиявшая на ход китайской истории XIX столетия, оказала непосредственное воздействие на формирование религиозных воззрений вождя тайпинов Хун Сюцюаня— в период с 1836 по 1847 г. она была для него основным источником информации о христианстве. Объемом примерно 10 тыс. иероглифов, книга была напечатана на 235 листах в Кантоне в 1832 г. Тот факт, что автором
Цюапьши лянъянъ был относительно неискушенный китайский проповедник, не может служить основанием для занижения ее оценки и противопоставления ее содержания проповеди иностранных миссионеров. Перед публикацией книгу просматривал и редактировал миссионер Р.Моррисон, библейские цитаты и пересказанные Лян Афа сюжеты заимствованы из Библии в переводе Моррисона. Вместе с тем книга
Цюапыии ляпъянь не могла претендовать на статус систематического вероучительного пособия, так как была составлена из девяти разрозненных небольших работ Лян Афа: «Правдивое предание о спасении человечества»
(Чжэнъ чжуань цзюгии вэнь), «О поклонении истинном)' и отвержении ложного»
(Чуть–чжэнъ nuce лунь), «Святая истина подлинного Писания»
(Чжэнгг цзин гиэнли), «Смешанные комментарии к Святому Писанию»
(Шзнцзип цзацзе), «Смешанные рассуждения о Святом Писании»
(Шэнцзин цзалунь), «Хорошее освоение истинного учения»
(Шусюэ чжэнъли лунь), «Успокоение в опасности и обретение счастья»
(Ань взй хо фу нянь), «Речения из подлинного Писания»
(Чжэнъцзин гэянъ) и «Важнейшие свидетельства из древнего Писания»
(Гуцзин цзияо)[73]. Каждая из глав представляла собой набор пространных цитат из китайского перевода Библии Моррисона и Милна, перемежающихся комментариями и проповедями самого Лян Афа. Современники нередко критиковали его за чрезмерный пиетет к миссионерскому переводу Библии и миссионерским вероучительным брошюрам. Однако представляется вполне естественным то обстоятельство, что китайский проповедник «использовал единственный доступный тогда перевод» [McNeur 1934, с. 79], при этом сильной стороной работы Лян Афа было изложение основ веры на понятном для китайцев языке.
Хотя эклектический и компилятивный характер Цюаньши лянъяпь мог сказаться на воззрениях Хун Сюцюаня, наложив негативный отпечаток на религиозные воззрения тайпинов, необходимо отметить, что в работе Лян Афа присутствовали многие важные темы и сюжеты из Ветхого и Нового Заветов — среди них искушение змием Адама и Евы, изгнание из Рая, Потоп и Ноев ковчег, разрушение Содома и Гоморры, пророчества Исайи и Иеремии, отдельные Псалмы, Нагорная проповедь из Евангелия от Матфея, большая подборка из апостольских посланий. Критики отмечают, что Лян Афа преподал библейский материал без какого–либо порядка, с малым вниманием к хронологической структуре пророческой традиции или евангельской истории Послания Апостолов являются для него основным источником, меньшее место отдано пророкам Ветхого Завета, Книги Бытия и Четвероевангелия. Характер Яхве был старательно обрисован, тогда как личность Иисуса в значительной мере проигнорирована. «Целиком фундаменталистское, послание этой работы возвещало всемогущество Бога, упадок в грехе и идолопоклонстве, грозный выбор между спасением и осуждением» [Kuhn 1978, с. 267]. Эти акценты были подхвачены позднее в проповеди тай–пинов, что дает основание заключить, что в процессе осмысления и отбора библейского материала у Лян Афа и Хун Сюцюаня были сходные предпочтения и трудности.
Дух осуждения современной китайской культуры с позиций христианской апологетики, присущии работе Лян Афа, стал одним из источников культурного и религиозного иконоборчества Хун Сюцюаня. Четырехкратный провал на государственных экзаменах сформировал у Хуна негативный душевный настрой, соответствующий неприязненному отношению Лян Афа к «идолам» конфуцианства Вэньчану и Куйсину, которым поклонялись кандидаты на должность, чтобы успешно сдать экзамены и занять чиновный пост (см. [Spence 1996, с. 59]). Разочарованный в государственной системе и конфуцианской учености, Хун Сюцю–ань нашел в Цюанъши лянъянь резонировавшее с его переживаниями осуждение религиозной и светской культуры Китая.
Лян Афа убеждал своего читателя, что поклонение китайцев «безжизненным идолам» привело к эгоистическому забвению идеалов моральной чистоты, ибо конфуцианцы просили у божества успеха на чиновных экзаменах, даосы искали личного бессмертия, а буддисты искали путь в Западный рай лишь для себя. Былые искания истины в учении Шакьямуни не смягчили жесткость неофитской критики Лян Афа в адрес буддизма, который был охарактеризован им как обман. К числу объектов его критики относились следующие буддистские воззрения: если сын уйдет из дома и станет монахом, то девять поколений его предков спасутся; вхождение в религию состоит в медитации, созерцании образа Будды и повторении его имени; паломничество в Индию к буддистским святыням возможно и без изучения буддистских канонов. «Буддистские священники представали в его проповеди жадными до денег обманщиками, Будда— величайшим грешником, неспособным взойти на Небо, не говоря уже о помощи остальным; а буддистские медитации и молитвы — бесполезным времяпрепровождением» [McNeur 1934, с. 79]. Китайского проповедника разочаровали внешняя формальность буддистских ритуалов, недостаток в них внутренней моральной составляющей, отсутствие чаемого акцента на искреннем покаянии. При этом резкие суждения были адресованы в равной степени как буддистским, так и даосским священнослужителям, обвиненным Ляном в корысти и стремлении нажиться на людских суевериях.
Проповедь Лян Афа была пронизана сожалением о том, что китайцы не знают Бога Истинного, что лишило их возможности совершенствовать свою добродетель, черпая из высшего источника моральной силы Хотя конфуцианцы рассуждали о моральном совершенствовании, их мирское учение, по его мнению, не могло стать подлинным источником духовной жизни. «Хотя грехопадение есть универсальная реальность, ,’аморальность‘‘ собственной культуры убедила Ляна, что последствия грехопадения были в Китае жестче, чем где бы то ни было. Он полагал, что его сооте–чественники–кнтайцы более не в состоянии различать добро и зло. Фактически зло часто рядилось в добро — к примеру, храмовые чиновники, совершавшие жертвоприношения, продавали не* пристойные книги, а распространители конфуцианской классики торговали порнографическими материалами. В еще большей мерс Лян был разочарован неспособностью конфуцианских ученых жить в соответствии с исповедуемыми идеалами Учителя стали простыми „фарисеями*, кандидаты на экзаменах считали свою учебу лишь путем к богатству и власти» [ Bohr 1985, с. 42].
С будущим рением тайпинов перекликается не только оо к–дение падения нравов, но также критика конфуцианства за неспособность встать на защиту бедных от эксплуатации богатыми Рассматривая связь эгалитаризма тайпинов с проповедью Лян Афа, современный китайский исследователь Ban Цинчэн указал на распространенные попытки объяснения социальных устремлений Хун Сюцюаня марксистским положением о том, что в древности раннее христианство выражало «требование угнетенных классов об обобществлении имущества». По мнению ученого, Цюапьши у1янъянь прежде всего звала людей к вере в монотеистического Бога (Шанди) и ее аргументы по сути не совпадали с раннехристианской проповедью. Вместе с тем цитированные библейские фрагменты все же передавали идею кары богатому и спасения бедного, при этом «прорыв» Хун Сюцюаня состоял и том, что от проповедовавшейся Лян Афа идеи смирения с бедностью тот перешел к активному требованию равенства (см. [Ван Цинчэн 1985, с. 26]).
Невозможность окончательно разорвать впитанную им с детства духовную связь с китайской культурной традицией побудила Лян Афа сформулировать «конфуцианизированную» интерпретацию библейского учения. Связующим звеном двух духовных миров стало учение о сыновней преданности, которое, по его мнению, соединило не только Китай и Христа, но также «старый закон» Моисея с «новым законом» любви Иисуса, индивидуальная вера в которого неотъемлема от любви человека к своим родителям. Не отвергая конфуцианские моральные идеалы, Лян Афа настаивал на необходимости дополнить их новым вселен–ским измерением, выходящим за привычные рамки китайской семейной и политической этики. Примечательно, что в изданной в 1856 г. книге «Китайцы и их восстания» британский чиновник Томас Мидоуз согласился с мнением об актуальности работы Лян Афа для китайских соотечественников, ибо она затрагивает «предметы высшего интереса, и превыше всего интересы живые», связанные с сотворением вселенной и великими моральными правилами христианства (Meadows Т. The Chinese and their Rebellions; цит. no [McNeur 1934, с. 79]). По мнению П.Р.Бора, обостренное христианское переживание Лян Афа собственного совершенства и его возмущение окружающим моральным упадком было подготовлено длительным восприятием китайской этической традиции. Иными словами, Лян нашел в христианстве возможность придать новую жизнь конфуцианской морали, усовершенствовать ее. «Это убеждение привело его и других за пределы традиционного пути к спасению в христианском монотеизме, который, как они заявляли, предлагал ключи к моральному и духовному искуплению Китая» [Bohr 1985, с. 46].
Влияние
Цюапьши лянъянъ на движение тайпинов не ограничивалось многократно повторяющимся выводом о том, что китайское общество в результате затянувшегося морального кризиса зашло в тупик, возвещающий близкую смену династий
[74]. По мнению Ф.Куна, еще более важным было смешение Небесного и земного царств. «Например, библейское понятие „Царствие Небесное“ (переданное как
Тянъго) относилось как к краю благо–oiOBeHifbix после смерти, так и к конгрегации верных на земле. Через всю работу прошло смешение библейского материала, подсказывающее, что приход Мессии был не столько случившимся некогда в прошлом историческим событием, но скорее апокалиптическим мировым кризисом, могущим произойти любое количество раз» [Kuhn 1978, с. 267–268].
«Откровение» Хун Сюцюаня
Вместе с тем попытки вывести содержание тайпинской идеологии непосредственно из книги Лян Афа, равно как и из любого другого письменного источника, наталкиваются на противоречивую проблему оценки «откровения» — сложного набора видений, пережитых Хун Сюцюанем в 1837 г. в ходе вызванной нервным потрясением болезни. После провала на экзаменах Хун более месяца находился в бессознательном состоянии, в это время его внутреннему взору открылись образы Небесного царства и его обитателей. Когда в 1843 г. Хун Сюцюань в очередной и последний раз провалился на экзаменах, он прочел лежавшую у него дома книгу Лян Афа. Она произвела на него сильное эмоциональное впечатление, ибо на сей раз Хун получил в ней ключ к пониманию ранее пережитых мистических видений, которые были истолкованы им в христианском ключе.
В изложении Хун Жэньганя, написанном в 1852 или 1853 г., первое соприкосновение Хун Сюцюаня с христианством произошло Кантоне в 1836 г., когда таинственный человек «в платье с длинными рукавами и волосами, завязанными узлом» дал ему книгу Цюаньши ляпъянь. «Когда Хун впоследствии заболел, его душа видела именно то, о чем говорилось в книге. Поэтому он последовал учению этой книги и поступал соответственно». [Michael 1971, vol. 2, doc. 1, с. 3–4]. Исследователи полагают, что Хун Сюцюань мог ознакомиться с книгой Лян Афа в Кантоне во время второй попытки сдать экзамен на ученую степень. Ф.Кун относит это событие к встрече Хун Сюцюаня с зарубежными миссионерами, предположительно с американцем Эдвином Стн* венсом (см. [Kuhn 1978, с. 267]). Хун мог поверхностно ознакомиться с книгой еще до болезни, в ходе которой его вышедший из–под контроля разум рождал фантастические картины, отражавшие запечатлевшиеся где–то в глубинах подсознания библейские образы.
Дж.Спенс предположил, что видение Хун Сюцюаня о Небесах связано с ветхозаветными образами разрушения (Потоп, Содом и Гоморра), почерпнутыми из книги Лян Афа (см. [Spence 199G, с. 48]). Вполне возможно, что явившиеся Хун Сюцюаню в виде «откровения» образы небесного правителя с золотой бородой, живущего на небесах Старшего Брата, битва с демоном Яньло были преломленным с китайских позиций отражением почерпнутых из книги Лян Афа сведений о Боге–Яхве, Иисусе и библейском змие–искусителе; сцена небесного наказания Конфуция также могла быть навеяна критикой Лян Афа в адрес конфуцианской морали. Однако для самого Хун Сюцюаня эта последовательность была обратной — он полагал, что получил во сне божественное «откровение» и что пройденные им в.его видениях на небесах очистительные ритуалы были предшественниками земного крещения. Отметим, что небесное «обновление» Хун Сюцюаня очерчено в предельно физическом смысле — если в христианстве обращенный в веру человек преображается силой Святого Духа и Божественной благодати, то в «откровении» Хун Сюцюаня по прибытии на Небо ему попросту взрезали живот, выпустили все внутренности и заменили их на новые (см. Тайпин тплньжи, [Michael 1971, vol. 2, doc. 17, с. 54]).
Рассказ Хун Сюцюаня о своем восхождении на Небо в 1837 г. в изложении его старших братьев, официально опубликованном тайпинами в 1860 г., описывает не только оказанные ему на Небесах официальные почести наподобие торжественной встречи небесным воинством и прекрасными девами v ворот, момента получения от Отца и Старшего Брата мандата на правление миром и его богатствами, но и ход битвы с демонами при активной помощи Старшего Брата Иисуса. На вопрос Хун Сюцюаня о том, почему дозволяется существование демонов на земле, Небесный Отец отвечает, что демоны заполонили не только весь мир, но и все тридцать три уровня Неба, что является типичной буддистской метафорой. Далее выясняется, что если изначально Небесный Отец до поры до времени хотел оставить демонов в покое, то после разговора с Хун Сюцюанем он соглашается с тем, что зло вредоносно и нетерпимо, и потому «младший сын» получает приказ начать с ним сражаться (см. [там же, с. 56]). Самый радикальный вывод, сделанный Хун Сюцюанем из сопоставления «откровения» и христианской проповеди Лян Афа, гласил, что «раз Иисус есть Сын Божий и одновременно старший брат Хуна, то сам Хун Сю–цюань является китайским сыном Бога» [Spence 1996, с. 65].
Примечательно, что в «откровении» Хун Сюцюаня предводителем нечистой силы оказывается демон Яньло (ямараджа, или Владыка ада, — буддистское божество подземного мира), называемый простыми людьми также демоном–драконом Восточного моря. В более позднем комментарии к Апокалипсису (Отк. 9:11) Хун Сюцюань сослался на упоминание об «ангеле бездны» по имени Аваддон (кит. Ябадунъ 55 Б Ш) > заметив, что это иностранное произношение, из которого можно понять, что это и есть демон Яньло (см. [Michael 1971, vol. 2, doc. 41, с. 230]). Его предположение о тождестве демона Яньло, Дракона Восточного моря, Аваддона и апокалиптического «красного дракона» (Отк. 12:3) дает основания для постановки вопроса о существовании у тайпинов предрасположенности к библейскому фигурализму в ходе сравнительного истолкования китайской древности и христианских образов. Картина сражения напоминает китайские истории о небожителях — пока «младший брат» поражал демонов мечом с названием «Снег–в–облаках», Старший Брат ослеплял их блеском золотой печати, полученной от Небесного Отца. Примечательно, что Небесный Отец запретил «братьям» брать змия в плен, так как в этом случае проглоченные им человеческие души лишились бы шанса на спасение, а святость Небес была бы осквернена. После сражения полчища демонов были покорены, частично обезглавлены, частично загнаны в восемнадцать уровней ада, также имеющего явно буддистское происхождение. В дополнение Небесный Отец пожелал покарать за злодеяния тех, кто помогал демонам утвердиться в этом мире.
В более поздние (составленные после 1847 г.) описания своих видений 1837 г. Хун Сюцюань добавил сцену небесного осуждения Конфуция и конфуцианских текстов. По его словам, Небесный Отец порицал Конфуция за неправильные учения и по> ставил тому в вину побуждение демонов к совершению зла. Древний мудрец был обвинен в том, что учит людей вести дела таким запутанным и беспорядочным образом, что люди на земле не знают о Боге, которого Конфуций заслонил своей известностью. Все основные члены Небесной Семьи приняли участие в осуждении «учителя десяти тысяч поколений». После Небесного Отца в разговор вступил Старший Брат Иисус, обвинивший Конфуция в создании для людей таких плохих книг, что они смогли нанести вред даже его «младшему брату» Хун Сюцюаню, при этом вина Конфуция была подтверждена всем ангельским воинством. Сам «младший брат» Хун Сюцюань, перед этим в земной жизни провалившийся на экзамене на знание конфуцианских текстов, поставил под сомнение саму способность Конфуция к написанию книг. Конфуций, начавший было спорить с Небесным Отцом, замолчал; видя же, что на Небесах его объявили виновным, он бежал на землю, чтобы стать предводителем демонов. По приказу Небесного Отца ангелы доставили его связанным обратно на Небо, где после порки Конфуций пал на колени перед Старшим Братом и просил о пощаде. Небесный Отец,доброта и терпение которого в видениях Хуна были более обширны, чем у Старшего Брата, принял во внимание заслуги Конфуция и разрешил ему разделить добрый удел Небес без права возвращения на землю (см. [там же, doc. 17, с. 57]). Эта причудливая история в определенном смысле может трактоваться чудливая история в определенном смысле может трактоваться аллегорически — как одна из форм критической аккомодации конфуцианства народным христианством в XVIII–XIX вв. В ней присутствует как безоговорочное объявление Конфуция предводителем антихристианских демонов, так и частичное признание его прошлых заслуг без права «возвращения на землю» Китая после появления на ней христианства. Новизна движения тайпинов состояла в том, что попытка уничтожить иноземную «демонскую» династию дополнялась попыткой «заменить конфуцианскую этику собственным религиозным учением и положить конец традиционной автономии морального и социального порядка» [Michael 1966, vol. 1, с. 7].
Отметим, что в рядах сподвижников Хун Сюцюаня не раз возникало желание вернуть конф)тдианской классике более высокий статус. В 1854 г. Ян Сюцин от имени Бога обратился с призывом изменить подход к конфуцианским текстам, поучающим сыновней почтительности и верности властям. Поскольку эти книги защищают небесные чувства и истину, невозможно стирать из памяти имена героев и высокоморальных людей, которых Бог посылал в прошлом на землю, уничтожать конфуцианские книги. «Утверждая, что определенные стержневые ценности китамского прошлого сохранены на вечные времена в конфуцианской классике… Ян нанес удар в сердце учения, которое Xyii Сюцюань проповедовал многие годы» [Spence 1996, с. 226]. Лишь на закате движения тайпинов,во время запоздалых попыток реформ и примирения их учения с традиционной китайской культурой, проведенных Хун Жэньганем, в 1861 г. было признано, что Небесный Отец решил, что книги Конфуция и Мэн–цзы не должны отбрасываться, ибо многое в них находится в гармонии с небесными принципами (см. [Michael 1971, vol. 3, doc. 208, с. 883])·
Сообщения в «Небесной хронике тайпинов» (Тайпии тянь–жи) о визите Хун Сюцюаня на Небеса указывают на сохранение им традиционных представлений — к примеру, отношения в небесном семействе построены по образцу типичной китайской семьи. Помимо Отца и Старшего Брата Хун Сюцюаня там встретила Небесная Мать, которая с любовью позаботилась о «сыне» по его прибытии, омыв его в реке, чтобы очистить от грязи мира перед визитом к Небесному Отцу. Добрая и заботливая, она поднесла «младшему брату» сладкие желтые небесные фрукты, когда он проголодался во время битвы с демонами. Когда Старший Брат пришел в ярость из–за того, что Хун Сюцюань медленно учил псалмы, за него заступались Небесная Невестка (супруга Старшего Брата — Иисуса) и любящая Небесная Мать.
Образ Бога–Отца в описании Хун Сюцюаня также непривычно детален: «Мой Отец очень большой и высокий. Он носит одежду с вышитым черным драконом. Его золотая борода длинна и доходит до пупа»[Michael 1971, vol. 2, doc. 2, с. 16]. Небесный Отец носит шляпу с высокими полями, он внушает страх и уважение одним своим видом
[75]. Помимо поучений «младшему сыну» Хун Сюцюаню о больших делах, связанных с уничтожением заполонивших мир демонов и возвращением людей к Богу, Небесный Отец неоднократно наставлял его элементарным нормам этикета— у сидящего одежда должна быть опрятной, голова поднятой, спина прямой, руки должны лежать на коленях, пятки вместе, носки врозь и т.д. (см. Тайпин тяньжи, [Michael 1971, vol. 2, doc. 17, с. 55]). Хотя все это звучало бы вполне нормально для китайскою отца семейства, для поучений Бога это выглядит слишком призем–ленно — впрочем, немало внешне схожих наставлений может быть найдено в тексте ветхозаветного Пятикнижия Моисеева.
Тайпинские источники использовали историю о небесном «откровении» для того, чтобы дополнительно подчеркнуть исключительные нравственные качества Хун Сюцюаня — в 1837 г. ему было лишь 25 лет, но он продемонстрировал настоящую супружескую верность, ведь когда он прибыл к Небесным вратам на поддерживаемых ангелами носилках, «прекрасные девы без числа пришли навстречу, чтобы встретить его, но суверен не взглянул на них даже мельком» [там же, с. 53–54]. Тем не менее после завершения битвы с демонами Хун живет на небесах со своей женой, Первой Главной Луной, от которой у него на небесах родился сын. Более того, Старший Брат Иисус, строгий и нетерпеливый по отношению к «младшему брату», также имеет на небесах жену
[76]. Когда по воле Небесного Отца «младший брат» с большим нежеланием покинул небеса и отправился на землю, он оставил свою небесную жену и ребенка на попечение Отца, Матери, Старшего Брата, его жены и всех «младших сестер»
[77] [там же, с. 61].
В дальнейшем интерпретация христианской общины как одной большой семьи стала основой политической системы тай–пинов. «Эта концепция также хорошо вписалась в китайскую традицию, предоставив оправдание новому порядку, который нужно было создать. Поскольку Хун нашел на небе копию китайской семейной системы с женами и невестками у каждого, ему было нетрудно вписаться в эту систему в роли младшего брата Иисуса Христа и повести за собой более широкую общину верных на земле» [Michael 1966, vol. 1, с. 33].
Кажущаяся несерьезность и даже, с точки зрения строгого христианского наблюдателя, богохульность этих видений нико–им образом не принижает их значимость для понимания дальнейшего развития религиозной мысли Хун Сюцюаня. Именно в этих образах коренится существенная для религии тайпинов идея всемогущего Бога —Творца и Воителя, сражающегося с демонами и посылающего на битву с ними своих сынов. Небесный Отец Хун Сюцюаня соединяет в себе черты иудейского Бога Яхве и ветхозаветных патриархов, при этом в самом описании его видений, как отметил некогда Д.Позднеев, «наблюдатель легко увидит сходство с выступлением на деятельность ветхоза–ветных пророков Исайи, Иеремии и Иезекииля» [Позднеев 1898, с. 16]. Как это уже случалось в ходе культурных контактов Китая и Запада, образ ветхозаветного Яхве легко наложился на унаследованную китайцами из глубокой древности память о всемогущем Боге (Шанди). В эту картину вплелись образы сынов Небесного Отца, резонирующие как с традиционным представлением об императоре — «Сыне Неба», так и с новозаветным учением о Спасителе — Сыне Божием. Хун Сюцюань не был смущен тем, что его проповедь «многодетности» Небесного Отца вошла в явный конфликт с Библией, — для вождя тайпинов христианство было прежде всего религией битвы Небесной Семьи, членом которой он себя ощутил, с полчищами демонов, принявших в его время земной облик маньчжурских правителей–варваров.
Положив в основу своей теологии почерпнутое из «откровения» антропоморфное представление о Небесах и Боге, Хун Сюцюань создал детализованную картину Небесной Семьи и существующих внутри нее отношений. Включение Хун Сюцюанем самого себя в семью, состоящую из Небесного Отца, Небесной Матери и Небесного Старшего Брата, имевшего Небесную Невестку, возможно объяснить мирскими потребностями и политическими претензиями вождя тайпинов на власть, которые не обходимо было подкрепить легендой о своем сакральном статусе. Если же взглянуть на проблему с точки зрения процессов китаизации христианства, то можно заметить, что «очеловечивание» Небесного Царства имело своей обратной стороной духовную сакрализацию власти земной, что по–новому утверждало божественную власть китайского властителя с опорой на понятия монотеистической религии. Пропаганда Хун Сюцюанем положений христианства после ознакомления с Цюаньши лянъянъ вряд ли строилась на голом расчете использовать религию в социально–политических целях: его уважение к работе Лян Афа, неприятне чужих критических замечаний относительно ее содержания и эмоциональная реакция на описанные библейские сюжеты (наподобие переживания по поводу возможности повторения Потопа) свидетельствуют об искренности его религиозной веры (см. Ван Цинчэн 1985, с. 12–13]). Р Ковелл, к примеру, выдвинул предположение, что «человеческая и семейная трактовка» Бога Хун Сюцюанем была специфическим способом утверждения человеческой природы Божества в противовес доминировавшему среди китайской образованной элиты акценту на безличностном высшем принципе вселенной (см. [Covell 1986,с. 160]).
Ф.Кун отмечает, что «работы Хун а 1840–х годов ясно указывают, что он видел свою задачу в обращении китайского народа в христианство, что должно произойти исключительно через революцию духа и без участия каких–либо земных институтов… наилучшнм образом обращение может быть осуществлено через примирение христианства с конфуцианской традицией. Его писания 1840–х годов передают христианство как всего лишь поклонение Иегове, отказ от идолопоклонства и чистую жизнь Он почитал за зло вседозволенность, непочтительность к родителям, убийство детей н азартные игры — знакомые объекты конфуцианского морализма. Длннная поэма призывает к „правильности “ поведения, используя термин чжэн, конфуцианский эпитет, подразумевающий ортодоксальность и прямоту. Хотя эти работы несут определенный апокалиптический тон, он вполне сопоставим с тем, что присутствовал в конфуцианском утопизме. В отличие от Лян Афа, Хун Сюцюань был продуктом стандартной литературной подготовки кандидата на степень и еще не полностью преодолел глубоко укорененное убеждение о себе как о носителе высшей ортодоксальной культуры. Политизация его видения и усвоение бунтарского тона Цюаньши ляпъянь начались не ранее, чем откровения Хуна твердо укоренились в осажденных общинах хакка в Гуанси» [Kuhn 1978, с. 269].
Вместе с тем такая «конфуцианизированная» оценка проповеди Хун Сюцюаня данного периода не является единственной. Крупнейший философ и историк философии Китая XX столетия Фэн Юлань, обратившийся в 1980–е годы на склоне лет к проблемам оценки таипинского движения, отмечал, что наиболее полным образом религиозные идеи Хун Сюцюаня были выражены в ранней работе Юань дао цзюэ ши сюнь (Поучение для побуждения людей вернуться к пути–дао), относящейся к периоду 1845–1846 гг. Именно в ней появляются идея единобожия и образ «демона Яньло», олицетворяющего совокупность низших сил из китайской религиозной традиции, вера в которых несовместима с верой в Бога. Отождествление «демона Яньло» с ветхозаветным змием–искусителем «свидетельствует о том, что Хуи Сюцюань отошел от материала традиционной мысли и сделал непосредственным основанием своих суждений западную Библию. Тем самым он полностью порвал с традицией китайской культуры» [Фэн Юлань 1989, с. 61].
После осознания в 1843 г, христианской подоплеки своих видений Хун Сюцюань и его сподвижники самостоятельно крестили друг друга; в последующие несколько лет ими были написаны важные доктринальные тексты, оказавшие значительное влияние на становление тайпинского движения. Лишь в 1847 г. Хун Сюцюань и Хун Жэньгань обратились за наставлениями к американскому баптистскому проповеднику Иссахару Робертсу (1802–1871), чья миссионерская работа в Китае началась в 1837 г. в Макао. Когда Хун Сюцюань пришел к нему и рассказал о своих видениях, то, как позднее вспоминал сам миссионер, его охватило недоумение, не прошедшее и впоследствии, относительно того, откуда Хун Сюцюань мог их почерпнуть без глубокого знания христианской литературы (см. [Clarke 1982, с. 19]). Под руководством Робертса Хун Сюцюань изучал Библию (предположительно, по переводу Гуцлаффа). Уайли сообщает, что Хун Сюцюань проучился у Робертса в 1847 г. несколько недель, но «ушел без получения крещения по причине желания г–на Робертса отложить обряд» [Wylie 1867,с. 95]. Причиной их разрыва обычно называют провокационное вмешательство одного из китайских помощников Робертса,который испугался, что Хун будет претендовать на его место. По одной версии, тот подговорил Хун Сюцюаня попросить у Робертса денег, после чего миссионер отказал слушателю в доверии и не стал его крестить (см. [Spence 1996,с. 93]). По другой версии, китайский помощник Робертса приватным образом сказал Хуну, что тот должен заплатить миссионеру перед крещением пять долларов. «Хун в неве–денни направился с деньгами к миссионеру, который пришел в такое же негодование, как Петр, когда к нему обратился Симон Волхв (Деян. 8:18–24), и, возможно, использовал тот же язык для порицания. Сам Робертс сказал, что отложить обряд его заставило нечто сказанное ему кандидатом относительно работы после крещения. Он сожалел об инциденте, но возлагал большие надежды на последующее движение» [McNeur 1934, с. 76–77].
Терминология
После первой победы армии тайпинов над правительственными войсками в провинции Гуанси в 1851 г. Хун Сюцюань провозгласил новую династию под девизом Тайпин Тянъго (Небесное Царство Великого Спокойствия). Это наименование соединило воедино китайское понятие о «Великом Мире–спокойствии» из комментаторской традиции Гунъян к тексту летописи Чунь цю и библейское новозаветное понятие о Царствии Небесном — Тянъго,
В этой терминологической инновации возможно выделить воздействие на Хун Сюцюаня текста книги Лян Афа, где при переводе фрагмента Евангелия от Луки (Лк. 2'13–14) о рождении Иисуса во фразе «слава в вышних Богу, и на земле мир, и во человеках благоволение» слово «мир» было переведено как
viaiinun. «Отсылка к эре Великого мира
тайпин в устах ангела в момент рождения Иисуса соответствует другому пассажу, в котором Лян Афа разъясняет понятие
Тянъго— Царствие Небесное. Лян показывает, что оно может быть использовано двояко — с одной стороны, как указание на вечное счастье в раю, которым будут наслаждаться души праведных людей после физической смерти; с другой — как единение в этом мире, образованное общиной тех, кто верит в Иисуса и поклоняется Небу» (см. [Spence 1996, с. 57–58]). Большинство исследователей согласны с тем, что
Тянъго из названия повстанческой династии есть христианское «царствие Небесное», но
таипин характеризуется одновременно и как часто встречающееся в Евангелии слово «мир»
[78], и как третий последний утопичный век из комментариев к
Чунъ г^ю (см. [Boardman 1952, с. 116]).
Всеобщность поклонения Богу (Шанди) была фундаменталь–ным постулатом Цюаныии лянъянъ, унаследованным тайпинами. Как отмечают современные исследователи, процесс китаизации христианской доктрины в деятельности тайпинского «Общества поклонения Шанди» (Баи Шанди хуэй) проявился прежде всего в отождествлении Бога (Шанди) и Небес (Тянь), а также в их смешении с понятием о единственном истинном Боге (ду и чжэнъ Шэнь Щ — ЩЭДО (см. [Ван Цинчэн 1985, с. 59]). Такое смешение было полезным для облегчения усвоения тайпинского учения простыми людьми, которым было проще воспринимать понятие о властвующих над их судьбами Небесах (Тянь), что отчасти помогало снять с вероучения тайпинов «иностранный» оттенок.
В работе Лян Афа Бог чаще всего именовался как шэнь пьянь Шанди (божественный небесный Всевышний владыка).
В работах Хун Сюцюаня периода 1844–1848 гг. ключевая религиозная терминология не претерпела значительных изменений по сравнению с Цюаныии лянъянъ, за исключением замены сочетания шэнь пьянь Шанди на Шанди. Сам Лян Афа использовал в своей работе также и цитаты из древнекитайской классики, иллюстрирующие мощь и величие Шанди, с тем чгобы передать идею христианского шэнь тянь Шанди. Хотя этот Бог и чужестранный, поклонение ему обеспечивает в обществе порядок и процветание, о котором издревле мечтали китайцы, в терминологии Лян Афа это «чистый спокойный хороший мир» (цин пин хао шицзе ГЙТЙ? ) [там же, с. 279]. Та же связка между верой в Шанди и социальным процветанием сохраняется и у Хун Сюцюаня, недовольного «непрямотой» (бу чжэн) современного ему общества. Можно заметить, что связь легендарного процветания Трех династий китайской древности с поклонением Шанди, признанная Хун Сюцюанем, широко присутствовала в интерпретациях китайского культурного наследия как ранними иезуитами, так и протестантами XIX в.
Ученые по–разному определяют источники использованных тайпинами наименований Бога
[79]. По мнению Ю.Бордмана, присутствующие в напечатанных тайпинами ветхозаветных текстах имена
Шанди,
хуан Шанди (августейший Шанди) и
Тяньфу Шанди (Небесный Отец Всевышний Владыка) заимствованы из китайской Библии Гуцлаффа (1847 г.). «Библия тайпинов и ранняя редакция Гуцлаффа ограничивают обращения к Божеству именами
Шанди или
хуан Шанди» [Boardman 1952, с. 55–56], при этом Бордман замечает, что тайпины полностью проигнорировали присутствующее в Библии Моррисона сочета ние
Шэньчжу (Дух–Господь). Изучая изданную тайпинами книгу Бытия, миссионер Медхерст обнаружил, что обозначение Бога как
Шанчжу хуан Шанди 上主皇上击(Всевышний Господь, августейший Всевышний Владыка) очевидным образом заимствовано из перевода Гуцлаффа (Быт. 2:4 и др.). Он предположил, что в этом сочетании
Шанчжу было синонимом понятия «Господь», а
хуан Шанди — «Бог». Понятие
Шанди, использовавшееся Гуц–лаффом для передачи высоты Бога, использовалось тайпинами повсеместно, равно как и
шэнъ для понятия «боги» в том случае, если Всемогущий не упоминался. Медхерст пришел к выводу, что тайпины сделали перевод книги Бытия Гуцлаффа своим учебником (см. [Shih 1967, с. 148–149; Boardman 1952, с. 55]).
С этой точкой зрения спорит Ван Цинчэн: «Хун Сюцюань и тайпины действительно китаизировали Шанди, однако эта ки–таизация началась не с Библии в переводе Гуцлаффа, а с отождествления при чтении Цюаньши лянъянь Хун Сюцюанем Шанди Лян Афа и древнекитайского Шанди» [Ван Цинчэн 1985,с. 294–295], ставших двумя основными источниками его представлений о Шанди. Хун Сюцюань заимствовал терминологию как из раннего исправленного издания Библии Медхерста — Гуцлаффа, так и из работы Лян Афа, основанной на библейском переводе Моррисона. По мнению китайского исследователя, сочетание хуан Шанди восходит к древним китайским текстам Шап шу и Ши цзин, а в текстах Хун Сюцюаня оно обнаруживается уже в 1845 г., т.е. до прочтения им в 1847 г. Библии Гуцлаффа у Робертса в Гуанчжоу. Если источником понимания Бога как ШанЪи для тайпинов были текст Цюапьши лянъянь и наследие традиционном китайской культуры, то можно сделать вывод, в соответствии с которым важнейшим поворотным пунктом для христианизации «откровения» Хун Сюцюаня стала доступность в то время протестантского употребления Шанди как именования Бога. Не исключено, что Хун Сюцюань просто «не узнал» бы христианского Бога под чуждым китайской традиции именем Тяньчжу, которое пропагандировали католики.
В Цюауьгии ляпшпь Лян Афа более всего использовал сочетания шэпьтянъ Шанди (дух неба Шанди) и гитьтянь, однако слово Шанди присутствует в тексте лишь два раза. Хун Сюцюань и Хун Жэньгань в ранних работах использовали для именования Бога сочетания Тяньфу (Небесный Отец) и Чжэныиэнъ (истинный Бог–Дух), но под явным влиянием Цюаньши ляпъянь, смешанным с китайской традицией, они начали использовать Шанди и Тянъ, использовались и заимствования из Шу цзина и Ши цзина, такие, как вэи хуан. Шанди (единственно августейший Шанди), хуан и Шанди и Шанди шихуан .¿ФйЦ. В 1845 г. Хун Сюцюань использовал хуан Шанди и вэи хуан Шанди одновременно (см. [там же, с. 298]).
Вместе с тем в переизданном тайпинами фрагменте протестантской миссионерской работы Медхерста католическое имя «Небесный I осподь» (Тяньчжу) признается адекватным для передачи имени Бога, а понятие «духТосподь»(Шэнъчжу) оценено как подходящее, но с оговоркой, что оно никак не связано с табличками предков. Наилучшим было признано сочетание Шанди, а неприемлемыми для имени Бога названы Яшмовый император (Юйхуан Шанди) даосов, сочетание «Небо и земля» и «духовная просветленность» (шэньмин) (Тянъли яолунъ, [Michael 1971, vol. 2, doc. 49, с. 351–352]). Признание тайпинами получения добродетели от Неба дало основания для замечания о том, что тайпин–ское спасение выглядит в основе своей конфуцианским, несмотря на декларируемое отвращение к Конфуцию (см. [Covell 1986, с. 165]). Однако при этом Небо (тянъ) было для тайпинов чем–то большим, нежели просто безличностным принципом, как это считалось в конфуцианской ортодоксии той эпохи.
Можно сказать, что лидеры тайпинов проходили через спор о терминологии параллельно с иностранными миссионерами, искавшими наиболее подходящее китайское имя для христианского Бога. Разница между ними состояла прежде всего в том, что тайпины не спорили, а издавали указы, особенно в тех случаях, когда это касалось имен светских властителен. Важно подчеркнуть, что намеченный тайпинами путь культурной адаптации христианства совпадал прежде всего с миссионерскими разработками протестантов. Сделанный китайцами при отсутствии прямого духовного наставничества со стороны иностранцев выбор в пользу Шанди дает основание для вывода о культурной приемлемости данного пути адаптации христианства.
Присутств ющее в таипинской литературе имя Шэнье (Бог–Отец) произошло из неточного понимания имени Шэнь Ехохуа (Бог–Иегова), найденного Хун Сюцюанем в Библии Моррисона. Незнакомый с библейской терминологией, Хун разделил эти иероглифы по–иному, в результате чего у него получилось «Бог–Отец Шэнье [по имени] Хохуа». Исследовавший теологию и терминологию тайпинов в середине XIX в. В.Медхерст также пришел к выводу, что использовавшееся имя Шэнье (Божественный Отец) восходит к ошибочному истолкованию встречающегося в первом томе работы Лян Афа сочетания «Бог Иегова» (Шэнь Ехохуа). Медхерст предположил, что таипины по незнанию поняли это сочетание как «Бог–Отец Хохуа» (Шэнье Хохуа), не восприняв иероглиф е как часть имени Бога. С точки зрения споров о китайском имени Бога кажется весьма ироничным, что в качестве табуированного имени тайпины утвердили миссионерскую иероглифическую транслитерацию Ехохуа (Иегова), достаточно случайную и не имевшую глубокого отношения к китайской культурной традиции.
Наложенный тайпинами запрет на использование всех трех иероглифов имени Бога указывает, что они понимали их принадлежность к имени Бога, тогда как в сочетании шэнье иероглиф еШ выступает сокращением Ехохуа (см. [Shih 1967 с. 149]). В тайпинском изложении «откровения» 1837 г. подчеркивалось, что после победы над демонами Небесный Отец дал Хун Сю–цюаню имя Цюань — «полный, завершенный», указав на то, что его старое имя Хосю содержало первый иероглиф хо— огонь», что нарушало запрет на использование иероглифов, входящих в имя Бога (Тайпин шяньжи [Michael 1971, vol. 2, doc. 17, с. 59) После этого «младший брат» изменил свое имя с Хун Хосю на Хун Сюцюань, объединив второй оставшийся от его старого имени иероглиф с тем, который дал ему Небесный Отец. Такая интерпретация иероглифики имени христианского Бога «подтверждала» богоизбранность не только самого Хун Сюцюаня, но и Китая, ставшего после Израиля родиной второго богоизбранного народа. Это обосновывалось не только тем, что старшин сын Бога воплотился в Иудее, а младший — в Кантоне, но тем, что второй иероглиф из сочетания Чжунхуа (срединная и цветущая), обозначающего Китай, также входит как последний иероглиф в имя Бога Ехохуа (см. [Shih 1967, с. 6]). В тайпинской прокламации 1861 г. эта игра слов обрела более определенное религиозно–политическое содержание: Хун Сюцюань с определенностью заявил, что Небесный Отец по воле своей поместил Небесное Царство не где–нибудь, а именно в Китае (Чжунхуа), где оно находилось изначально. Более того, Китай был назван Китаем вслед за именем Бога, и он принадлежал Богу еще до его схождения в мир. Хун Сюцюань объяснил, что именно поэтому гнев Бога на маньчжуров, похитивших у него его Царство, так велик и именно поэтому Бог решил послать его, своего «младшего сына», на землю для их истребления (см. [Michael 1971, vol. 3, doc. 225, с. 940]).
В 1851 г. Хун Сюцюань провел дальнейшее уточнение наименований, оставив употребление знака
ди (Владыка, император) исключительно для обращения к Богу–Отцу
[80]. Сам вождь тайпи–нов принял при этом титул «Небесного вана». Было постановлено, что Старший Брат Иисус и сам Хун Сюцюань могут именоваться иероглифом
чжу (господин–Господь), но не
ди, поскольку никто так не велик, как Отец Иисуса (см. [Spence 1996, с. 92]). Примечательно, что данное «послание» было передано Хун Сю–цюаню через обретшего дар глоссолалии сподвижника Сяо Чао–гуя, который вещал от имени Иисуса. В
Тайпин чжаогиу было зафиксировано, что «Бог есть единственный император
(ди), правители этого мира могут называться
ван, и только» [Michael 1971, vol. 2, doc. 10, с. 46]. В том же году был отменен почетный титул «царственных отцов»
(ван е), под которым они (Хун Сюцюань, Ян, Сяо, Фэн, Вэй и Ши Дакай) были известны ранее, чтобы избежать употребления знака
е из божественного имени
Ехохуа. Хун Сюцюань провозгласил, что к нему никогда нельзя обращаться как к
ди, «высшему»
(шан) или «святому»
(шэн), но только как к «суверену»
(чжу), тогда как слово правитель–вак будет использоваться не для всех смертных, но лишь для избранных тай–пинов (см. [Spence 1996, с. 143–144]). Чтобы подчеркнуть особый статус этих правителей, все отсылки в тайпинских текстах к тем, кто именовался
ваном или правителем, должны были писаться с ключом «собака» с левой стороны (в обычном использовании это иероглиф
куан — «жестокий»). Слова «солнце» и «луна» также должны были писаться в измененной форме, а изначальные знаки во всей их чистоте были зарезервированы для самого Хун Сюцюаня и его Небесной Жены (см. [там же, с. 183]).
Составители тайпинских текстов хотели, чтобы Небеса ( тпянь) были указанием на Бога, «однако в процессе использования этого знака он выражал и другой смысл» [Ван Цинчэн 1985, с. 290], синонимичный в китайском культурном контексте природе в целом. В 1853 г. Хун Сюцюань распорядился о том, чтобы Ян Сюцин отныне считался «Святым ветром–духом» (шэн шэнъ фэн) и «утешителем», сославшись на полученное в 1837 г. во время путешествия на небо указание Небесного Отца провести установления ванов в соответствии с небесными или природными символами (шан ин тянь сян _L£E^^) — На основании этого Небесный ван Хун Сюцюань был соотнесен с солнцем, Восточный ван Ян Сюцин —с ветром, Западный ван Сяо Чаогуй — с дождем, Южный ван Фэн Юньшань —с облаками, Северный ван Вэй Чанхуэй — с громом, Союзный ван Ши Дакай — с молнией. Такое деление не имеет христианских корней и указывает «на проведенную тайпинами политическую конкретизацию древнекитайского поклонения силам природы» [там же, с. 292]. Понятие о «небесных символах» было также связано с древней гадательной практикой, а это свидетельствует о том, что в голове Хун Сю–цюаня Бог Иегова «соединился с китайской культурой и религиозными суевериями» [там же, с. 293].
Несмотря на внешнее стремление тайпинов освободиться от бремени старых суеверий, процесс расставания с «идолами» китайской древности был сложным и запутанным. К примеру, в официальной тайпинской декларации 1852 г. Тайпин чжаошу подчеркивался целый ряд культурно значимых религиозных вопросов. Во–первых, в ней заявлялось, что Бог один для всех людей и всех народов, а в самом Китае «от времен Пань–гу до Трех династий правители и люди почитали Августейшие Небеса» [Michael 1971, vol. 2, doc. 10, с. 25, 43]. Лишь в позднейших изданиях Тайпин чжаошу было исключено сообщение о прямоте Вэнь–вана и Конфуция, из–за которой их душам было позволено продвигаться вперед и отступать в присутствии Бога (см. [там же, с. 31]). По–видимому, сперва у тайпинов возобладало желание сохранить формальные символы китайской цивилизации, однако потом текст был приведен в более жесткое соответствие с монотеистической идеологией. Другое положительное упоминание о доциньских мудрецах приводилось ими в контексте описания идеальной древности — когда люди были едины, как одна семья, Конфуций и Мэн–цзы ездили на своих повозках, не делая различия между «этим царством и тем царством», что указывало на единство и равенство всех наций перед Богом (см. [там же, с. 35]).
Тайпины спорили с утверждениями современников о том, что властитель ада определяет жизнь и смерть людей, подчеркивая, что за этой маской кроется все тот же обманщик–змий, искушающий людей, чтобы уловить их души. Причину появления рассуждений о власти хозяина ада над жизнью и смертью, отсутствующих как в китайской классике, так и в иностранных священных книгах, тайпины объяснили деятельностью извращенных последователей буддизма и даосизма. Как примеры связанных с этим заблуждений ими упоминались Цинь Шихуан с его поиском трех чудесных гор в Восточном море и опыты ханьско–го императора У–ди по поиску философского камня. Тайпины поучали, что дождь вызывает не Дракон Восточного моря, который тождествен властителю ада, а Небеса, о чем свидетельствуют как древние китайские классики, так и Ветхий Завет (см. [там же, с. 38–40]).
Тайпины сетовали, что хотя Бог посылает благословения на всех людей, те не перестают поклоняться идолам (прежде всего Будде) и просить у них защиты и покровительства. Три династии охарактеризованы как переломный период распространения веры в демонов, когда поклонение Богу еще сохранялось. Ответственность за распространение веры в духов, бессмертных и всякие странности возлагалась на Цинь Шихуана, начиная от династии Цинь и Хань бесчисленное число людских душ было повреждено или разрушено властителем ада. В другом тайпин* ском документе отпадение Китая от милости и доброты Небесного Отца прямо связывалось с ростом влияния даосизма при династии Цинь и буддизма при династии Хань (см. [там же, doc. 50, с. 371])
[81].
Поскольку тайпины не могли изменить общих требований к процессу адаптации иностранной религии в контексте китайской цивилизации, им пришлось исходить из того, что в начале времен, когда Бог сотворил мир, китайцы шли одним пупем с «варварскими» народами, почитая Бога истинного. Это продолжалось вплоть до Трех династии, а начиная с Цинь почти две тысячи лет Китай шел по ложному пути демонов. Отвечая на вопросы, связанные с культурно–цивилизационной и институциональной адаптацией христианства, они подчеркивали, что лишь демоны могут утверждать, что поклонение Богу является исключительной прерогативой императора, ибо это все равно что позволять лишь старшему сыну в семье быть почтительным к отцу. Равным образом упреки в «варварско» — иностранном характере христианства снимались постулатом о том, что поклонение Богу было в древности общим для всех народов (Тяньтяошу, см. [там же, doc. 24, с. 113–114]).
Тексты и интерпретация
Особый интерес представляет тема издания тайпинами текста Библии и сопутствовавшая этому работа по его редактированию и комментированию. Тайпины не создали собственного перевода Писания на китайский язык, их издания были основаны прежде всего на варианте Гуцлаффа. Существуют разные версии об источнике получении тайпинамн Библии. Ю.Бордман обращает внимание на деятельность так называемого Китайского союза (Фу хань хуэи) созданного в 1844 г. Гуцлаффом для активной проповеди христианства среди китайцев на материке, в том числе путем распространения библейской литературы Иными словами, Библия в переводе Гуцлаффа могла попасть к тайпинам непосредственно из первоисточника (см. [Boardman 1952, с. 43]) Другая версия указывает на визит Хун Сюцюаня в 1847 г. в Кантон к миссионеру Иссахару Робертсу, который также мог снабдить его китайским переводом Писания. Так или иначе, «тайпнны должны были обладать полным вариантом перевода Библии Гуцлаффа к 1853 г., поскольку к моменту публикации Нового Завета они не использовали ,Делегатскую версию Нового Завета, переведенргую в стиле вэпь–ли, которую те получили в июле 1853 г.» [Michael 1971, vol. 2, с. 221].
Изученные экземпляры первого тайпинского издания Ветхого Завета (Цзюичжао шэншу) датированы 1853 г. В том же году это издание, состоявшее из первых 28 глав Книги Бытия (текст заканчивался сном Иакова о лестнице), попало в руки иностранцев, быстро обнаруживших, что в основе публикации лежит гонконгский перевод Гуцлаффа· В декабре 1853 г. прибывшие на территорию тайпинов иностранцы с французского парохода «Cassini» заполучили в Нанкине не только первое издание части Нового Завета (Евангелие от Матфея), но и новое тайпинское издание Ветхого Завета, состоявшее, по разным версиям, из переведенных Гуцлаффом книг Бытия, Исхода и Чисел или же только Бытия и Исхода. К маю 1854 г. появились сообщения об издании тайпинами начала Ветхого Завета вплоть до Книги Иисуса Навина. Посетивший тайпинских вождей в августе I860 г. миссионер Гриффит Джон сообщил об издании, доведенном до Книги Судей, а также о наличии у тайпинов полного варианта Нового Завета.
Помимо текста, унаследовавшего название, данное Ветхому Завету самим Гуцла中фом {Цзюичжао штшу), сообщается также о «Высочайше утвержденном Ветхом Завете» (Циньдин цзюичжао шэншу) с изменениями, использовавшемся тайпинами около г. При введении собственных наименований для Ветхого и Нового Заветов тайпины сделали заявку на уникальность полученного их вождем «откровения», введя понятие о «трех заветах» вместо двух: «старом» (т.е. Ветхом), «предыдущем» (т.е. Новом) и «настоящем». Название Нового Завета в переводе Гуц–ла中中а Синьичжао шэн шу (букв. «Новое переданное и провозгла–шенное Священное писание») было изменено на Цинъдин цянъ–ичжао шэншу (Высочайше утвержденное ранее переданное и провозглашенное Священное Писание). По мнению Ю.Бордмана, переименование Нового завета в «предшествующий завет» должно было «подчеркнуть, что общение Бога с Хуном было более недавним и потому более авторитетным откровением» [Board* man 1952, с. 117]. Неудивительно, что посещавшие тайпинов миссионеры считали их богохульниками.
В 1853 г. тайпины опубликовали свой собственный вариант «Канона трех иероглифов» (Саны^зыцзин, см. [Michael 1971, vol. 2, doc. 29, с. 151–161]). Изначальным образцом для него послужил не только популярный конфуцианский текст, составленный во времена династии Суп, но и составленный и опубликованный к тому' времени протестантскими миссионерами христианский вариант Санъцзыцзина. Хотя вслед за миссионерским вариантом тайпинский текст также начинается с изложения библейских событий, он заметно отличается от протестантского Санъцзыцзина, основанного исключительно на Новом Завете (см. [Michael 1971, vol. 2, doc. 29, с. 152]). Тайпинский текст открывается изложением событии ветхозаветной книги Бытия, начиная с краткого упоминания о Творении, после изложение сразу же обращается к темам Моисея, спасения Израиля и исхода из Египта. Как отметил Д.Спенс, «параллельность этой саги бегству и выживанию тайпинов должна была поразить всех верующих» [Spence 1996, с. 148]. История Воплощения, Распятия и Воскресения Иисуса занимает в тексте непропорционально малое место как по сравнению с ветхозаветной историей Исхода, так и по сравнению с историей о вере в единого Бога в древнем Китае, отпадении от нее и направлении Богом в мир другого «сына» — Хун Сюцюаня. Раздраженную реакцию миссионеров на этот популярный и рассчитанный на начальное обучение текст можно объяснить тем, что в него были включены истории о небесных битвах «младшего брата», о «небесной матери» и даже о «небесной жене» Иисуса Христа.
Одна из главных тайпинских теологических публикаций Тяныи яалунь (Основные рассуждения о небесных принципах) (см. [Michael 1971, vol. 2, doc. 49, с. 344–364]) была повторением первых глав работы миссионера В.Медхерста «О Небесных принципах», увидевшей свет в Батавии двадцатью годами ранее. Тайпины переиздали лишь восемь глав из двадцати, оставив основные разделы, в которых обсуждались существование Бога и его атрибуты: единство, имена, духовность, вечность, неизменность, вездесущность и всемогущество. Главная и доктринально значимая разница между книгами состояла в том, что тайпин–ские издатели решительно исключили из своего варианта текста упоминания о нематериальности и невидимости Бога, — эти важные аспекты христианской теологии вошли в противоречие с антропоморфным и физически детализированным видением Бога, утвердившимся среди тайпинов благодаря проповеди «откровения» Хун Сюцюаня, лично видевшего Небесного Отца. Вместе с тем использовавшиеся Медхерстом аргументы из области естественной теологии, при помощи которых обосновывалась идея познаваемости Бога через познание Его присутствия в Его творении, были воспроизведены в тайпинском тексте для обоснования атрибутов Бога. Другие незначительные изменения были направлены на привязку работы Медхерста к тайпинским лозунгам — к словам об отрицании «систем суеверий» был добавлен даосизм, а к упоминанию об «эгоизме правителя» были дописаны слова о «несправедливых чиновниках», подкреплявшие весомость обвинений против маньчжуров (см. [там же, с. 346]).
Контакты между иностранцами и тай пинами показали, что повстанцы хотели расширить свои теологические познания в христианстве. Летом 1854 г. в Нанкин пришло британское судно «Rattler», экипажу которого не позволили высадиться на берег Иностранцы послали тай пинам список из трех десятков вопросов, касавшихся торговли, войск, законов, пошлин, раздельного существования мужчин и женщин, при этом были затронуты и религиозные проблемы — почему Хун Сюцюань называет себя младшим братом Иисуса и почему среди других титулов Восточный ван называет себя «утешителем» и «святым духом»? Ян Сю· цин ответил, что «Небесный Отец появился на земле и провозгласил, что это его святая воля, чтобы Восточный ван иск)ттл людей всех наций на земле от болезней и что святой дух должен просвещать их от слепоты. Небесный Отец указал на Восточного вапа как на святого духа, дав ему титул «Утешитель, святой дух, учитель и господь, искупающий от болезней», так что все нации на земле могут обрести уверенность, возложенную на меня Небесным Отцом в его благодати… Небесный ван есть второй сын Бога, подлинно объявленный таковым божественной волей Бога. Небесный правитель лично восходил на Небеса и раз за разом получал там ясные указания от Бога, вследствие того, что он второй сын Небесного Отца и подлинный господин множества наций на земле. Мы располагаем несомненными доказательствами» [Spence 1996,с. 230].
В ответ Восточный ван послал свои вопросы капитану Мел–лершу, отразившие одновременно как степень убежденности вождей тайпииов в реальности антропоморфных картин «Небесного царства» из «откровения» Хун Сюцюаня, так и их теологические сомнения в отношении вопросов, ответы на которые тайпины не могли найти в Библии или миссионерских брошюрах, — их интересовали размеры Бога, Его цвет, размер Его живота, длина Его бороды, какой у Пего головной убор и одежда, они спрашивали, была ли Его первая жена той же Небесной Матерью, которая родила Небесного Старшего Брата Иисуса, есть ли у Него другие сыновья после рождения Иисуса, может ли Он сочинять стихи и как быстро, насколько Он неистов, как велика его терпеливость? Ряд похожих вопросов был задан и об Иисусе — каковы Его внешний облик и одежда, является ли Его первая жена нашей старшей сестрой, сколько у него детей, каков возраст старшего сына, сколько дочерей и каков возраст старшей дочери, сколько у Бога в настоящее время внуков и внучек? Часть вопросов затронула теологию Неба — сколько всего Небес, все ли они одинаковой высоты и как выглядит наивысшее? (цит. по [Spence 1996, с. 230–231]). По повод)' последней группы вопросов надо напомнить, что, как это зафиксировано в Тайпин тлпъжи, в «откровении» Ьог заявит Хун Сюцюаню, что 33 уровня небес населены демонами, с которыми тот должен сразиться. Учитывая, что в тексте Нового Завета (2 Кор. 12:2) также есть слова о «восхищении до третьего неба», буддистское учение о 33 небесах было, по–видимому, расценено тайпинами как совместимое с христианством Экип^ с «Rattler», в котором не было ни одного человека со специальным богословским образованием, собрал своеобразный «синод» и дал тайпинам ответ с изложением основ христианской доктрины — у Бога нет внешних признаков, Бог и духи не женятся и у него лишь один Сын — Иисус; Бог всегда милостив, и для Него нет ничего невозможного; о внешних признаках и одежде Иисуса в Новом Завете информации нет, «брак Агнца» есть лишь образное понятие о единстве верующих с Христом. Иностранцы также заявили, что не верят в догмы тайпинов об особой миссии Хун Сюцюаня как брата Иисуса Христа, равно как и в миссию самого Восточного вапа Ян Сюцина в качестве Святого Духа, изложив далее основные догматы Символа веры и призвав тай–пннов в случае сомнения следовать Писанию (см. [Spence 1996, с. 232]).
После этого события Ян Сюцин в состоянии транса сообщил тайпинам от имени Бога, что сохраняемые иноземцами Ветхий и Новый Завет содержат множество ошибок, в связи с чем «более нет нужды пропагандировать эти книги» [там же, с. 233]. Печатание Библии было приостановлено до создания согласованной с тайпинскими реалиями версии, куда Хун Сюцюань вносил свои исправления или дополнял текст своими комментариями
[82]. Внесенные исправления выдают желание Хун Сюцюаня усилить роль в библейских событиях личностного всемогущего Бога К примеру, слова «сотворим человека по образу Нашему и подобию» (Быт. 1:26) были заменены на «Я сотворю», «пришли те два ангела в Содом» (Быт. 19:1) и переписаны как «Господь Бог истинный спустился в Содом», при этом Бог заменяет ангелов во всей истории в стихах 13, 15 и 16. Для усиления чувства семейного единства Хун Сюцюаня и Небесной Семьи в библейский текст были вставлены слова «старший брат» и «младший брат». В тайпинской версии Библии Иисус оказался участником ветхозаветных событий — к примеру, Хун Сюцюань указал на Е о присутствие при обрезании Сепфорой сына Моисея Гирсама (Исх. 4:24–25) при возвращении из Египта (см. [Spence 199G, с. 255]). Обратной стороной возвышения Бога и Христа стало принижение древних ветхозаветных персонажей и реалий, что должно было подчеркнуть эсхатологическую важность возникшего на китайской земле тайпинского государства. К примеру, после китайского названия Иерусалима знак «столица»
(цзин 京) был заменен на более приниженное «город»
(чэн 城),«великий Царь» превратился в некоего «прежнего правителя» (Мат. 5:35). Другая серия исправлений была связана с необходимостью приведения содержания Ветхого Завета в соответствие с моральным кодексом тайпинов. В издании 1853 г. тайпины исключили из ветхозаветной Книги Бытия историю о Лоте с дочерьми (Быт. 19:31–38), продолжив текст с 20–й главы (см. [Spence 199G, с. 178–179]). Изменения были внесены также в рассказ о Ное и его сыновьях (Быт. 9:22), откуда было изъято упоминание об опьянении Ноя, а его нагота была представлена как результат падения во сне с кровати. Судя по всему, в данном случае образ Ноя был подкорректирован с учетом действовавших запретов на употребление опиума. В этом свете становится понятным, почему была подправлена также история о передаче Аврамом своей жены Сары под видом сестры фараону: взамен «Авраму хорошо было ради нее» (Быт. 12:16) в тайпинской версии стоит: «из–за нее Аврама хотели убить».
Описанное в Библии обретение Иаковом права первородства от Исава (Быт. 25:31–34) подано таким образом, что образ Иакова обрел более позитивное звучание. В тайпинском тексте Иаков, как почитающии старших младший брат, наставляет Исава словами о необходимости уважения к праву рождения, после чего соглашается «разделить» с ним это право в обмен на похлебку, которую жаждал Исав (см. [Spence 1996,с. 257]). История о том, как Иаков выдает себя за волосатого Исава, обрядившись в козлиные шкуры, чтобы ввести в заблуждение умирающего отца (Быт. 27), превращена Хун Сюцюанем в пример сыновней преданности. Сцена обмана, вина за который возлагается исключительно на мать Иакова, Ревекку, заменена другой, где Иаков честно отвечает на вопрос отца, что он и есть его второй сын Иаков, после чего приглашает отца отведать принесенную им еду. Поскольку Исава в тот момент не было рядом и его надо было искать, отец, растроганный сыновней почтительностью Иакова, дал ему свое благословение (см. [там же, с. 257]).
Рассказ об Иуде н Фамари (Быт. 38) также был неправлен «как несоответствующий не только тайпинской, но п китайской этике» [Ло Эрган 1987,с. 115]. В оригинале Ветхого Завета после смерти сыновей Ира н Онана Иуда отсылает невестку Фа–марь назад к отцу до того времени, пока не подрастет его третий сын ^ 1ела. Видя, что Иуда не торопится выдать ее за третьего сына, Фамарь предстала перед Иудой в образе блудницы, и он вошел к ней, после чего она родила от него близнецов Фареса и Зару. Хун Сюцюань практически полностью переписал эту главу Книги Бытия. По его версии, Иуда встретил на дороге «молодую женщину» (а не блудницу) с покрытым лицом, которая представилась ему как его невестка Фамарь. На вопрос о том, почему она не дома и не в скорби, она ответила, что шла к нему, чтобы напомнить об обещании женить на ней Шелу, чтобы его первенец продолжил линию Ира. После этого Иуда извиняется перед ней за промедление с исполнением обещанного, оправдываясь тем, что он слишком скорбел о смерти двух молодых сыновей. Они возвращаются, устраивается брак с Шелои, Фамарь радостно благодарит Бога.
Тайпины исправили также те библейские фрагменты, в которых можно было усмотреть нарушение их уложений в области отношений между мужчинами и женщинами. Например, в Книге Исхода (22:16–17) в случае обольщения необрученной девицы виновному предписывается заплатить ей вено и взять ее в жены, если же отец девицы не согласится на брак, брачный выкуп должен быть выплачен отцу. В тайпинской версии текста речь идет уже не о свадьбе и уплате вено, а о повелении отцу девицы отдать обоих прелюбодеев под суд за нарушение седьмой заповеди, что грозит тем казнью. Помимо морально–нравственных исправпе ний вносились поправки, акцентировавшие неприятие тайпина–ми «ложных религий» и их ненависть к их «идолам». К примеру, слова «и приглашали они народ к жертвам богов своих» (Чнсл 25:2) были исправлены на «…к жертвам тем, кого должно убить». Исправления в Ветхом Завете производились с учетом требования тайпинов не скорбеть по поводу смерти, слово «смерть» заменялось на знак «вознесение–восхождение» (ш?н ).
Большой интерес представляют комментарии Хун Сюцюаня к некоторым фрагментам Ветхого и Нового Заветов. Они отражают сложные поиски гармонизации христианства с доктриной тайпинов и богословской контекстуализации статуса Хун Сюцюаня как «младшего сына» Небесного Отца С точки зрения традиционного христианского вероучения эти пояснения носят настолько вызывающий характер, что их зачастую характеризовали не столько как признак непонимания христианского учения, сколько как указание на «полное помешательство» (totally disturbed state of mind) составившего их «больного человека», пытающегося найти для себя личное место на страницах Писания (см. [Michael 1966, vol. 1, с. 77]). Однако, как и небесные видения из «откровения» Хун Сюцюаня, эти заметки имеют огромное значение для изучения понимания вождем китайского восстания связи библейской традиции с окружавшей его поли тической и социальной реальностью.
По поводу ветхозаветного повествования о сотворении света (Быт. 1:1–5) Хун Сюцюань написал, что Отец, Старший Брат и он сам — все они суть свет, указывая тем самым на собственное мистическое «субстанциальное» равенство с Богом и Иисусом Христом. Смысл этого сравнения может быть пояснен через другое замечание к новозаветному тексту из Евангелия от Матфея (Мат. 4:16), где Хун Сюцюань пишет о том, что Бог есть пламя и солнце есть пламя, а потому Бог есть солнце. Поскольку сам «младший брат» Хун Сюцюань провозгласил себя солнцем, то раз Бог есть пламя и святой свет, Старший Брат Иисус есть пламя и великий свет, то сам Хун есть солнце и также свет (см [Michael 1971, vol. 2, doc. 41, с. 227]).
Замечание Хун Сюцюаня относительно ветхозаветной истории искушения Евы змием (Быт. 3:1–21) было направлено на то, чтобы подчеркнуть вневременной и всеобщий характер описанной коллизии — Ева родила свое потомство, змий также породил свое, поэтому он рождается вновь, а женщины всех поколении вновь и вновь доверяют словам демонов, ломая судьбы. Эта библейская история была выбрана как в оправдание суровости моральных ограничений тайпинских уложений, так и в целях выделения заслуг самого Хуна, беспощадно боровшегося с полчищами коварных демонов на небе н продолжающего сражаться с ними на земле (см. [там же, doc. 40, с. 225]). Три других замечания интерпретируют библейский текст либо как свидетельство о божественности «младшего брата», либо как историческое пророчество о его будущем мессианском приходе.
По поводу ветхозаветного рассказа о завете Бога с народом Израиля и радуге как знаке этого завета (Быт. 9:12–17) Хун Сюцюань написал, что иероглиф
хун 虹 радуга искривляется как лук и трансформируется в сочетание
Хун Жи. «Я есть Солнце
(жи), моя фамилия Хун. Отец дал этот знак, пророчествуя, что он пошлет
Хун Жи быть правителем» (там же)
[83] . Вполне возможно, что Хун Сюцюань имел некоторое представление о христианской традиции интерпретации ряда фрагментов Ветхого Завета как пророчеств о приходе в мир Иисуса Христа, что подвигло его на поиски в Библии аналогичных свидетельств собственной божественности. Нечто подобное присутствует и в его богословско–филологическом комментарии к новозаветному фрагменту из Евангелия от Матфея (27:40), в котором «три точки»
(сань дянь), видимо указывающие на три распятия на Голгофе, интерпретируются как фамильный иероглиф
Хун, а «три дня»
(сань жи) из обращенных к Иисусу слов «в три дня разрушающий» как иное указание на
Хун Жи _ 點是;'共,三日是洪白■ «Старший Брат тайно провозгласил, что Хун Жи (т.е. Хун Сюцюань. —
А.Л.) станет властителем и восстановит храм, который разрушил Бог» [там же, doc. 41,с. 229].
Слова Апокалипсиса «царство мира соделалось царством Господа нашего н Христа его, и будет царствовать во веки веков» (Откр. 11:15) были, по мнению авторитетного ученого Ло Эрга–на, использованы Хун Сюцюанем для обоснования власти собственных потомков (см. [Ло Эрган 1987, с. 114]). По словам Ло Эргана, целям обоснования собственной власти также должно было служить и отождествление Хун Сюцюанем себя с Мелхисе–деком. В Новом Завете (Евр. 7:2) Хун Сюцюань поименовал Мелхнседека «Небесным ваном» (вместо «Царя правды» в евангельском оригинале), а потом и царем Салима, т.е. «правителем Небесного спокойствия — тийпинвапом^> (вместо «Царя мира»). Поясним, что титулы тяньван и тайпипван принадлежали самому вождю тайпинов Хун Сюцюаню [там же, с. 114]. В комментарии к главе 7 Послания Апостола Павла к Евреям, обсуждающей первосвященничество Мелхиседека, Хун Сюцюань заявил: «Мелхиседек есть никто иной, как я. Ранее на Небесах наша старая мать родила Старшего Брата и всех других из моего колена. К тому времени я знал, что Отец готовил рождение моего Старшего Брата от потомков Авраама. Поэтому я утешил офицеров и войска, поздравил и благословил Авраама, ибо Авраам был хороший человек» [Michael 1971, vol. 2, doc. 41, с. 233].
В том же русле построены и другие замечания к ветхозавет ным упоминаниям о таинственном правителе–священнике Мел–хиседеке (Быт. 14:17–20). Хун Сюцюань заявил, что он и есть Мелхиседек, поясняя, что до нынешнего прихода в мир он находился на Небесах и принимал участие в том, что описано в Библии, тогда как предыдущие действия Небес служат подтверждением его божественного статуса. В данном случае библейский комментарий Хун Сюцюаня можно с уверенностью расцени гь как попытку путем вольного истолкования ветхозаветных пророчеств имитировать христианское учение об Иисусе Христе как извечном и нетварном Божественном Логосе. По логике Хун Сюцюаня, все существенные библейские события были указанием на будущее либо же были предсказаны в прошлом. Если приход Яхве на помощь Израилю и спасение евреев из египетского плена есть намек на новый приход в мир для создания Небесного Царства, то рождение Старшего Брата в Иудее есть аллюзия на его приход в мир для принятия ответственности и бремени. Аналогичным образом тот «факт», что Хун Сюцюань в прошлом спускался в мир в облике Мелхиседека, чтобы благословить Авраама, есть скрытая аллегория прихода в мир китайского «младшего брата» как спасителя человечества (см. [там же, doc. 40, с. 225]).
Почему же образ Мелхиседека оказался столь важным для Хун Сюцюаня? Здесь можно сделать два предположения, не исключающие одно другое. Так, Мелхиседек, с которым отождествляет себя Хун Сюцюань, есть «царь мира» (Евр. 7:2), что связывает его с названием тайпинской династии «Небесное Царство мира». При вольном обращении с текстом Писания возможно было показать, что Мелхиседек и есть правитель государства тайпинов, то есть сам Хун Сюцюань. Не менее существенным может оказаться то, что благословивший Авраама Мелхиседек, царь Салима, был «без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда» (Евр. 7:3). Этот сложный для христианских теологов новозаветный текст был использован Хун Сюцюанем для обоснования собственной претензии на божественность. С одной стороны, Авраам отдает де–сяти1гу Мелхиседску, не принадлежащему по родству к священническому колену Левиеву, признавая его власть. С другой, уподобление Л1елхнссдека Христу вовсе не исключает главенства Иисуса как подлинного Первосвященника. Хун Сюцюань приписывал себе извечность Мелхиседека н порождение от Небесной Матери, II в то же время он признавал старшинство и первородство Иисуса Христа в Небесной Семье.
Другие достаточно многочисленные комментарии Хун Сюцюаня к Новому Завету были призваны доказать «вторичность» Иисуса Христа по сравнению с Богом–Отцом, к которому Иисус категорически не должен был приравниваться. Ряд евангельских пли апостольских упоминаний
о Христе как
о Сыне Божьем, равно как и слов самого Ннсуса о сотворении им чудес силой Отца или исполнении его власти, был отобран Хун Сюцюанем для доказательства идеи нетождествеиности Христа и Бога–Отца. Эта логика с наибольшей очевидностью проявилась в комментарии к Евангелию от Марка (Мк. 12:28–34) о двух наивысших заповедях: «Старший Брат говорит, что Господь один. Почему потом ученики впали в ошибку и называли Христа Богом? Если бы это было правдой, то тогда было бы два Бога. Уважайте
это» [там же, doc. 41,с. 229]. Развивая эту тему в применении к фрагменту нз Евангелия от Марка
[84], Хун Сюцюань заявил, что если настаивать на ошибочном толковании Христа как Бога, допуская, что после Его вознесения на Небеса «два стали одним», то станет непонятным, каким образом еще до Давида Старший Брат жил на Небесах и Бог разговаривал с ним? В этом комментарии обращает на себя внимание ссылка Хун Сюцюаня на личный опыт пребывания на небесах из «откровения» 1837 г., когда он увидел там не только Небесного Отца и отдельного от него Старшего Брата Иисуса Христа, но и жену Небесного Отца — Небесную Мать (см. [там же, с. 230]). Комментируя Деяния Апостолов (Деян. 7:55–60), он сослался на видение Стефана, который ясно видел, что Христос стоит одесную Бога: «поэтому Бог есть божественный отец, а Христос божественный сын. Они один и два. И более того, раз Старший Брат сам доказал это,как можем мы ошибочно считать его Богом? Уважайте это» [там же, с. 231].
Давая собственное истолкование Библии, тайпины, опираясь на новозаветные цитаты, пытались опровергнуть идею равенства ипостасей Троицы. К примеру, слова «Дух ведет Его в пустыню» (Мк. 1:12) преподносились как доказательство того, что Святой Дух (Шэн Шэнъ), он же Шанди, есть не то же самое, что Старший Брат (Тайсюн А Я) Иисус (см. [Ло Эрган 1987, с. 117]). Для тех же нужд привлекались слова самого Иисуса, где Он говорил о Боге в третьем лице, не называя Богом себя, либо слова апостолов об Иисусе как «Сыне Божием», а не «Боге» (Рим. 1:4) Аргументация с помощью цитат должна была подтвердить тайпинский тезис о том, что Иисус не Бог, а старший сын Бога, тогда как Святой Дух также не Бог, а Восточный ван Ян Сюцин.
Евангельские слова о приближающемся Царствии Небесном (Тянъго) толковались Хун Сюцюанем как пророчество, непосредственно указывавшее на земное Царствие Небесное, новый Иерусалим, во главе которого стоял он сам. Более того, несмотря на доказательства неравенства Бога–Отца и Сына (а в некоторых случаях — «сыновей»), Хун Сюцюань подчеркивал присутствие в Небесном Царстве тайпинов и Бога–Отца, и Старшего Брата, трактуя это как исполнение пророчеств о втором пришествии Мессии. Отрицание Хун Сюцюанем равенства Христа Богу не привело его к отрицанию божественности Христа. Христос для него был полноправным членом Небесной Семьи и спасителем мира, чья жертва на кресте была абсолютным условием прощения грехов человечества. Однако, как и в ходе предыдущих культурных коллизий христианства с китайской духовной традицией, в позиции Хун Сюцюаня проявилась ограниченная приспособленность китайского классического менталитета для абстрактного освоения христианской догматики Троицы и Воплощения. Выражение «Сын Божий» в его реальном значении, преломленном через призму понимания отношений сына и отца в традиционной китайской семейной этике, могло означать для него лишь то, что Христос по определению был меньше Бога. Э.Р.Хьюз, охарактеризовавший движение тайпинов как выдающийся пример отуземливания христианской религии в Китае, заметил о провозглашении Хун Сюцюанем себя младшим братом Иисуса Христа следующее: «Представляется, что охотники за ересями не смогли понять весьма явное различие между старшим и младшим братом в традиционном китайском этическом кодексе. В западной цивилизации старший брат практически занимает позицию отца, тогда как китайский отец занимает высшую, почти божественную позицию… Поскольку традиционным титулом императора был Сын Неба, он (Хун Сюцюань) был описан как „Сын Бога“, а Иисус был выделен как перворожденный сын» [Hughes 1968, с. 67–68].
В комментариях Хун Сюцюаня присутствуют утверждения о том, что не только он сам есть сошедшее с небес Солнце, а его жена — Луна, но и прочие тайпинские вожди также спустились с небес. Именно так трактовал он образы мрачного солнца, луны цвета крови и павших на землю звезд небесных из Апокалипсиса (см. [Michael 1971, vol. 2, doc. 41, с. 235]). Более того, расширение круга тайпинских лидеров вело к расширению круга Небесной Семьи. Если Хун Сюцюань был сыном Небесного Отца и «младшим братом» Иисуса Христа, то теперь и «остальные лидеры были братьями Хуна и разделяли его близкие отношения с Богом» [Michael 1966, vol. 1, с. 48].
Восточный
ван Ян Сюцин, заявлявший, что в 1848 г. на него сошел Бог и завладел им, стал отождествляться тайпинами с ветром Святого Духа
(шзншжъ фэн ) даже с самим Святым Духом (
шэнлин), хотя при этом подчеркивалось, что «Святой Дух» и «ветер Святого Духа» не есть одно и то же (см. [Michael 1971, vol. 2, doc. 41, с. 229, 234] )
[85]. В запутанной трактовке христианской догматики Хун Сюцюань пытался показать, что Святой Дух есть Бог и иного божества нет, что Восточный
ван есть посланец Бога, но в то же время Христос не есть Бог. Заметим что данный тайпинами Ян Сюцину титул «Наставника утешения»
(г^юаньвэй ши ff/j
Ш№) неоднократно встречается в Евангелии от Иоанна как обозначение Святого Духа.
Ян Сюцин не только объявил себя способным вещать от имени Бога, но и стал выполнять функции шамана–медиума, способного приносить исцеление от недугов путем перевода чужой болезни в собственное тело. Таким образом, у Небесного Отца в рядах тайпинской иерархии обнаружился еще один представитель, рожденный до сотворения Неба и Земли. Это показывает, что «тайпинская идея Троицы отличается от библейской доктрины: тайпины восприняли Яна как Святого Духа, хотя Хун также обсуждал аутентичную Троицу Бога, Иисуса и Святого Духа» [Shih 1967, с. 154]. Показательно, что в официальном тай–пинском сборнике молитв и толкований Декалога
Тяньтяошу благодарственные молитвы обращались к Богу–Отцу, Иисусу–Спасителю и «ветру Святого Духа» Ян Сюцину. Более того, исследователи приводят расширенные варианты молитвенного обращения тайпинов, содержащие после хвалы Богу–Отцу и Старшему Брату Иисусу Христу; восхваления «Восточного
вана, ветра Святого Духа, искупителя от болезни»; «Западного
вана, господина дождя, знатного на высоких небесах»; «Южного
вана, господина облаков, прямого на высоких небесах»; «Северного
вана, господина грома, милосердного на высоких небесах»; «Союзного
вана, господина молнии, справедливого на высоких небесах» [Michael 1971, vol. 2, doc. 24, с. 119]
[86].
Можно видеть, что заимствованный тайпинами дух библейского монотеизма, выразившийся в поклонении единственному Богу (Шанди), сочетался с политеистическими тенденциями, проистекающими из китайской религиозной практики. Комментарии Хун Сюцюаня к Новому Завету выдают его озабоченность проблемой совмещения собственной претензии на семейное родство с Богом, ведущей к политеистическому расширению Небесной Семьи, с христианским учением об уникальности Божества. Хун постоянно подчеркивал, что Иисус не может быть Богом, так же как не является Богом и сам Хун Сюцюань. Ян Сю–цин, или «Святой Дух», приводился как дополнительный аргумент в пользу отсутствия тождества между этими ипостасями. Хун заявлял, что поскольку Бог знал, что на земле некоторые люди ошибочно считали Христа Богом, сам Христос послал на землю Западного вана дабы прояснить, что Христос был просто Его наследником (см. [Spence 1996, с. 291–292]).
Большой интерес представляет история теологической переписки между миссионером Джозефом Эдкинсом и Хун Сю–цюанем весной 1861 г.
[87]. Эдкинс обратился к Хун Сюцюаню с письменным изложением христианского учения о нематериаль–ности божественной природы (Иоан. 1:18). Главным тезисом этого теологического послания была мысль о том, что наличие у Бога формы
(ю син) является аллегорией (
юи), тогда как отсутствие у Него формы–телесности
(у син) есть истина (
ши). Аргументация в пользу божественности Иисуса Христа была подкреплена Эдкинсом ссылками на приложенные переводы Никейского и Афанасийского символов веры (см. [там же, с. 288–289, также с. i]). Предупреждая Хун Сюцюаня от впадения в ересь Ария, миссионер подчеркивал, что все библейские отсылки к форме Бога должны восприниматься не буквально, а аллегорически. Хун ответил потоком своих комментариев, написав их поверх письма Эдкинса красной тушью. В цитате из Евангелия от Иоанна «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий во недре Отчем, Он явил» (Иоан. 1:18) Хун Сюцюань замазал слово «единственный»
{ду) из сочетания «Единородный Сын» — дабы не отрицалось его собственное «божественное сыновство», заменив его на «брат» (
сюп). Применительно к образу Бога Хун заменил понятие «аллегорический»
(юи) на «реальный»
(гии), относительно же Ария и отвержения его взглядов церковным Собором вождь тайпинов прямо заявил, что Арий был прав, а Собор — нет (см. [там же, с. 289]).
Хотя для западных христиан того периода солидаризация Хун Сюцюаня с ересью Ария представлялась просто возмутительной, современные исследователи полагают, что принижение им степени божественности Иисуса Христа в сравнении с Богом–Отцом не было направлено на продвижение какого–то тайного антихристианского замысла. «В отличие от ересиархов в раннем христианстве, Хун не отрицал божественности Христа и не утверждал, что для человека невозможно быть Богом. Он старался защитить своеобразно понятую христианскую истину, настаивая на абсолютности принципа единобожия и нацеливая его против повсеместного в китайском обществе политеизма» [Covell 1986,с. 172]. В каком–то отношении Хун Сюцюаня можно назвать последовательным сторонником второй заповеди борьбы с идолопоклонством, при этом его «арианство» носило не столько теологический, сколько политический характер, ибо признанне библейской аргументации Эдкинса в пользу бестелес–ности Бога означало бы полное опровержение всех полученных Хуном антропоморфных и конкретных «откровений» о Небесной Семье и, как следствие, опровержение его родства с этой Семьей.
В стихах, написанных по поводу послания Эдкинса, Хун Сюцюань с готовностью признал нетерпимость Бога к идолам и невозможность для простых людей увидеть облик Бога, оставляя лазейку лишь для себя и своего Старшего Брата Иисуса — по его словам, лишь они двое могли видеть Бога как его дети, сидевшие у него на коленях (см. [Shih 1967, с. 24]). Здесь будет уместным подчеркнуть, что у Хун Сюцюаня Небесная Мать, выступая супругой Небесного Отца, не имеет почти ничего общего с новозаветной Богородицей. По сути, у Хун Сюцюаня сформировалось нечто вроде богословской теории «двойного рождения», т.е. сперва его Старший Брат Иисус Христос и он сам были рождены «до века» во чреве Небесной Матери, после чего по воле Небес–ного Отца они сходили в мир для рождения во чреве земных женщин
[88]. Со временем христианская догма о единстве трех ипостасей Троицы была причудливым образом спроецирована на Иисуса, Хун Сюцюаня и Ян Сюцина, рожденных «до века» от одной матери.
Тайпины так не поняли учения о Троице, и для них Иисус оставался Сыном Бога, но не Богом. Единство (и ти) Отца и Сына было для тайпинов одновременно понятием кровнородственным (один породил другого) и этическим (см. [Ван Цинчэн 1985, с. 306]). Распространение на небесный порядок известной Кон–фуциевой формулы «Отец должен быть отцом, сын должен быть сыном» вошло даже в одно из поучений из «откровения» Хун Сюцюаня 1837 г. Хун Сюцюань и тайпины воспевали «тройственно–единого истинного Бога» (санъ вэй вэй хэ и чжэнъ Шэнъ придавая этим словам собственное толкование, сводившееся к тому, что «ветер–Дух» и «старший сын» npi над–лежат Богу, но нм не являются.
Усилия Хун Сюцюаня по содержательному изменению текста Библии и созданию собственной неортодоксальной экзегетической традиции могут рассматриваться и как стихийное проявление тенденции к китаизации христианства силами самих китайцев, и как провозвестие расцветших через половину столетия китайских «туземных» протестантских сект. Оценка этой стороны деятельности тайпинов достаточно сложна, что рождает соблазн свести библейские толкования Хун Сюцюаня к объективным социально–политическим потребностям тайпинов. Активный деятель современной патриотической протестантской церкви КНР Сюй Жулэй предположил, что фантастические интерпретации Библии Хун Сюцюанем были не абсурдом, а «ударом по агрессорам» [Сюй Жулэй 1983, с. 224]. С его точки зрения, лидеры тайпинов были попросту вынуждены своими силами интерпретировать Писание, дабы защитить свою легитимность от нападок западных теологов и миссионеров. По словам Сюй Жулэя, эти комментарии были направлены на «обожествление революционной власти и лидеров» путем опровержения христианского учения о единстве Троицы. Хотя любая власть по–своему пытается обосновать собственную легитимность, однако далеко не любая власть поступает столь необычным образом, как это делал Хун Сюцюань.
Моральные уложения тайпинов характеризовались крайней жесткостью. Тайпнны не делали различия между военной и религиозной дисциплиной, «религия доминировала в их жизни, как и в жизни иудеев; для тех и других все решения были божественными решениями и все обязанности были божественными обязанностями. Нет ни малейшего сомнения в том, что религиозный элемент тайпинской идеологии был фундаментальной объединяющей силой тайпинского движения» [Shih 1967, c.xii]· Воины тайпинской армии вдохновлялись перспективой возвращения на Небеса (напомним, что в одном из комментариев Хун назвал их «павшими с неба звездами») в случае смерти и упованием на помощь Бога в случае неудач и поражений.
В распоряжениях конца 1853 — начала 1854 г. первый же пункт запрещал чиновникам и солдатам посылать одежду для стирки или починки гражданским женщинам, ибо предполагалось, что стирка грязного белья неизбежно перерастает в любовную интригу. Вводились все новые ограничения, требовавшие раздельного проживания даже для семейных мужчин и женщин, под запретом оказалось не только курение опиума, но и песни любовного содержания. Однако эти правила не относились к самому Хун Сюцюаню, заведшему себе многих жен и наложниц (см. [Spence 1996, с. 150]). Для оправдания этой двойственности появился особый библейский комментарий, поразивший миссионеров того времени своей недвусмысленной простотой
[89], —к словам «ежели кто непорочен, муж одной жены» из новозаветного Послания к Титу Апостола Павла (Тит. 1:6) Хун Сюцюань добавил собственные: «Ныне есть священное указание Бога, что высшие чиновники не ограничиваются одной женой» [Michael 1971, vol. 2, doc. 41, с. 233].
Это дает повод задуматься,каким образом практика тайпинов, в том числе и религиозная, была связана с их вероучением. Ряд исследователей указывают на то, что понимание тайпннамн христианского понятия о грехе было поверхностным, причиной чему вновь стало культурное сопротивление со стороны 中унда· ментальной для китайской классической традиции идеи изначальной доброты человеческой природы. Тайпины не проникли в глубинный смысл христианской идеи покаяния, которое для них «не существовало», а «когда они говорили о хуэй го (сожа–лении об ошибке) или гай го (исправлении ошибки), они просто выражали осознание некоторого конкретного злодеяния или неправильного поведения с желанием не повторять подобную ошибку в будущем» [Shih 1967, с. 183]. Крещение у тайпинов являлось главным религиозным таинством, однако в него было внесено весьма специфическое добавление, состоявшее в сжигании перед алтарем письменных покаянии вновь крещенных в совершенных ранее проступках. «В целом же из христианских ритуалов и доктрин тайпины приняли крещение, почитание дня субботнего, Воплощение и Искупление» [там же, с. 157], при этом среди таинств была практически пропущена евхаристия.
На поздних этапах существования тайпинского движения, когда к Хун Сюцюаню в 1858 г. присоединился его брат Хун Жэньгань, привнесенные запоздалые попытки рационального реформаторства затронули не только сферу политики, но и религии. Хун Жэньгань считал «откровения» брата «реальными», хотя и непонятными, но при этом отрицал божественный характер видений Ян Сюцина. В беседах с посещавшими Нанкин иностранцами он указывал, что подношения (рис, чай, вино) Богу во время молитв тайпинов должны рассматриваться как «простое благодарение, а не умилостивительная жертва». Подобным же образом сожжение написанных молитв после их прочтения вслл'х толковалось как поступок тех, кто нов в вере, и этот ритуал будет в конце концов оставлен. «Когда же кто–то говорит о рождении Небесного в ста как о его „сошествии на землю“, то это должно пониматься просто как указание на естественное рождение по божественному повелению». Вместе с тем Хун Жэньгань был вынужден признать, что Небесный ван Хун Сюцюань не принимает идеи нематериальности Бога; для вождя тайпинов Бог материален и он «не выносит, когда в этом ему противоречат». Хун Сюцюань также не станет исправлять ни одного из терминов, использовавшихся для обозначения Бога в своих работах. Когда же Хун Жэньгань протестовал против употребления термина «Бог истинный», поскольку Бог не может называться ни истинным, ни ложным, Небесный вандал ему отпор (см. [Spence 1996, с. 275]).
Несмотря на жесткое неприятие «ложных идолов», тайпины снисходительно относились к глоссолалии и вещанию медиума от имени Бога или Иисуса, игнорируя библейские упоминания об одержимости демонами. Хотя эти черты тайпинов можно возвести к китайской шаманской традиции, стоит отметить, что они воспроизводились в XX в. многими китайскими околохри–стианскими сектами. После заявления Сяо Чаогуя о том, что Бог сошел на землю и вещал через него, то, что ранее считалось уникальным опытом, стало общим явлением, приведшим к падению авторитета Хуна и усилившим раскол в руководстве движением. Авторитет Ян Сюцина и Сяо Чаог)^ «основывался на том, что они все более отождествлялись с Богом и Иисусом Христом, от имени которых онн претендовали говорить. Выстраивалась одна непрерывная демонстрация силы Бога со времен Ветхого Завета II до случаев их собственного транса» [Michael 1966,vol. 1,с. 68, см. также примеч. 16]. Религиозные послания Яна и Сяо не содержали фундаментальных противоречий с проповедью Хун Сюцюаня и не посягали на аутентичность полученного им «откровения». Вместе с тем их сакральное возвышение как посредников в общении между Богом п тайпинами разрушало не только политические, но и теологические основы нового режима, пропагандировавшего строгий монотеизм.
Христианские миссии интересовались тайпинами, но при каждом общении с их лидерами испытывали горькое разочарование —зарубежные проповедники раз за разом убеждались, что не могут воздействовать своим словом и словом Писания на людей, заявлявших, что они черпают откровение непосредственно от Бога. Среди миссионеров были такие, кто, подобно В.Мартину, применяли к тайпинам относимое к Китаю ветхозаветное пророчество из Книги Исаии «одни придут издалека… из земли Синим» (Ис. 49:12), полагая, что повстанцы являются «инструментом сверхчеловеческой силы», желающей обратить Китай в христианство. Известный синолог и миссионер Джеймс Легг в 1854 г. отмечал у тайпинов как склонность к «дикому и богохульному фанатизму», так и достойные похвалы искреннее отречение от идолопоклонства, желание служить Богу Живому и Истинному; веру в будущую жизнь и в ценность Священных Писаний» [Covell 1986, с. 175]. Отметим, что Легг был дружен с тай–пинским реформатором Хун Жэньганем, работавшим одно время у него в Гонконге в качестве катехизатора. Стоит отметить, что профессиональная деятельность по обоснованию наиболее адекватного китайского имени для христианского Бога еще более сблизила их, поскольку Легг неизменно и последовательно отстаивал использование Шанди, что совпадало с терминологическим выбором тайпинов.
Былой духовный наставник Хун Сюцюаня И Робертс впервые был приглашен тайпинами на их территорию для проповеди христианства сразу же после захвата Нанкина, куда он и попытался отправиться в мае 1853 г. Однако по ряду причин ему не удалось добраться до Нанкина, и через некоторое время он отбыл на родину в США. Второй раз он прибыл в Кантон в 1856 г., не связанный ни с одним из миссионерских обществ. После захвата Сучжоу в сентябре 1860 г. он вновь прибыл на территорию тайпинов. В Нанкине он прожил более пятнадцати месяцев, был принят Хун Сюцюанем, ему был предложен чин министра иностранных дел, от которого он отказался. В январе 1862 г. он покинул тайпинов, «испытывая полное отвращение к их поступкам» [Wylie 1867, с. 96].
В XIX столетии многие западные христиане, и прежде всего миссионеры, были разочарованы несерьезным отношением китайцев к проповеди учения о грехе. Д.Тредголд полагает, что такова была китайская реакция на «изуродованную пиетнстскую версию христианства», доминировавшую в Китае в конце XIX в и ставившую акцент на индивидуальном обращении. Тредголд усмотрел здесь «гигантский парадокс: ведь именно пиетизм породил идеологию движения, ставшего наибольшим христианским успехом во всей китайской истории, хотя и неглубоким и, возможно, поверхностным» [Treadgold 1979, с. 188]. Речь здесь идет о тайпинах, чье восстание едва не опрокинуло Цинскую династию. Помимо широкого распространения среди тайпинов понятия о греховности человеческой природы, ученый указал на тот факт, что раньше банды мятежников просто разбегались, но когда Цзэн Гофань захватил Нанкин в 1864 г., то ни один из впоследствии уничтоженных им 100 тыс. тайпинских христиан не сдался.
Американский пресвитерианский миссионер В.А.П.Мартин был последовательным сторонником поддержки западными державами движения тайпинов, полагая, что оно может способствовать обращению Китая в христианство «изнутри». В январе 1853 г. он написал в Пресвитерианский совет иностранных миссий в Нью–Йорке, что восстание тайпинов способно «революционизировать страну, возможно сделав всю их обширную территорию открытой для проповедников Евангелия» (цит. по [Duus 1966, с. 17]). Мартин пытался даже обратиться к властям США за поддержкой для тайпинов. В 1856 г. в письме к американскому дипломату Калебу Кушингу он писал: «Когда местная христианская партия, три года держащая под реальным контролем главные города великой В1гугренней транспортной артерии этой империи, борется за существование с иностранной языческой династией, то, спрашиваю я, будет ли это чем–либо иным, если не национальным братоубийством для любой христианской нации, если она для истребления [тайпинов] вступит в сговор с маньчжурами» (цит. по [Stursberg 1987, с. 82]).
Однако большинство миссионеров рассматривали тайпинов как отступников, еретиков, убийц, насильников и разрушителей.
Католики не могли смириться с уничтожением тайпинами их церквей и святынь, католический епископ осудил тайпинов как мятежников, обратившихся в протестантизм. Запрет торговли опиумом также значительно подорвал шансы тайпинов на сотрудничество с державами, желавшими им торговать. Но даже после того как представители Запада глубоко разочаровались в тайпинах, Мартин продолжал считать, что христианство, пусть искаженное, лучше, чем местные религии. Он не отступил от этого взгляда и всегда сожалел, что западные державы пренебрегли возможностью использовать тайпинов для реформирования Китая изнутри.
Протестантские миссионеры признавали, что тайпины выполняют значительную часть их религиозной программы — повстанцы беспощадно боролись с «идолами» китайских религий, они поклонялись единому Богу, силой своей власти распространяли среди людей основы евангельских истин. В 1860 г. Г.Джон писал о тайпинах: «В противоположность пантеистическим представлениям философов династии Сун они придерживаются учения о личностном Божестве, в противоположность расхожим политеистическим взглядам они обладают четким представлением о единстве Бога; в противоположность фатализму философского буддизма они верят в доктрину управляющего всем Провидения и учат этому… Божество вместе с ними, и это не абстрактное понятие, не жестокий непреклонный господин, но любящий Отец, который с мягкостью следит за их делами и ведет их своей рукой. Писания Ветхого и Нового Заветов стали для них образцом веры, как это и было с самого начала их движения» [Clarke, Gregory 1982, с. 235]. Из этого следовало, что миссионеры должны не отворачиваться от тайпинов, попрекая их за ошибки и суеверия, но, напротив, двигаться им навстречу, терпеливо разъясняя им их ошибки и наставляя их на путь истинный. Наблюдая, как западные миссии и западные державы повернулись к тайпинам спиной, годом позже Г.Джон с упреком взывал к своим коллегам: «Протестантские миссионеры! Это восстание является вашим порождением. Лишенное вашей родительской заботы, оно деформировалось и свернуло в сторону, но в нем еще есть нечто свойственное совершенном)' человеку. От вас зависит, станет ли оно благословением или проклятием для этого народа. Если вы исполните свои долг, то случится первое, если вы бросите его, то более вероятным станет второе. Как христианские, и в особенности протестантские миссионеры на этой земле, вы должны с пониманием следить за этой борьбой, с родительской заботой и терпением ждать развития событий, молясь, чтобы Он, который есть Бог битв и Бог мирных дней, принес благодатную гармонию на место нынешнего раскола и порядок на место нынешнего хаоса» [там же, с. 278]. Г Джон предложил Западу соблюдать строгий нейтралитет по отношению к борьбе тайпинов с маньчжурской династией.
Немало споров вызывает вопрос о том, помогла или повредила политической судьбе движения тайпинов христианская часть их идеологии. Некоторые исследователи полагают, что «иностранный» оттенок мешал становлению новой администрации, да и обширные заимствования из Библии служат подтверждением некомпетентности вождей тайпинов, оказавшихся неспособными выдвинуть «иную и более адекватную идеологию. Хун Сюцюань, однако, не был китайским Лениным» [Boardman 1952, с. 126]. Похожих взглядов придерживался и Д.Позднеев, полагавший, что причиной поражения тайпинов стала ч; ждость для простого народа богопоклоннического учения Хун Сюцюаня. «Посему то тайпинское движение, как революция, имевшая своею задачею перестроить китайское общество по искаженным принципам христианства, потерпело неудачу немедленно же по завоевании Нанкина, и ни малейшего отражения в китайском обществе тех учений, которые излагались в манифестах, приказах и сочинениях, исходивших от Нанкинского двора, мы не видим» [Позднеев 1898,с. 25].
Среди многочисленных китайских оценок движения тайли–нов заслуживает внимания высказанная в конце 1980–х годов позиция великого китайского ученого Фэн Юланя, продемонстрировавшего необычайно критичный подход к культурному наследию тайпинов. «Па первый взгляд Хун Сюцюань и
Тайпин Тяньго настаивали на учебе у Запада, однако они хотели учиться западной религии, западной средневековой теократии, что было полным разрывом и отвержением общего направления движения за реформы нового времени и основного течения новой истории Китая. Китайские реформы нового времени были нацелены на индустриализацию и изучение западной науки и техники, тогда как теократия Хун Сюцюаня и
Тайпин Тяньго хотели сделать Китай средневековым и религиозным» [Фэн Юлань 1989, с. 64]. Используя излюбленную метафору для определения соотношения формы и содержания той или иной модели обновления Кн тая («новое вино в старом сосуде» или «старое вином в новом сосуде»), Фэн Юлань отнес идеологию тайпинов ко второму варианту, не предлагающему ничего прогрессивного н потому весьма опасному. «На поверхности реформы
Тай пип Тяньго выглядели как антифеодальные, но на деле они помещали старое вино в новые сосуды, меняли бульон, но не лекарство» [там же, с. 64–65]. В целом «теократия тайпинов» была охарактеризована им как сила, «тянувшая китайскую историю к регрессу», положительным же героем, защитившим китайскую традиционную культуру от прозападной религиозной проповеди тайпинов, для Фэн Юланя оказался Цзэн Гофань. В данном случае представляет интерес не столько разительная противоположность этой позиции распространенным в современном Китае позитивным социально–политическим оценкам движения тайпинов, сколько сам факт признания авторитетным ученым серьезности христианской религиозной основы этого движения
[90].
В целом же попытки содержательного сравнения учения тайпинов с христианством приводят к выводу, что Хун Сюцюань в достаточной степени проникся монотеистическим духом Ветхого Завета, считая «Небесного Отца Всевышнего Господа августейшего Небесного Владыку» (Тяньфу Шанчжу хуап Шанди) единственным Богом, которого он противопоставлял как «истинного Бога» (чжзнь Шэнь) всем иным «ложным богам» (се гиэнъ). Под влиянием критических интонаций работы Лян Афа и собственного иконоборчества Хун Сюцюань решительно отверг Конфуция, считая его одним из идолов, несовместимых с поклонением Шанди. Вместе с тем он так до конца и не понял глубинных основ Нового Завета и учения о Троице, из–за чего до самых последних дней рассматривал Бога–Отца, Бога–Сына и Святого Духа как отдельные божества, отказываясь принять критические доводы христианских миссионеров.
Теологию тайпинов можно назвать еще одной формой китаизированного «христианства Ветхого Завета», уже встречавшегося на предыдущих этапах межкультурного взаимодействия. Тайпины убирали на задний план непонятного им Христа, оставляя более близкий им монотеизм Бога Израилева, помогающего в боях с врагами. Они делали акцент на Боге–Яхве, в их религиозной практике было много мессианства и пророчества, они верили, что эпоха божественного откровения еще не подошла к концу Сближение стилистики гимнов таипинов с иудейскими псалмами свидетельствует об «успешной реализации эстетического аспекта»
[91], хотя в теологии таипинов постигла неудача.
«Арианство» Хун Сюцюаня было настолько последовательным, что учение тайпинов трудно назвать христианством в строгом общепринятом смысле. В связи с этим вслед за католически ми исследователями китайского католицизма ХУИ–ХУШ в., ко торые ввели понятие о тянъчжу’иъые китайских религиозных авторов, представляется допустимым говорить о религии тайпи нов как о шанди–изме, или «религии Шанди» (шандицзяо см. [Ван Жуншэн, Гун Сыжэнь 1985]). Выращенный католическими миссионерами, прежде всего иезуитами, тяпъчжул\зм был более рафинированным и интеллектуальным, выросший из протестантской проповеди шанди–изм тайпинов оказался более социальным, практичным и простонародным. Несмотря на различия в форме и содержании христианской проповеди между католиками и протестантами, шанди–изм и ншнъчжу–изм выступают как два различных аспекта общей модели китайского «христианства Ветхого Завета», ибо в обоих случаях реципиентом христианского вероучения были носители китайской культуры, принимавшие Бога без «обременительных» тайн Нового Завета.
Послесловие. Китайское христианство в XX столетии
Трагические события восстания ихэтуаней способствовали тому, что в первое десятилетие XX в. в фундаменталистских кругах миссионеров укрепилась уверенность в необходимости скорейшей христианизации Китая Представители этого направления преисполнились решимости приложить еще больше усилий для «покорения» Поднебесной во имя Христа. Когда же миссионеры проецировали обстоятельства направленного против иноземцев восстания на будущие отношения Китая с внешним миром, они приходили в ужас при мысли о грозящей человечеству опасности. Канадский методистский миссионер Г.Бонд писал: «Таким же образом, как готы и вандалы наводнили и прошли через провинции Римской империи, говорят эти пророки несча стья, смуглые нации Востока — Япония с ее 50 миллионами, Индия с ее 300 миллионами, Китай с его 437 миллионами, с дисциплинированными и научно оснащенными армиями, соразмер ными их огромному населению, — захлестнут и затопят цивилизации Запада. Не Средиземноморье или Атлантика, но Тихий океан будет ареной величайших и решающих мировых сражений. Это пророчество несчастья вполне может осуществиться. Но случится ли это? Нет, если христианская церковь исполнит свой долг сегодня. Нет, если развитие Китая станет не антихристианским и даже не нехристианским, но доминирующе христианским. Пусть церкви Запада полностью исполнят свой долг для Китая и для Христа, и желтая угроза никогда не возникнет как зловещее знамение, тревожащее мир» [Bond 1911, с. 29–30] В этом контексте распространялось убеждение, что лишь распространение христианства будет способно сблизить цивилизации Запада и Китая.
Революция 1911 г. оказала значительное влияние на восприятие миссионерами ситуации в Китае и на оценку ими смысла и перспектив своей деятельности. Распад старого порядка трактовался ими как внезапно наступившая расчистка китайского духовно–культурного пространства, которое может быть заполнено как христианскими ценностями, так и плотским материализмом. «Так много помещений в храме китайского сознания ныне стали пустыми, вычищенными и украшенными, и им не хватает Господа» [Bitton 1914, с. 57]. Они подчеркивали срочность задачи евангелизации Китая, заявляя, что «это требование сегодняшнего дня, оно неотложно и его время может пройти (the demand is present and pressing, and is passing). Ситуация неустойчива, Китай еще не сформулировал свой путь и свои нужды, и потому завтра вместо христианства может прийти конфуцианство, смесь религий, или послезавтра просто неверие» [там же, с. 242]. Миссионерский автор нарисовал апокалиптическую картину пробуждения агностического материализма, всегда стоявшего у ворот китайского сознания: когда китайцы станут жить сегодняшним днем, «ничто не сможет достаточным образом сдержать пороки, эгоизм, пренебрежение человеческой жизнью и принятие поли–тиками „евангелия силы“ как последнего слова, — то есть всего того, что так безошибочно выделяет китайцев, распростившихся с религией и моралью» [там же, с. 243].
Одновременно в рядах иностранных миссий все больший вес набирало либеральное крыло священнослужителей, делав главный акцент на так называемом «социальном евангелизме». Сторонники социального направления ставили своей целью достижение «коллективного спасения» путем расширения педагогической и медицинской деятельности. Они перестали именовать местных жителей «язычниками», отказавшись от гонки за числом неофитов или количеством розданных Библий, так как полагали, что задачи христианизации Китая более успешно будут решаться благодаря созданию в стране современного здравоохранения и образования, несущих людям позитивные знания о западной цивилизации.
Большинство сторонников «социального евангелизма» прибыли в Китай незадолго до Первой мировой войны или сразу же после нее. В отличие от фундаменталистски настроенных предшественников они не концентрировались на индивидуальном спасении китайских душ путем доведения до людей истин вероучения, в связи с чем задачи критики традиционной китайской культуры отступили для них на второй план. В какой–то мере они даже симпатизировали конфуцианской традиции, гчитая ее социальные аспекты вполне совместимыми с задачами христианской проповеди. Социальный подход был хорош еще и потому, что он соответствовал традиционной китайской озабоченности моральными и общественными проблемами. Либерально настроенные миссионеры принимали прагматический менталитет китайцев как данность и пытались подстроиться под его запросы, стараясь показать людям утилитарные социальные выгоды, получаемые в процессе реализации принципов христианского гуманизма. К 1920–м годам воинственные миссионерские лозунги «евангелизацпи мира при жизни нынешнего поколения», «спасения душ от вечной смерти» и «ниспровержения фальшивых религий» окончательно ушли на задний план. «К началу 1930–х годов либеральное движение в зарубежных миссиях привнесло неустранимое самосознание конечности христианства и западной культуры. Это препятствовало любому возврату к словарю и менталитету христианского „завоевания“ остальной части мира» [Lian Xi 1997, с. 228].
Западные миссионеры пытались адаптироваться к нарастанию революционно–патриотических настроений среди своей китайской аудитории. Вот как рассуждал об этом активный деятель ИМКА в Китае и сторонник «социального евангелизма» Шервуд Эдди: «Долгий опыт привел нас к выводу, что в ходе рассказа о христианстве китайской аудитории в первые три вечера надо сосредоточиться на трех ключевых темах в следующем порядке — грех, Бог, Христос. Но как мы можем довести эти темы до материалистически настроенных студентов, которые на деле никогда не знали и не задавались вопросом о том, грешники они или нет, существует ли Бог и духовная вселенная, и менее всего — о Христе? Превыше всего их занимала одна тема — что может спасти Китай? Поэтому вместо специальных теологических предметов, мы могли бы анонсировать такие темы, как „Кризис в Китае“, „Нужды Китая“, „Надежда Китая“. К моменту окончания собрания многие студенты и молодые люди понимали бы, что отчаянный кризис в Китае в основе своей является моральным кризисом, коренящимся в грехе; что если Китай был богат идеями, но не имел моральной динамики, то, возможно, глубочайшей необходимостью Китая было открытие Бога; и что надежда Китая фундаментальным и уникальным путем связана с Иисусом Христом — путем, который не связывает его с Конфуцием, Лао–цзы или Буддой, материализмом, нетеистическнм гуманизмом или любой другой системой или персоной» [Eddy 1944, с. 101–102].
В сложившейся ситуации даже неплохо образованные миссионеры с долгим стажем жизни в Китае с трудом могли определить свое отношение к китайской традиции, одновременно отвергая ее как препятствие к обновлению Китая и в то же время признавая ценность морального учения конфуцианцев. Попытка обобщить подход к китайской цивилизации была предпринята в 1907 г. протестантами на «Конференции столетия», где подверглись осуждению греховные стороны повседневной жизни китайцев — дебош, пьянство, употребление опиума, жадность, обман, склонность к угнетению себе подобных, многоженство, самоубийство, покупка и продажа жен и дочерей, пренебрежение к детям и даже их уничтожение, пустое и расточительное идолопоклонство. При этом послание христианской религии провозглашалось не как осуждение и наказание, но прежде всего как покаяние и спасение через обращение сердца и жизни к Богу: «…надежда была на то, что христианство пропитает китайское общество, все более влияя на общественное мнение, побуждая людей испытывать стыд за злое поведение и воздавая им почет за доброе. Бедность не позорна; но постоянное взятие в долг приносит убыток и вред, а не исцеление; долг напоказ, например для роскошной свадьбы, есть серьезное зло». Миссионеры пытались убедить китайцев в том, что использовать одолженные деньги «для того, чтобы сделать родителям великие похороны, на деле есть не почитание родителей, а порочащее их деяние непочтительного сына» [Bates 1974, с. 145]. На конференции также было подчеркнуто, что «вера в незримые духовные существа является общей для всего человечества. Но в то время как большинство наций имеет свои религиозные культы и поклоняется многим духовным существам, таким, как божества холмов и рек, сельского хозяйства, благосостояния и целительства, а также обожествленным национальным героям древности, христиане почитают только одного Бога, который Всевышний и о Ком Христос учил людей говорить как о „Нашем Отце Небесном**. Христианам запрещены иные жертвоприношения, воскурения, молитвы или поклонения, посягающие на почести, надлежащие лишь одному Богу» [там же, с. 147】.
Затронув тему замечаемого многнми сходства христианства с учениями китайских мудрецов, конференция 1907 г. признала существование таких совпадений, подчеркнув при этом, что определяющими все–таки являются различия, коренящиеся в безусловном признании христианами одного Бога. Миссионеры по–прежнему не могли признать конфуцианство достаточным для дальнейшего духовного развития Китая, подчеркивая необходимость его «достройки» при помощи христианских истин. «История конфуцианства есть одно из выдающихся доказательств радикального провала даже самой утонченной моральной системы в попытке спасти человека до тех пор, пока она не вооружится силой спасения. То, что моральное учение терпит неудачу без Спасителя, есть величайший урок конфуцианства христианскому наблюдателю и высшее послание христианского миссионера лидерам и простым китайцам сегодня. Задача придания реальности исповедуемым добродетелям китайской морали затрудняется моральной извращенностью, существующей в Китае столь повсеместно, она отчуждает доктрины от практики, слова от дел в ущерб возвышенности человеческого характера; однако факт, что кардинальные добродетели китайского учения и христианского идеала в основном согласуются, дает христианской церкви большое преимущество." Дайте формальной системе конфуцн–анства христианскую мотивацию — и утверждение общественной морали уже в руках. Облечь костяк высоких конфуцианских наставлении плотью христианской истины и зарядить ее целиком Святым Духом воплотившегося Христа есть полномасштабная задача христианского Евангелия в Китае» [Bitton 1914, с. 214— 215].
В начале XX в. наступил непродолжительный период расцвета мнссионерской деятельности Русской православной церкви, когда во главе 18–й Российской духовной Миссии в Китае стоял архимандрит Иннокентий (Фигуровский). Он уделял значительное внимание переводам на китайский, практике богослужения на китайском языке и православному образованию для китайских детей. До начала Первой мировой воины Миссия крестила 1340 китайцев. Как было сказано позднее в отчете Миссии, «1900–й год имеет в истории Русской Духовной Миссии в Пекине исключительное значение; в этом году прекратила свое существование старая Миссия и возродилась новая — с новым направлением и новыми целями; новая Миссия сознательно поставила своей целью распространение христианской веры в Китае и практически стремилась осуществить свое апостольское призвание» [КБ 1914, вып. 1–2, с. 11]. В ходе попыток исполнить свою миссию в Китае российские священнослужители часто приходили к выводам относительно китайской культуры и ее перспектив, очень схожим с суждениями их инославных современников. В отчете о работе Миссии за 1907 г. Иннокентий назвал Китай «широким полем деятельности для истинно верующих русских людей», жалуясь при этом: «К сожалению, однако, никто не внемлет нашему гласу мольбы, когда мы ходатайствуем о расширении миссии. Как будто ни кем не сознается, какое огромное значение представляет Китай для православия и что только усиленное распространение православия в недрах Китая может в будущем спасти Россию от нового грозного монгольского нашествия» [КБ 1908, вып. 9–10, с. 3–4].
В начале 1914 г. член Миссии архимандрит Авраамий уехал в Петербург и Москву для сбора пожертвований на строительство собора в Пекине и организации Китайского православного братства. Во время чтения публичных лекций о Китае он поднимал перед аудиторией проблему наплыва китайцев на российский Дальний Восток и предлагал «бороться не с людьми, а с книгами, для чего необходимо распространение русских книг на китайском языке» [КБ 1914, вып. 15–16, с. 21]. Иными словами, миссионер видел главную опасность не в самом факте прибытия китайцев в Россию, а в основанной на конфуцианском воспитании внутренней сплоченности китайской диаспоры, которой надо было противопоставить распространение среди новоприбывших российской веры и культуры. Архимандрит указывал на необходимость изучать Китай и деятельно работать над распространением русского влияния и православной веры в Китае, отмечая при этом необходимость специализированной подготовки миссионеров для работы среди китайцев. Обращают на себя внимание ссылки Авраамия на малую восприимчивость к вере ученых китайцев из–за их «языческой гордости», а также на трудности в миссионерской работе, проистекающие из китайского культа предков: «Говоришь китайцам, что не хорошо поклониться предкам, а они отвечают, что русский не почитает старших, и готовы отвернуться… Приходится быть настойчивым, ловким, не боящимся тех двухсот томов, в которых изложены правила почитания предков» [там же, с. 22]. Эти слова со всей очевидностью показывают, что проповедническая работа среди китайцев заставила православных миссионеров задуматься о тех же вопросах совместимости христианского вероисповедания с культом Конфуция и почитания предков, которые к тому времени уже несколько веков занимали умы их инослав–ных коллег.
Критика китайской культуры православными священнослужителями во многом напоминала аргументы инославных миссионеров. В 1909 г. на страницах выходившего в Пекине «Китайского благовестника» появились статьи протоиерея И.Востор–гова, сетовавшего на то, что «граф Толстой в России только и знает, что ссылается на китайских мудрецов Конфуция и Лао–цзы, а многое достойное внимания, преимущественно перед христианством, видит и в религии Фо, т.е. в китайском буддизме», при этом «целые мнимо–ученые книги силятся доказать, что Христос если не ниже, то не выше языческих мудрецов», в итоге «невольно и с ужасом помышляешь, что не христианские народы теперь оказывают влияние на языческий Восток, как это было прежде, а наоборот…» [КБ 1909, вып. 15–16, с. 2]. Конфуцианство представлялось священнику несостоятельной попыткой подменить истинную религию набором «практических жизненных советов» — по его мнению, китайцы «не могут не тяготиться возведением злобы в добродетель и мести в обязанность (Конфуций), смутными гаданиями о бессмертии, равными его отрицанию (Лао–цзы)» [там же, с. 4–5]. В другой публикации тот же автор сослался на традиционное для китайцев поклонение образу дракона для постановки зловещего вопроса: «Не здесь ли древний змей–искуситель уготовал себе царство, не здесь ли он желал и желает укрепиться и дать самый жестокий бой и отпор ненавистному для него царствию Божию, Церкви Христовой, народам христианским?» Устойчивость китайской традиционной цивилизации была истолкована как свидетельство коварства происков дьявола, который «в язычестве Востока приуготовил крепость себе для будущей борьбы с Христом. Он даже не подрывал здесь устоев жизни, не губил эти народы развратом и нравственным растлением… но он отгородил их гордынею, злобою и страхом подозрительности от всего христианского и долго соблюдал их в таком положении» [КБ 1909, вып. 13–14, с. 4].
Автор заключил, что направлявший пути Китая дьявол в обличье дракона уже посрамлен и теперь православным необходимо спасти Китай не столько от Сатаны, сколько от усвоения европейской культуры,«как силы только внешней и животной, разрушающей те добрые патриархальные свойства народа, которыми он украшался доселе: сыновнее почтение, верность преданию жизни, добродетели общежития — вежливость, услужливость, трудолюбие и постоянство». Китайцам вместо языческого благочестия предложено было дать высшую силу христианства, а заодно спасти человечество от возможного страшного кровавого натиска 400 млн. язычников, которые «если не будут взяты в свободный плен вере Христовой и послушание царству его, то, потеряв прежние устои, в разливе озлобления и кровожадности, усвоив разрушительные орудия цивилизации, могут смести с лица земли все образованное человечество и самую цивилизацию!». Хотя в словах И.Восторгова о «смертельных конвульсиях издыхающего зверя»
[92] звучит явный отзвук боевых рассуждений западных миссионеров того времени о «христианской оккупации Китая», достойна внимания приводимая им критика «предрассудка» ,распространявшегося в те годы некоторыми западными учеными, в соответствии с которым китайцы в силу национальной традиции не имеют влечения к религии либо вовсе не способны к ней.
Проблема соотношения культур Китая и Запада привлекала пристальное внимание православных миссионеров начала XX в. К примеру, в журнале «Китайский благовестник» был напечатан перевод статьи «Возрождение Азии» некоего Р.Брода, опубликованной ранее в «Le Journal de P^kin». Западным автором была поднята серьезная и до сих пор актуальная проблема — «способны ли народы Азии только к усвоению западной культуры или же они будут в состоянии сделать новые и драгоценные вклады в нашу цивилизацию, или лучше — в будущую синкретическую и мировую цивилизацию?» [КБ 1914, вып. 7–8, с. 11]. Брод заявил, что в экономической, социальной и политической областях народы Азии еще долго будут учениками стран Запада, но в области морали и философии Западу нужно учиться у Конфуция, ибо духовные силы азиатских народов обогатят Запад. В итоге «умозрения Востока соединятся с умозрениями Запада», а из этого соединения произойдут новые ценности, плодотворные для нашего искания истины. Православный ответ на эту публикацию дал «И Х.» (предположительно игумен Христофор из Успенского мужского монастыря в Пекине), выразивший несогласие с принижением роли христианской культуры. «Только тогда, когда Китай примет христианство и положит в основу своей жизни христианские начала, начнется действительное возрождение Китая. Постепенно китайская культура, сохраняя свои индивидуальные особенности, будет проникаться Духом Христовым и принимать внешние формы, отвечающие требованиям учения Христова», стремление же Китая заимствовать лишь внешние достижения навсегда закрепит его отставание от Запада. Примечательна мысль о том, что конфуцианство как закон естественной земной жизни и христианство как закон высшей духовной жизни могут быть гармонизированы. «Конфуцианство может быть согласовано с нравственными началами естественной жизни Запада и составить общечеловеческое основание, на котором должен созидаться храм Божий — Царствие Небесное» [там же, с. 19]. Священник сделал обращенный в будущее вывод о том, что, «если Китай возродится духовно, он может создать своеобразную духовную культуру; тогда, может быть, и Западу будет чему научиться у него».
Православные миссионеры начала XX в. признавали, что их церковь выступила на поприще проповеди в Китае с большим опозданием, но это не внушало им робости
[93]. «Несмотря на то, что инославные миссии располагают гораздо большими средствами и имеют хорошо организованное миссионерское дело, китайцы во многих местах отдают предпочтение православной вере перед католичеством и протестантством. Это обязывает и нас, православных, с большим вниманием относиться к делу миссионерства в Китае. И в видах религиозных, и в целях государственных мы должны стремиться к насаждению православия в Китае. Китайцы наш ближайший на Востоке сосед. И если мы сумеем сделать их братьями по вере, то тем самым мы предотвратим возможность многих грозных столкновений в будущем» [КБ 1914,вып. 1–2,с. 2]. Накануне Первой мировой войны Миссия ставила амбициозную задачу расширения числа православных храмов в Китае, способных привлечь к вере «любопытствующих язычников» не только величием, но и проповедью на китайском языке. Даже в первые годы воины велась активная работа по сбору пожертвований на строительство в Пекине величественного собора, который символизировал бы превращение города в религиозную столицу китайского православия. Однако бедствия военных лет осушили поток финансовой помощи из России, а вслед за прибытием η Китай сотен тысяч российских беженцев Миссия целиком занялась их духовными нуждами, на многие десятилетия отложив в сторону дело проповеди среди китайцев.
Тем временем по мере распада и ухода в прошлое императорского Китая оценки китайской культуры и китайского национального характера западными миссионерами становились все более и более смягченными. Нельсон Биттои, бывший заместитель редактора шанхайского миссионерского журнала «The Chinese Recorder», оставил ряд достаточно представительных для начала XX в. характеристик китайской культуры и общества. Его критика конфуцианского морального норматива близка к критическим голосам антитрадиционалистов из рядов китайского демократического движения той эпохи. «„Благородный муж“ Конфуция был умеренным, отстраненным, лишенным энтузиазма и с осмотрительным темпераментом, сознающим свое превосходство и не мешкающим с демонстрацией доказательств этого. Позиция интеллектуального довольства, проявившаяся в национальном характере и во многом приведшая китайцев к бедам и несчастьям в последние годы, должна быть отнесена на счет конфуцианского характера. Акцент был сделан на поведении, а мораль по большей части внедрялась с чисто утилитарной точки зрения» [Bitton 1914, с. 52–53]. Вместе с тем он признал, что конфуцианство имело положительные стороны: оно передавало из поколения в поколение понятие о Боге — Шанди н под–держивало близкие христианству идеи морального поведения и добродетели. Биттон признал, что китайцам присуще сильно развитое чувство выгоды, что прекрасно проявляется в их коммерческих способностях. Таким же утилитарным образом китайцы подходят и к религии, в связи с чем «одной из задач христианства в Китае было доказательство того, что выгоды высшего порядка относятся к практике веры в Иисуса Христа» [там же, с. 120–121]. Именно к практичности китайского сознания Н.Бит–тон отнес успех медицинской деятельности христианских миссий в Китае.
Другой особенностью китайского сознания Н.Биттон назвал отсутствие духовности и формализм, связанные с тем, что многие столетия людской «инстинкт» поиска божественного был заслонен размышлениями о стяжании благ в этом мире. С другой стороны, он указывает на доверчивость, связанную с суеверностью, которая приводит многих китайцев «простого типа» в христианскую церковь. Н.Биттон указал как на традицию суеверий в китайской культуре, прежде всего в даосизме, так и на опасность, вырастающую внутри китайской христианской церкви. Последняя связана с тенденцией восприятия необразованными людьми христианства как «магии высшего порядка», приписыванием Библии и молитвенникам магической и защитной силы. Хотя эта традиция делает христианство более привлекательным для простых людей, повсеместно верящих в одержимость демонами и возлагающих на молитву большие практические надежды, миссионер предупредил, что эти черты могут оказать негативное воздействие на дальнейшее развитие христианской общины в Китае.
Десятилетие спустя в опубликованной в 1928 г. отделом зарубежных миссий Объединенной церкви Канады книге «Вперед с Китаем» не давалось уже практически никаких негативных характеристик китайского национального характера. Дж.Л.Стюарт охарактеризовал китайцев как людей трудолюбивых, настойчивых и неустанных в своем труде («ханьцы — устойчивые бегуны на длинную дистанцию»), мужественных, физически выносливых, терпеливых, экономных, умных, успешных подражателей, изобретательных и быстро размножающихся. Здесь не было уже ни слова о «лживости» или «двуличности» китайцев, более того, сравнение их с англосаксами оказалось уже не противопоставлением, а уподоблением: «Они шотландцы Востока, эти сыны Синима. Китаец не скареден. Он любит хороший пир, одежду и дом. Но он знает цену своим деньгам, и расточительство беспокоит его» [Forward with China 1928, с. 17].
Движение протестантских миссионеров в сторону позитивной переоценки отвергнутой ими поначалу китайской культуры началось еще в конце XIX в. Однако реальное утверждение духа межкультурного взаимодействия, позитивного восприятия китайской традиции и уважительного отношения к ней, включая пристойное поведение миссионеров в китайских «языческих» храмах и распространение среди них желания изучать китайскую классику, пришло лишь в 1920–1930–е годы. <*К тому времени южные миссионерские советы, представляющие баптистов, методистов и пресвитериан, внедрили чувствительность к местной культуре в качестве повседневной части миссионерской политики» [Flynt, Berkley 1997, с. 90]. Ш.Бейтс выделяет две ступени этой эволюции. В XIX в. первые посланники протестантов прибывали в Китай с незыблемой убежденностью в божественном авторитете Библии. Видя местные суеверия и идолопоклонство, они становились в оппозицию к китайской традиции, требуя от неофитов отречения от нее. Однако со временем миссионеры начали более глубоко задумываться о проблемах китайской культуры. «Постепенно появились сопоставления Бога с „Небом; Моисея, пророков и Иисуса с Конфуцием и другими китайскими мудрецами; Библии с китайскими классиками; христианского комплекса грех — обращение — спасение с китайскими понятиями о человеческой природе и самосовершенствовании, моральных стандартах. Усилия миссионеров по проповеди христианства вели к постепенному умножению и углублению их связей с китайцами как соседями, собратьями по вере и сотрудниками, которые не просто продолжали жить внутри китайского общества и культуры, но и привнесли в зарождающиеся китайские церкви набор их собственных прежних ценностей и идей» [Bates 1974, с. 157] Вслед за распадом прежнего китайского порядка, строившегося на слиянин власти и конфуцианской ортодоксии, миссионеры не только смягчали критику, но даже начинали испытывать ностальгию по утрачиваемым китайцами традиционным этическим нормам.
Миссионеры начала XX в. пытались глубже осмыслить воздействие своей проповеди на стержневую идею китайской традиции —на ее антропоцентричность. «Христианство вознаградило китайцев полностью новой идеей человека, через Тьорение и искупление Сына Божьего. Отцовство Бога предполагает братство всех людей через Иисуса Христа — впервые классическое поучение „все братья в пределах четырех морей“ было оживлено смыслом, отношения между Богом и человеком были определены. В Китае, как и во всех восточных странах, индивид сравнительно малозначим, семья, клан и общество стоят превыше всего, женщина не в почете. Именно там, где китайская общественная и семейная жизнь слабее всего, неизмеримые благословения христианства становятся наиболее убедительно очевидными. Оно дает достоинство и благородство человеку,открывая его индивидуальную ответственность перед Богом. Оно возвышает женщину, утверждает отношения между мужем и женой, прославляет материнство н детство» [Smith 1912, с. 230]. Стоит обратить внимание на то, что сходные идеи можно найти и в современной китайской христианской апологетике, строящейся вокруг идеи христианского возвышения ценности индивида, выводимого связью с Богом из порабощающих его дух патриархальных семейно–клановых отношений
[94].
Если миссионерский «спор об именах» завершился к началу XX столетия, то «спор о ритуалах» был продолжен, хотя и в усеченном виде — изменение социального уклада Китая лишило актуальности тему совместимости с христианством культа поклонения Конфуцию, однако по–прежнему животрепещущей оставалась проблема семейного культа китайцев. Н.Биттон призвал сохранять и развивать ценные элементы в китайских обычаях поклонения предкам, сыновней почтительности и молитв на могилах в праздник Цииминцзе, охарактеризованный им как «чистая ясность», Весна или Пасха (термин и курсив Биттона)— с оговоркой о необходимости исключения из них всего недостойного, антихристианского и идолопоклоннического. «Пятая заповедь все еще есть один из краеугольных камней христианского закона, более верно соблюдаемая в нехристианском Китае, чем в Европе или Америке. Нельзя, чтобы ее смысл и сила ускользали или искажались из–за бездумной оппозиции всему, что принадлежит нехристианским обычаям этой земли» [Hilton 1914, с. 136]. Что касается китайских народных праздников, то Н.Биттон выразил уверенность в том, что многие из них могут быть поставлены на службу христианству, к примеру, он указал на Праздник Луны (15–й день 8–го месяца), который охарактеризовал как праздник «Благодарения за урожай», ждущий своей христианской интерпретации. «Разрушение преемственности религиозной жизни редко бывает полезным, оно лишь увеличивает трудности, стоящие перед христианским евангелистом. Многое из наследия прошлого в Китае ждет очищающей и преображающей силы христианского Евангелия. Естественная религия, в свою очередь, может быть превращена в „учителя, приводящего людей к Христу“» [там же, с. 138].
Б 1920–е годы миссионеры ирншли к выводу, что сложная п деликатная задача христианского прочтения китайских обычаев поклонения предкам должна быть возложена на китайских священнослужителей, более тонко понимающих их смысл и символику. «Западные миссионеры в ходе длительного процесса преподавания и практики еще могут предложить свою помощь и поддержку, но в конечном счете проблема будет решаться самими китайцами. Лишь те, кто вырос ыгутри системы, строящейся вокруг поклонения предкам, смогут выработать разумные предложения по его будущему изменению и облагораживанию. Поклонение предкам ожидает решения со стороны тех, кто являются настоящими китайцами и настоящими христианами. Пре–дадим же без опаски его судьбу в их руки» [Addison 1924, с. 597]. Однако китайским христианам, унаследовавшим в своих взглядах фундаменталистские либо, напротив, либеральные взгляды своих миссионерских наставников, оказалось затруднительным дать окончательное суждение по этому вопросу. Несмотря на недостатки практики поклонения предкам, связанные с меркантильным желанием получить от умерших какие–то блага либо суеверным страхом перед духами обиженных родителей, о которых дети не заботились при жизни, некоторые китайские участники дискуссии признавали допустимым превращение этой практики в акт поминовения усопших, совместимый с христианством. Другие полагали, что надо разделять ритуальные действия, исполняемые образованными либо необразованными людьми — в первом случае речь идет о выражении чувств уважения к предкам, во втором имеет место несовместимое с христианством суеверие. Их оппоненты возражали, что главным культом китайцев становится «долларократия» и погоня за богатством, напрочь лишившие культ предков какого–либо позитивного содержания и оставившие от пего лишь то низкое и недостойное, что никак не может быть совмещено с христианством (см. [Present–Day 1928]).
Как н в XIX столетии, отдельные миссионеры пытались двигаться навстречу китийским религиям, но, как и прежде, они не встречали широкой поддержки и понимания в своей среде. Карл Людвиг Рейхельт (1877–1952) из Норвежского миссионерского общества приступил в 1920–е годы к созданию организации, которая специально бы занялась привлечением буддистов к христианству. В конце 1922 г. в Нанкине нм была основана «Христианская миссия к буддистам». В отличие от своих пред–шествсиникоБ XIX в., сопоставлявших китайскую и христианскую духовность обращусь к образованным слоям китайского об1дества,Рейхельт решил наводить мосты между культурами на низовом уринне, в результате чего появилась община монастырского типа, получившая название Цтнфэншань {Гора чистого ветра). Б обиишу принимали буддистов и искавших приюта странников, одновременно там шло обучение христиан. Вслед за революционными событиями 1927 г. «Христианская миссия к буддистам» переместилась п Гонконг, где ъ заметно изменившемся виде сохранилась до сегодняшнего дня.
Рейхельт призывал миссионеров подходить к верующим буддистам «с симнатией, используя точки соприкосновения, существующие у всех великих религиозных систем, в то же время Depno обозначая уникальность христианства и показывая им, что высшие чаяния могут быть исполнены в Иисусе Христе, всеохватывающем Слове Бога, Вечном Логосе, «сияющем во тьме» и ^освещающем каждого человека, приходящего в мир». Мы твердо верим, что все благое и истинное в любой религии и культуре происходит от Христа — Вечного Логоса, через которого произошли все вещи и в ком они имеют свою настоящую жизнь и свет» (цит. по [Covell 1986,с. 128]). Опираясь на Евангелие от Иоанна, Рейхельт доказывал, что зерна истины есть и в нехристианских религиях, которые должны быть использованы при подготовке носителей других культур к принятию христианства. Он настойчиво проводил в жизнь свой план по приведению к вере буддистов, которых называл
даою — «друзьями Дао» или, в случае евангельского толкования понятия
дао, «друзьями Логоса». Рейхельт уделял огромное внимание тем носителям китайской культуры, что еще не приняли крещение, но уже почувствовали интерес к Новому Завету и его учению. Он полагал, что для таких людей Христос сможет стать полной реализацией и воплощением
Дао, присутствующим во всех трех религиях Китая. Рейхельт признавал важность «космического опыта», получаемого последователями иных религий, хотя и не считал его равным обретению новой жизни во Христе, тем не менее все же присутствующего в китайских религиях в виде «скрытого Логоса». Отмечая, подобно своим предшественникам, обилие заимствований из буддизма в китайском христианском лексиконе, он предлагал продолжить этот прервавшийся процесс
[95]. Однако попытки Рейхельта видеть вокруг себя лишь «точки соприкосновения» различных религий привели к тому, что современники обвинили его в излишнем смешении истин буддизма и христианства, которые при таком синтезе утрачивали аутентичность для обеих сторон.
В то время как протестанты все активнее искали пути «отуземливания» (бэнъсэхуа) христианства, католическая церковь с некоторым запаздыванием начала собственные поиски способов его «китаизации». В начале XX в. «католическая евангелиза–ция Китая была нацелена на необразованных крестьян в деревне» [Wiest 1988, с. 74], что отличало ее от более «сбалансированной» стратегии конца XVII — середины XVIII в., когда одна часть миссионеров вела работу с массами в сельских районах, а другая, состоявшая преимущественно из иезуитов, работала в городах над христианизацией китайского общества «сверху». Уже во второй половине XIX в. обнаружилось, что «идеальным католическим миссионером в Китае был не интеллектуал, чья западная академическая подготовка и совершенное знание китайской классики привлекали бы образованных городских жителей, но скорее первопроходец, способный смешаться с китайскими погонщиками буйволов и крестьянами» [там же, с. 75].
Однако борьба за души образованных городских слоев и политической элиты, активно развернутая протестантами, убеждала католиков в необходимости изменения методов и содержания их работы. В начале XX в. возникло понимание того, что если католическая церковь желает укрепить свои позиции в Китае, то она должна найти выход на образованные городские слои, стоящие на переднем крае трансформации общества. В качестве примеров практической реализации этой политики можно указать на появление в 1903 г. иезуитского Университета Аврора в Шанхае, созданного с участием Ма Сянбо, а также на открытие в 1911 г. патером Винсентом Леббе первого католического публичного лекционного зала в Тяньцзине и основание им же в 1915 г. первой китайской католической ежедневной газеты И ши бао. В 1926 г. папа римский интронизировал в епископы шестерых китайцев, что должно было продемонстрировать стремление Ватикана создать китайскую католическую церковь. Однако «ни одному из этих епископов не был доверен значительный викариат. Важнейшие посты по–прежнему занимали иностранцы, и девять десятых епископов были по–прежнему иностранного происхождения и подданства» [ЬаЮигеие 1929, с. 727].
Вдохновленные примером протестантов, научившихся снимать разногласия и согласовывать свои действия в Китае, католики также решили создать общенациональную координирующую структуру, что завершилось проведением в 1924 г. в Шанхае заседания Генерального Синода. Помимо шумных мероприятий в связи с посвящением католических миссий в Китае Деве Марии на этом совете было решено принять единый общенациональный катехизис для замены приблизительно ста, находившихся в то время в обращении. Действуя во исполнение резолюции, апостолический легат Константини созвал специальный комитет для написания официального катехизиса. Традиционные серии вопросов и ответов были опубликованы в 1934 г. под названием «Катехизис»
(Яоли еэньда), а из 377 вопросов стандартного издания 87 были собраны в «Упрощенный катехизис»
(Цзянъянъ яоли) для детей и малограмотных взрослых. В конце 1928 г. патер Лео Ван Дайк создал китайский катехизис с 40 цветными иллюстрациями
(Вэньда сянцзе, Тяньцзинь), которые можно было использовать отдельно как плакаты, изображавшие католицизм частью китайской жизни. Едва ли не впервые на большинстве картинок были изображены не европейцы, а китайцы, китайский оттенок был привнесен даже в иллюстрации к Ветхому и Новому Заветам
[96].
В конце 1920–х годов бельгийский католический миссионер Жозеф Руттен пришел к выводу, что церковь должна создать свою элиту из верных прихожан, прежде чем принятие католицизма будет считаться в Китае респектабельным выбором. По его мнению, главным препятствием на пути роста числа неофитов было явно выраженное среди китайцев чувство стыда, которое он толковал как самую достойную эмоцию. Пока христиане в Китае пребывают в меньшинстве, друзья и близкие будут смотреть на неофита как на человека с претензиями или неуравновешенного типа, его неловкие ответы на вопросы друзей вызовут сарказм. К тому же в Китае уже три столетия публикуются антихристианские брошюры, что усиливает отчуждение со стороны потенциальных членов церкви и их друзей. Многие взрослые китайцы просто стыдятся войти в церковь, совершить поклон, молиться — им кажется, что на них смотрит весь мпр. Руттен заключил, что с таким чувством стыда церковь должна бороться (см. [Lutz 1965,с. 30—31]〉,и предложил сосредоточиться на увеличении рядов и повышении качества китайской элиты среди католической общины, весьма немногочисленной на фоне колоссального населения страны. Если бы это произошло, то «в глазах всех подлинных патриотов такая элита стала бы не только олицетворением защиты для христианского меньшинства, но также наиболее стабильной и славной частью всей нации. Когда элита будет создана, ни один патриотический китаец не будет думать об оскорблении или унижении христиан, более того, никто не будет думать об оскорблении или унижении Китая!» [там же, с. 33].
Одним из представителей этой католической элиты стал в первой половине XX в. Лу Чжэнсян, смело заявивший: «Я конфуцианец, поскольку моральная традиция, на которой я был воспитан, глубоко проникает в природу человека и ясно прослеживает линию его поведения по отношению к Творцу, его родителям, его друзьям, индивидам и обществу. Я христианин н католик, поскольку Святая Церковь, предуготовленная с начала человечества, основанная Иисусом Христом, Сыном Божиим, божественно просвеи;ает и поддерживает души людей, давая окончательные ответы на все наши высшие мысли, на все наши лучшие чаяния, на все наши вдохновения, на все наши нужды» [Dom Pierre C61estin Lou Tseng–Tsiang J948, с. 64–65]. Лу Чжэнсян подчеркивал позитивное христианское значение китайского понятия о сыновней почтительности, связывающей человека с социальным и семейным бытием, определяющей духовную и моральную жизнь человечества, видя здесь источник устойчивости китайской цивилизации. Он активно боролся за перевод богослужения с латыни на китайский язык и крайне сожалел, что католическая литургия не смогла приспособиться к китайскому литературному языку, «восхитительно подходящему к григорианскому распеву», оставив богослужение «закрытой книгой для желтой расы». Лу Чжэнсян отдавал себе отчет в том, что изменение языка богослужения может вызвать «страх отделения церкви в Китае от остальной церкви таким образом, что дальневосточное христианство лишится тех благ, которыми в ходе истории обогатилась вселенская церковь» [там же, с. 88–89]. Однако он настаивал на том, что желание дать китайцам понятную религиозную практику на их родном языке не должно исключать глубокого знакомства и участия китайских католических священников в церковном наследии или их братских отношений с епископатом II клириками всей церкви.
В протестантском церковном истеблишменте отношение к китаизации церкви было неоднозначным. Признавалось, что «церковь, независимая от зарубежного контроля, будет более привлекательной для китайцев–нехристиан, станет быстрее развиваться сообразно китайским реалиям, будет обеспечена верностью своих прихожан и будет свободна от западных церковных ограничений в догматике и организации» [Stauffer 1922, с. 380]. Однако миссионеры опасались не только неготовности китайцев взять на себя управление церковью, но и того, что вместе с иностранным контролем они отбросят и само христианство, избирательным образом оставив от воспринятой религии понятные или интересные им аспекты. В 1912 г. миссионер Дж.Дуглас настоятельно подчеркивал, что китайская церковь «должна быть церковью, то есть уникально христианской вещью, состоящей из живых членов живого Христа, а не обществом взаимного улучшения, основанным на неком даодэ (моральном образе жизни)» (цит. по [Varg 1958, с. 103]). В популярном миссионерском учебном пособии 1936 г. отмечалось, что западные христиане еще не привыкли к мысли о существовании китайской христианской церкви, продолжая считать ее частью западных христианских церквей. Однако такая церковь уже существует, и «хотя невозможно отрицать, что она потерпит значительный ущерб, если все иностранные миссионеры будут отозваны, немыслимо, чтобы она прекратила свое существование» [Houghton 1936, с. 122].
Большой интерес представляет история зарождения независимых китайских христианских движений, которые возникли вне сферы действия иностранных миссий. Отчасти их можно сопоставить с тайпинским движением, поскольку в обоих случаях имел место синтез китайской традиции с протестантскими теологическими представлениями. Примечательно, что эти жизнеспособные формы китайского христианства образовались не из синтеза с конфуцианством, к чему поначалу звали иезуиты, а потом и наиболее просвещенные из протестантских миссионеров, а на базе сближения с народными религиями. В начале XX в. наиболее консервативные группы китайских верующих решили попытаться «вернуться» к изначальному апостольскому учению, свободному от последующих искажений. Этот путь логически привел их к достижению независимости — ведь виновниками «искажений» представали для них западные церкви, чье дальнейшее миссионерское руководство или финансовая помощь были для «туземных церквей» абсолютно неприемлемыми. Тем не менее формирование первых китайских независимых протестантских сект шло в направлении, проложенном распространившимися на Западе пятидесятничеством и милленаризмом, пришедшими в Китай на рубеже XIX и XX вв. «Наиболее важные церкви были организованы независимо от иностранного контроля. В численных показателях наиболее важными были „Места собраний“ и „Истинная Церковь Иисуса“, которые росли сравнительно быстро и через тридцать лет работы насчитывали около 20% [от общего числа] китайских протестантов. Причины их привлекательности включали ощущение подлинно китайской церкви и способность к установлению атмосферы товарищества, не находимое в деноминационных церквах. Они склонялись к эгалитарности, исключению таинств и священничества. Они были консервативны в теологии, весьма озабочены эсхатологическими проблемами и несклонны к социальной или политической активности» [Hunter, Chan Kim–Kwong 1993, с. 134].
Расцвет китайских протестантских сект не встретил поддержки со стороны миссионеров. Они отказывали им в доверии и симпатии, подозревая теологию сектантов в отходе от христианства и негодуя по поводу проводимой ими «кражи овец» из установившихся миссионерских конгрегаций. В 1930–е годы среди миссионеров отмечался «неприветствуемый рост числа странных культов, связанных со Святым Духом, глоссолалией, целительством и т.д., находивших живой отклик «среди искренних, но плохо обученных христиан. Появлялся проповедник, провозглашающий, что единственный путь обретения благословения есть повторение сотни раз слов „Святой Дух, наполни меня“, и уводил учеников с собой» [Houghton 1936, с. 145]. Среди сектантов встречалась вера в новые божества (Бог–Мать), у них возникала глубокая приверженность к определенным фразам из Писания, использовавшимся как магические заклинания; входили в оборот краткие искаженные формы вроде Алу вместо «Аллилуйя». Осмыслив христианство в духе китайских народных религий, верующие полагали, что такие заклинания могут отгонять дьявола. Миссионеры негодовали по поводу царившей на сектантских богослужениях атмосферы «духовного дебоша», сопровождавшегося впадением верующих в состояние транса и громкими выкриками Однако успешное наращивание сектантами своих рядов показало, что они нашли адекватный ответ на интеллектуализм проповеди и организационный формализм основных протестантских организаций того времени, противопоставив этому живую и понятную практику, сближающуюся с китайскими народными религиями.
Японская оккупация значительной части территории Китая ограничила контакты между китайскими христианами и западными церквами, после образования КНР новая власть распорядилась о высылке из страны всех миссионеров. Тогдашнее руководство ориентировало верующих не только на разрыв связей с Западом, но и на противостояние западному империализму. В послереволюционный период китайские протестанты подняли лозунг Ай го пи цзяо — «Любить страну, любить религию», объединивший воедино лояльность китайскому государству и христианской вере. Сложившаяся ситу ация показала китайским христианам, что усвоенные ими у наставников–миссионеров теологические идеи оказались малопригодны для самостоятельного развития китайских церквей в условиях однопартийной власти, обладающей идеологической монополией. Самыми неуместными в новых условиях оказались фундаменталисты, проповедовавшие приход Судного Дня и отстаивавшие теологический лозунг «оправдания верой». Либеральные протестанты были сосредоточены на умеренных общественных реформах, и далеко не все из них были готовы воспринять революционные политические преобразования. Однако привнесенная миссионерами доктрина «социального евангелизма» косвенным образом помогла верующим учесть пожелания китайского руководства и переключить свое внимание на задачи строительства «рая на земле».
Вставший в 1950 г. во главе «Протестантского движения за тройную самостоятельность»
[97] (ПДТС) У Яоцзун (1893–1979) попытался приспособить протестантизм к новым условиям, делая акцент на эгалитарно–социалистические начала в христианском учении и решительно исключая «реакционную» и «суеверную» догматику, связанную с проповедью приближения Судного Дня, греховности человеческой природы и возможности оправдания только верой. Заявление, что спасение может быть даровано лишь за хорошие дела, гипотетически открывало путь в рай коммунистам, павшим в битвах с Гоминьданом и на Корейской войне. Вслед за бескомпромиссным осуждением лозунгов «экуменизма» и «всемирности» христианства китайские церковные структуры обособились от внешнего мира и замкнулись внутри себя. Поскольку религиозные и культовые аспекты традиционной китайской культуры были отвергнуты новой властью, спор о допустимых пределах адаптации христианства к китайской традиции стал на время абсолютно неактуальным.
Протестанты разделились на противостоящие друг другу группы поддерживаемых государством социалистов–реформа–торов и бескомпромиссных фундаменталистов. Знаковым выражением конфликта модернистов и фундаменталистов стал опубликованный в 1955 г. манифест «Мы поступаем так из–за нашей веры», принадлежавший известному религиозному деятелю Ван Миндао (1900–1991). Он назвал ведомых У Яоцзуном модернистов из ПДТС «партией неверующих» и наотрез отказался присоединиться к движению «тройной самостоятельности». Ван Миндао осудил модернистов за отказ от признания безошибочности и боговдохновенности Писания, за трактовку непорочного зачатия как «аллегории», за предпочтение теории эволюции догмату о сотворении мира из ничего, за отказ верить в гнев Бога в адрес грешников и искупительную жертву смерти Спасителя на кресте, за их нежелание верить в телесное Воскресение Иисуса, а также за нежелание воспринимать буквально образы Апокалипсиса и Второго пришествия Сына Божьего для суда над грешниками. Хотя уже начиная с 1920–х годов Ван Миндао был принципиальным сторонником независимости китайской церкви, его теологическое неприятие модернистской идеологии ПДТС было истолковано властями как акт политического неповиновения, за что он поплатился долгим сроком тюремного заключения. У новорожденной теологической доктрины официального китайского протестантизма было немало слабых мест — преувеличенный акцент на патриотизме и национальной идентичности вступал в очевидное противоречие с идеей универсальности христианства, сведение христианского вероучения к текущим социально–политическим лозунгам было поверхностным и упрощенным. Однако ценой сделанных уступок протестантам удалось сохранить и даже укрепить свои институциональные структуры, отчасти преодолев при этом сложившийся культурно–политический образ протестантизма как «заморской религии».
В конце 1970–х годов во главе ПДТС встал епископ Дин Гуан–сюнь, вернувшийся в своих теологических размышлениях к проблемам соотношения христианства с китайской традицией. Дин Гуансюнь особо подчеркивал важность христианской общинно–сти, полагая, что в традиционном китайском акценте на жизни человека внутри сообщества есть много совместимого с библейским учением и опытом, что должно быть использовано современным китайским протестантизмом. Он акцентировал отличие типично китайского опыта вхождения в мир Нового Завета от опыта западного. «В данном случае не сложность, а простота и очевидная истина — вот что поражает читателя… Именно простота Евангелия захватывает воображение людей в Китае. Для среднего китайца религия обычно выступает в виде суммы примитивных верований: в духов и наказания, в многоуровневый ад и в некоторую разновидность загробной жизни, одним из проявлений которой выступает поклонение предкам. Конфуцианские этические требования трудновыполнимы, они лишь усиливают чувства страха, разочарования, сокрушающего морального бремени и внутреннего конфликта. В этой ситуации христианское послание есть подлинное избавление и свобода, привносящие в жизнь уверенность и смысл» [Ting 1989, с. 28]. Дин Гуансюнь обращал внимание на то, что китайских христиан невозможно пенять без учета того обстоятельства, что в Китае на протяжении тысячелетий «ни один мудрец или ученый не имел дела с идеей врожденной извращенности человеческой природы». Благодаря унаследованной у мудрецов древности идее изначальной доброты человеческой природы китайцы стали оптимистами. «Из этого можно ясно увидеть, почему китайские христиане, признающие греховность и ограниченность человека, находят невозможным игнорировать скрытый образ Божий в каждом человеческом существе и обитание Святого Духа в мире» [там же, с. 32]. Дин Гуансюнь заключил, что благодаря усиленным морализаторским акцентам протестантизм сможет вполне мирно и гармонично сосуществовать с китайской древностью и современностью: «В стране Конфуция, где этическии подход коренится столь глубоко и где служение благу народа стало общенародным пониманием марксизма, подходить к Богу этически, нежели чем онтологически, — целиком естественно и приемлемо» [там же, с. 97]. По его мнению, величайшее слово в Новом Завете есть не «грех», а «благодать», и потому китайские протестанты должны оставить противопоставления веры неверию и двинуться в сторону постижения космического единства творящей, искупительной и освящающей работы Бога во вселенной и в истории.
В конце XX столетия китайские общины ПДТС характеризовались теологической умеренностью и сосредоточенностью на «социальном евангелии» общественного прогресса, солидарном с официальными целями руководства Китая. Зарубежные ученые отмечали, что в общинах ПДТС «проповеди обычно представляют собой доктринальные и морализаторские по тону изложения библейских текстов, подчеркивающие личное благочестие, хорошее поведение и спасение» [Hunter, Chan Kim–Kwong 1993, с 75]. Однако идеи «социального евангелия» все меньше затрагивают души верующих, равно как и сама официальная идеология, к которой христиане адаптировались в 1950–е годы. В 1996 г. председатель комитета по теологическому образованию Китайской протестантской ассоциации Сунь Сипэй отметил, что теологическая мысль китайского протестантизма застыла на уровне 1930–х годов, что служит существенным препятствием для духовного развития церкви, которое не может сводиться к простому увеличению рядов верующих и количества новых храмовых построек (см. [China Study Journal, vol. 12,№ 1,April 1997,с. 9]) Это красноречивое признание дает понять, что в ходе настойчивой реализации лозунгов самостоятельности в материальной сфере китайские церковные лидеры упустили момент духовного саморазвития и адаптации к китайской традиции. Современное усиление культурных контактов Китая и Запада остро напомнило китайским протестантам, что китайский национальный окрас их вероучения во многих случаях не идет глубже деклараций о любви к родине и верности делу социализма. Крупнейшим вызовом начала XXI в. для китайских христиан станет задача содержательного и творческого развития своей теологии, ориентированного на ее синтез с традиционной и новой культурой Китая.
Ослабление ограничений на деятельность верующих привело к возрождению в Китае «местных церквей», под которыми понимаются протестантские группы, действующие за пределами формализованных структур ПДТС. Размытость границы между разрешенным и недозволенным приводит к тому, что власти на местах не могут отличить домашние собрания и секты с уже сложившимися традициями от пресловутых «феодальных суеверий» и «самозваных проповедников». Получив указание навести порядок в деле «борьбы с ересями», местные власти обрушивают удары на все неформальные протестантские общины, многие из которых при ближайшем рассмотрении исповедуют вполне «нормальные» религиозные взгляды. Поскольку после разгрома в 1950–е годы секты «Истинная Церковь Иисуса» и «Малое стадо» переместились за пределы материкового Китая, их возрождение по инерции воспринимается как свидетельство вмешательства в дела страны «враждебных зарубежных сил». В наши дни «местные церкви» особенно активны в сельских районах Китая. Их теология носит подчеркнуто фундаменталистский и эсхатологический характер, что противопоставляет ее социальному оптимизму и мирской активности официального богословия ПДТС. «Местные церкви» выражают глубокое недоверие к общинам, входящим в ПДТС, и критикуют их за наличие пасторов и формального руководства, надменность, низкую интенсивность духовного подвижничества и постоянные обращения за помощью к власти (см. [China Study Journal, vol. 11, N> 1, April 1996, c. 6]). Практику «местных церквей» отличает вера в возможность получения «даров» Святого Духа, включая целительст–во, дар пророчества и даже возможность нанесения вреда своему недругу на расстоянии, что близко к практике китайских народных религий или боевых искусств цигун, но не имеет ничего общего с Новым Заветом. Близость к деревенской традиции обусловливает повышенное внимание «местных церквей» к исконным темам традиционных китайских религий — целительству и изгнанию злых духов. Представителей официального протестантизма беспокоит, что деревенские протестанты плохо образованы, а их наставники не всегда в состоянии уберечь их от погружения в еретические учения, провозглашающие близость конца света, приход Христа в мир в облике того или иного лидера секты, противопоставляющие последователей секты всем остальным, а также отрицающие руководство ПДТС и подчас даже государства и компартии. Официальное церковное руководство постоянно предостерегает своих священников от излишнего увлечения исцелением верующих возложением рук и изгнанием злых духов, поскольку эти ритуалы опасно схожи с популярными в народе, но осуждаемыми властями «феодальными суевериями».
Если вторая половина XX в. принесла протестантам возможность объединения в единое целое, то славящаяся монолитностью римско–католическая церковь, напротив, раскололась в Китае на две части. Формальное руководство китайскими католиками осуществляет созданная в 1957 г. Ассоциация китайских католиков–патриотов (АККП), возглавившая официально признанную часть китайской католической церкви. Она была создана после того, как в середине 1950–х годов был арестован ряд китайских священников римско–католической церкви. Раскол произошел из–за того, что в соответствии с официально утвержденными принципами патриотизма и независимости общение китайских католиков с Ватиканом было прервано, а рукоположение епископов осуществлялось в рамках АККП самостоятельно. Поскольку задуманное преобразование церкви вошло в конфликт с католической догмой о главенстве папы римского, часть священнослужителей и их паства сохранили верность Риму, сплотившись в параллельную «катакомбную» церковь. Структуры АККП не были признаны и Ватиканом, продолжившим назначение и утверждение «катакомбных» иерархов. Зарубежных наблюдателей поражало, что вплоть до конца 1980–х годов китайский католицизм сохранял традиции, бытовавшие на Западе до Второго Ватиканского Собора, например, тридентскую мессу, тонзуры, латинское богослужение. Китайская католическая проповедь характеризовалась «эсхатологической ориентацией с сильным акцентом на смерти, Суде, Небесах и Аде, что опять· таки отражает старые традиции» [Hunter, Chan Kim–Kwong 1993, с. 245]. Обучение китайских католических семинаристов следовало нормам и программам, сложившимся в конце 1940–х годов. Возрождение китайской католической церкви после начала реформ характеризовалось всплеском популярности у верующих церковных таинств, культовых предметов (образки, медальоны, четки и распятия), поклонения Деве Марии, утративших свое значение в жизни западных католиков после Второго Ватиканского Собора. Решение об использовании литургии на китайском языке для всех епархий было принято только в 1992 г.
Длительная изоляция китайского католицизма от внешнего мира законсервировала в нем дух контрреформации, принесен* ный в Поднебесную еще ή XVI в. первыми иезуитскими миссионерами. В контексте наследия монотеистического тяньчжучзмз большинство католиков до сих пор воспринимают Бога как жесткого правителя мира. Источником же мягкости и теплоты является культ Девы Марии — вера в ее любовь и всепрощение помогает китайским католикам преодолевать страхи по поводу несоответствия своей религиозной жизни заученным трудновыполнимым ныне нормам XIX в. Из той же эпохи значительная часть верующих унаследовала дух истового почитания папы римского, заменившего в крестьянском сознании отсутствующую в современном обществе сакральную фигуру императора. О степени ассимиляции католицизма в современном Китае свидетельствует тот факт, что многие католики основывают свою принадлежность к церкви на простом факте ее унаследования от родителей и предков. Вне зависимости от мотивации крещения представителей первого верующего поколения и возможного неприятия предками иностранного происхождения религии ныне христианская вера понимается таким образом, который полностью согласуется с традиционным для китайцев уважением к предкам.
Стоит указать и на феномен «отрицания отрицания» в оценках китайцами деятельности христианских миссий прошлых веков. Среди китайских интеллектуалов все большую популярность обретают символы «доимпериалистического» этапа диалога христианства и китайской культуры. С этой позиции наиболее привлекательными выглядят история деятельности несториан династии Тан или деяния католических миссий ХУИ–ХУШ вв. — они несут на себе меньшую «политическую нагрузку», так как в те времена общение христианского мира с Китаем еще не опиралось на политику силы. В истории христианских миссий тех периодов на первое место выходит культурно–цивилизационное, а не политическое содержание проблемы взаимодействия Китая и Запада. Другим примечательным явлением стало возникновение в Китае течения «культурного христианства», объединяющего интеллектуалов, глубоко и серьезно интересующихся христианством, но не намеревающихся принимать крещение или участвовать в жизни церкви. Несмотря на кажущуюся «ущербность» вне–церковной позиции этой группы, в 1990–е годы она сумела обрести весьма значительный авторитет и влияние благодаря опоре на знания и эрудицию, зачастую отсутствующие у представителей официальных церквей. Еще одной любопытной чертой последнего десятилетия XX в. стала коммерциализация «сино–христианского» стиля в изобразительном искусстве. Политика рыночных реформ взяла свое — если в прошлом миссионеры старались создать китаизированные образы библейских персонажей для того, чтобы сделать их более близкими и понятными своей китайской пастве, то теперь китайские церковные организации и отдельные мастера искусств тиражируют такие образы с помощью традиционных форм китайского искусства (живопись гохуа, бумажные вырезки, роспись по фарфору) для того, чтобы с выгодой продать их удивленным иностранцам.
Можно сделать вывод, что политические потрясения XX в. затормозили, но не прервали процесс диалога христианства и китайской культуры. Утрачивает свою былую остроту вопрос о совместимости христианских конфессий с руководством КПК и делом социализма — он был в значительной степени решен в ходе реформ Дэн Сяопина и формирования независимых церквей. Несмотря на сохранение значительного числа административных ограничений, сдерживающих рост христианских общин, нет оснований надеяться на скачкообразный численный рост христианских церквей в Китае даже в случае самых значительных внутриполитических перемен внутри страны. Более того, существует вероятность, что подобные изменения могут оказаться опасными для китайского христианства — политическая нестабильность в материковом Китае вполне способна пробудить среди масс населения ксенофобские реакции, способные повредить развитию китайского христианства. К тому же пример Гонконга и Тайваня убеждает в том, что в условиях существования на китайской земле процветающей рыночной экономики вкупе с политической демократией христианство сохраняет свои устойчивые позиции, но все же не достигает при этом слишком большого влияния. Хотя католицизм и протестантизм стали частью жизни китайского общества, замкнутость многих общин и их недоверие к властям и материальным соблазнам современного общества указывают на незавершенность процесса культурной и социальной интеграции христианства в Китае.
Завершение в Китае эпохи социальных потрясений и возвращение в его духовную жизнь традиционной культурной проблематики подсказывает нам, что в наступившем столетии вопрос отношений китайского христианства и китайской национальной культуры будет занимать в жизни верующих все более важное место. Вековой опыт показал, что «отпущенный на волю» протестантизм имеет склонность к смычке с китайскими народными религиями, образуя с ними причудливые духовные союзы, чреватые появлением новых тайных обществ. Среди католиков этому препятствуют традиции осторожности и консерватизма, которые одновременно превратились в заметное препятствие на пути развития католической общины. В этой связи не стоит забывать о богатом историческом опыте культурнорелигиозной адаптации христианства к китайскому культурному контексту, оставленном католическими миссиями XVII–XVIII вв. Творческое возрождение акцента Маттео Риччи на адаптации к конфуцианству как магистральному течению китайской духовности может стать определяющим для дальнейшего развития католицизма в КНР. Благонадежность такого союза может обеспечить ему поддержку со стороны нынешних образованных городских слоев и государственного чиновничества. После решения проблем в отношениях между Пекином и Ватиканом и вслед за преодолением внутреннего раскола католицизм имеет шансы существенно укрепить свои позиции в китайском обществе.
С позиции сегодняшнего дня христианство не может рассматриваться нн как «победитель» китайской цивилизации, ни как ее жертва, сломленная социально–политическими обстоятельствами или «абсолютностью конфуцианства». Вопреки радужным надеждам миссионеров протестантизм или католицизм не заняли в Китае ведущего места. Однако их выживание в период гонений 1950–1970–х годов и нынешний численный рост рядов верующих никак не свидетельствуют о «поражении» христианства в Китае или его «отторжении» китайской культурой
[98]. Парадоксальным образом проблема трудных взаимоотношений между христианством и китайской культурой была отчасти решена усилиями властей КНР, развернувших масштабное наступление на «пережитки феодализма». Хотя этот удар был направлен также и против религиозных общин, сплоченность и замкнутость помогли нм пройти через бури «культурной революции». Однако в новых условиях восстановления нормальной религиозной жизни в 1980–е годы оказалось, что атеистическая пропаганда, нанесшая удар по традиционному китайскому политеизму, была невольным союзником христианства, обретшего новые импульсы к развитию в условиях разочарования многих людей в официально пропагандируемых идеалах и ценностях. Становление собственного китайского христианства стало неоспоримым фактом. Оно уже доказало миру свою жизнеспособность, сохранившись за время более чем полувекового отсутствия на китайской земле иностранных миссий.
Примечания
1
Китайским подзаголовком названия журнала в старом макете обложки была иероглифическая надпись: Чжунго тяньчжуцзяо ши яньцзю (Исследования по истории китайского католицизма) с расположенными ниже и взятыми в скобки словами: Чжун си вэньхуа цзяолю (Культурные контакты между Китаем и Западом). В новом варианте «культурные контакты» вышли на первый план, а «история китайского католицизма» скромно переместилась в нижний угол обложки.
2
См. предисловие Р.Невилла к книге Р.Тэйлора «Религиозные стороны конфуцианства» [Taylor 1990, с. ix].
3
Pope Says Changing Religion Is Human Right. — Reuters. Nov. 07. 1999.
4
Главную ценность этой публикации представляют репродукции лубков и сопровождающих их китайских текстов. Использованные И.П.Гараниным переводы были выполнены Г.О.Монзелером в 1952—1953 гг. при инвентаризации китайских коллекций ленинградского Музея истории религии и атеизма.
5
Вого цзунцзяо яньцзю сянькуан юи фачжанъ цюйгии (Современное положение и тенденции развития религиоведения в нашей стране). Доклад исследовательской группы. Июнь 1995. [Б.м.], с. 4–5.
6
Там же.
7
Исходя из того, что христианство стало одним из существенных аспектов взаимодействия Китая и Запада, Д.Тредголд в фундаментальном исследовании «Запад в России и Китае: религиозная и светская мысль нового времени» выделил три основных «христианских» периода в общении западной и китайской цивилизаций: «христианский гуманизм иезуитов (1582–1774)», «христианский пиетизм фундаменталистских протестантов (1807–1900)» и «христианский модернизм Сунь Ятсена (1895–1925)» [Treadgold 1973].
8
В подготовленном католиками на Тайване нормативном «Теологическом словаре» понятие «китайская теология» определяется в наиболее узком смысле как «систематическое осмысление китайцами откровения Иисуса Христа, основывающееся на систематическом осмыслении ими религиозных, культурных и общественно–политических реалий Китая, с помощью чего постепенно формируется отуземленная (бэньтухуа) китайская теология» [Чжан Чуньшэн 1999, с. 122].
9
Фан Чжижун выделил три специфические особенности китайской экзегетики (цзе цзин) — в основе ее находится совершенствование моральной практики; она не слишком внимательна к логическим методам и позволяет читателю вносить собственный субъективный опыт и толкования (цит. по [Чжан Чуньшэн 1999, с. 123]).
10
После Воскресения Иисуса Фома заявил «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Иоан. 20.25)· Во время следующей встречи с учениками Иисус позволил ему проделать все это, сказав: «…и не будь неверующим, но верующим» (Иоан. 20:27).
11
Caspar da Cruz. Tract ado de China. Evora, 1569. Цит. no [Moule 1930, c. 13]. По описанию «идол» похож на буддистское божество Гуаньинь.
12
Крайне примечательно, что это предание до сих пор живет в отечественной православной церковномиссионерской традиции: «Апостол Фома 一 первый из Небесных покровителей Китая, и по сей день возносящий к Престолу Господню молитвы о сохранении и просвещении вверенной его смотрению Поднебесной страны» [ГТоздняев Дионисий 1998, с. 8].
13
Из–за досадной опечатки о прибывших в Китай несюрианах клк о «христианах с и ри й с ко–н есторианского ( μοι юфиэитского толка〉· говорится в авторитетном фундаментальном издании «Китайская философия: энцик· лопсдичсский словарь^. М·, 1994 с· 374. Погрешность возникла из–за потери отрицания — на деле нссториа!ie были христианами немонофизитского толка.
14
Некоторые ученые (среди них были Юл и Хавре) полагали, что «Алобэнь» не есть имя собственное, но представляет фонетическую транскрипцию сирийского «раббан», соответствующего «рабби» — учитель. Другие (Пельо) резонно укалывали на то, что китайский фонетический эквивалент последнего слога не вполне соответствует сирийскому слову (см. [Moule 1930, с. 38, примеч. 22])·
15
[Saeki 1937, с. 8–9, 113–124, 248–265]. Датировка отсутствующего в исследовании Саэки текста Дашэн тунчжэнь гуйфа цзапь дана по [Вэн Шао–цзюнь 1995, с. 162].
16
Это название дано тексту исследователем из университета Киото Т Ханедой.
17
Саэки отметил сильную буддистскую нагрузку этого термина — Шицзунь есть имя Будды (Lokadjyechtha), а буши передает понятие о милостыне — Dana. Христианизованный вариант перевода — «Господь вселенной о милосердии» [Saeki 1937, с. 6].
18
Такой перевод строится на коррекции предположительно искаженных иероглифов тин н со (см. [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 83, примеч. 1]). Иероглифы Сюйтин 序聽 либо представляют искаженную при иероглифическом написании транслитерацию имени «Иисус» (сюйцун 序聰,что во времена Тан произносилось как Jeso), либо название текста должно переводиться как «Сутра предварительного выслушивания (послания) Мессии» — см. [Lee Р. 1996, с. 79].
19
Во второй половине XX в версия Саэки о единстве Сюань юань бэнь цзин и «манускрипта Б» была подхвачена абсолютным большинством исследователей. Надо отметить, что в перечислении почитаемых несторианских текстов Цзунь цзин на втором месте упомянут Сюань юань чжи бэнь цзин (см. [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 203]),наименование которого точно совпадает с названием «документа Кодзимы».
20
Одновременно в тексте «Канона Иисуса Мессии·» гораздо ччще используется более приемлемая транскрипция Мессия — Мишихэ иероглифами 彌師河.
21
Ср.: «…после огня веяние тихого ветра (и там Господь)» (3 Цар. 19:12).
22
«Чжу фо цзи фэй жэнь, пин чжэн тянъ А/Юхань, шуй цзянь Тяиы^зунь?» [Вэн Шаоцзюнь с. 82; также с. 83–84, примеч. 5]. Перевод Саэки: «All the Huddhas as well as Kinnaras and the Superintending–devas (? Yama) and Arhans can see the Lord of Heaven» [Saeki 1937, c. 125].
23
Несколько вариантов перевода этого фрагмента на английский язык: Those who have received the Lord of Heaven and His teaching must first teach other people to worship all Devas. Then, the Buddha will be worthy of the name to receive the suiTenng…» [Saeki 1937, c. 134–135]; «[The Lord] first sent all living beings to worship all the Devas and Buddhas, and for Buddha【o endure sufTe–nngs» [Moule 1930, c. 60].
24
В переводе Саэки: «Now, all the Sacred Superiors are no other than gods born into this world» [Saeki 1937, c. 134].
25
10. ΡαηάυΛαηί/Λα — указывает на материальный мир чувственных дхарм (сз) и четыре дхармы духовного мира — сознание (ши), чувственные восприятия (шоу), различение (сям) и деятельность (син) (см. [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 119; 120, примеч. 71]).
26
Сладкое, кислое, острое, горькое, соленое. Классификация восходит к главе Ли юнь конфуцианского памятника Ли цзи (Записи о ритуале).
27
Для обозначения имени врага рода человеческого в тексте использованы как традиционное для буддизма сочетание могуи, так и транслитерации сирийских слов Содона 愛多那(Сатана) и Цапьпу 參怒(сир. Shada — дьявол) (см. [Saeki 1937, с. 202–203, примеч. 28])·
28
Буддистское учение о трех низших состояниях души 一 путях ада, голодных демонов и скотины.
29
Помимо алохэ буддистские переводчики использовали сочетание ало–хань или краткую форму лохань (см. [Цзунцзяо цыдянь 1985, с. 594]).
30
Понятие о сань цай восходит к комментариям к «Книге перемен» {И цзин). Моул перевел сань цай как «вселенная», что, несомненно, отражает изначальный смысл молитвы «Слава в вышних Богу», но скрадывает китайскую окраску текста.
31
То есть полярные начала инъ м ян. Это яркий пример углубления культурной аккомодации христианства, в данном случае к даосско–неоконфу–цианской космологии.
32
Хавре обнаружил использование аналогичного сочетания в буддистских текстах для указания на духовные существа, способные появляться в двух и боаее местах в человеческом облике (см. [Moule 1930, с. 36, примеч. 19]).
33
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3–10).
34
«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13:13).
35
Легг указал на близость этого фрагмента к чжапам 15 и 25 из текста Дао дэ цзина (см, [Legge 1888, с. 9, примеч. 5, 6]).
36
Букв, «забывают об удочке» — отсылка к книге Чжуан–цзы, гл. Вай у — «поймавший рыбу забывает об удочке» [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 56].
37
Указ является частью текста несторианской стелы (см. [Вэн Шаоцзюнь 1995, с. 55; Moule 1930, с. 39]).
38
Ученые расходятся во мнении о том, является ли эта даосски окрашенная фраза частью императорского указа, или же его текст завершается разрешением на распространение несторианства и строительство монастыря (см. [Moule 1930, с. 39 примеч. 25]).
39
«Падшие служилые, услышав о дао, смеются» {Дао дэ цзин, чжан 41). По мнению Моул а, это может быть направлено против даосов, но, скорее всего, против конфуцианских книжников (см. [Moule 1930, с. 41, примеч. 27]).
40
Саэки отметил, что под тем же именем Цзинтун на несторианской стеле фигурирует епископ Мар–Саргис, и предположил, что в «Каноне об основах изначального» на облачном троне в Назарете восседает тот же Мар–Саргис (см. [Saeki 1937, с. 312]); см. также [Вэн Шаоцзюнь 1995,с. 152–153, примеч. 2].
41
Английский перевод Саэки: «Let us revcientiallv adoie Aloha who is the AJmightv Fathei and the M^tenous Person, and Messiali who is the Almight) Son and the Incarnated Person, and Lu–ho–ning–chu–sha.„ who is the Witnessing Person: Those above Three Persons uniting together into One and the Same Body» [Saeki 1937, c. 273].
42
Хорошо иллюстрированное исследование несторианских памятников с изображениями этих надгробий можно найти в монографии Саэки (см [Saeki 1937, с. 421–439]).
43
Описывая город Чингианфу (Чжэньцзян), Марко Поло писал: «Есть тут две христианские церкви несториан. В 1278 г. по Р.Х. случилось вот что:не было тут ни христианских монастырей, ни верующих в христианского Бога до 1278 г.; начальствовал тут три года, по приказу великого хана, Мар–Саркис, был он несторианцем и приказал выстроить две церкви» [Поло ^990, с. 145]. В Ханчжоу, по словам Поло, было много «аббатств и языческих монастырей» [там же, с. 147].
44
В качестве курьезного анахронизма, связанного с именем Монтекорвино, можно привести сообщение на английском языке официального информационного агентства КНР Синьхуа от 3 октября 1999 г. «Старейший китайский католический храм вновь открыт». В нем говорилось: «300–летняя пекинская католическая церковь Сюаньумэнь, которая считается древнейшей католической церковью в Китае, открылась этим утром после нескольких лет ремонта… Она была основана францисканским священником Джованни да Монтекорвино в 1605 г. и позднее расширена иезуитом Адамом Шаллем в 1650 г.». Однако умерший в 1328 г. Монтекорвино никаких церквей в 1605 г. создавать не мог. В сообщении ясно сказано, что храм имеет лишь трехвековую историю, и, следовательно, не мог быть основан при династии Юань. На самом же деле католический храм Наньтан внутри ворот Сюаньумэнь был основан в 1605 г· другим знаменитым итальянцем 一 иезуитом Маттео Риччи.
45
Здесь и далее при ссылках на двуязычное издание Тяньчжу гиии Д.Ланкашира и П.Ху Коу–чэня в квадратных скобках указывается номер фрагмента, а двойная нумерация страниц относится к параллельному тексту на китайском и английском языках.
46
Современные католические исследователи наследия Риччи в своих теологических воззрениях настроены гораздо более либерально, заявляя: «Отсутствие (у) даосизма и пустота (кун) китайского буддизма махаяны описывают высшую реальность как таковую, не имеющую начала и конца, ке имеющую видимого проявления и предстающую источником вселенной и всего внутри нее. Эти концепции на деле могут быть поняты христианами как подобие via negativa, т.е. негативного подхода к Богу в схоластической философии и теологии, выступающего западным двойником апофатической традиции восточного христианства» [Ricci 1985,предисл., с. 47].
47
Комментаторы английского перевода Тяньчжу шии полагают, что здесь речь идет о четырех элементах из учения древнегреческого философа Гераклита —огне, воздухе, воде и земле (см. [там же, с. 108, примеч. с. 19]).
48
Отметим, что современные католические исследователи–иезуиты полагают, что понятия тайцзи, ли и ци из учения Чжу Си могут быть использованы для объяснения отношений между Высшей Реальностью (Богом) и людьми и вещами, пребывающими внутри вселенной. Более того, эти три понятия якобы даже могут служить выражением трех субстанциальных модусов Высшей предельной реальности как таковой. «Понятие тайцзи напоминает христианское понятие о Боге–Отце, непорожденном Источни ке, который не может быть понят непосредственно и вступает в отношения с людьми и остальным бытием через посредника. Ли есть нечто вроде христианского понятия о Боге–Сыне, который открывает Источник. Через это го Посредника человеческий разум может уяснить нечто об Источнике, его тайне и отношении со всем творением. Ци, если оно освобождено от материальных ассоциаций, есть нечто подобное Святому Духу, творческой трансформирующей силе Бога, работающей над творением и ведущей все вещи назад к их источнику. Поэтому теория тайцзи школы Чжу Си не явля ется полностью несовместимой с христианским понятием Бога. Даосское у и буддистское кун также могут быть использованы для описания Господа всех вещей» [Ricci 1985 предисл., с. 48].
49
«[Учитель] совершал жертвоприношение предкам, будто они были живые; совершал жертвоприношение духам, будто они были рядом» [Лунь юй, 3:12; Переломов 1998, с. 321].
50
«Если провинился перед Небом, то и моление бесполезно» [Лунь юй, 3:13; Переломов 1998, с. 321].
51
Переводчики текста заметили, что н неоконфуцианстве ли есть абсолют, который в человеке именуется природой (син), в Небесах именуется судьбой–приказом (мин), так что «представляется, что ли обозначает больше, чем причину. Риччи не понял этого и интерпретировал ли исключительно как причину (reason)» [там же, с. 350, примеч. 3].
52
Китайский исследователь проблем культурной адаптации католицизма Чэнь Вэйпин полагает, что в центре межкультурного конфликта лежала несовместимость лишенного рациональности (лисин) «католического фидеизма» и «мощной рационалистической традиции» конфуцианства [Чэнь Вэйпин 1992, с. 55]. Поясним, что под «рациональностью» конфуцианства здесь понимается ориентация на реальный мир и моральную практику, противопоставляемая «потусторонности» католицизма.
53
54
В следующие два века после смерти Ян Гуансяня полнота и эмоциональная насыщенность Бу дэ и оставались непревзойденными. Идеи Ян Гуансяня обрели новую жизнь во второй половине XIX в., и наиболее известные антихристианские сборники Пи се шилу (Правдивые записи для избежания ереси, 1870) и Пи се цзи ши (Записи фактов для избежания ереси, 1871) содержали большие отрывки из Бу дэ и.
55
Наложенные в ходе «спора о ритуалах» запреты продолжали действовать и в первой половине XX в. К примеру, в 1920–е годы священники из американской католической миссии Мэрикно, выполняя указания Рима по борьбе с «домашними суевериями», старались избегать при этом чрезмерного нажима. Хотя миссионеры не скрывали желания побыстрее освободить дома проходящих катехизацию китайцев от фигур «идолов стариков, похожих на пиратов с усами», при решении вопроса об удалении табличек предков они стремились про只влять терпение. Катехизатор или сестра посещали дома кандидатов на принятие крещения, чтобы снять и сжечь статуи, образы или наклеенные молитвы, связанные с буддизмом или местными божествами, заменяя их крестом и святыми образами. Поскольку большинство китайских крестьян были бедны, то уничтожать там было практически нечего. Обычно в огонь летели таблички предков и плошка для воскурения благовонных палочек. Если люди отказывались повиноваться, катехизаторы, следуя инструкции, спокойно информировали желающих обратиться в христианство о том, что их вновь пригласят к крещению тогда, когда они почувствуют себя готовыми убрать таблички предков. Однако из–за преувеличенного опасения вторжения суеверий в жизнь китайских христиан им, Даже по случаю потери родителей, было запрещено выражать свое горе и привязанность к усопшим наиболее естественным образом — стоя на коленях перед гробом, читать молитву. Ж–П. Вист приводит историю патера Томаса Кирнана, во время похорон вставшего на колени перед телом усопшего и прочитавшего несколько молитв. После церемонии его начальник патер Мейер сообщил ему, что уже знает из доклада катехизатора о «недопустимом случае проявления суеверия», заключавшемся в коленопреклонении перед гробом н чтении молитвы. «Засмеявшись, он сказал: „Что же, ты отлучен » [Wiest 1988, с 310]. Снятие Ватиканом устаревших запретов произошло лишь в 1930–е годы под давлением внешних обстоятельств, связанных с введением властями оккупировавшей Китай Японии обязательных государственных ритуалов, неучастие в которых могло обернуться для китайских католиков строгим наказанием.
56
Современный китайский исследователь Хань Ци переводит понятие «фигурализм» как «теория символов Ветхого Завета» (Цзююэ сянчжэнлунъ) и соотносит это течение с распространившимся во времена императора Кан–си представлением о «китайском происхождении западного знания» (си сюэ чжун юань) [Хань Ци 1998, с. 190].
57
Новозаветное основание для фигуральной герменевтики дохристианского наследия может быть найдено в главе 10 Первого послания к Коринфянам, где апостол Павел наставляет верующих с помощью отсылки к вет–хозаветной истории. «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу… Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы» (1 Кор. 10:1–3; 5–6). Чуть далее апостол Павел вновь говорит об «образах»: «Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Кор. 10, 11). В латинской Библии слово «образ» (греч. typos) переводилось как figura.
58
Течение во французском и нидерландском католицизме XVII–XVIH вв.. получившее свое название от имени теолога К.Янсения.
59
Наследие Буве досконально исследовано немецким ученым Клаудией фон Коллани (см. Библиографию).
60
Сохранившаяся в славянском переводе, проникнутая мистическими символами и откровениями, Книга Еноха была признана в церковной традиции неканонической. В ранней христианской апологетике встречалось утверждение, что подлинные писания Еноха были уничтожены иудеями из–за содержавшихся в них пророчеств о приходе Спасителя.
61
Можно вспомнить учение Хэ Сю (И в.) о «трех эпохах» («упадок и хаос» — урождающийся мир–равновесие» — «великий мир–равновесие») и конфуцианских понятиях о стадиях хаоса, общества «малого процветания–благосостояния» (сяокан) и идеального мира «Великого единения» (Да тун).
62
Для общего знакомства с историей изучения И цзина в Европе см.: [Щуцкий 1993, с. 90–112]. Ж.Буве фигурирует в этом очерке лишь однажды под именем «П.Буре» (под «П.», видимо, скрывается «патер» — «отец») в ошибочном написании как на русском, так и латиницей (с. 91). Наличие этой ошибки в книге великого российского синолога первой половины XX в., отредактированной в начале 1990–х одним из ведущих современных исследователей китайской философии, предельно наглядно указывает на забвение научным сообществом спорного наследия фигуралистов.
63
В переводе Л.Д.Позднеевой — «первонепостоянство», «первоначало, «первообразование», «первоэлемент» [Позднеева 1994, с. 6].
64
В переводе Л.Д.Позднеевой — «первонепостоянство», «первоначало», «первообразование», «первоэлемент» [Позднеева 1994, с. 6].
65
В современном китайском языке имя Сим (Shem) записывается знаком 閃 Шань.
66
Еще в III–II вв. до н.э. основная часть Библии была переведена в Египте с Древнееврейского на греческий язык (так называемый перевод семидесяти толковников — «Септуагинта»). Впоследствии этот перевод лег в основу латинского перевода IV в. н.э. (основа католического канона — «Вульгата»).
67
В процессе проникновения христианства в Китай там наблюдался встречный процесс поиска китайских образов в тексте Библии, китайские «фигуры» обнаруживались не только в Ветхом (вспомним излюбленное миссионерами пророчество из Книги Исайи (Ис. 49:12) «придут… другие из земли Синим»), но и в Новом Завете. Известный католический мыслитель Ма Сянбо в 1932 г. обосновывал необходимость участия местного населения в проповеди Евангелия на родном языке со ссылкой на события Пятидесятницы. «Не только апостол Павел использовал этот метод, но и сам Святой Дух. В день, когда снизошел Святой Дух, все апостолы проповедовали и, хотя слушатели прибыли из разных стран, все слышали свои собственный язык. В первый день крестилось и приобщилось к церкви 3000 человек, на второй день еще 2000. Все это было результатом использования местного языка для евангелизации. В тот день там был китаец из небольшой группы, именуемой „Киринеей** (люди, пришедшие из Китая при династии Чжоу), который слышал Святой Дух говорящим по–китайски. Отсюда мы знаем, что китайский язык может быть использован для передачи абстрактной истины»» (цит. по [Hayhoe, Lu Yungling 1996, с. 270–271]). В новозаветном тексте среди присутствовавших упоминаются «Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Пам–中илии, Египта и частей Ливии, принадлежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, Критяне и Аравитяне» (Деян. 2: 9–11). Утверждение о том, что ктото из них был китайцем, забредшим на Ближний Восток во времена династии Чжоу, строится на смелом принятии идеи единства событий человеческой истории, что сближает рассуждения Ма Сянбо с доводами французских фигуралистов. Указание на «китайский след» в событиях Пятидесятницы было прямо связано с продвижением процесса культурной адаптации христианства в Китае, оно было призвано обосновать цер–ковную допустимость и практическую необходимость введения китайского языка для проповеди и богослужения.
68
Вот как объясняли скудость «урожая душ» сами протестанты: «Римские католики, которые смешивают обращение с изменением ритуалов и церемоний, которые одинаково крестят всех желающих, могут без труда преумножать ряды своих неофитов. Но протестантская вера отождествляет возрождение с обращением, требуя радикального изменения сердца и жизни, перехода от тьмы к свету, от греха к добродетели, она поклоняется Евангелию и потому всегда будет находить меньшее число тех, кто воспримет эти учения, — пока не прольется божественный Дух, как это было во времена апостолов и в течение нескольких последующих периодов существования христианской церкви» [The Chinese Repository. \ ol. IV, № 6, с. 273].
69
Вместе с тем введение в лексикон китайского христианства транскрипций Иисус — Есу 耶穌 и Иегова — 耶和華 позволило выразить идею единства Бога–Сына и Бога–Отца за счет присвоения им общего «фамильного иероглифа» Е 耶,показав тем самым их принадлежность к одному «клану». При этом знак су в имени Иисус означает пробуждение и воскресение от смерти, передавая тем самым идею Спасения. Как отмечает И.Зетше, эта находка оказалась столь удачной, что данное написание имени Иисуса было принято и католиками, и протестантами.
70
Такого рода бескомпромиссность сохранялась среди протестантских миссионеров–фундаменталистов и в первой половине XX в. Ф.Хотон писал в 1930–е годы: «Шестьдесят лет назад [миссионер] Хадсон Тэйлор опубликовал книг)' ,Духовная нужда и потребности Китая“. Но „нужда“ часто ошибочно цитируется как „нужды“, и это не просто игра слов, что заставляет автора быть столь пунктуальным, требуя использования единственного числа. Когда мы говорим о „нуждах“, то имеем в виду рассмотрение экономических, социальных, политических проблем, но нужда Китая есть Иисус Христос… Ошибочно говорить о „социальном Евангелии“. Есть социальные импликации Евангелия, поскольку его принятие жизненно влияет на социальные отношения. Но Евангелие, которое отвечает нуждам человека в Китае или где бы то ни было, есть Евангелие Христа искупляющего, Христа воскресшего, Христа возвращающегося» [Houghton 1936, с. 174].
71
Отметим, что в раннем иезуитском катехизисе Тяньчжуцзяо яо было использовано написание Есу Цилисыду 耶料契f.lj斯督,максимально приближенное к принятому латинскому имени (см. [Чжан Си пин 1999, с. 97]). По аналогии с развитием католического христианского лексикона можно предположить, что в случае нормального развития богослужебной практики китайского православия в XX в. сочетание Иисусы Хзлисытпосы было бы заменено либо на общепринятое Есу Цзиду, либо на какое–то более удобное сокращенное написание.
72
Весьма интересны графические образы китайских страхов и предрассудков, запечатленные на антихристианских лубках второй половины XIX в. Лубки из коллекции Шэнъюй цзиньцзунь писе цюаныпу (Давайте следовать высочайшему указу об отвращении от ереси). Картины воспроизведены с переводом сопровождающего текста в публикации И.П.Гаранина (1960) и в книге П.Коэна [Cohen, 1963, см. вклейку к с. 140–141]. На рисунках христиане воздают почести огромной свинье (по приблизительному созвучию иероглифов чжу 主一Господь и чжу^ 猪一свинья), сами миссионеры изображены в виде козлов (по созвучию иероглифов ящ Йр — «иностранец» и 羊一《козел»), которые поклоняются «поросячьему визгу» (чжу^цзяо 猪卩斗,по созвучию с «религией Господа» {чжу цзяо^ 栏妓).Помимо кровожадных призывов к уничтожению «свиньи公 и «козлов» в коллекции есть изображения сцен извлечения миссионерами зародыша беременной женщины и глаз умирающего.
73
Миссионер XIX столетия А.Уайли подробно перечислил использованные Лян Афа библейские фрагменты Цзюань 1 «Правдивое предание о спасении человечества» включал пересказ п 3 Книги Бытия, авторское обличение идолопоклонства в Китае, гл 1 из Книги Исаии и гл. 5–7 Евангелия от Матфея. Цзюань 2 «О поклонении истинному и отвержении ложного» содержал рассуждения на тему Евангелия от Иоанна 3:17, Евангелия от Матфея 19 23, Книги Исайи 8 19 и Евангелия от Иоанна 3:1–21 Цзюань 3 «Святая истина подлинного Писания» был посвящен темам Единого Бога–Творца и искупительной жертвы Христа, в него вошли Псалмы 19 и 33:4–22, фрагмент из Книги Исайи 45:5–21, первая глава книги Бытия и авторские рассуждения об изначальной праведности. Цзюань 4 «Смешанные комментарии к Святому Писанию» вобрал в себя рассуждения о Евангелии от Иоанна 6:27, Послании к Римлянам 2:1, Книге Экклезиаста 2:11 и теме Потопа из 6–й и 7–й глав Книги Бытия Цзюань 5 «Смешанные рассуждения о Святом Писании» включал тексты и рассуждения о Евангелии от Матфея 16:26, Втором Послании к Коринфянам 5 10, Евангелии от Иоанна 3:16, Первом послании Иоанна 1:9, Послании Иакова 1 20–21, фрагменты Второго послания Петра 3 8, Деяний Апостолов 17 24, Послания к Евреям 12 6–7, Первого послания к Коринфянам 4:20 и 15:32–33, Евангелия от Матфея 24 35, Первого послания к Тимофею 4:4, Евангелия от Матфея 6:31–32, Послания к Римлянам 10:13–14, 1–го Послания к Фессалоникийцам 2:4 Сюда вошли также пересказы гл. 12 и 13 Послания к Римлянам, единственная в этом разделе книги ветхозаветная история о разрушении Содома и Гоморры, пересказ гл. 5 Послания Иакова. Цзюань 6 «Хорошее освоение истинного учения» включил гл. 58 Книги Исайи, гл. 5 из Послания к Ефесянам, расширенное и исправленное издание опубликованной четырьмя годами ранее духовной автобиографии самого Лян Афа, гл. 22 Деяний Апостолов с небольшим предисловием, главы 2–3 Первого послания к Тимофею и гл. 22 Апокалипсиса Цзюань 7 «Успокоение в опасности и обретение счастья» содержал рассуждения о Деяниях Апостолов 14:22, Евангелии от Матфея 18:16, Послании к Евреям 12:25, гл. 1–2 из Первого послания к Коринфянам, гл. 13 Первого послания к Коринфянам, гл 4 Первого послания Иоанна, а также авторские мысли об избавлении от бедствий и стяжании добра, обретаемого праведными в будущей жизни, а также о несчастьях для тех, кто отвергает Евангелие. Цзюань 8 «Речения из подлинного Писания» включает фрагменты Иеремии 23.19–33, рассуждения о Первом послании к Фессалоникийцам 5:21, Втором послании Петра 3:10, Первом послании Иоанна 4 5–6, пересказ гл. 4 Книги Бытия и рассуждение о Первом послании Петра 4:17. Завершающий цзюань 9 «Важнейшие свидетельства из древнего Писания» содержит гл 19 Деяний Апостолов, гл. 6 из По слания к Ефесянам, гл. 5 Первого послания к Фессалоникийцам, рассуждения о Послании Иакова 4:13–14 и Первом послании к Тимофею 6:6–8 и 1:15, а также комментарии к гл 5 Послания к Колоссянам, опровержение различных ошибок и рассуждение о Судном Дне (см. [Wylie 1867, с. 23–24]). Уайли сообщает, что на основании этой эклектической работы создавались и выходили в свет более упрощенные компиляции библейских фрагментов.
74
Российский китаевед Д М.Позднеев среди причин тайпинского восстания указывал на существовавшее среди китайцев верование, что маньчжурский дом через двести лет своего существования, т.е. в 1844 г., должен пасть. В качестве сопоставимого примера волнений, порожденных суевериями и ложными слухами, ученый сослался на события в русской истории. «В 1492 г., которым оканчивалась седьмая тысяча лет от сотворения мира, народ ожидал светопреставления, и на этой почве возникли беспорядки доктрины жидовствующих в северо–западной Руси, вызвавшие кровавую расправу с еретиками правительства». Распространившиеся накануне восстания тайпинов сведения о появлении потомков властителей династии Мин перекликаются, по его мнению, с историей о том, как «слух о спасении царевича Димитрия в Угличе сделал возможной карьеру лже–Димитрия со всеми ея народными бедствиями» [Позднеев 1898, с. 14].
75
«В глазах тампинских лидеров физический облик Бога был подобен традиционному образу влиятельного человека» [Shih 1967, с. 183].
76
Наличие у Иисуса Христа жены подтверждается Хун Сюцюанем ссылкой на Писание, а именно на упоминание в Апокалипсисе о «жене, невесте Агнца» (Отк. 21:9), понимаемое в абсолютно прямом смысле и подтверждаемое ссылкой на личные встречи с ней на Небесах (см. [Michael 1971, vol. 2, doc. 41, с. 237]).
77
Сообщение о возвращении Хун Сюцюаня к жизни после состояния транса через сорок дней представляется искусственным исправлением, внесенным для достижения сходства со сроком искушения Христа в пустыне (см. [там же, с. 62, примеч 16]).
78
В комментарии к китайскому тексту фрагмента из Евангелия от Луки «Слава в вышних Богу, и на земле мир {тайпин), в человеках благоволение». (Лк. 2:13–14) Хун Сюцюань написал: «Ныне свершилось. Уважайте это» [Michael 1971, vol. 2, doc. 41, с. 230].
79
В тайпинских текстах использовались также сложные имена–сочетания Тяньфу хуан Шанди (Небесный Отец августейший Шанди), Шанчжу хуан Шанди, Тяньфу шэншэнъ хуан Шанди (Небесный Отец святой дух августейший Шанди) и т.д. Многообразие имен Бога у тайпинов наглядно отражено в сводной таблице в книге Ван Цинчэна (см. [там же, с. 295–296]).
80
В терминологии Ван Цинчэна это была трансформация единобожия (ишэнълунь) в «единоначалие», т.е «теорию одного господина» (идилунъ) (см. [Ван Цинчэн 1985, с 307]).
81
Ф Михаэль замечает, что Хун Сюцюань мог ненавидеть даосизм и буддизм как конкурирующие учения, способные послужить идеологической основой для восстания (см. [Michael 1966, vol. 1. с. 28]).
82
В исследовании Дж.Спенса основой для изучения тайпинских исправлений Библии стали тексты слегка измененного перевода Гуцлаффа Цзюичжао шэншу (Быт. 1–28) и Циньдин цзюичжао шэншу.
83
В комментарии к главе 24 Евангелия от Матфея Хун именует себя Солнцем, а свою жену Луной.
84
«Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят книжники, что Христос есть Сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: ”сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих**· Итак, если сам Давид называет его Господом: как же Он Сын ему? — (Мк. 12:35–37).
85
См. также примечания 1 и 3 на этих страницах. Р. Ковелл связывает эту пу–таницу с опорой Хун Сюцюаня на текст Лян Афа, пользовавшегося несовершенным библейским переводом Моррисона, в котором понятие Свягой Дух неудачно переводилось как шэншэнь фэн [Covell 1986, с. 171].
86
См. там же док. 71 (с. 463), содержащий аналогичное сочетание похвалы Богу, Христу и пяти ванам.
87
Факсимиле письма Эдкинса с пометками Хун Сюцюаня приводится в книге Дж.Спенса «Китайский сын Бога» [Spence 1996].
88
Библейском опорой для канонического подтверждения Хун Сюцюанем этой теории стал текст из Апокалипсиса о «жене, облаченной в солнце» и «имевшей во чреве»*, преследуемой драконом (Отк. 12:1–17) (см. [Michael 1971, vol. 2, doc. 41, с. 236]).
89
Трудившийся в Китае в XIX столетии миссионер преподобный В Т.А.Барбер заметил, что «этот комментарии является, возможно, наиболее важным из всех, оч доносит до нашего девятнадцатого века странные отзвуки Магомета и столь многих, заявлявших о получении ими особого откровения…» [Barber 1891, с. 308].
90
Примечательно, что в даже в условиях китайской интеллектуальной оттепели конца 1980–х годов этот выдающийся знаток китайской и западной мысли не удержался от плоских политических обобщений на тему коварных замыслов «западных капиталистов и империалистов»: «Торговля была материальной эксплуатацией китайского народа, проповедь религии — его духовным одурманиванием. Хун Сюцюань проповедовал христианство и осуществлял теократию, чем объективно оказывал западным агрессорам помощь изнутри» [там же, с. 71] За резкостью антитайпинской риторики Фэн Юланя можно увидеть его собственные философские взгляды, начиная с 1920–х годов опиравшиеся на принципиальное неприятие религиозного сознания как низшей сферы человеческого духа. Формальный рационалистический атеизм метафизическои системы «нового чжусиан–ства» Фэн Юланя обусловил исключение из предложенной им программы синтеза традиций Китая и Запада религии вообще и христианства в частности.
91
Это мнение было высказано проф. Михаэлем Лакнером.
92
В дальнейшем православные авторы крайне редко обращались к проблемам христианской оценки китайской культуры. В тех случаях, когда такое обращение происходило, авторы, как правило, занимали весьма критическую позицию. Известный своими публикациями протоиерей Александр Мень не только обличил конфуцианство в забвении высшего духовного призвания человека и стремлении свести все жизненные проблемы к созданию мирного, изобильного и морального общества, но и заключил, что «конфуцианская тенденция» «восторжествовала в китайском коммунизме, несмотря на то что философия Мао существенно отличается от доктрины Конфуция» [Мень 1992, с. 48].
93
Жалобы православных миссионеров начала XX в. на противодействие их деятельности коллег из инославных миссий, прежде всего протестантских, судя по всему, не были самооправдательным преувеличением. В 1900 г. преподобный Иммануил Генар вслед за Тимоти Ричардом провозгласил православие третьим соперником протестантизма в Китае наряду с материалистическим агностицизмом и католицизмом. Конкуренты — «это русские, с их смешением современного материализма и набожного, но мрачного и лишенного любви средневекового христианства, они чают национального величия и греческой ортодоксии больше, чем христианства. Беспокоит тот факт, что Россия, помимо огромной железной дороги и банковских операций, решила заняться еще и миссионерским движением» [СепаЬг 1900, с. 131].
94
Касаясь проблемы самоубийства, осуждаемого христианами,Н.Биттон попытался показать, что китайцев к добровольному уходу из жизни ведут не абстрактное «идолопоклонство», а этические нормы и стремление «сохранить лицо». Вместо борьбы с этими качествами он предложил их трансформацию в путь к покаянию в христианском духе· Самоубийство стало, по его мнению, последним убежищем для слабых и обиженных, право на самоуничтожение служит китайским женщинам оружием последней самозащиты. Это значит, что жизнь должна измениться, а христианство должно привнести в Китай новое чувство внутренней ценности человеческой жизни. «Развитие чувства человеческого долга перед Богом и людьми, пробуждение индивидуального сознания в Китае может следовать лишь духовной концепции человеческой жизни н ее ценности, даваемой Евангелием Христа. Из–за отсутствия такой моральной жизни нация приходит в упадок и ей угрожают самые серьезные опасности. Человеческая жизнь в Китае не священна, поскольку неизвестно идеальное отношение человека с Богом. Когда это знание будет вплетено в плотно сотканные нити семейной и клановой жизни китайцев, то будет произведено удивительно совершенное полотно» [Bitton 1914, с. 186].
95
Первый шаг обращения к вере он предлагал назвать жу дао (вхождение в дао), второй шаг— дэ дао (обретение дао) и третий шаг— чэн дао (достижение совершенства в дао), т.е. полное и вечное спасение. Он также предложил христианизировать буддистское сочетание каи лянь хуа — «раскрытие цветка лотоса», указывающее на возвращение к изначальному идеальному состоянию человека, где становится возможным отыскание и восстановление изначального образа Божьего, по которому был сотворен человек (цит. но [Соуе111986, с. 131]).
96
После этого патер Бернард Мейер разработал на основе серии Ван Дайка собственную иллюстрированную катехизическую работу «Наша святая религия» (Вомэнъ дэ шыцзяо), ставшую «гигантским шагом в адаптации католической церкви в Китае» [Wiest 1988, с. 299]. Первая часть катехизиса Мейера была предназначена для детей. В первом издании он следовал за работой Ван Дайка, где сцены из Ветхого и Нового Завета все еще традиционно изображали людей и пейзажи западных стран, а сценки из повседневной жизни уже г?редставляли китайцев и их быт. Однако стиль живописи оставался западным, да и священники по привычке были изображены как иностранцы. Во втором издании катехизиса (1939 г.) все его персонажи выглядели по–китайски, притом не только священники, но даже Бог–Отец, Иисус, Мария и ангелы. В краткой истории церкви, добавленной ко второму изданию, изображения императора Константина, св. Иеронима и Коперника были китаизированы.
97
6. «Тройная самостоятельность» складывалась из лозунгов «самоуправления» (цзы чжи), «самопрокормления» (цзы ян) и «самораспространения» (цзы чуань) китайских протестантов, заявивших о решительном отказе от материальной помощи извне.
98
К концу 1990–х годов численность китайских протестантов увеличилась по сравнению с 1949 г. примерно в 15 раз. По данным Госсовета КНР (октябрь 1997 г.), у протестантов было более 10 млн. верующих, более 18 тыс. священников, более 12 тыс. церквей и около 25 тыс. молитвенных домов. К концу 1996 г. было издано 18 млн Библий. 64% протестантских церквей были построены после 1980 г., за период 1994–1995 гг. к протестантам присоединилось 510 тыс. новых верующих, при этом только за 1996 г. было издано 3,3 млн. экземпляров Библии. По статистике конца 1980–х годов, в КНР было 3,5 млн. католиков и 50 тыс. обращенных ежегодно. В 1997 г. у официально признанных китайских католиков насчитывалось 4 млн. верующих, 4 тыс. священников и более 4600 церквей и молитвенных домов. Западные источники оценивают общее число китайских католиков пример* но в 10–12 млн. человек, полагая, что «катакомбная» церковь по численности своих рядов примерно равна официальной или даже несколько больше ее.