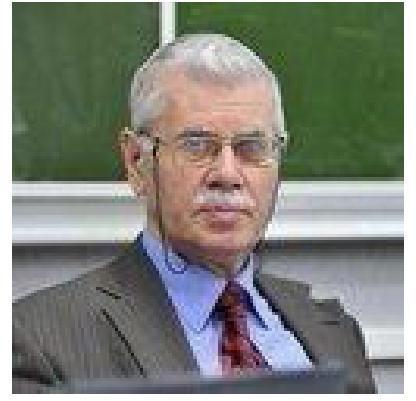Разобраться в том, что такое русская философия сегодня, – не слишком простая – и не слишком, увы, радостная – задача. Как повсюду в России, сегодня в русской философии – множество симуляции, лживой рекламы и беспомощной некомпетентности. Бесспорно, крушение коммунизма не принесло того возрождения русской религиозной мысли, которого ожидали оптимисты. Сбылось в точности по Мандельштаму, где-то сказавшему однажды: если граждане захотят специально построить Ренессанс – они построят только кафе «Ренессанс». Вместо возрождения, возникли коммерческие киоски, где бойко и с одинаковым успехом сбывают публике умильные воспевания старого и его похабные поношения. Но рядом с ними все же существует и доля подлинной философской работы. Доля, и еще более – долг: ибо царящий посткоммунистический паноптикум не отменяет того, что русская философия имеет свою действительную проблематику и свои нерешенные задачи.
Какою бы ни была она в настоящий момент, у нее есть незаконченные счеты с самой собой, есть задания и темы, растущие из ее истории, логики ее развития. Не так легко было бы описать весь круг этих заданий и тем (и мы уклонимся сейчас от такой задачи). Но можно с уверенностью сказать, что своей важной – может быть, наиболее важной – частью они связаны с одною определенной областью, которую называют по-разному: православный энергетизм, неопатристический синтез, неопаламизм и даже иногда «неоправославие», что уже заведомо неудачно. За этими не очень ясными формулами стоит новое направление религиозной мысли, еще не вполне сформировавшееся, но явно имеющее отличия от русской философии прежних лет. У него свой генезис и довольно своеобычный комплекс богословских и философских связей. В философском аспекте мы примем для него название «синергийной антропологии», смысл которого выяснится в дальнейшем.
Итак, мы будем рассматривать явление, контекст и характер которого довольно сложны и своеобразны, однако развитие покуда не зашло далеко. Поэтому основное место мы уделим именно характеру и контексту – или, иными словами, философской ориентации. Однако одной ориентации мало. Желательно не только показать место на карте, где бы хотело расположиться новое направление, но и показать, что это направление, хотя бы в некой мере, реально существует. В одной знаменитой сцене «Бесов» [Достоевского] Шатов вдохновенно рисует русско-православную утопию – на что Ставрогин цинично, но логично замечает ему: однако, чтобы сготовить рагу из зайца, надо зайца! Чтобы предупредить подобное возражение, во второй части я попытаюсь перейти от ориентации – к реализации. Занявшись конкретной философской работой, мы разберем некоторые начальные положения и категории намечаемого подхода.
Религиозно-философский контекст, который мы должны описать, весьма синтетичен; но в числе его многих составляющих выделяется один заведомо главный элемент. Это – мистико-аскетическая традиция Православия или, в иных терминах, феномен исихазма, в широком толковании последнего. Поэтому нам следует достаточно подробно обрисовать этот феномен – чтобы затем показать, каким образом он становится значим для философии.
Исихастская традиция (от греч. термина – покой, безмолвие) – определенная школа духовной практики, развивающаяся с IV в. и до наших дней. В этом долгом пути различимы три наиболее важных этапа: 1) классическая аскетика и мистика раннехристианского монашества IV-VIII вв.; 2) исихастское возрождение в Византии XIII-XIV вв.; 3) возрождение исихазма в России в XIX-XX вв. На первом этапе в качестве основоположных текстов традицию открывают «Духовные беседы», приписываемые преп. Макарию Египетскому, и трактаты Евагрия Понтийского. В целом, аскетическая литература необычайно обильна и многожанрова, тут – жития, легенды, проповеди, систематические трактаты... Сейчас нам важен аспект внутренних основ традиции, равно деятельных и умозрительных. Здесь главными авторами, вслед за Макарием и Евагрием, традиционно считались свв. Иоанн Лествичник и Исаак Сирин. Однако в недавний период выяснилась важная роль и некоторых других: Диадоха Фотикийского, Варсануфия и Иоанна Газских, Исихия Синайского. Их изучение привело к выводу (впрочем, известному и прежде внутри самой традиции) о том, что ключевые элементы исихастской практики, учения о непрестанной молитве и Иисусовой молитве, которые часто считались нововведениями поздневизантийского этапа, в действительности, почти всецело сложились целиком уже в классический период, в V-VIII вв.
Уже у Евагрия и в «Духовных беседах» отчетливо обозначились основные черты нарождающейся мистической школы. В начале ее заметны близость и отчасти влияние предшествующих позднеантичных школ, аскетизма стоиков и мистики неоплатонизма; из них, в частности, перешло в исихазм большинство его главных терминов. Не представляла открытия и общая схема выдвигавшегося пути духовной практики и мистической жизни: пути, ведущего через очищение души к бесстрастию, а затем – к мистическому созерцанию-соединению с Богом. Но при всем том, это было явление преимущественно нового рода. В начале пути аскезы стало – и приобрело огромную роль – пришедшее из иудейской традиции покаяние. Дуализм тела и души сменялся постепенно холизмом. Борьба со страстями приняла форму «умного художества» – обширной и очень своеобразной дисциплины или искусства самоанализа и управления сознанием, основанной на новых принципах и подходах к психологии человека. Стержнем и главным содержанием духовной практики стала школа молитвы, в которой связь человека и Бога раскрывалась как сфера личного и диалогического общения. Мистический путь (подвиг) при этом структурировался как иерархия форм или ступеней молитвенного Богообщения, которое, развиваясь и углубляясь, трансформирует человека и все полнее приобщает его Божественной жизни. Человек опознает эту жизнь как новый род бытия, сутью и содержанием которого служит Любовь – Божественная Любовь, (), означающая совершенную взаимоотдачу, взаимопроникновение (). Божественное бытие здесь – онтологический горизонт, характеризуемый предикатами совершенного общения и любви и именуемый, по определению, горизонтом личного бытия. Поэтому соединение с Богом несет для человека развитие и утверждение личного начала в нем, утверждение его индивидуальности через уникальность его личных отношений с Богом. Кроме того, в соединении присутствует и другой аспект, световой: в Богообщении Бог воспринимаем как Божественный Свет; и ключевым священным событием для исихазма становится Преображение, в котором Богообщение выступает именно как сочетание световых восприятий и диалогического общения. Фаворский свет здесь осмысливается как сверхприродное соединение начал Света и Личности: мистическая реальность, принципиально отличная от Света неоплатоников.
Полноту же соединения, цель мистического пути, выражает понятие Обожения (J'ewsis, греч. ). Это – центральное понятие исихастской традиции, мистический и антропологический идеал Православия (хотя в строгом смысле, термин «идеал» здесь неадекватен). Из сказанного уже ясно, что Обожение – вид мистического трансцензуса; и этот вид отличен от всего, что мы находим в других традициях. Мистика обожения не есть мистика экстаза, медитации или созерцания. Практика исихаста направляется прямо и непосредственно к целостному и актуальному претворению «тварной падшей» природы человека в природу Божественную. Именно это претворение и именуют Обожением человека. Ясно, что оно невозможно только собственным действием изолированной человеческой природы; но в силу диалогичности Богообщения, предполагающей свободу, оно невозможно и чисто внешним действием, без воли и участия человека. Православие и исихазм утверждают, что Обожение совершается путем синергии – особого соработничества и сообразования, согласного действия свободной воли человека и Божественной благодати. Синергия – вторая ключевая концепция исихазма, выражающая специфический характер Обожения как личностного трансцензуса. В отличие от всей античной, а также и всей восточной мистики, путь Обожения требует не растворения и утраты, но усиления и расширения индивидуального самосознания, конкретно-личной идентичности человека. Но в то же время это действительный трансцензус, означающий обретение предикатов иного, Божественного бытия, и преодоление определявших прежнее, «ветхое» бытие начал греха, смерти и конечности. Священное событие, что задает прообраз, архетип такого преодоления, есть Пасха – и потому известный факт, что именно Пасха (как на Западе – Рождество) в Православии и в России воспринимается фокусом Священной Истории и центральным праздником христианства, отражает глубокую проникнутость всего Православия идеями Обожения и исихастской духовности. В целом же весь описанный комплекс, состоящий не столько из идей, сколько из положений практики и выводов опыта, можно рассматривать как особый тип антропологии, своеобразную антропологическую модель, главная отличительная черта которой – онтологическая открытость: расширенное и динамическое видение феномена человека.
Как было сказано, все эти основания исихазма возникли и сложились уже на первом его этапе. Вклад следующего, поздневизантийского, этапа носит уже иной характер: происходит, в первую очередь, углубление и рефлексия своеобразия традиции. В крайне насыщенном содержании этого этапа мы отметим сейчас всего три момента. Во-первых, происходит выработка практических форм, наиболее адекватных принципиальному холизму исихастской антропологии. Исихазм утверждает, что путь Обожения несет трансформацию, трансцендирование не только разума и сознания, но цельной человеческой личности, включая и телесное естество. И в исихазме XIII-XIV вв. усиленно разрабатывался и обсуждался дискурс тела: формы соучастия тела в молитвенном делании, роль чувственных восприятий и феномен «умных чувств» – радикального расширения, «отверзания» средств восприятия человека в мистическом опыте. Далее, начало намечаться осознание не узко-монашеской, а всеобщей, всечеловеческой сути исихастского подхода к человеку. Обожение определенно осознавалось как онтологический тезис, призвание человеческой природы как таковой – но путь к нему был достоянием избранных единиц и узкой, предельно специфической сферы подвига. Это явное противоречие стало одним из стимулов дальнейшего продумывания и развития традиции. И наконец – третье – традиция весьма продвинулась в своем концептуальном самоуяснении и самовыражении. Исихазм отыскал свое ключевое начало и термин, которых недоставало для понимания его практики и стоящих за нею антропологических и теологических предпосылок. Это начало было – энергия. В исихастских спорах, и прежде всего трудами св. Григория Паламы, стало ясно, что исихазм в целом есть, в первую очередь, речь об энергии, дискурс энергии: борьба со страстями есть искусство управления множеством всех энергий человека, молитвенное делание означает собирание этих энергий в единое устремление к Богу, а синергия и Обожение представляют собою не что иное, как соединение энергий человека и Божественной энергии, благодати. Однако исихастский дискурс энергии, своим появлением вводя традицию в сложную и многовековую философско-богословскую проблематику, рождал множество проблем и вопросов. Цельного учения об энергии здесь отнюдь не было создано, и само понятие энергии осталось во многих (особенно богословских) отношениях довольно туманным и спорным. Тема была открыта, но далеко не завершена; и это же можно сказать о двух других названных выше темах этапа: все они остались заданиями на будущее.
Не все эти задания были в равной мере восприняты последним, русским, этапом, пришедшим через половину тысячелетия, вслед за деятельностью св. Паисия ( Величковского) и появлением русского «Добротолюбия». (Надо, впрочем, упомянуть, что это был уже второй период распространения исихазма в России: первым было так называемое второе южно-славянское влияние в XIV-XV вв., связанное с именами свв. Сергия Радонежского, Андрея Рублева, Нила Сорского.) Практика Иисусовой молитвы во всех ее аспектах, включая соматику, получила новое углубление, тонкую систематизацию и проникновенное изложение у свв. Игнатия Брянчанинова и особенно Феофана Затворника, а уже в нашем веке – у св. Силуана Афонского и его ученика архим. Софрония. Учение об энергии основательно изучалось богословами русской эмиграции, прежде всего еп. Василием (Кривошеиным), Вл. Лосским, о.Иоанном Мейендорфом. Но самое значительное и новое для традиции связано было с оставшейся из трех тем: с раскрытием универсального существа исихазма. Возникли новые формы, посредством которых исихазм выходит далеко за пределы монашеской среды. Тут были старчество с его знаменитым очагом в Оптиной, концепция «монастыря в миру», идущая от славянофилов, развитие техники непрестанной молитвы, позволившее сочетать ее с мирскими занятиями, и мн. др. Влияние исихазма распространяется с беспрецедентной широтой как в сфере народной религиозности, так и в сфере культуры (хотя и в меньшем масштабе). И этот процесс, подобно Исихастскому возрождению в Византии, отнюдь не иссяк сам по себе, но был оборван исторической катастрофой.
Таков, в самом сжатом очерке, феномен исихазма. Какую же роль он может сыграть для философии? И прежде всего: не будет ли всякая связь с ним уже заведомо означать отказ философии от некоторых своих необходимых качеств, от своего характера полностью автономной, саморазвивающейся мысли? Подобное утверждают весьма часто относительно связей философии с религией. Но огульное утверждение некорректно; как содержание религиозной сферы, так и формы его взаимодействия с философией очень многообразны. Нетрудно увидеть, в частности, что такие формы религиозного, как догматическое богословие, спекулятивная мистика и духовная практика, стоят в очень разном отношении к философской мысли. Плодотворная роль мистики для философского развития – классический факт истории философии, имеющий множество примеров. Самые крупные из них – влияние орфического и пифагорейского мистицизма на платонизм и неоплатонизм, а также связь классического немецкого идеализма с мистикой Экхарта, Беме и их последователей. При этом, однако, в большинстве известных примеров имело место взаимодействие спекулятивной мистики с идеалистической философией, учениями из традиции европейской метафизики.
Но это – лишь общие методологические замечания. Конкретно же философия, имеющая в поле зрения антропологический опыт исихазма, «исихастского человека», не может не иметь соприкосновений – или, возможно, отталкиваний – с тем богословием, которое также обращается к этому опыту. Что это за богословие? Прежде всего, это православное мистическое богословие – специфический тип богословия, который стремится быть прямым выражением духовной практики, опыта жизни в Боге. В отличие от обычного «теоретического», или академического богословия, богословие мистическое вплотную сливается со сферой мистико-аскетического опыта, как бы служа его собственной «прямой речью», доставляя ему первичную вербализацию, которая лишь отчасти является систематизацией и концептуализацией. Тексты мистического богословия совмещают черты аскетических и богословских писаний, а его крупнейшие представители – которых во всей истории Православия, собственно, всего два, свв. Максим Исповедник и Григорий Палама ( впрочем, следом за ними не должен быть забыт и преп. Симеон Новый Богослов), – являются в равной мере подвижниками и богословами. Тем самым, метод мистического богословия в известной мере феноменологичен, и философия неизбежно воспроизведет или попросту воспримет отдельные элементы его вербализующего усилия: так, для нее не может не послужить напутствием и ориентиром то открытие Паламы, добытое в едином сопряжении мистического и богословского усилия, что весь исихазм есть в первую очередь речь об энергии. Однако предметом должен оставаться лишь сам исихазм как феномен, данный в первоисточном корпусе своих практических текстов. Характер и жанр этих текстов требуют в качестве предварительной ступени известной экспликации и структурирования их содержания, и эту работу предпочтительнее произвести специально и заново, нежели опираться на результаты, выраженные в богословском дискурсе. Эту пропедевтическую цель выполняет составленный мною «Аналитический словарь исихастской антропологии» (см. «К феноменологии аскезы»).
Однако ее история шла иначе. Если у старших славянофилов – и особенно у Ивана Киреевского – налицо была обращенность к исихастской традиции, но отнюдь не было еще развитой философии, то на следующем этапе, у Владимира Соловьева, развитая философия появилась, но уже отнюдь не было обращенности к исихазму. В поисках духовных истоков Киреевские ездили в Оптину, Соловьев же уехал в Лондон. При отличном литературном вкусе он явно был человеком дурного мистического вкуса и чутья, и софийные авантюры его гениальной личности сильнейше сказались на пути русской философии. Весь недолгий период ее расцвета, именуемый сегодня русским Религиозно-философским возрождением, стоит под знаком Соловьева и его софийной мистики, хотя в это же время в России происходит возрождение исихазма. Лишь к концу этого периода, перед самым трагическим обрывом, два русла начинают сближаться. Этому содействовало конкретное событие в церковной среде: конфликт по поводу имяславия, который привлек внимание многих философов – Флоренского, Булгакова, Эрна, Лосева. Но труды их на эту тему писались уже тогда, когда философский процесс в России был оборван, и большей частью они только сейчас достигают читателя. К тому же в них еще не обдумывается феномен исихазма как таковой, но лишь привлекаются начатки паламитского богословия энергий. В диаспоре же исихастская традиция изучалась активно и плодотворно, но, как мы говорили, уже не философами, а богословами. В итоге работа философии сегодня вынуждена, по существу, начинаться заново. Но в этом есть не только отрицательная сторона: если бы даже метафизика начала века попробовала войти в исихастский мир, едва ли ее подход удовлетворил бы нас сегодня, в эпоху преодоления метафизики.
Границы намеченных нами двух разделов условны. Мы только начали описание философского контекста; сфера философской антропологии лишь самая общая его часть. Однако дальнейшие его элементы более конкретны, и их рассмотрение, требующее столь же конкретного анализа и построений, уже и есть не что иное, как «реализация», выработка основных категорий и позиций синергийной антропологии.
Ключевая категория исихастской модели реальности – энергия; и, соответственно, в описываемый контекст важнейшею частью входит весь дискурс энергии в европейской мысли. Дискурс этот, скорее, небогат, но очень своеобразен по составу. Понятие энергии было введено Аристотелем и, хотя не вошло в число его 10 основных категорий, но играло видную роль и в метафизике, и в физике. Будучи близко по значению к понятиям действия и деятельности, оно, в отличие от них, включало в полной мере элемент завершенности, подчиненности началам цели и формы, и за счет этого теснейше сближалось с понятиями энтелехии и сущности. Однако в дальнейшем оно не вышло за пределы античной философии. Даже схоластика, столь близко
следовавшая аристотелевой системе понятий, не сохранила в своем арсенале категории энергии как таковой, но перешла к ее латинскому переводу actus, акт, – что далеко не являлось точным эквивалентом. Другим, еще более отдаленным, замещением или коррелатом энергии было существование, existentia (к которому мы еще вернемся). В позднейшей новоевропейской метафизике категория энергии также отсутствует, хотя в отдельных учениях – например, у Лейбница – замещающее начало действия или деятельности играет значительную роль. Положение принципиально не изменилось и в современный период, хотя коррелативные начала, такие, как воля, стремление, экзистенция и пр. приобрели намного большую важность, а само понятие энергии подверглось глубокому продумыванию и пересмотру у Хайдеггера, который посвятил особый курс трактующей о нем IX книге «Метафизики» Аристотеля. В итоге, в качестве областей, где энергия фигурирует явно и, к тому же, в центральной роли, сегодня можно назвать, пожалуй, всего две нефилософские области, являющие весьма парадоксальное сочетание: исихастское богословие и современную физику. Как выясняется, трактовка энергии в них имеет общие черты, которые, в частности, включают в себя далеко идущие отличия от энергии Аристотеля. За этой неожиданной близостью можно увидеть многое.
В IX книге «Метафизики» вводится в едином комплексе и взаимосвязи с и так что все три понятия образуют троичную онтологическую структуру:
Возможность – Энергия (действие, деятельность, осуществление) – Энтелехия (действительность, осуществленность).
Как известно, именно эта позиция отвечает метафизике Аристотеля. Сейчас мы не можем входить в ее анализ, но выделим лишь один, главный для нас, момент: соотношение энергии и сущности. Служа реализации сущности, энергия, тем самым, подчинена ей, включена в орбиту, в дискурс сущности. Однако это общее свойство всех аристотелевых категорий: сущность – вершина всей их системы, и все категории так или иначе определяются через нее, а все вещи заимствуют от нее свою причастность бытию; иными словами, вся философская речь Аристотеля может рассматриваться как эссенциальный дискурс. Как всякая классика, мысль Стагирита не может быть исчерпана подобной односторонней интерпретацией; но, взятая в этой интерпретации, она оказывается полезной методологической оппозицией, «негативом» для наших построений.
Понятая как чисто эссенциальный дискурс, метафизика Аристотеля описывает реальность всецело охваченной сетью закономерности: системой предшествующих форм, целей, энтелехий и сущностей. Как хорошо известно в истории мысли, интуиции христианской антропологии, а также и многие другие направления мысли, индивидуалистские, волюнтаристские, феноменологические и т.д., весьма расходятся с подобной картиной тотально закономерной реальности, и они постоянно побуждали к поискам философских альтернатив – иначе говоря, к созданию не-эссенциальных, деэссенциализованных дискурсов. Важнейшим для нас примером является развитие экзистенциальной философии. Всю эпоху классической европейской метафизики категория existentia была маргинальной и второстепенной; однако, начиная с Кьеркегора, она выдвигается на первый план, чтобы стать в нашем веке одним из центральных понятий онтологии и даже, в известном смысле, лейтмотивом современного видения и восприятия реальности. Главным же стимулом выдвижения был именно уход от эссенциализма, поскольку, начиная с Аквината, existentia прочно рассматривалась как противоположность essentia. (При этом то давящее господство эссенциализма, что желали преодолеть, связывалось, в первую очередь, с системой Гегеля, которая допускает, несомненно, эссенциалистское прочтение, но, как и метафизика Аристотеля, отнюдь не охватывается им всецело.) Такой уход был осуществлен несколькими способами, из которых самым прямолинейно-упрощенным была постулативная инверсия обычного соотношения (тезис Сартра «существование предшествует сущности»), а наиболее фундированным – аналитика «Sein und Zeit», интегрирующая сущность в существование ( «Сущность Dasein лежит в его существовании»).
Понятие энергии открывает еще один путь к построению неэссенциального философского дискурса, и путь этот обладает известной близостью к пути экзистенциальной философии. Существует глубокая связь между понятиями энергии и экзистенции, которая раскрывается, если мы вновь обратимся к онтологической структуре события. Как известно, первичное значение обоих глаголов, лат. existere и греч. есть: выступать, выдвигаться вовне, покидая, тем самым, некоторое исходное место. В контексте онтологии это значит, что существование, конкретное бытие, esse reale мыслится как выступление, выдвижение, исхождение из некой основы, предшествующей и пребывающей, из «того, что всегда есть прежде» ( Аристотель). За этим стоит двоичная онтологическая структура «Основа – Выступающее (existens, existentia)», очевидным образом, родственная и изоморфная структуре «Возможность – Энергия». Экзистенциальный дискурс, отказывающийся от примата сущности над существованием, отказывается, тем самым, мыслить существование телеологически, как выступление к предопределенной цели, предшествующей форме и т.п. И точно таким же деэссенциализованным образом может трактоваться понятие энергии. Мы уже указывали, что троичная структура события допускает неаристотелеву интерпретацию, при которой энергия отдаляется от энтелехии и сближается с возможностью. При этом главным элементом в событии становится его центр, сама энергия как таковая; тогда как энтелехия и все с нею связанные категории эссенциального ряда, как цель, форма, сущность, отодвигаются на второй план или точнее, «на бесконечность», в апофатический горизонт бесконечной удаленности. Делаясь вторичными, они могут и вообще отсутствовать в дескрипции события. Приближение же энергии к возможности сказывается в том, что энергия ассоциируется теперь уже не с завершением и завершенностью действия и движения, а более с его началом, почином, она представляется как актуальный почин определенного движения или действия, его «росток» (в смысле скорее топологии, чем биологии).
Именно такой дискурс динамической и деэссенциализованной энергии соответствует современному физическому мировоззрению, соответствует квантовой физике и космологии; в частности, в своем качестве открытости он естественно ассоциируется с моделью расширяющейся Вселенной. В этой связи представляет интерес сопоставление данной модели в космологии с «моделью» Обожения в мета-антропологии. Утверждение о существовании между ними парадигмального соответствия, корреляции могло бы рассматриваться как своего рода выражение антропного принципа в дискурсе энергии, тогда как идентичность парадигм выражала бы тождество Макрокосма и Микрокосма. Сравнительно же с экзистенциальным дискурсом, деэссенциализация, достигаемая в дискурсе энергии, является более радикальной, поскольку категории события и энергии допускают большее дистанцирование от сущности. Экзистенция, существование, даже когда оно не ставится в прямое подчинение сущности, необходимо включает в свою смысловую структуру некоторое отношение к ней. Но событие и энергия в значительной мере могут рассматриваться как «свободные начала», стоящие в ином категориальном ряду, для которого конкретизация связи с сущностью не является обязательной. Помимо того, имея природу действия, существуя исключительно в действии, а не «сама по себе», энергия не допускает субстанциализации, гипостазирования и по своей роли в дискурсе должна рассматриваться не как субъект, а как предикат. Поэтому дискурс энергии есть специфический «глагольный» или же «операционный» дискурс, построение которого требует смены установок, от субстанциальности к операциональности. Это еще более отдаляет его от обычного, «именного» эссенциального дискурса и позволяет в итоге рассматривать дискурс энергии как крайний предел в движении философской мысли к деэссенциализации. Можно видеть здесь известную связь с тем, что именно этот дискурс, как мы говорили, адекватен пониманию энергии в мистической антропологии исихазма и в современной физике: при всей несхожести этих областей их объединяет то, что обе они – крайние, предельные сферы опыта человека, доступной человеку внутренней и внешней peaльности.
Очертив исходные позиции синергийной антропологии (или мета-антропологии), мы можем лишь очень бегло сказать о ее дальнейших результатах. Для рассмотрения онтологической проблематики в дискурсе энергии необходимо обратиться к сфере человеческого существования, ибо только в ней лежат истоки онтологической содержательности, событийности реальности. В событии, по определению, всегда происходит нечто; но отнюдь не всегда оно обладает и бытийной значимостью, является бытийным событием. (Хайдеггер выражает это, сохраняя термин «событие», Ereignis, лишь для последнего и противопоставляя его онтологически пустому «случаю» или «происшествию».) И раскрытие этой значимости, узрение реальности событий в ее онтологическом измерении теснейше связано со сферой человеческого существования. Дело, однако, не обстоит так, чтобы «онтологическая значимость» попросту заключалась в связи события с этой сферой, в его «антропологическом содержании» или антропологической коррелативности (окачествованности, окрашенности). Вспоминая сказанное об «антропологическом сне» и мета-антропологии, мы сразу согласимся, что в сфере человеческого существования также могут совершаться и совершаются пустые «случаи» и «происшествия»; узрение реальности событий в ее онтологическом измерении вовсе не означает простой антропологизации философского дискурса. И все же это узрение неким нерационализуемым образом «завязано на человека». Здесь возникает, как замечали, своего рода герменевтический круг: выявление, выступание бытийности события совершается в горизонте человека (сознания (Гуссерль), экзистенции, Dasein (Хайдеггер)), и оно одновременно представляет собою выявление, выступание, реализацию бытийности самого человека же. Человек становится бытийным, различая бытийность; бытие становится человечным, будучи различаемо человеком (некая параллель проблеме измерения и наблюдателя в квантовой теории). Слитность сих двух сторон и образует бытийное событие, основа которого, по Хайдеггеру, – сокровенная взаимная принадлежность человека и бытия. Реальность событий, взятую в горизонте этой взаимной принадлежности, мы будем называть действительностью человека (где действительность уже не понимается как синоним энтелехии). Наша первая онтологическая проблема – охарактеризовать ее онтологический статус.
Что это за онтологическая структура? Это уже не есть чистое бытие-конечность. Неприятие смерти не составляет равнозначной и равносущной альтернативы конечности, однако оно все же создает в действительности человека альтернативу иного рода, онтологически несимметричную альтернативу. Человек может сделать неприятие смерти центром своей деятельности, может стремиться сделать свои энергии – энергиями неприятия смерти. Он может этого и не делать, так что выбор и альтернатива здесь явно налицо. Очевидно, что это – альтернатива в плане стратегии существования, стратегии деятельности, в плане энергии и поступка, если использовать термин Бахтина. Но присутствует ли здесь и онтологическая альтернатива, альтернатива в самом способе существования? – Чтобы ответить, заметим еще два фактора. Во-первых, неприятие смерти как стратегия существования может быть стратегией холистической, всеохватной. Человек может начать всецело жить им, может подчинить ему все без остатка свои энергии, которые только доступны его собственному воздействию, – энергии тела, психики, разума; так что, в итоге, действительность человека в плане энергии представится как единое отталкивание от конечности, как иное конечности, хотя – иное недлящееся, не-пребывающее. Во-вторых же, как замечалось, конечность не может с безусловностью утверждаться как предикат действительности человека в необналиченном времени; в необналиченном времени есть место и для иного конечности – уже как иного осуществленного, пребывающего.
В итоге неприятие смерти порождает особую стратегию деятельности и образ существования, которые в энергийном плане превращают действительность человека в противостоящее конечности и априори могут также доставить актуальное преодоление конечности. В этом смысле указанная стратегия существования есть онтологическая альтернатива бытию-конечности, присутствующая в действительности человека. Представляясь во всякий момент и во всяком своем деятельном центре как альтернатива между пребыванием в конечности и энергийным преодолением конечности, действительность человека может быть определена в своем онтологическом статусе как «бытие-бифуркация».
Данный вывод рождает немало новых вопросов. Определяя действительность человека как онтологическую бифуркацию, мы должны отчетливее охарактеризовать утверждаемую таким определением новую онтологическую возможность: возможность бытийной стратегии, ориентированной к преодолению конечности. Дискурс энергии помог нам описать исконно известный факт действительности человека: реально открытый для человека выбор между пребыванием в конечности и трансцендирующим устремлением – энергийной, волевой установкой, которую по-разному выражали множество философов и мистиков и, в частности, Рильке выразил кратким девизом: Wolle die Wandlung. В нашем построении эта установка возникает как неприятие смерти. Но, чтобы она была подлинной онтологической альтернативой, неприятие смерти должно быть в корне отлично от обычных, природных стремлений или волений человека, которые тоже могут быть сколь угодно резкими неприятиями, однако же не несут онтологического содержания и не отражаются на онтологическом статусе человека. В нем должна быть определенная независимость, вненаходимость, говоря по Бахтину, по отношению к наличной, оконеченной действительности человека.
Некоторые отличия, выделяющие «отталкивание от конечности» в многообразии всевозможных энергий человека, мы можем увидеть сразу. «Негативная реакция на собственное небытие» заведомо не принадлежит к разряду чисто психологических явлений, как не принадлежит и к разряду умственных, теоретических установок. Ее присутствие не зависит от воли и выбора человека, она является всеобщим и универсальным фактором. Как и сама смерть, неприятие смерти есть то, что «в человеке, но не от человека». В экзистенциальной аналитике известно стандартное феноменологическое рассуждение, каким показывают онтологическую природу экзистенциалов человеческого существования, и это рассуждение целиком применимо к неприятию смерти. В рамках экзистенциального дискурса это был бы еще один экзистенциал, причем далее можно было бы усмотреть в нем специфику, сближающую его со «сверхприродным экзистенциалом» Ранера. В дискурсе же энергии, вместо экзистенциальной аналитики, мы должны рассмотреть взаимодействие энергий неприятия смерти как особо выделенных, с обычными энергиями человека. В этом взаимодействии обнаруживается определенная парадигма, которая становится центром и ядром всей онтологии дискурса. Выявить эту парадигму помогает нам параллель с энергетической картиной биологического существования. Издревле известная параллель между плотским и мистическим эросом, Любовью земной и Божественной, может быть выражена в энергийных структурах, и при этом она обнаруживает небезынтересные новые стороны.
Вывод отсюда тот, что синергия, о которой говорят исихазм и православное богословие, может быть понята обобщенно как энергийная парадигма онтологического трансцензуса, совершаемого двуприродными, двуисточными энергиями и являющегося актуальным переходом в иной род бытия, в отличие от форм трансцензуса, описываемых в экзистенциальной и других философиях. Возвращаясь же к синергийной антропологии, мы заключаем, что неприятие смерти, каким мы описали его, является основой еще одной реализации парадигмы синергии. Его энергия играет роль трансцендирующей энергии, подобно энергии Бога в теологической и энергии Кода в биологической реализациях парадигмы. На основании биологической параллели, то начало или фактор, которому принадлежит энергия неприятия смерти, является концептуальным аналогом Кода и может быть названо Супракодом. Данное понятие требует особого обсуждения; сейчас же заметим лишь, что, вводя его, как и биологическую параллель в целом, мы отнюдь не вводим, как это может показаться, эссенциальную трактовку трансцендирования действительности человека, представляя это трансцендирование по образцу биологического, органического процесса (что было бы сходно с учением Тейяра де Шардена). Напротив. Мы обращаем внимание на то, что биотрансцензус, будучи корректно описан в собственно онтологическом горизонте, сам оказывается реализацией не эссенциальной, а энергийной (и синергийной) парадигмы – ибо для особи как (Bio-)Dasein налицо лишь трансцендирующие энергии, и принципиально неразрешимым является вопрос: существует ли Код? И точно такова же ситуация бытия-бифуркации по отношению к Супракоду. С этим последним понятием парадигма синергии принимает законченный вид. Мы заключаем, что в бытии-бифуркации реализуется альтернатива пребыванию в конечности, если энергии человека согласуются и подчиняются энергии Супракода.
Здесь время закончить наше краткое введение в идеи синергийной антропологии. Оно, несомненно, вызывает много вопросов, и на некоторые из них ответы еще неизвестны мне самому. Однако уже ясно, как я надеюсь, что это направление мысли способно дать новый взгляд на некоторые традиционные философские предметы. Дискурс энергии как наиболее радикальный путь деэссенциализации философской речи; человек как онтологическая бифуркация; неприятие смерти как Супракод человеческого существования, скрывающий новые связи между Эросом и Танатосом, – хотелось бы думать, что эти и другие идеи заслуживают дальнейшего размышления. Мы также находим здесь общую основу, что соединяет столь отдаленные миры как мистический энергетизм исихазма и физический энергетизм современной квантовой и космологической теории. И мы убеждаемся в очередной раз, что там, где есть сочетание живого опыта человека и древней традиции, всегда будет пища духу и философии.
В философском исследовании творчества о. Сергия Булгакова остается еще немало принципиальных проблем. Если обычный общий обзор философии и богословия о. Сергия был давно уж проделан учеными первой эмиграции – в капитальном труде Льва Зандера, классических курсах Лосского и Зеньковского – то современный взгляд на учение Булгакова, который включал бы это учение в цельный историко-философский контекст, охватывающий весь путь русской мысли до наших дней, едва ли вообще начал формироваться. В указанных трудах историко-философский контекст булгаковской мысли сводится к классической схеме: эта мысль принадлежит к руслу софиологии, а та, в свою очередь, является главной ветвью метафизики всеединства – зачатого Вл. Соловьевым основного направления русской религиозной философии. Однако такой контекст не выводит нас за пределы Серебряного Века и Религиозно-философского возрождения, которые миновали много десятилетий назад; и классическая схема сегодня никак не может быть достаточной. В ней не отражено многое и, в первую очередь, один цельный этап, имевший принципиальную важность, – этап, связанный с имяславческой полемикой. Защита имяславия, как известно, явилась весьма значительным эпизодом в творчестве не только Булгакова, но и ряда других философов, и философский анализ имяславия остается сегодня одной из самых назревших и актуальных проблем. Возникшая в среде, очень далекой от философии, имяславческая полемика сыграла примечательную роль в истории русской мысли: она стала толчком к тому, что русская метафизика всеединства перешла на новый этап. Как мы убедимся, в продумывании имяславия философами всеединства родилось новое течение, которое я предлагаю называть Московской Школой христианского неоплатонизма.
Различные замечания о неоплатонических влияниях в русской религиозной философии рассеяны издавна в литературе, так что успели уже примелькаться и стать общим местом – как выражаются, частью фольклора. Однако до сих пор все ограничивалось лишь частными и беглыми наблюдениями. Можно здесь вспомнить работы Дм. Чижевского, некоторые тексты Лосева и о Лосеве, но в целом неоплатонические связи русской мысли и, в частности, мысли Серебряного Века, никогда не были предметом серьезного анализа. Никакие обобщающие труды, вплоть до новейшей истории русской философии Фр. Коплстона, не поднимают эту тему. Наша же цель сейчас – разумеется, также не систематический анализ, но все же и не очередное частное наблюдение. Мы выделим цельное философское явление, для которого влияние неоплатонизма, неоплатонический характер онтологии служит определяющим свойством. И творчество Булгакова не только причастно этому явлению, но составляет его неотъемлемую и важную часть.
Чтобы очертить сеть историко-философских связей и соответствий, следует начать с уточнения. Когда речь идет о широких и взаимно отдаленных культурных явлениях, компаративистские утверждения об их сходствах, влияниях, сближениях сплошь и рядом бывают спорны и произвольны, грешат туманной расплывчатостью. Чтобы этого избежать, мы сначала определим, что же следует понимать под “неоплатоническим влиянием”, какое содержание в нем должно заключаться. Не раз прослеживалось – в том числе, и в моих работах – что тесную связь с неоплатонизмом имеет уже само понятие или парадигма всеединства: зародившись у досократиков, оно достигает концептуальной оформленности, конституируется в самостоятельную философему именно у Плотина, в “Эннеадах”. В силу этого, есть известные основания относить к руслу христианского неоплатонизма всю русскую метафизику всеединства в целом (и иногда походя это делают). Но можно ли счесть эти основания достаточными? Определяющею чертой, специфическим отличием неоплатонического этапа античной мысли является отнюдь не присутствие концепции всеединства: по своей сути, эта концепция не вносит чего-либо кардинально нового в русло платоновской традиции. Таким кардинально новым элементом в неоплатонизме является иная концепция – а именно, концепция энергии, которая при этом проводится у Плотина в некой точно очерченной трактовке, утверждающей определенное соотношение между энергией и сущностью и порождающей определенный род энергийной онтологии. Здесь возникает особый неоплатонический дискурс, в котором энергия и сущность взаимно предполагают, взаимно влекут и содержат друг друга, а античное единое духовно-материальное Бытие-Космос мыслится энергийно насыщенной световой сферой. Если мы скажем с Хайдеггером, что у Платона бытие предстает как Идея, а у Аристотеля как Энергия, то в неоплатоническом синтезе оба онтологических принципа предстают как равноправные имена бытия, наполняя и уравновешивая друг друга. (Заметим, что именно такова онтология и у самого Хайдеггера, являющегося в данном аспекте ортодоксальным неоплатоником). Отсюда явствует, что именно присутствие этого специфического типа онтологии, этого энергийно-эссенциального дискурса должно рассматриваться как решающий критерий для установления неоплатонических влияний и связей. Здесь – производящее ядро неоплатонизма как типа мышления и мировосприятия. Как нетрудно увидеть, это производящее ядро, энергийно-эссенциальный дискурс, прочно наличествует в Ареопагитиках, и потому вполне справедливо, что псевдо-Ареопагит признается распространителем неоплатонического влияния в христианской мысли.
Возвращаясь же к русской философии, мы видим, что метафизика всеединства в своем основном корпусе – в трудах Соловьева, Флоренского (включая «Столп и утверждение Истины»), Булгакова (включая «Свет Невечерний»), Евг. Трубецкого, Франка, других авторов – не только не имеет энергию верховным бытийным принципом, но и вообще не содержит категории энергии. В то же время, за счет концепции всеединства во всех учениях этой метафизики необходимо присутствует та или иная вариация платоновского учения об идеях в его христианизированной форме, т.е. в форме концепции Мира-в-Боге (панентеизма). Присутствие такой концепции – определяющая черта и опознавательный признак не неоплатонического, а более широкого платонического русла, христианского платонизма; и потому в целом метафизика всеединства должна быть относима именно к данному руслу. К линии же христианского неоплатонизма ее учения или построения оправданно причислять лишь тогда, когда в них, в той или иной форме, присутствуют концепция энергии и энергийно-эссенциальный тип онтологии.
За этим существенным уточнением, выскажем историко-философский тезис: в определенный момент, русская метафизика всеединства совершает переход на новый этап, когда в ней появляется и выходит на первый план категория энергии; причем трактовка энергии полностью соответствует неоплатоническому энергийно-эссенциальному дискурсу. Тем самым, указанный переход выражает развитие от христианского платонизма к христианскому неоплатонизму. Как сказано уже выше, толчком к этому философскому развитию послужили события религиозной жизни – церковный конфликт по поводу имяславческого движения, что разыгрался в 1911-14 гг.
Такова, очень вкратце, фактическая канва отражения имяславческого конфликта в русской философии. Далее встают задачи анализа: необходимо дать философскую характеристику возникших учений и, в первую очередь, определить, какова же та новая онтологическая основа, тот тип онтологии, что сменил прежний платонический каркас метафизики всеединства. Эти задачи, пока почти не исследованные, должны, конечно, решаться отдельно для каждого из трех крупных опытов “философии имяславия”, и рамки данного текста не позволяют в них углубляться, даже для одного лишь учения Булгакова. Но все эти опыты имеют целый ряд общих черт, которые вкупе ясно показывают и суть нового явления, и его место в русской и европейской мысли. Этими общими чертами мы и ограничимся сейчас – и, как увидим, этого будет достаточно для первичной философской оценки имяславия, а также для уяснения современного контекста позднего творчества Булгакова.
При всех различиях, три апологии связует, однако, решающее общее обстоятельство: каким способом ни велось бы обоснование, какую логику или аргументацию оно бы ни привлекало, оно неизбежно должно базироваться на одной определенной трактовке соотношения энергии и сущности – а именно, на вышеописанной неоплатонической трактовке. Поскольку Имя Божие в любом своем явлении в тварном мире, в любом акте своего начертания или проречения, с необходимостью несет в себе тварные, а конкретней, человеческие энергии, то имяславческий тезис означает, тем самым, что всякий акт явления Имени Божия есть акт синергии, соединения человеческой и Божественной энергии. Такой вывод прямо утверждается Флоренским, который яснее всех вскрывает, какая же трактовка энергии заложена в имяславии. Но он означает, в свою очередь, что соединение тварной (человеческой) и Божественной энергии является здесь пребывающим, устойчиво наличествующим, воспроизводимым при любых условиях и в любой момент (ибо всегда, при любых условиях и любой человек может назвать или написать Имя Божие), – несмотря на то, что человеческие энергии, в том числе, и духовные, неостановимо пременчивы и подвижны. Устойчивое и пребывающее, всякому и всегда доступное осуществление синергии возможно единственно лишь в том случае, если в соединении участвует не только тварная энергия как таковая, но и сама та сущность, которой эта энергия принадлежит, т.е. тварная сущность. Иными словами, имяславческий тезис требует, на поверку, чтобы между тварной энергией и тварной сущностью имело бы место неоплатоническое соотношение – такое соотношение, при котором сущность и энергия онтологически равносильны, взаимно влекут и взаимно содержат друг друга. Итак, независимо от индивидуальных различий, всякий опыт философского обоснования имяславия необходимо приводит к неоплатонической трактовке энергии и неоплатоническому типу энергийной онтологии. Мы убеждаемся, что имяславческие построения московских философов, действительно, представляют собой направление христианского неоплатонизма, выделившееся в прежнем русле метафизики всеединства.
Корень состоит в том, что то неоплатоническое соотношение, которое, как мы видели, неявно заключено в имяславии и довольно явно в его философских апологиях, – не совпадает с тем соотношением энергии и сущности, которое неявно заключено в исихастской практике и довольно явно в православном богословии энергий. Чтобы показать это со всей основательностью, нужен детальный философско-богословский анализ, но сам факт несовпадения отчетливо выступает в целом ряде пунктов исихастской практики и паламитского богословия. Важнейший из таких пунктов – знаменитое определение о Божественных энергиях Поместного Собора 1351 г., которое не раз фигурировало в имяславческой полемике. В тезисах 6 и 13 это определение утверждает, что тварное бытие способно достигать приобщения и соединения с бытием Божественным исключительно по энергии, но не по сущности. Отсюда следует, что, когда тварная энергия соединяется с энергией Божественной (в которой, по тому же догмату 1351 г., Бог присутствует всецело), тварная сущность, напротив, не присутствует и не участвует в соединении. Но, тем самым, тварная энергия уже не может нести в себе тварной сущности; и это значит, что в данной ситуации – т.е. в синергии и обожении – тварные сущность и энергия не могут быть связаны меж собой по неоплатоническому образцу полной взаимной принадлежности и равносильности. Меж ними возникает иное соотношение, когда энергия обретает автономию от сущности, деэссенциализируется. А поскольку для ипостасного, Божественного бытия, в Троической икономии богословие энергий отнюдь не усматривает такого соотношения, а усматривает, наоборот, нераздельность энергии и сущности (см. пп. 1,2 догмата 1351 г.), то мы получаем весьма принципиальный вывод: в исихастском опыте и выражающем его православном богословии энергий имплицитно заложено, что тварное обоживаемое бытие характеризуется иным соотношением между энергией и сущностью, нежели бытие Божественное. Более точно, совокупность энергий человека в Умном Делании, устремляясь к сообразованию и соединению с Божественною энергией, в своем Богоустремлении достигает благодатного претворения в иную форму, освобожденную от подчиненности тварной падшей сущности. За лествицею ступеней исихастской практики обнаруживается глубокое философское содержание: она есть и лествица деэссенциализации человеческих энергий. Подобная философия энергии имеет своей необходимой предпосылкой утверждаемое христианством онтологическое различие тварного и Божественного бытия и не имеет аналога ни в неоплатонизме, ни во всем античном миросозерцании. В свою очередь, она служит онтологической предпосылкой, базой некой новой антропологии, новой модели человека. Именно эту новую модель человека воплощал на практике исихазм, однако по разным причинам она не нашла своего выражения в умозрении ни в Византии, ни в России. Как не раз отмечали в нашем веке, богословие в прошлые эпохи мало занималось антропологией, и антропологические открытия, делавшиеся в исихастской аскезе, почти за единственным исключением работы Паламы, не получали богословского осмысления. Серебряный Век также не поставил проблемы человека, то ли уйдя, то ли не дойдя до нее, и это решающе сказалось на его отношении к имяславию.
Чисто энергийный, но не сущностный характер соединения тварной и Божественной энергий порождает все специфические особенности исихастской практики как духовного процесса и как антропологической стратегии. Данное соединение даруется не каким-то отдельным элементам тварного бытия, а лишь цельному человеку, и оно не может быть устойчиво пребывающим и без усилия всегда доступным ему. Тому, кто его достиг, всегда грозит его потерять, и он должен бдительно стеречь его, а утратив, пытаться вновь обрести через покаяние. И эта духовная икономия совершенно отлична от рисуемого философами стабильного пребывания Божественной энергии в Имени Божием. В богословском аспекте, все это – следствия особой природы православного понятия синергии. Это понятие стоит на таком соотношении между энергией и сущностью, которое отражает христианскую онтологию бытийного расщепления, наличие онтологического разрыва меж тварным и божественным бытием, и вовсе не свойственно неоплатоническому энергетизму, невозможно в его рамках. Для энергий Единого, Плотинова мистика неоплатонизма не описывает и не допускает соединения с подобными свойствами.
Как уже прочно показал посткоммунистический опыт, с уходом тоталитаризма в нашей стране, вопреки розовым ожиданиям и лжи демагогов, возрождаются не столько лучшие, сколько худшие явления и черты прошлого. В тяжких условиях рассеяния, русская диаспора сумела творчески преодолеть Серебряный Век, продвинуться дальше на путях богословской работы. Однако сегодня в России, после долгого небытия богословской мысли, пленения мысли философской, религиозное сознание может легко вернуться к повторенью задов Серебряного Века – не блестящих взлетов, а слабостей и ошибок его – будто и не было отрезвляющего опыта рассеяния. Увлечение имяславием и софиологией, бездумные превознесения их уже появились и растут. И тем нужнее сегодня точная реконструкция и анализ пройденного пути.
В свете сказанного, поучительно сопоставить имяславческую смуту с другим афонским конфликтом, знаменитыми исихастскими спорами ХIV века. На первый взгляд, две вероучительные полемики сходны во всем главном: в обоих случаях, в среде иноков-исихастов рождается некое убеждение принципиального богословско-догматического характера, о Свете Фаворском в XIV веке, об Именах Божиих – в XX-м; это убеждение вызывает резкие несогласия; несогласия же перерастают в длительную, ожесточенную распрю, но также и порождают продвижение богословской мысли. Однако этот первый взгляд – чисто внешний. Переходя к внутренним особенностям, мы видим иную картину. В спорах о Свете Фаворском иноки утверждали вещи, прямо относящиеся к их практике, проходимому ими пути Умного Делания; и потому их утверждения были опытными утверждениями, свидетельствами опыта исихастской практики. Но этого мало, опыт бывает очень разным и разноценным. Важнейшее достоинство исихастской практики – отрефлектированность ее опыта, его зоркая, строгая проработка и проверка, его организованность в особый, создававшийся веками канон методологических и герменевтических правил. Сей “органон” исихастского опыта – главное содержание антропологии исихазма, ценность которой составляет уникальное свойство древних духовных практик, их способность особого двойного акцента: одновременного акцента и на всецелом устремлении к Богу, к запредельной, мета-антропологической цели, – и на точной конкретности того, что в этом устремлении делает человек, какое место принадлежит здесь ему, его разуму и свободе. И наконец, как логическое следствие этих свойств, позиции афонских иноков в XIV в. были едины. Они были выражены в Томосе 1340 г., выпущенном от имени всего иночества Святой Горы; св. Григорий Палама, сам принадлежавший к этому иночеству, придал им глубокую богословскую форму; и, в довершение, Церковь на Поместном Соборе включила их в догмат – что мы по праву сегодня именуем Торжеством Православия.
Имяславческий же спор не принес никакого повода для торжества. Позиции иноков тут отнюдь не были едины, напротив, именно в их среде разногласия были самыми ярыми и раздор принимал самые грубые, неблагообразные формы; побоища монахов давали почву для скептических подозрений, что в аскетической традиции хранится и передается не опыт восхождения к Свету Истины, а тьма дикого невежества. Из этих разногласий иноков можно уже предположить: видимо, новое учение не было достаточно укоренено в том, что для всех иноков было общим, в опыте исихастского подвига. И мы видим, что это именно так: в отличие от тезисов о свете Фаворском, тезисы об Имени Божием не относятся к специальному контексту духовной практики и потому не носят характера опытных свидетельств. Сами имяславцы всегда подчеркивали: их тезис – вовсе не утверждение о смысле Имени Божия в молитве и Умном Делании; такое утверждение они считают слишком узким, недостойным Имени Божия в его истинном величии, и своему тезису придают максимально общий, универсальный смысл. Покинув же почву опыта, они оказывались в опасной зоне богословских новаций и измышлений. Их тезис родился на основе их опыта, и в сфере этого опыта он имел под собою почву, мог притязать на истинность. Но здесь он имел и определенные антропологические предпосылки – и с выходом из данной сферы, с приданием тезису необозримо глобального смысла, эти предпосылки утрачивались. Очевидным образом, разум требовал выявления и анализа этих предпосылок, требовал антропологической рефлексии. Подобную рефлексию с успехом выполнил византийский исихазм в XIV веке; однако иноки-имяславцы, “следуя скорее внушениям сердца и непосредственного чувства”, погружаясь в стихию Нуминоза, от нее уклонились. Как следствие этого, “двойной акцент” исихастского подхода был нарушен, и второй, антропологический полюс Умного Делания и синергии утерян из вида.
Связи греческой и русской культур – необычайно обширная тема, с трудом обозримая во всем многообразии своего исторического и предметного содержания. Однако в этом многообразии существует один выделенный род связей, такие связи, которые заведомо являются и самыми древними, и самыми глубокими из всех. Древняя Русь приняла из Греции христианство; и религия России, Православие, традиционно имела также другое, нередко употреблявшееся название: греческая вера. Здесь был даже своеобразный парадокс: как во всякой культуре средневекового типа (а этот тип сохранялся в России весьма долго, иные считают – едва ли не до нашего века), религия служила стержнем, формообразующею основой всего национального бытия, «Русь» и «Православие» для русского сознания воспринимались почти как синонимы – и в то же время, за этим национальным стержнем, выражением духовного существа и своеобразия Руси, признавался и утверждался греческий, инонациональный характер. Это сочетание обстоятельств отметил однажды Пушкин, в знаменитом письме к Чаадаеву сказавший: «Греческое вероисповедание дает нам наш особенный национальный характер». Учитывая, что Греция и Россия не граничили меж собой, не имели прямых соприкосновений ни в каких крупных процессах, этнических или социальных, это греческое влияние и воздействие следует полагать чисто духовным – и, пожалуй, в сфере кросс-культурных контактов и трансляций было бы трудно отыскать примеры более коренных и глубоких влияний такого рода.
Однако важно и другое: эти влияния никак не значили рабского подчинения и копирования, отсутствия собственного взгляда и инициативы. Уже в ранний период русского христианства, в Киевской Руси, начинается формирование русского духовного типа и стиля, отмеченных своими особыми чертами. Наряду с формулой «греческая вера», русскую религиозность, характер русского христианства выражает и другая формула, не менее употребительная: «русское Православие». Первая формула выделяет и акцентирует универсальные и преемственные аспекты, вторая – аспекты своеобразия и самостоятельности; и можно, если угодно, сказать, что русская духовная история есть в значительной мере – история взаимоотношений этих двух формул. История не была простой. Родоначальность и первоисточность византийского Православия для России, роль Константинопольской патриаршей кафедры как «Матери-Церкви», разумеется, не оспаривались никогда; однако, наряду с их признанием, обнаруживались расхождения и отличия, случались трения (очередное из них – в наши дни); порою история переплеталась слишком тесно с мирскими, политическими обстоятельствами, попадала в зависимость от них... – Но все эти сложности и перипетии не входят сейчас в нашу тему. Из всей многогранной истории мы собираемся обсудить только один эпизод, или точней, одну нить: феномен кросс-культурной трансляции, который являет нам мистико-аскетическая традиция исихазма, или священнобезмолвия.
После принятия христианства из Византии, переход в Россию исихастской традиции – второй по значению духовный вклад, новый духовный импульс, пришедший из того же источника и заново закрепивший с ним родство и преемственность. Но еще важнее оказался другой, чисто внутренний аспект: значение исихазма для самих устоев, для внутренней жизни русского христианства. Исихастская школа, исихастский тип христианской аскезы удивительно пришлись и привились на Руси, найдя здесь как бы вторую родину и обнаружив созвучие и близость, истинную гётеву Wahlverwandschaft (избирательное сродство) с русским религиозным менталитетом. Если Православие было ядром русского национального бытия, то исихастский подвиг, Умное делание (как перевели еще в древности греческое ), – может быть назван, как выразился бы о.Павел Флоренский, ядром ядра. Исихастские представления о природе и назначении человека, о нравственных устоях и ценностях, о должном отношении человека к себе, к миру и другим людям, глубоко вошли в русское сознание, образовали сам стержень русского религиозного миросозерцания. И, конечно, здесь тоже трансляции сопутствовала модификация, а за нею и новое самостоятельное развитие. Перенос традиции в новый национально-культурный мир заведомо не мог быть математически точным и полным; с неизбежностью, какие-то черты оказывались приглушены, другие выдвинулись, усилились – а, возможно, и дополнились совсем новыми. Нельзя верно понять русский исихазм – его исторический путь, его роль в духовной жизни России – не подвергая внимательному анализу его соотношение с византийским исихазмом.
Держась в этом разделе исторической нити, мы рассмотрим этапы становления исихастской традиции на Руси. Сопоставление здесь необходимо сразу: новый очаг традиции создается спонтанно, но в то же время и отрефлектированно, и новое начало соотносит себя с первоначалом. Поэтому нам придется, прежде всего, бегло проследить судьбы традиции у ее истоков, в мире древневосточного, а затем византийского христианства. Зарождение и формирование христианской аскезы – сложный процесс, куда внесли вклад многообразные факторы – глобально-исторические (упадок и распад античного мира), социальные (создание оппозиции Империи и Пустыни), идейные (влияния стоицизма, неоплатонизма, некоторых восточных школ), а в первую и главную очередь – чистый порыв и пафос Богоустремленности, рожденный новозаветным Откровением. Как пишет блаж. Иероним, христиане удалялись в египетские пустыни уже в III в., в пору гонений – не с тем, однако, чтобы бежать от них, но с тем, чтобы в уединении и лишениях обрести готовность к приходу времен последних и Суда. В IV в. монашеское движение в пустынях Нитрии и Скита, лежащих к западу от дельты Нила, в Фиваиде, лежащей выше по нильскому течению, окрест Фив, становится массовым, распространяется в другие области на Востоке Империи и создает оба главных русла всего позднейшего христианского подвижничества, общежительное (киновийное) и пустынножительное (уединенное, отшельническое). Оба русла имеют великих отцов-основателей, первое – св. Пахомия, второе – св. Антония (коему, впрочем, предшествовал Павел Отшельник). Почти сразу же начинает возникать и богатая аскетическая литература различных жанров, изустные истории, трактаты, эпистолы.
Современная православная трактовка исихазма, сложившаяся, в основном, в русской диаспоре и становящаяся постепенно общепринятой, считает раннехристианское пустынножительное монашество первым историческим звеном Традиции. К тому есть все основания. В отличие от западного монашества, для которого с самого начала были типичны течения, делившиеся и обособлявшиеся между собой – по своей внутренней организации, степени удаления от мира, по выбору главного занятия и служения, – на Востоке во главу угла всегда ставилась единая суть монашества как такового – т.е. всецелое самопредание делу спасения. Спасение же постепенно, со все большею отчетливостью, начинало осмысливаться как обóжение, т.е. актуальное изменение, претворение самой человеческой природы в Божественную, становление человека «богом по благодати» (см. подробней в следующем разделе). Это полновесно-онтологическое, максималистское понимание спасения человека с неизбежностью подводило к тому, что в икономии спасения необходимы особые усилия человека, сконцентрированные и целенаправленные или, иными словами, особая духовная практика. Такою практикою и стал «исихастский метод», школа непрестанного творения Иисусовой молитвы.
Всецело ясно, что «симфония», как и вся «политическая теология» Византии, заключают в себе определенную религиозную установку или парадигму религиозного сознания, и это есть установка освящения, сакрализации: сакрального санкционирования и закрепления тех или иных явлений, вещей, сторон земного миропорядка. В данном случае, она относится к самим устоям последнего, к власти и государству, в своем апогее распространяясь и на самую личность императора-помазанника; однако она ими не ограничивается. Установка освящения отнюдь не родилась с крещением Константина или теориями Юстиниана, она достаточно глубоко укоренена в византийском и общеправославном сознании. В своем существе, она типична и характерна для мифологического, магического, символического сознания, иначе говоря, для языческой религиозности, откуда и передалась Православию; вполне показательно, что в богословие она проникала, прежде всего, через псевдо-Ареопагита, этого главного внедрителя и проводника неоплатонизма в христианстве. Имея весьма общую природу, она разнообразна в своих проявлениях; помимо отношения к институтам власти, она находит для себя почву в сфере обряда (обрядоверие), в присущей Православию тенденции к гипертрофированию храмового и литургического символизма и т.п. Но в то же время, в отличие от аскетической установки обóжения, прямо и непосредственно воспроизводящей устремления первохристианского и новозаветного сознания, его отношение к Богу и миру, – установка освящения имеет лишь шаткую, оспоримую опору в Писании и вероучении. Так, указывалось не раз, что юстинианово обоснование «симфонии» ссылкой на Халкидонский догмат, единство Божественной и человеческой природ во Христе, содержит «фундаментальную ошибку» (Мейендорф), не делая разницы между тварной природой падшей (что присуща любой земной власти) и не падшей (что присуща Христу).
Итак, уже на ранневизантийском этапе строение православного сознания, и с ним «восточнохристианский дискурс» отнюдь не являются монолитно-монистическими, но определяются сочетанием двух глубинных религиозных парадигм или установок, центральной для подвига установки обóжения и далекой от подвига установки освящения. Стоит проследить корни и связи этих установок в общем контексте онтологии и антропологии. С установкой обóжения связан динамичный взгляд на человека как, прежде всего, энергийное образование, совокупность разнообразных энергий – нравственно-волевых движений, умственных помыслов, телесных ипмульсов... По отношению к такому образованию, подвижному и пластичному, «удобопременчивому», может и должна быть поставлена духовная задача «превосхождения естества»: человеку надлежит, различая меж собственными энергиями, контролируя и преобразуя их, возводить все целое в Богоустремленный строй, к синергии и обóжению, соединению с энергиями Божественными. В соответствии с библейским антропоцентризмом, этот динамичный и энергийный подход распространяется далее и на общее отношение к здешней реальности. Но в христианской антропологии всегда присутствовал и иной взгляд, не энергийный, а эссенциальный, для которого человек представляется скорей как эссенциальное, сущностное образование – не «энергийная конфигурация», а сложносоставная, смешанная природа, corpus permixtum, сочетание различных неравноценных сущностей или начал, высоких и низких, благих и вредоносных. В отличие от энергий, сущности неизменяемы, недвижны, и по отношению к такой антропологической реальности духовная задача будет также иной – как и в энергетизме, различающей, однако уже не преобразующей, а лишь духовно (сакрально) квалифицирующей и закрепляющей: надлежит отделить восходящее к высшим и благим началам, благообразное и достойное, от восходящего к низким и худым, безобразного, бесчинного – отсечь второе и одобрить, благословить, освятить первое. Это и есть установка освящения, сакрализации; она, очевидно, предполагает более статичный, иератический подход к миру и человеку, и из нашей характеристики видна не только ее вышеотмеченная языческая окраска, но и конкретней, органическое сродство с платонической и неоплатонической духовностью. Сложные переплетения и взаимодействия «линии обóжения» и «линии освящения» играют крупную роль в истории православного сознания и православного мира, и мы тесно затронем их, обсуждая русский этап Традиции.
После ранних стадий формирования, в истории Традиции принято выделять, как следующий значительный этап, так называемый «синайский исихазм» VII-X вв., коего представителями считают свв. Иоанна Лествичника, Филофея и Исихия Синайских. В подвиге и писаниях этих синайских аскетов мы находим уже сложившимся цельный облик Традиции как Умного делания, определенной школы аскезы и мистического Богообщения, стоящей на принципах исихии (священнобезмолвия) и трезвения и включающей особую молитвенную технику, искусство непрестанного творения Иисусовой молитвы. Далее, вслед за мистикой св. Симеона Нового Богослова, входящей, безусловно, в Традицию, но, вместе с тем, и глубоко индивидуальной, даже уникальной во многих чертах опыта, – приходит наиболее важный этап, Исихастское возрождение в Византии XIII-XIV вв. В своем распространении, своих отзвуках оно несравненно шире феномена «синайского исихазма», однако, подобно ему, оно также имеет свой главный очаг и центр, который также располагается в отдаленных горных обителях. Место горы Синай занимает, и очень надолго, гора Афон; афонская «монашеская республика» становится средоточием исихастской традиции в XI-XII вв. и остается им вплоть до наших дней, вопреки всем спадам и превратностям в жизни Традиции. Зародившись в обителях Афона, Исихастское возрождение в Византии нашло свою кульминацию и зрелое осмысление в середине XIV в. – в полемике «исихастских споров» 30-х – 50-х годов, трудах св. Григория Паламы и, наконец, поместных соборах Византийской церкви, принявших (в 1351 г.) знаменитый догмат о Божественных энергиях. Опытные выводы исихастской практики получили богословское и догматическое закрепление в соборном определении, догматически ключевые пункты которого гласили:
«6. Божественная сущность ... согласно богодухновенному богословию святых и благочестивому мудрованию Церкви, совершенно необъемлема и неучаствуема, участвуема же Божественная благодать и энергия.
На данном этапе в Традицию вносится целый ряд новых существенных аспектов. Обсуждая их в статье «Исихазм как пространство философии», мы выделяем, как главные, следующие три: 1) отработка «исихастского дискурса тела», т.е. форм телесного соучастия в духовном процессе – необходимо возникающих, в согласии с богословским положением о целостном, холистическом характере человеческого Богоустремления и Богообщения; 2) развитие тенденции к выходу исихастской практики за пределы монашества и распространению ее в среде мирян; 3) продумывание концептуального, богословского содержания и значения исихастского пути. Все эти темы имели кардинальную важность для понимания Традиции и ее дальнейшего развития, и мы еще не раз будем возвращаться к ним; сейчас же лишь ограничимся замечанием о значении последней темы.
В итоге бурных событий середины XIV в., когда богословские дебаты переплетались с церковными и дворцовыми распрями, народными смутами и гражданской войной, безмолвный подвиг обсуждался и пересуждался во множестве многословных текстов, и все завершилось «торжеством Православия», соборным утверждением воззрений афонских подвижников, – в итоге всего этого возымели место последствия двоякого рода: Традиция изменилась сама, и она изменила свое положение, свою роль не только в Церкви, но в обществе и культуре.
Внутренние изменения были в том, что при строгом сохранении своего ядра, Умного делания, стоящего на союзе трезвения и молитвы, Традиция включила в свой состав богословский дискурс, «паламитское богословие энергий», со сложной и тонкой проблематикой, притом в значительной мере открытой, недовершенной. Встает вопрос: насколько органично это соединение, не был ли «паламизм» неким внешним, инородным наростом на теле Традиции как школы сугубо практического опыта? Подобные мнения не раз высказывались в католической критике богословия энергий; но, чтобы увидеть их неосновательность, достаточно вспомнить о православном понимании богословия как речи опыта (отражением этого понимания служит и малая принятость в Православии самого термина «паламизм»). Св. Григорий никогда не рассматривал свое богословие как «теологию исихазма» или некое «теоретизирование по поводу исихазма», твердо полагая его – опытным свидетельством, органичною частью исихазма. Конечно, это свидетельство не имело привычной формы «изложения данных опыта» – но лишь потому что речь шла об опыте достаточно особого рода. Исихастский подвиг – ступени восхождения к Богообщению, и выражающий его аскетический дискурс следует за этими ступенями, восходя от речи о человеке к речи о Боге и при этом меняя свой язык, свой строй и характер; опыт же высших ступеней и есть то, что в Православии именуется «богословием». Речь этого опыта может привлекать Писание и догмат, может соединяться с логическим рассуждением и выводом – и тогда, не утрачивая своей опытной природы, она становится синтезом аскетики и патристики. Такую именно речь и являют нам писания Паламы, а прежде него – преп. Максима Исповедника, и аскетический дискурс включает их в свой состав, отнюдь не считая их отдельными от Традиции теоретическими «измами».
С другой стороны, вобрав в себя богословие энергий с его патристическим обоснованием и догматическим оформлением, Традиция заметно расширяла свой ареал, выходя в сферу мыслительной культуры, становясь полномерным культурноисторическим явлением. Одновременно, как мы сказали, расширяет круг вовлеченных, даже приобретает популярность практика Иисусовой молитвы, исихастский Метод. Наконец, восторжествовав в исихастских спорах, Традиция становится доминирующей в церковной жизни и оказывается в центре общественного внимания; период после 1351 г. историки характеризуют как «триумф мистицизма». Это уникальное соединение факторов и порождает тот парадокс, которым было исихастское возрождение в Византии. Возникли реальные предпосылки к тому, чтобы школа углубленной мистики и уединенной аскезы стала стержнем культурной и общественной жизни нации, и с тем – источником новой культурной парадигмы. Анализ событий, равно как и внутреннего содержания исихастской духовности склоняет ученых признать действительную способность Традиции к этой роли. Духовные ресурсы Традиции давали возможность дальнейшего развития Исихастского возрождения, и направление этого развития достаточно ясно. Согласно модели неопатристического синтеза, способ существования православной традиции есть обращение к патристическим истокам, и развитием Исихастского возрождения могло явиться лишь – Патристическое возрождение. По отношению к западноевропейскому Ренессансу, это – альтернативная модель, альтернативная парадигма культурного развития, и сходства и отличия которой видны сразу: здесь также предполагается возврат, воссоединение с эллинским истоком, однако уже иным – не с языческою античной культурой, а с христианским эллинизмом греческой патристики. В Исихастском возрождении можно видеть основательный залог и пролог Патристического возрождения. Однако крушение Империи обрывает не слишком далеко продвинувшийся процесс – и в последующие столетия продолжение и развитие Традиции происходит уже, по преимуществу, на Руси.
Следующий этап русского подвижничества, мощный и длительный, связан с Московской Русью и так называемым «вторым южнославянским влиянием». Название не слишком удачно: влияние, под которым формировался этот этап, было византийским и афонским, и приходило оно на Русь не только через южнославянское посредство, но, в значительной мере, и напрямик. То было влияние исихастского возрождения в Византии, и оно начало проникать на Русь почти одновременно с упомянутой выше своей кульминацией в середине XIV в.
Таким образом, на данном этапе на Руси усваивается уже именно зрелый византийско-афонский исихазм, школа аскезы и мистического Богообщения. Пути его распространения были многообразны – через славянских учеников св. Григория Синаита (1255-1346), подвизавшегося в обители Парория во Фракии, через немалочисленных паломников, посещавших Константинополь и Афон, и даже через особых посланцев – как те, которых направил в Византию преп.Сергий Радонежский, специально для ознакомления с исихазмом.
Чтобы понять ее многоликость, надо учесть, что наша оппозиция обóжение – освящение, очевидным образом, сопоставима с хорошо известной оппозицией магического (мифологического, космологического) и исторического типов сознания. Хотя две оппозиции совпадают отнюдь не полностью (в частности, новозаветный мета-историзм исихазма, его устремленность к преображению и превосхождению здешнего бытия – весьма особый род «исторического сознания»), они имеют немало общих граней. Установки обóжения и освящения соотносятся как динамическое и статичное мировосприятие, как линейная и циклическая модели времени, как типы мышления, построенные на преобладании временного или пространственного дискурса и т.д.. И все черты, что отвечают здесь освящению, легко прослеживаемы в структурах русской культуры. Вполне явственно, духовный динамизм сменяется консервацией духа, утверждается статично-иератическая модель сакрализованного космоса и сакрального Царства, а преобладание пространства над временем, доминирование пространственного мышления лингвисты усматривают даже в языке: именно с обсуждаемой эпохи фиксируется явление систематической подмены временного дискурса пространственным, стойко привившееся у нас в языке, вплоть до нынешних оборотов типа «встретимся где-то в пять»... Кстати, в это же время происходит безостановочная экспансия и так уже гигантских русских пространств, и власть пространства над русским сознанием никак не диво. Но самым болезненным последствием триумфа сакрализации стал Раскол. Прямая связь первого со вторым несомненна: «догматизировав», сакрализовав обряд – притом, именно в том виде, в каком он же кодифицировал его, – Стоглав, тем самым, дал право всем будущим начетчикам объявлять всякое и любое изменение обряда – ересью. Отныне всякое изменение обряда делалось почвой для смущения русского ума, почвой для нестроенья и взрыва, посеяны были опасные семена! – и они взошли, увы, скоро. Именно ссылки на Стоглав изначально были главным аргументом раскольников. И более чем ясно, что в русле исихастской духовности подобные процессы были бы заведомо невозможны.
Пробуждение, как известно, наступило. Оживление и возрождение исихастского русла составляют содержание следующего большого этапа русского пути Традиции. Творческое развитие Традиции на русской почве достигает особой интенсивности, плодотворности и глубины в наше время, в XIX-XX вв.; нередко и не без основания, этот период русского исихазма наделяют именем нового Исихастского возрождения. Но надо отметить, что и на данном этапе греческие истоки еще раз, снова, внесли существенный вклад. И в зарождении, и во всем содержании этого этапа важнейшую роль играет «Добротолюбие», капитальный свод-компендиум текстов исихастской традиции. История этого свода, его различных вариантов, переводов на церковно-славянский и русский язык, его распространения и влияния в России – особая и большая тема, и мы хотим сейчас лишь напомнить, что впервые «Добротолюбие» было создано во второй половине XVIII в. греческими подвижниками свв. Никодимом Святогорцем (1730-1810) и Макарием Коринфским (1731-1805), деятелями движения «коливадов», оживившего вновь традиции афонского исихазма. Почти одновременно, преп. Паисием Величковским (1722-1794), также прошедшим школу афонского подвижничества, собравшим круг учеников и сотрудников, начинается обширная, основательная работа по созданию русского «Добротолюбия», сочетающая перевод с разысканиями и исследованиями текстов и рукописей, с новым продумыванием концепции и состава компендия. Характерно, что в деятельности Паисия равно существенны влияния и афонской и русской ветвей Традиции; преп.Нила Сорского он ставил в единый ряд с древними отцами. Однако не менее характерно и то, что служение Паисия, как книжное, так и старческое, в пору его жизни было бы заведомо невозможно в России, и подвизался он в молдаванских землях.
Исихастское возрождение в России знает и великих мистиков, чей опыт восходит до высших ступеней Умного делания, пополняя древнюю сокровищницу исихастской мистики обожения, преображения и Света Фаворского. Наряду с деяниями преп. Паисия, у истоков русского исихастского возрождения находится подвиг преп.Серафима Саровского, которого Русская церковь прославляет вместе с преп.Сергием Радонежским как святого – покровителя России и «всея России чудотворца». Мистические созерцания преп.Серафима неоспоримо и органично принадлежат исихастскому руслу, сосредоточиваясь на его традиционных темах света и благодати, и выдвинутый преподобным мистический девиз: цель духовной жизни – «стяжание Духа Святого Божьего», – также включается в это русло, по-новому высвечивая древний путь. Уже в нашем веке высокая мистическая линия продолжена св. Силуаном Афонским (1866-1938) и его учеником игуменом Софронием (1896-1993). Оба они подвизались на Афоне, и таким образом, на новом этапе русского исихазма, прошедшем уже через трагические катаклизмы истории, мы снова видим питающие влияния греческого источника.
Особую и содержательную историю на этом этапе наконец получают и богословские аспекты Традиции, сосредоточенные вокруг наследия Паламы. Примечательно, что освоение этих аспектов первоначально почти не было связано с русским исихазмом как таковым – оно происходило в рамках церковно-академической науки и носило характер ученого исследования, по преимуществу, исторического. В последние десятилетия XIX века в России появляется целый ряд крупных специалистов в области поздневизантийского исихазма, в чьих трудах изучение истории и текстов постепенно начинает дополняться и богословско-философским анализом. Первой и наиболее яркой фигурой в этом ряду был еп. Порфирий Успенский (1804-1885), путешественник по христианскому Востоку, историк, археолог и археограф, основатель Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. В его пространных писаниях мы находим и первое систематическое изложение проблематики исихастских споров и богословия Паламы. Однако проблемным исследованиям необходимо должно было предшествовать развитие источниковедения: тексты Традиции, в особенности, относящиеся к поздневизантийскому периоду, пребывали большею частью не только не изданы, но и не собраны, рассеяны по монашеским обителям всего православного мира. Во второй половине XIX в. еп. Порфирий, В.И. Григорович (1815-1876), П.И. Севастьянов (1811-1867), архим. Антонин (Капустин, 1817-1894) создают обширные собрания византийских и славянских церковных рукописей. Составляются описания и каталоги рукописных собраний (где следует выделить 5-томное описание рукописей Иерусалимской Патриаршей Библиотеки, выпущенное А.И. Пападопуло-Керамевсом) и начинают осуществляться критические издания некоторых текстов Традиции (А.И. Пападопуло-Керамевс, Ф.И.Успенский, И.В. Помяловский и др.). Параллельно этому, на создаваемой базе возникают и сочинения, восстанавливающие историю Традиции и обращающиеся к ее богословскому обсуждению (Ф.И. Успенский, К.Ф. Радченко, П.А. Сырку, И.И. Соколов и др.). Картина рождает впечатление внушительного, систематичного продвижения; и нельзя не заключить, что в предреволюционные годы знание и изучение исихазма в русской науке приближалось к высокому уровню.
Но вот еще примечательная черта: этот академический прогресс имеет крайне малую связь также и со знаменитым религиозно-философским движением, которое в те же годы достигает своего апогея. Мне уже не раз приходилось писать (см.напр., выше «Неопатристический синтез и русская философия»), что метафизика Религиозно-философского возрождения – в первую очередь, метафизика всеединства – была эссенциалистской философией, отнюдь не близкой к паламитскому энергийному мышлению; однако в связи с имяславческим конфликтом целый ряд крупных русских философов московского круга – Флоренский, Булгаков, Эрн, Лосев – обратился к богословию энергий, видя в нем путь и средство апологии имяславия. В их разработках, достаточно обширных, это богословие трактовалось с онтологических позиций, весьма близких по типу к неоплатонизму; и можно сказать, что здесь русская философия, вводя в круг своих понятий энергию, продвигалась от христианского платонизма метафизики всеединства к христианскому неоплатонизму – подобно тому как сам античный платонизм переходил в неоплатонизм, дополняя свою основу понятием энергии. Однако понимание исихастского богословия в неоплатоническом русле не является адекватным, что убедительно показал дальнейший и пока последний этап в русской рецепции этого богословия.
Старчество отнюдь не было единственной формой, в которой проявлялись тенденции к расширению влияния Традиции, к преодолению статуса узкой школы, замкнутой без остатка в среде монашества. Один из известнейших текстов русского исихазма, «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», рассказывает, каким образом совсем не в этой среде, а вне монашества и монастыря, – конкретно же, в участи нищего и бесприютного странника – достигалось не только усвоение начатков и отдельных идей Традиции, но и подлинное погружение в нее, полноценное прохождение пути Умного делания. Понятно, что возможность этого имеет принципиальное значение. Ею окончательно демонстрируется и доказывается, что исихазм в своем существе есть не изолированное эзотерическое явление, но общая антропологическая стратегия, цельный образ и метод самореализации человека в его бытийном назначении.
Это наследие русского исихастского возрождения, как мы подчеркивали, не утратило актуальности в наши дни; сегодня оно настоятельно требует и жизненного продолжения, и внимательного изучения, исследования.
Всякий пристальный взгляд на практику Умного делания не может не обнаружить такой существенной особенности ее: эта практика предполагается занимающей, захватывающей всего человека безраздельно – все его энергии и способности, все внимание. В течение многих веков исихастская аскеза строилась с расчетом на то, чтобы внутренний мир человека и весь уклад его жизни были всецело подчинены и непрерывно заняты ей; последнее, в частности, прямо выражено в основополагающем требовании «непрестанности» молитвы. Любые занятия, размышления, отношения, не являющиеся частью самого Делания, рассматривались как отвлекающее препятствие, помеха духовному процессу и строго, последовательно сводились до абсолютного минимума. Стремились оставить разве что самые неустранимые контакты, и в качестве необходимых трудов – наиболее машинальные, не занимающие внимания и ума, как то плетение корзин, традиционное для древних отшельников. Основания для такой стратегии поведения были очевидны и вполне вески. Путь обóжения и стяжания благодати понимается в Православии как «синергия»: сообразование, соработничество, соединение человеческих энергий с нетварной энергией Божественной; и в осуществление синергии, устремление к благодати вовлекается весь человек как цельное существо, все уровни его состава, все его телесные, душевные и духовные способности. Но каким же образом эта всецелая Богоустремленность человеческого существа может сочетаться с обычной жизнью в миру, с работой, творчеством?! Мы вынуждаемся заключить: для исихастской практики, которая, кроме обóжения, не может иметь никаких других целей, тезис об универсальной сущности идеала обóжения и задача выхождения в мир несут в себе противоречие, апорию. С одной стороны, мы признаем идеал или бытийное задание обóжения относящимся не только к подвижникам, и даже не только к христианам, а ко всякому человеку, к человеческой природе и тварному бытию. С другой стороны, мы как будто видим, что исполнение этого задания, исихастский подвиг, несовместимо ни с каким образом обычного человеческого существования и недоступно для всех, кто не исключит, не отсечет себя полностью от жизни мира и общества. Но полное самоисключение из обычной жизни никак и никогда не может мыслиться как всеобщий путь. По Аристотелю, а с ним и для всей классической философской антропологии, человек – «существо общественное», , и участие в жизни общества именно и составляет его природу! Итак, понимание природы человека «по исихазму» (через обóжение) и общепринятое ее понимание, по Аристотелю, взаимно противоречат и исключают друг друга. «Тварь обóжающаяся» не есть «существо общественное».
Замеченная апория не надуманна, а вполне реальна. Она не является заведомо неразрешимой: ведь те многочисленные и разнообразные, и русские и византийские попытки сочетания исихастской практики с мирской жизнью, что мы обсуждали, как раз и суть поиски ее решения – и при любой дозе скептической осторожности нельзя считать все эти поиски вполне безуспешными. Однако счесть их успешно завершенными тоже никак нельзя. И в Византии, и в России в процессе поисков еще только нащупывались формы и линии решения, делались первые шаги – когда духовная работа оказывалась оборванной внешними обстоятельствами. Помимо того, описанные попытки были, по большей части, чисто практическими, интуитивными – тогда как обнаруженная апория является и глубокой теоретической (антропологической) проблемой. Начальные идеи, наводящие соображения, указывающие путь решения этой антропологической проблемы, можно найти у Паламы; но в явной и систематической форме проблема не ставилась ни древней, ни современной мыслью, будь то в рамках богословия, философии или психологии. – В итоге, как в плане теоретическом, так и практическом, апория «исихазм и мир» еще далека от разрешения. Продвижение к нему может с основанием рассматриваться как важнейшая современная задача Традиции, имеющая не только аскетическое или внутри-православное, но и принципиальное общеантропологическое значение.
В дальнейшем тексте мы попытаемся произвести предварительный анализ проблемы. Для этой цели нам необходимо, прежде всего, представить аналитическую картину того антропологического (духовного и психосоматического) процесса, который являет собою практика Умного делания.
Содержание исихастской практики – путь духовного восхождения: специфический процесс трансформации сознания и цельного существа подвижника, ориентированный к «обожению» – радикальному, онтологическому изменению (трансцендированию) самих фундаментальных предикатов, определяющих свойств человеческой природы. Процесс протекает преимущественно в сфере энергий: его ход заключается в последовательном переустройстве множества всех энергий человека, духовных, душевных и телесных, которое совершается под управлением сознания, ума человека, хотя полностью процесс и не является сознательно управляемым (см.ниже). Процесс обладает, далее, выраженным членением: он отчетливо структурирован на ряд ступеней, с каждою из которых связан иной род внутренней деятельности, иные задачи и иной режим работы сознания. Ступени выстроены в строгой восходящей последовательности, отчего ко всему процессу Традиция издавна применяет символ или метафору лестницы (таково, в частности, название первого трактата (VII в.) с систематическим описанием всех ступеней).
Как ясно отсюда, анализ исихастского опыта включает в себя два больших круга проблем: необходимо выделить и систематически описать фигурирующие в этом опыте типы энергийных образов; вслед за этим, необходимо увидеть и раскрыть, как же, какими силами совершается формирование новых типов и переход, восхождение от некоторого наличного типа – к следующему, высшему. И то, и другое – принципиально новые задачи, практически не рассматривавшиеся в науке, не имеющие пока не только законченного решения, но даже развернутой постановки. Поэтому в данном тексте мы лишь бегло намечаем начальные линии их решения.
Энергийный образ человека – совокупность разноприродных и разнонаправленных энергий (телесных, физических импульсов; душевных волений и эмоций; умственных движений, помыслов), принадлежащих одному центру, фокусу. Как констатирует исихастский опыт, эта совокупность может быть бесструктурной, рассыпанной, лишенной какой-либо преимущественной направленности; такой рассыпанный или рассеянный тип энергийного образа характерен для обычного существования человека и может называться «естественным» (конечно, некие элементы структуры или структур есть и в нем, в силу структурности самого человеческого существа – хотя бы деление на физические и психические энергии). Все же прочие существующие или возможные типы характеризуются той или иной цельной структурой, организацией. Простейший вид структуры – наличие в составе энергийного образа некоторой выделенной энергии – «доминанты», которой подчиняются – сообразуясь с ней, служа поддержанию ее положения, ее воспроизводству и усилению – все другие энергии. Поскольку, по определению такой структуры, она глобальна, т.е. объемлет все энергии человека и не включает никаких энергий, направляющихся к разрушению доминанты, – данный тип энергийного образа обладает устойчивостью, способностью воспроизводиться и сохраняться во времени. Доминантой же априори может сделаться любая из человеческих энергий – стремление к определенной цели в мире или к определенному действию, занятию, потребность, привычка, склонность... Обладание таким устойчивым энергийным образом, очевидно, лишает человека возможности трансформировать, изменять энергийный образ, что необходимо в ходе духовного процесса. Тем самым, этот тип энергийного образа несовместим с духовным процессом, исключает его – и потому именуется в аскетике «противоестественным», или также «страстным», ибо сама доминанта, энергия, приковывающая к себе, ставящая себе на службу все энергии человека, традиционно называется «страстью».
Однако возможен и особый вид доминанты, такая доминанта, которая не является страстью. Все энергии человека могут быть подчинены устремлению к Богу. Такое устремление – тоже человеческая энергия, но она не направляется ни к какому предмету, ни к какой цели в эмпирическом мире, в горизонте здешнего бытия. Это – «энергия трансцендирования», особый род энергий, который мы анализируем в наших работах (см., прежде всего, «Род или недород?»); такие энергии направляются к трансформации фундаментальных предикатов здешнего бытия – и, в этом смысле, «за пределы» последнего (что есть, разумеется, лишь метафора). Энергийный образ, в котором энергия трансцендирования является доминантой, есть именно тот тип энергийного образа, что отвечает обóжению, завершающей ступени духовного процесса. При таком энергийном образе, энергии человека не осуществляют реализацию каких-либо содержаний или потенций человеческой природы, но устремлены к трансформации последней или, по древней терминологии аскетов, к «превосхождению естества», – отчего данный тип образа и именуется «сверхъестественным». Параллель его с противоестественным, страстным типом ограничивается исключительно наличием доминанты; за вычетом этого, оба типа не имеют никакой общности. Устремление к Богу как доминанта энергийного образа полностью отлично от доминант, связанных со здешними, эмпирически наличными целями; достижение и поддержание такой доминанты лежит в сфере мистического опыта и не допускает развернутого дискурсивного описания. В частности, нельзя уже, вообще говоря, утверждать и устойчивости подобного энергийного образа; но некоторые важные его свойства, опытно постигаемые в Традиции и свидетельствуемые ее текстами, мы еще будем отмечать ниже.
«Сверхъестественный» энергийный образ – глобальная энергийная структура, характеризуемая «запредельной» или «трансцендирующей» доминантой, – первый из тех типов энергийного образа, что участвуют в духовном процессе. Как мы говорили, каждая из ступеней этого процесса представляет собою некоторый новый тип энергийного образа и, соответственно, некоторую энергийную конфигурацию, структуру. Эти структуры весьма различны, однако существует, по меньшей мере, одна кардинальная особенность, которая объединяет их между собой и, вместе с тем, отличает от прочих, не входящих в Процесс: они существуют только внутри данного процесса. Их нельзя ни встретить, ни специально осуществить вне его, отдельно; любая из таких структур, взятая отдельно и обособленно, не обладает способностью к стабильному существованию. Данное свойство характеризует структуры духовного процесса в их специфической энергийности: они существуют только в динамике, в составе некоторого динамического процесса, как его элементы, занимающие каждый – строго определенное место. Отсюда мы извлекаем и некоторые выводы об общем характере процесса. Как упорядоченная совокупность, восходящая иерархия динамических форм или структур (структур самоподобия и самоорганизации), не допускающих стабильного существования вне рамок процесса, построены процессы синергетические (как, скажем, процессы классического хаоса) – и, таким образом, данный тип процессов может рассматриваться как своего рода коррелат, параллель антропологическому процессу в исихастской практике. Это – весьма небесполезная параллель, однако сразу же необходимо подчеркнуть ее ограниченность формально-структурными аспектами – ибо во всех своих сущностных, главнейших определениях – как «превосхождение естества», как общение в любви, как вхождение в горизонт личного бытия – духовный процесс находится заведомо вне любых физических и натуралистических уподоблений.
Синергетическая параллель вводит еще один угол зрения, под которым возможно – и для целого круга тем целесообразно – рассматривать ступени Процесса; выявление и анализ «синергетического содержания» каждой из них – особая и пока полностью неизученная задача. Наиболее явно подобное содержание выступает в случае начальной ступени, покаяния. Как известно, необходимым отправным этапом, пороговой стадией синергетического процесса, с которой только и может начаться выстраивание последовательности динамических структур, является создание состояния физической системы, сильно удаленного от равновесия, своеобразная «раскачка» системы, резкий вывод ее из обычных стабильных режимов и состояний. Очевидным образом, для сознания, духовно-душевной сферы человека, именно такая раскачка, резкое удаление от состояния равновесия осуществляется в покаянии, умопремене. Центральный мотив и сама суть покаянной установки – предельное отталкивание, отход, разрыв со всем устоявшимся и привычным, с обычным строем мысли и чувств, образом существования и поведения. Покаяние предполагает крайние душевные состояния, выражающие предельное стремление к уходу, удалению от прежнего состояния, прежнего внутреннего мира – импульсы острого самоосуждения, самоотвержения, отбрасывания прежнего, «ветхого» себя. Это резкое отвержение прежних, обычных норм, ценностей, установок, стереотипов существования со всем основанием может рассматриваться как создание «сильно неравновесного состояния» сознания и всего человеческого существа. И, как в синергетике, подобное состояние оказывается необходимой пороговой стадией: по традиционной терминологии исихазма, покаяние – «врата» подвига, через которые только и возможно вступить на путь мистического опыта, возводящего к обóжению. Не будет преувеличением сказать, что вся многовековая история православной аскезы начинается с открытия восходящего антропологического процесса, имеющего синергетическую природу и, в соответствии с этою природой, требующего для своего начала, «запуска» – сильно неравновесного состояния.
Краеугольный камень всей православной аскезы – твердое признание того, что обожение, претворение человеческой природы заведомо неосуществимо собственными силами (энергиями) этой природы. Оно совершается действием нетварной Божественной энергии (благодати); дело же человеческих энергий, как выше уже упоминалось, составляет «стяжание благодати», направляющееся к достижению синергии, совершенного согласования и соединения этих энергий с благодатью. При этом, однако, благодать не выступает как внешняя сила, воздействующая на человека; ее действие осуществляется через человека и внутри человека, так что для внешнего наблюдения, фиксирующего лишь формально регистрируемые признаки, это действие неотличимо от действия обычных человеческих энергий – постольку, поскольку оно не может быть приписано никакому определенному, явно указуемому источнику за пределами человека. Но, вместе с тем, действие благодати, как учит исихастский опыт, хотя и проявляется через человека, тем самым, смешиваясь с действием принадлежащих ему энергий, однако имеет и существенные отличия от этого последнего действия.
Итак, сторожевая подструктура энергий занимает в начале Процесса львиную долю и главное место в энергийном образе человека (или, может быть, точней, в той части этого образа, что вовлечена в Процесс, связана с его целями – ибо указанная часть, вообще говоря, не совпадает со всем образом: важная черта, обсуждаемая нами в последнем разделе). Напротив, на высших ступенях роль сторожевой подструктуры почти незаметна; почти все усилия, все энергии здесь уже прямо и непосредственно посвящаются самой сути и цели Процесса, молитвенному Богообщению. При этом, хотя и нельзя сказать, что этот критически важный переход, перелом в строении энергийного образа происходит одним скачком, – но все же главною частью эта перемена, это возрастание устойчивости энергийной структуры совершается на одной определенной ступени: ступени «Сведения ума в сердце». Можно с основанием считать, что эта ступень занимает особое, выделенное место в духовном процессе: это как бы его экватор, переходный рубеж, где Процесс меняет характер, переходя от начальных приуготовительных стадий к решающим и завершающим, и более явно обнаруживая свою благодатную, спонтанную компоненту; можно также сказать, что на этом рубеже внимание и молитва меняются местами, так что на первый план выходит второе, взамен первого. В силу этого, целесообразно тщательно рассмотреть формирование и содержание этой ступени, и мы позволим себе повторить здесь часть соответствующей статьи нашего «Словаря».
Сведение ума в сердце – особый процесс соединения или сцепления духовных и душевных энергий человека, связывания их в единый прочный каркас. Прежде чем перейти к описанию этого процесса, следует уточнить термины. О «сердце» обыкновенно говорят в двух главных смыслах, телесном (физиологическом) и душевном (психологическом). В первом, эмпирическом смысле, сердце – центр кровеносной и дыхательной систем, узел телесной жизни человека, во втором, обобщенном и переносном, сердце – центр душевной жизни, средоточие, «седалище» всех чувств и эмоций. Аскетика развивает обобщение далее и понимает под «сердцем» единый экзистенциально-энергийный центр человеческого существа, фокус (условно мыслимый в месте сердца), где сходятся все его энергии – силы, стремления, чувства, помыслы; все движения ума и души. При этом, отнюдь не предполагается, что такая собранность всех энергий всегда налицо. Напротив, в обычном существовании человека она лишь возможность, а не действительность, задание, а не данность. Человек должен сам, своею волею и усилием, собрать всего себя в «сердце» – или точней, пожалуй, он должен создать в себе «сердце». Именно в этом заключается задача данной ступени духовного процесса. И «сведение ума в сердце» есть путь решения сей задачи, путь организации всех энергий не просто в единство (в некое единство их организует и страсть), но в единство, пригодное для соединения с Божией энергией. В его основе – объединение и взаимная координация энергий умственных и душевных.
Наш беглый анализ структур исихастского сознания и (что почти то же) энергийных структур восходящего антропологического процесса показывает, что в составе энергийного образа человека, отвечающего любой из ступеней этого процесса, можно выделить несколько групп или же подструктур, различающихся своим отношением к цели и назначению Процесса. Прежде всего, существуют, разумеется, энергии, прямо и непосредственно служащие реализации этой цели, т.е. молитвенному Богообщению, которое, углубляясь, продвигается к обожению человека. Это, в первую очередь, энергии молитвенного делания, непрестанного творения молитвы Иисусовой, которое проходит ряд форм, восходящих к транс-вербальной Чистой молитве; естественно называть всю их группу (для каждой заданной ступени Процесса) – движущей подструктурой энергий. Затем, как обсуждалось выше, для каждой ступени существует своя сторожевая подструктура: энергии трезвения и внимания, обеспечивающие обустройство, выполнение необходимых условий и предпосылок протекания Процесса, из коих главные связаны со «стражей» энергийной структуры данной ступени. Две эти подструктуры в совокупности объемлют все существенное содержание Процесса, все энергии, которые необходимы и достаточны для его протекания и продвижения. В частности, всякая ступень Процесса однозначно определяется тем, каковы соответствующие ей движущая и сторожевая подструктуры. Но важно заметить, что их совокупность, вообще говоря, еще не исчерпывает энергийного образа. Мы будем говорить, что все остающиеся энергии в составе энергийного образа данной ступени образуют свободную подструктуру этой ступени. Такие энергии – их наличие или отсутствие, их изменения в пределах свободной подструктуры – не влияют на тип энергийного образа и не сказываются на течении Процесса. Удобно говорить, что энергийные структуры Процесса, различающиеся только в пределах свободной подструктуры, несут одно и то же процессуальное содержание или процессуальную функцию.
Наша новая классификация энергий – членение каждой из энергийных структур Процесса на движущую, сторожевую и свободную подструктуры – имеет прямое касательство к апории «исихазм и мир». Прежде всего, мы видим, что наши формулировки в конце начального раздела, когда мы, впервые показывая наличие апории, говорили о безраздельной, тотальной вовлеченности в духовный процесс всех способностей и энергий человека, – еще не были достаточно точными. Справедливо, что в Процесс с необходимостью вовлекается весь человек как цельное существо, всеми уровнями своего состава; и однако имеется некоторая доля, некоторая группа энергий – различная для разных ступеней – такая что эти энергии не являются необходимыми для обеспечения Процесса и остаются свободными. Этим подсказывается, далее, одно направление, в котором можно пытаться искать разрешения апории. Является простая мысль: коль скоро на любой ступени Процесса среди энергий человека имеются, вообще говоря, и такие, которые можно изменять, варьировать, без того, чтобы при этом нарушалась «стража» данной ступени, менялся тип энергийного образа, – нельзя ли за счет «свободных» энергий совместить, сочетать духовный процесс с мирскою жизнью и деятельностью?
Как сама эта мысль, так и опыты ее практического воплощения возникли и получили распространение уже в эпоху Исихастского возрождения в Византии. В ту пору, как повествуют хроники и жития, множество православных разного звания и состояния делали попытки сочетать исихастскую дисциплину непрестанного творения молитвы Иисусовой с мирскими обязанностями и занятиями. Одним из известных таких примеров является Константин Палама, отец св. Григория и придворный сановник императора Андроника Палеолога; цитированное выше житие св. Григория говорит, что Константин мог среди придворных своих обязанностей достигать весьма глубокой погруженности в Умное делание. Поэтому тема о введении Умного делания в строй мирского существования входила в круг опыта и наблюдения Паламы с детства и родительского дома; и не удивительно, что в дальнейшем она заняла важное место в его аскетических и богословских трудах. Палама не оставил систематического разбора или тем более разрешения апории, обсуждаемой нами; но он наметил общие антропологические установки, позволяющие продвинуться к нему – и притом, именно по пути, который предлагает высказанная выше мысль.
Как ясно уже отсюда, паламитская парадигма ума-епископа может сыграть ключевую роль в проведении идеи об эксплуатации «свободных энергий» для сочетания духовного процесса с иной активностью, требуемой существованием в миру. Заданной ступени Процесса отвечает определенный тип энергийного образа человека; но к данному типу, согласно нашей классификации энергий, принадлежит целое множество энергийных образов или структур, у которых одна и та же движущая подструктура, одна и та же сторожевая подструктура, но разные свободные подструктуры. Будем называть это множество классом эквивалентности энергийных структур, а переход от одного элемента класса к другому – т.е. изменение энергийной структуры, затрагивающее только свободную подструктуру, но не меняющее ни движущей, ни сторожевой подструктур, – преобразованием подобия. На этом языке, каждая ступень Процесса есть класс эквивалентности энергийных структур и, не утрачивая данной ступени, возможно изменять энергийную структуру (энергийный образ) путем преобразований подобия. И мы видим, что искомое решение антропологической апории будет налицо, если мы убедимся в выполнимости двух условий: 1) на заданной ступени Процесса, изменяя энергийный образ человека путем преобразования подобия, возможно добиться, чтобы в этом образе оказались те энергии, что необходимы для заданной мирской деятельности; 2) преобразования подобия должны быть не абстрактной, а практически осуществимой операцией, которую может произвести сам подвизающийся, одновременно с пребыванием на заданной ступени Процесса.
Итак, намеченное решение как будто становится реалистической рабочей гипотезой; однако до полного обоснования его еще далеко, и мы никак не притязаем на него в данном тексте. Немало вопросов, необходимых для этого обоснования, пока не получили ответа. Самый существенный из них – это сформулированный выше первый вопрос: каковы реальные пределы той свободы, которую дает нам (уму-епископу подвизающегося) наличие свободной подструктуры энергийного образа? Достаточна ли эта свобода не только для старинного «плетенья корзин», но и для главных дел современного человека в мире – межчеловеческих уз, обязанностей, творчества в разных сферах? – Чтобы ответить, нужна непростая и кропотливая работа. Нужно конкретное построение классов эквивалентности энергийных структур Процесса: описание и анализ свойств свободных подструктур, отвечающих всем ступеням. Пока мы ничего не знаем о них, за вычетом самых общих интуиций: в них входит, по крайней мере, в начале, больше телесных энергий, чем умственных или душевных; они весьма малы, узки в начале Процесса (дело стражи здесь трудно и почти всепоглощающе для подвизающегося) – затем существенно расширяются со Сведением ума в сердце. Именно это расширение и позволяет питать надежду на возможность решения проблемы.
Действием благодати, энергии, что осуществляли стражу Духовного Процесса, все более и более перестают быть необходимы для этой цели и пополняют собою свободную подструктуру; и, поскольку к ним принадлежат энергии самых высокоорганизованных активностей человека – интеллектуального различения и слежения, концентрации внимания и т.п. – можно ожидать, что создающиеся свободные подструктуры будут способны к обеспечению достаточно разнообразной и полноценной деятельности. Не надо лишь забывать, что Духовный Процесс включает и самые высшие, завершающие ступени, по отношению к которым системно-процессуальный язык достигает границ своей применимости и должен уступать место речи личного и благодатного Богообщения. Поэтому едва ли мы сможем сказать, что происходит на этих ступенях опыта с занимающими нас свободными подструктурами. Верней всего, они постепенно исчезают – да, впрочем, и становятся уже не нужны.
Аналогично, нельзя упускать из вида и то, что уже и парадигма ума-епископа не является парадигмой чисто системного сознания. Подобное сознание несет «диспетчерские», регулятивные и координационные функции, обеспечивает ориентацию и направляет деятельность, служит посредником между внутренним и внешним миром и интегратором первого во второй. Функции ума-епископа, собственно, таковы же; однако выполнение их проходит теперь при чрезвычайно особых условиях и требует кардинально, качественно иного уровня способностей. Человек пребывает в духовном процессе, объемлющем все планы, все измерения его существа и требующем пристального самонаблюдения и самоконтроля; и – вдобавок ко всему этому! – он должен, бдительно сохраняя «процессуальную функцию» своей энергийной структуры, с предельною точностью отделить свободную подструктуру своих энергий и с помощью нее достичь полноценного участия в жизни мира, культуры, общества. Мы не знаем, достижимо ли это вообще, не утопично ли это; но мы можем с определенностью сказать, что, если это достижимо – то лишь по благодати. То, что исполняется умом-епископом, заведомо неисполнимо, по меньшей мере, без «некоторого элемента» той спонтанности, самодвижности, о которой мы говорили и которая является как благой дар человеку. Поэтому термин-метафору св.Григория мы можем понять не только буквалистски (эпископос – надзирающий), но и в настоящем, полновесном смысле: ум-епископ есть ум – архиерей, благодатью поставляемый в достоинство и служение, которые превыше возможного для ума в его обычном состоянии и устроении.
Необходимо и еще одно уточнение – впрочем, довольно очевидное. За всю долгую историю проблемы «исихазм и мир», решение этой проблемы никогда, разумеется, не мыслилось как достижение совместимости исихастского пути со всякою и любой мирской деятельностью, с любыми формами мирской жизни. Постановка этой проблемы, стремление к выходу Традиции в мир никак не значат, что изначальное устремление подвига к отвержению и преодолению мира отменяется или ревизуется, сменяется вдруг приятием всей мирской стихии, и Пустыня возвращается в лоно Империи. «Монастырь в миру» означает (чаемую) совместимость исихастского пути – мироотношения и делания – с естественными измерениями жизни социума и формами самореализации человека, но отнюдь не с противоестественными, страстными явлениями – хотя бы оттого уже, что подвиг включает непременные нравственные предпосылки, и «чистая совесть» стоит на первом месте меж них. Решение исихастской апории означает для каждого не отмену необходимости духовной премены, но заведомую возможность и открытость этой премены, независимость ее от внешних препятствий. И по мере преодоления этих препятствий, сами «естественные измерения жизни социума» должны будут изменять свое отношение к Духовному Процессу и свою природу: они будут претворяться в новые «теургические» измерения самого Духовного Процесса. Однако покуда речь об этом возможна лишь в элементе гипотезы.
Неспроста, видимо, проблема «исихазм и мир» уже не раз вставала в истории Православия в опасные, катастрофические времена. В Греции, как мы видели, это – тема Паламы, и затем – лейтмотив его жития, написанного его сподвижником, патриархом Филофеем Коккиным. В России, через половину тысячелетия, святитель Феофан Затворник выбирает из этого жития места, посвященные данной теме, – и этою выборкой заключает весь корпус заново составленного и переведенного им «Добротолюбия». Как Византийское, так и Русское исихастское возрождение согласно выдвигают эту проблему – однако не успевают развить решение. Если бы история человечества – или хотя бы православного мира – была волшебною сказкой, мы бы могли быть уверены, что придет третья эпоха, которая проблему решит.
В становлении исихазма как мистико-аскетической традиции уловима последовательность «снизу вверх»: Традиция формирует вначале черты аскетической практики, а затем - школы мистического опыта, хотя по сути то и другое неразрывно. Ранний этап IV-V вв. - бурное зарождение православной аскезы в Египте и Палестине, время деятельности ее создателей и учителей (свв. Антоний Великий, Макарий Великий, Иоанн Златоуст, диакон Евагрий Понтийский, свв. Нил Анкирский, Иоанн Кассиан, Ефрем Сирин и др.). На этой стадии формируются два типа или русла аскезы, монашество киновийное (от греч. общая жизнь), общежительное и анахоретское (от греч. отшельничество), пустынножительное; поздней к ним присоединяется третий, промежуточный тип - скитское, или идиоритмическое монашество, когда иноки имеют раздельное жительство, но совместное богослужение, единый духовный ритм. Исихазм создавался в рамках второго русла и часто отождествлялся с ним, но в отдельные периоды, в отдельных очагах Традиции (в частности, в России) получал распространение в других руслах. Изначальные элементы Традиции - диалектика уединения-единения, ухода от мира и связи с ним в любви; примат молитвы; необходимость научения, руководства, и отсюда - институт духовных наставников, старцев; гибкое сочетание усилий внутреннего делания и внешнего обустройства, с приматом первых. Здесь уже явно виден цельный антропологический подход, хотя пока мало отрефлектированный.
С начальной эпохой тесно смыкается следующий период (прибл. V-IX вв.), именуемый обычно «синайским исихазмом», хотя его ведущие представители - не только синайские подвижники свв. Иоанн Лествичник (VII в.), Исихий (VII-VIII вв.) и Филофей (IX-X вв.) Синайские, но также св. Диадох Фотикийский (Сев.Греция), старцы Варсануфий и Иоанн Газские, их ученик авва Дорофей и др. Это - этап кристаллизации исихазма как дисциплины, четкого метода духовной практики (поздней, в силу его строгой методичности, исихазм часто называли «Методом»). Стержнем Традиции становится школа молитвенного делания, стоящая на двоякой основе: собственно творение молитвы и «внимание», контроль сознания, обеспечивающий непрерывность молитвы. Это двоякое делание развертывается как духовный процесс, имеющий направленный, восходящий характер и членящийся на ряд ступеней, из коих главные суть: покаяние - борьба со страстями - исихия - сведение ума в сердце - бесстрастие - чистая молитва - созерцание нетварного Света - преображение и обожение. Содержание процесса состоит в трансформации энергийного строения человеческого существа: как свойственно духовным практикам, человек здесь рассматривается, прежде всего, как «энергийная конфигурация», и эта конфигурация, проходя серию определенных энергийных форм, преобразуется к особому «сверхъестественному» типу, когда все энергии устремлены к Богу. Состояние всецелой устремленности к Богу, трактуемое православным богословием как совершенная соединенность человеческих энергий с Божественной энергией, благодатью, и есть обожение - претворение человеческой природы, достигаемое в полноте мистического Богообщения.
Следующий и важнейший этап развития исихазма - Исихастское возрождение в Византии XIV в. (перед этим, особый вклад в Традицию вносит мистика св. Симеона Нового богослова (949-1022), представляющая яркий, богатый опыт высших ступеней духовного процесса). Этап крайне насыщен и внешне, и внутренне; исихазм становится здесь на время центральным фактором не только в церковной, но и в светской истории Византии. Активное возрождение исихазма подготавливается в XIII в. деятельностью свв. Григория Кипрского, Феолипта Филадельфийского, Никифора Уединенника и развертывается, прежде всего, на Афоне. Высокоразвитость, отработанность исихастского метода к этой эпохе выдвигают на первый план высшие духовные состояния, включающие световые созерцания; и в 30-е годы монах Варлаам Калабриец выступает с богословской критикой этих созерцаний и исихазма в целом. Так начинаются «исихастские споры», в которых Церковь раскалывается на сторонников и противников исихазма, церковный конфликт переплетается с политической борьбой и гражданской войной, и наконец происходит «торжество Православия», соборное признание исихастского опыта и догматическое закрепление его основоположений. Главные итоги этапа трояки: 1) исихазм получил богословское обоснование в учении Паламы, которое развило и дополнило классическую патристику «богословием энергий»; 2) исихазм эксплицировал, и в практике, и в теории (также в учении Паламы) свои установки о соучастии тела в духовном процессе, окончательно оформившись как холистическое практическое учение об обожении цельного человеческого существа, человеческой природы как таковой; 3) исихазм начал продумывать и воплощать заложенные в нем универсалистские потенции: исихастская практика выходила за пределы монашеской среды, и в исихазме обнаруживалась природа не частной монашеской методики, но общеантропологической стратегии. Из всего этого, возникали предпосылки к созданию на базе исихазма цельной культурной парадигмы, альтернативной Западному Ренессансу; но крах Империи не дал им развиться.
Ветви исихастской традиции имеются во всех странах Православия - Болгарии, Сербии, Румынии, Грузии; но главный очаг Традиции в послевизантийский период - в России. История русского исихазма проходит те же начальные этапы: активное монашеское движение возникает вслед за христианизацией Руси и прямо ориентируется на раннее египетско-палестинское пустынножительство; влияние же более углубленного «синайского исихазма», хотя он и ближе по времени, - незначительно. Но следующий крупный этап, в эпоху Московской Руси XIV-XV вв., уже впитал воздействие и «синайского исихазма», и Исихастского возрождения. Это - русская параллель последнего: Традиция не только достигает зрелых форм, но оказывает влияние на многие сферы культуры, церковной и социальной жизни. К ней примыкают Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублев; полное и чистое ее выражение дает св. Нил Сорский (1433-1508) и предводимое им заволжское ("нестяжательское") монашеское движение. Однако русское (и православное) религиозное сознание в его истории и структуре определяется не одним исихастским руслом, следующим установке обожения, но сочетанием двух русл, из коих второе порождается установкой освящения, сакрализации, унаследованной от языческой религиозности (так, в элементе освящения обычно строятся в Православии отношения Церкви и мирской власти). Отношения двух установок напряженны, порой конфликтны, и в русской истории XVI-XVIII вв. линия освящения вытесняет линию обожения.
Обратный процесс, начавшийся снизу в русском монашестве, а также за пределами России деятельностью св. Паисия Величковского (1722-1794) и его учеников, вырастает постепенно в русское исихастское возрождение XIX-XX вв. Его основные вехи - создание и распространение русского «Добротолюбия» (фундаментальный свод исихастских текстов, не раз пересматривавшийся, дополнявшийся и ставший базовым руководством для устроения православного сознания и жизни); создание влиятельных очагов исихазма (Оптина Пустынь, Валаам, Саров и др.); подвиг учителей русского исихазма - свв. Тихона Задонского, Серафима Саровского, Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, в нашем веке - св. Силуана Афонского и его ученика игумена Софрония (Сахарова); становление новых форм исихазма - странничества и, в особенности, старчества. Новые формы показывали, что особая черта русского исихазма - широкое развитие намеченной у Паламы тенденции к утверждению исихазма в качестве универсальной, общеантропологической стратегии: в отличие от древнего института старцев - наставников иноков, в русском старчестве, а также в движении «Монастырь в миру», идущем от славянофилов и получившем развитие в нашем веке, в том числе, при большевистских гонениях, - совершается выход исихазма в мир.
Богословско-философское продумывание исихазма, начатое Максимом Исповедником и, в особенности, Паламой, не было воспринято и продолжено в России вплоть до нашего века (что повлияло на судьбу как русского исихазма, так и русской культуры в целом). Однако в последние десятилетия это продумывание развернулось весьма активно, причем тут ясно выступает утверждаемая исихазмом опытная основа и типология богословской мысли: происходящее осмысление исихазма - не отвлеченный анализ, но выражение опыта Традиции, данное, в большой мере, прямыми носителями его, афонскими подвижниками епископом Василием (Кривошеиным) и игуменом Софронием (Сахаровым). Наряду с ними, новый этап, на Западе неудачно называемый «неопаламизмом» или «неоправославием», создавали богословы русской диаспоры - В.Н. Лосский (давший первое цельное изложение православного богословия в свете стержневой роли исихазма), о. Георгий Флоровский (в концепции «неопатристического синтеза» описавший специфическую типологию православной мысли в ее развитии), о. Иоанн Мейендорф (ученик Флоровского, доставивший новой трактовке исихазма прочную историческую базу). К их деятельности тесно примыкают труды целого ряда крупных православных богословов Балкан и Запада - о. Думитру Станилоаэ (Румыния), св. Юстина Поповича, митрополит Амфилохия Радовича (Сербия), епископ Каллиста Уэра (Англия), митрополит Иоанна Зезюласа, Хр. Яннараса (Греция) и др. Оформившееся здесь направление богословской мысли, называемое «православным энергетизмом», предолжает развиваться, выходя в философию, обнаруживая параллели с антиплатоническими и антиэссенциалистскими направлениями современной мысли на Западе и подтверждая тезис о том, что «исихазм содержит конструктивный ответ на вызов, брошенный христианству новым временем» (Мейендорф).
Добротолюбие. Тт.1-5. Св.-Троицкая Сергиева Лавра.1992. С.М.Зарин. Аскетизм по православно-христианскому учению.М.1996. Умное делание о молитве Иисусовой. Сборник поучений св.Отцев и опытных ее делателей. Составил игумен Валаамского монастыря Харитон. М.1992. Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. М.1991. В.Н.Лосский. Мистическое богословие Восточной Церкви // Богословские труды. Т.8.М.1972. Иеромонах Софроний. Старец Силуан. М.1991. Архим.Софроний. Видеть Бога как Он есть. Эссекс.1985. Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия. Научный сб-к под общей ред.С.С.Хоружего.М.1995. С.С.Хоружий. К феноменологии аскезы.М.1998. J.Meyendorff. Byzantine Hesychasm: historical, theological and social problems. London. 1974.
Как мы попытаемся показать в этом докладе, такие ожидания, разумеется, справедливы. Однако убедиться в этом оказывается не столь просто. Рассматривая свидетельства аскетических текстов, мы обнаруживаем в икономии отношения православного подвижника к смерти ряд примечательных моментов или мотивов, которые, на первый взгляд, совсем не принадлежат к общим чертам христианского миросозерцания, а скорей выражают какие-то специфические, даже странные черты и наклонности исихастского сознания. Мы замечаем, что, вместо привычного и органичного в христианстве лейтмотива враждебности к смерти, борьбы с ней и победы над ней, в речах подвижников очень нередко звучит некая любовь к смерти, тяга к ней, что в современном сознании ассоциируется сразу же с влечением к смерти, которое утверждает в человеке психоанализ. Однако в явлениях духовной жизни истинные пружины и связи редко раскрываются с первого взгляда. Входя глубже в практическую танатологию исихазма, мы заключаем, что приятие смерти, составляющее одну из ее ярких особенностей, не имеет ничего общего с психоаналитическим импульсом. Будучи изначально и глубоко христоцентрическим по своей природе, оно выступает как особая грань в отношениях христианина со своей кончиной, – такая грань, которая достигается лишь на высших ступенях исихастской лествицы восхождения к благодатному обожению.
Православный подвиг – «Райская лествица», по преп. Иоанну Лествичнику; уже ранние отцы-пустынники знали, что аскетическое делание есть путь, на котором человек проходит определенные ступени и всецело меняется. Ступени лествицы идут от обращения и покаяния к высшему духовному состоянию, которое уже преп. Максим Исповедник определял как обожение, или совершенное соединение с Богом. Поздневизантийское богословие уточнило характер соединения, указав, что оно означает соединение энергий всего человеческого существа с Божественной энергией, благодатью, притом что Божественная Сущность остается вне этого соединения, в неприобщимости. Тем самым, непосредственное изменение проходит в подвиге «энергийный человек» – собрание всех разнородных энергий человеческого существа, духовных, душевных и телесных. Отношение человека к смерти также, очевидно, реализуется в некоторых энергиях, входящих в это собрание; и мы можем ожидать, что вместе со всем «энергийным человеком», в аскетическом духовном и антропологическом процессе трансформируется и данное отношение, принимая, вообще говоря, некоторую свою форму на каждой ступени лествицы.
Прежде всего, старец говорит здесь о «воскресении человека во Христе». Это понятие знакомо православной эсхатологии, оно означает «залог и начаток», «как бы семя» (выражения святителя Феофана Затворника) воскресения человека прежде всеобщего воскресения, через духовный опыт приобщения воскресению Христа. Софроний указывает, далее, один аспект данного понятия: достижение «начатков воскресения» изгоняет страх смерти, который – что тоже важно – есть искажающее начало всего внутреннего устроения человека, свидетельствующее о рабстве греху. И мы, следуя за ним, заключаем: когда по благодати преодолено искажающее воздействие страха смерти, начинает созидаться иное внутреннее устроение, которому отвечает и иное отношение к кончине. Характер этого нового отношения ясен из того, что в его основе – приобщение воскресению Христа, опыт соумирания и совоскресения со Христом: в свете этого опыта, всецело христоцентрического, кончина предстает именно тем духовным событием, какое описывали приведенные нами еще в начале (см. раздел 2) аскетические свидетельства. Она предстает как светлое событие, вводящее подвижника в Христову жизнь-чрез-смерть, и потому – как заслуженный предмет исихастского приятия смерти и радования смерти.
Отсюда очерчивается и взаимное отношение двух установок исихастской практической танатологии. Они больше не представляются противоположными. Покуда мир человека сохраняет мирское устроение, смерть остается для него безусловным врагом и злом, и он должен непримиримо бороться с нею, как и со всяким злом. Аскетическое приятие смерти – никоим образом не приятие феномена смерти, каким он дан и присутствует в тварном бытии! Человек не должен умирать, когда в нем «все искажено страхом смерти»: прежде смерти для человека духовно необходимо изменить свои отношения со смертью. Эта премена имеет привести его к приятию смерти – но, как показывали мы выше, и путь ее, и итог не имеют ничего общего с платоническими и стоическими «духовными упражнениями», в которых стремились выработать «философское приятие смерти». Исихастское приятие смерти, как ясно из нашего рассуждения, обеспечивается одним ключевым моментом: отношения человека с Богом и в опыте переживания смерти остаются отношениями личностного Богообщения; а этот момент, в свою очередь, обеспечивается только христоцентричностью всего опыта. Поэтому исихастское приятие смерти – то есть благодатное претворение страха смерти в приятие жизни-чрез-смерть – немыслимо вне Христа и принципиально не достижимо никаким специальным упражнением, «танатотренингом». Никак не будучи отдельной самодовлеющей целью, оно созревает в христоцентрическом исихастском подвиге как один из его таинственных плодов, пополняя собой сокровищницу эсхатологического опыта Церкви.
Uns uberfullt's. Wir ordnen's. Es zerfallt.
Wir ordnen's wieder und zerfallen selbst.
Мысль Платона — следующая веха в развитии этой антропологической линии, и веха столь крупная, что в истории темы она выступает скорее как новое начало, собравшее в себе смутные мифологические истоки и давшее им новое рождение в логосе. Дуалистическая антропология развернута здесь с яркой силой, и в центре ее — бытийная драма души. Душа приобретает не только отвязку от тела, но и привязку к определенному собственному истоку и месту, каковое есть «мир идей» (умный мир, Там — ее происхождение, ее отечество, и потому столь характерный для эллинского духа пафос отечества, родимого края сообщает связи души с умным миром насыщенную эмоциональную окраску. Следующий конститутивный момент: судьба души и купно с ней человека предстает как единый онтологический процесс, включающий ряд бытийных актов — переходов, превращений, в которых создается и расторгается связь души с телом. И выделим еще момент: в бытийном процессе душа и человек не чисто пассивны, они прилагают усилия, принимают решения, и потому этот процесс есть путь, драма.
По отношению к эллинской мысли, христианство — по крайней мере, в его аутентичном ядре, в существе «Благой вести» — являет собою радикально иной тип и онтологии, и антропологии. В отличие от греческой онтологии единого бытия, онтология становится хотя и не дуалистической в точном смысле (т.е. описывающей два равноправных и независимых рода бытия), но расщепленной, описывающей бытие божественное и бытие тварное, отличное от первого, однако не независимое от него, не имеющее собственной основы и творимое Богом из Ничто. Аналогично, в отличие от дуалистической антропологии греков, антропология становится хотя и не монистической в точном смысле, но холистической: вслед за ветхозаветной антропологией, она утверждает, что человек сложен в своем составе, однако в своем отношении к Богу, бытийном статусе есть единое целое. Этой революции дискурса сопутствует антропологическая революция, не менее радикальная смена модели человека. Человек видится не только бытийно единым, но и бытийно изменяющимся, динамичным: за ним утверждается определенное бытийное назначение, которое заключается в актуальной бытийной трансформации, трансцендировании исходной человеческой природы; посредством теологем Боговочеловечения, искупления, Воскресения христианство выводит судьбу человека в мета-антропологический и метаисторический горизонт. Подобное назначение предполагает онтологическую динамику, его реализация — путь человека не только в сущем, но в бытии, процесс, наделенный не только онтическим, но и онтологическим содержанием. Структурные парадигмы этого процесса сохраняют большую близость к (нео)платоническим, устремление человека к Богу, «на лоно Отчее», прямо соотносимо с Плотиновым «бегством в дорогое отечество», — но они кардинально переосмысливаются, реализуясь в рамках иной онтологии. В отличие от пути души в эманативном бытии-всеединстве неоплатонизма, путь человека в расщепленном бытии христианства, силою искупления преодолевая фундаментальный бытийный предикат падшести, изменяет онтологическую структуру реальности. Как единый субъект онтологического процесса, агент бытийной динамики, человек, взятый в своей связи с Богом, оказывается бытийно централен. Картина реальности здесь кардинально антропоцентрична, хотя одновременно, разумеется, и теоцентрична: реальность формируется онтологической осью Человек — Бог.
Сказанное отвечает, однако, скорее вневременной «принципиальной сущности» христианского дискурса; в своем реальном историческом содержании христианская речь о человеке сложней и смешанней. Для судеб ее весьма существенны избиравшиеся ею формы выражения. Антропология христианства лишь малой и менее важной частью представлена в явном виде, как прямая речь об эмпирическом человеке, описательная, постулативная или аналитическая; главные же ее позиции выражены достаточно имплицитно, под формой богословия и в русле аскетики. Все три слагаемых или три рода христианского антропологического дискурса имеют различную природу и проходят различную историю, причем последняя, в свою очередь, еще оказывается различной для Западного и Восточного христианства. Сейчас нам необходимо выяснить всего один их аспект: в каком отношении стоят эти слагаемые к тому процессу, что определял собой историческую эволюцию христианской мысли, — процессу постепенного воссоединения с античными истоками европейского миросозерцания и менталитета. «Эксплицитная антропология», философский и эмпирически-дескриптивный дискурс, никогда не теряла связи с этими истоками, будучи всегда в глубокой зависимости от античной основы (прежде всего, от антропологии Аристотеля и стоиков). Рассматривая ранние христианские тексты этого рода — такие как «О природе человека» Немезия или соответствующие главы Климента Александрийского, Оригена — легко убедиться, что в данной части антропологического дискурса никакой революции не произошло, и сдвиги, отражающие переход в русло христианства, не столь радикальны. Иначе, разумеется, обстояло с богословским дискурсом, что был рожден самим христианством и призван выражать его аутентичную суть. Исходная основа дискурса, доставляемая классическою патристикой и догматикой Вселенских Соборов, здесь изначально строилась в ключе отталкивания от языческой античности и даже, в известной мере, по принципу противопоставления ей. В дальнейшем, однако, этот первохристианский импульс отталкивания прошел сложный путь, притом очень различный в Восточном и Западном христианстве. Речь о Боге нуждалась в артикулированных методологических и герменевтических принципах, которых еще не имела исходная основа; и, продвигаясь к ним, богословие искало дополнения и опоры в каком-либо ином дискурсе, который мог бы доставить их.
Выбор этой опоры на Западе и на Востоке оказался резко различен, ибо руководился различными критериями: для римского Запада, надежные принципы доставляла лишь правильная (логически и доказательно выстроенная) мысль, для ромейского Востока — подлинный опыт. В соответствии с этим, путь западного разума вел его к эллинскому умозрению, понятому как универсальный исток и основа правильной мысли, лоно самого логоса как такового. Августин, Фома и схоластика, мысль Возрождения, Декарт и наконец вся последекартовская традиция секуляризованной новоевропейской философии — при всех различиях внутри этого мощного магистрального русла, остается несомненной его общая направленность к прямому воссоединению с античными истоками умозрения. Первохристианский импульс отталкивания от всей языческой мысли как таковой, как мысли, не знавшей Христа, не могущей нести опыт Богообщения, здесь неизбежно иссякал и утрачивался, сменяясь постепенно своей противоположностью; патристическая установка, требующая кардинального переосмысления и претворения этой мысли при включении в христианский дискурс, была отброшена. В антропологии этому соответствовал все углублявшийся отход от определяющих черт христианской модели человека — холистичности, онтологического динамизма, цельности и центральности человека в бытии; а сама антропология, имея свой предмет не цельным и несводимым, а рассеченным на части, относимые к другим дискурсам, делалась несамостоятельной и второстепенной, второплановой областью (несмотря на отдельные яркие исключения, как культ человека в Ренессансе или мысль Ницше). То был путь деконструкции христианского антропологизма: мета-антропологическая перспектива, лежавшая в его основе, бледнела, таяла, и способность трансцендирования, превосхождения себя переходила от человека к разуму или иному отвлеченному началу.
Напротив, мысль Восточного христианства стремилась, в первую очередь, быть не «правильной мыслью», но верным и непосредственным выражением подлинного опыта Богообщения, соединения со Христом. И здесь ее необходимой опорой оказывалась аскетика — тот специфический тип уединенной, отшельнической аскезы, что складывался и практиковался в Православии с самой эпохи зарождения монашества (IV-V вв.), позднее получив название исихазма. Фундамент Восточнохристианского дискурса — союз, синтез греческого патристического богословия и православной аскезы. В раннецерковном сознании аскеза виделась как прямое преемство мученичеству, мученик же был носителем безусловно подлинного опыта соединения со Христом, удостоверенного в своей подлинности высшим эсхатологическим критерием, смертью. В отличие от Западного христианства, на Востоке аскетическая традиция удержала за собой навсегда эту харизматическую роль школы мета-антропологического опыта. Она служила духовным лоном, где этот опыт мог достигаться, проходить проверку и воспроизводиться в течение веков во всей изначальной подлинности, храня идентичность опыту мучеников и учеников Христа. Выполнение столь ключевой роли требовало особых усилий и средств. Столетиями совершенствуясь и развиваясь, традиция превратилась в высокоорганизованную опытную дисциплину -конечно, весьма отличную от светской науки, многими чертами близкую более к искусству («духовное художество» — одно из обычных ее имен), однако включающую в себя полноценный органон, то есть аппарат обустройства, проверки и толкования опыта. Тем самым, аскетика приобретает и выделенное антропологическое значение: создавая свою критериологию, свои средства защиты и сохранения чистоты опыта, она менее подвержена чуждым влияниям и подменам, чем другие слагаемые антропологического дискурса. Неудивительно поэтому, что именно здесь христианский замысел о человеке оформляется в четкую антропологическую стратегию. Дадим краткое описание ее.
Старый взгляд на традицию православного подвижничества — будь то в России, Греции или на Православном Востоке — видел в ней лишь некое частное явление религиозной жизни — порождение известной исторической обстановки, духовной ситуации, социокультурной среды… Но, как ясно сегодня, в феномене этой традиции важней другое, противоположное; за частностями, реалиями этноса и эпохи, выступает универсальное, общеантропологическое содержание. В своей зрелой форме, исихастская практика реализует определенную законченную антропологическую стратегию или парадигму, которую мы будем называть парадигмой Духовной практики. Первое, что мы скажем о ней, — Духовная практика есть холистическая практика себя в своих энергиях: практика аутотрансформации, в которой человек изменяет «всего себя» (холизм), однако себя, взятого и рассматриваемого не субстанциально, а деятельностно и энергийно, как совокупность всех физических, психических, умственных движений и импульсов, которые Православие называет «тварными энергиями». Такая совокупность или же конфигурация энергий есть «энергийный образ» человека, его проекция в план энергии, измерение бытия-действия. Практика (подвиг) классифицирует эти конфигурации по различным признакам, выделяет разные типы их (хотя сам «энергийный образ» непрестанно меняется, его тип относительно стабилен) — и специальными методами осуществляет преобразование «себя», собственного энергийного образа подвизающегося, к определенному типу, признаваемому целью и назначением, «телосом» Духовной практики. Этот искомый тип часто именуют «высшим духовным состоянием», хотя имеется в виду не статичное состояние, но определенная система энергий, т.е. скорей некий образ и режим активности.
Число ступеней лестницы Духовной практики, взятое равным 30 в упомянутом трактате св. Иоанна Лествичника, не считается точно закрепленным и в разных описаниях, разных схемах Традиции может быть различно. Но точно и твердо определена общая структура исихастского пути восхождения, характер и содержание его основных участков, блоков. Путь открывают «духовные врата», ступень обращения и покаяния (metanoia); и в свете сказанного, это — кардинально важная ступень, рубеж, полагающий начало реализации онтологической альтернативы. Затем следует борьба со страстями, «невидимая брань» подвижника: страсти суть те избранные конфигурации человеческих энергий, к которым человек влечется и в которых стремится пребыть, так что они наделены самовоспроизводимостью, инертной устойчивостью — тем самым, не допуская выстраивания ступеней Практики и служа препятствием к восхождению. За это отличие от обычных, «естественных» энергоформ человека, аскетика называет энергоформы страстей «противоестественными»; те же энергоформы, что отвечают самым высшим ступеням Практики, именуются «сверхъестественными». Изгоняя классические страсти-пороки (тщеславие, зависть, чревоугодие…), Практика сближается с обычными мирскими стратегиями и моделями поведения, со стоической культивацией бесстрастия и т.п. — и все же сохраняет отличие от них. Будучи сцеплена со следующими ступенями, исихастская «невидимая брань» ставит особую цель, специфически связанную с включенностью в процесс Практики: она направлена не столько на борьбу с конкретным пороком, сколько к изменению самой душевной фактуры — такому, при котором страсти вообще бы не зарождались, хотя при этом — тут важное отличие от стоического идеала бесстрастия как недвижности, атараксии — отнюдь не угашались, не замирали бы душевные активности и реакции человека. Тем самым, эти активности, высвобождаясь, могут направляться на дальнейшее восхождение.
За устранением страстей-препятствий идет ядро духовного процесса, его центральная часть, охватывающая целый ряд ступеней. Здесь складывается и развертывается уникальная динамика Духовной практики, образуемая сочетанием двух очень разных, разноприродных механизмов: один из них охраняет созданную энергоформу от разрушения, другой же осуществляет очередной шаг, продвижение от данной ступени к следующей. Это — знаменитая двоица исихазма, динамическая диада «Внимание — Молитва», греческая формула которой, с ее созвучием слов, издревле служила в подвиге мнемоническим шифром ключа практики, наподобие восточной мантры. Оба члена диады требуют своего раскрытия; с каждым связан обширный раздел духовной науки. Под «вниманием» понимается тонкая, разветвленная икономия «стражи» духовного процесса, его ограждения от любых внешних и внутренних нарушений — как от чуждых вторжений, так и от отвлечения, рассеяния его энергий. Необходимость «стражи», своего рода «стенок» процесса, прямо связана с энергийной природой его ступеней: именно оттого что эти ступени не субстанциальны, суть не статичные состояния или самодовлеющие сущности, а конфигурации энергий, обладающие подвижностью, переменчивостью, их удержание — трудная задача, предмет особой методики. Осуществляя пристальную и бдительную концентрацию, фокусирование на предмете процесса, икономия внимания во многом сродни интенциональному акту философской феноменологии (их сходства и различия проанализированы в книге 3).
«Молитва» же — сама истинная суть практики, ее главное средство и содержание, способ и стихия Богообщения; и часто вся традиция исихазма характеризуется как «школа молитвы». В различных, преемственно сменяющихся формах, молитва сопутствует всем ступеням Практики, однако в диаде имеется в виду, прежде всего, «умное делание» — выработанное самим исихазмом и составляющее его главный, ключевой элемент искусство непрестанного творения молитвы Иисусовой («Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного»). Как открывает опыт, непрестанная молитва обладает способностью превращения в спонтанный и кумулятивный (накопительно-поступательный), углубляющийся и интенсифицирующийся процесс; в этом процессе достигается необычайная концентрация сфокусированной энергии, и ее действием совершается продвижение по пути Практики, создание очередных типов энергоформ.
Это описание пути восхождения в Духовной практике позволяет провести любопытную параллель с осуществлением управляемой термоядерной реакции в токамаке — магнитной ловушке, где нагреваемая плазма удерживается магнитным полем, и это удержание создает возможность достичь сверхвысоких температур разогревания, вплоть до порога, за которым запускается реакция и плазма переходит в новое состояние. В обоих случаях налицо те же две компоненты процесса: искомое, телос — «трансцендирование» (каковым для плазмы законно считать запуск реакции), путь к которому — через «сверхразогревание», гипер-концентрацию, кумулятивное фокусирование энергии; главное условие искомого — создание и энергийное (а не вещественно-субстанциальное) ограждение, изоляция особого процессуального пространства: магнитные стенки в токамаке, стража внимания — в практике. Эта физическая параллель хороша и тем, что ясно высвечивает собственные пределы — пределы натуралистической аналогии духовного, а точней, мета-антропологического процесса. Здесь возникает новая глубокая проблематика: во взаимном сопоставлении выявляются структурные изоморфизмы двух предельно удаленных друг от друга сфер реальности. Однако физическая формула «кумулятивное фокусирование энергии» весьма ограниченно пригодна для процесса Практики: «стяжание благодати», которого ищут в нем, есть уловление Божественной энергии — энергии источника, внешнего, внеположного по отношению ко всему горизонту человеческого опыта («Внеположного Супра-Истока»), и именно этой энергии принадлежит сила, возводящая по иерархии энергоформ. Тварные же энергии лишь должны дать ей действовать, достигая «синергии» — соработничества, согласования с нею, которое носит сугубо личностный и диалогический характер. Поэтому и «фокусирование», и «спонтанность», и все вообще физические характеристики здесь должны пониматься в радикально ином контексте или дискурсе — в дискурсе синергии, как характеристики особого рода общения, «онтодиалога», ибо вся Духовная практика есть не что иное как развязывание этого диалога, его поддержание, углубление — и вхождение посредством него в онтологический горизонт личного бытия-общения. Что же до плазменной системы, то ее продвижение к порогу реакции определяется процессами, носящими синергетический характер. Так очерчивается проблемное поле: необходим сравнительный концептуальный анализ процессов синергийных и синергетических — анализ, раскрывающий как общие структуры в составе этих процессов, так и их коренную разноприродность.
Универсальная природа Духовной практики, очевидная из нашего описания, заставляет ожидать, что, помимо православного исихазма, эта общеантропологическая парадигма должна иметь и другие исторические реализации. Разумеется, наш выбор термина не был случайным: «духовными практиками» издавна принято называть психосоматические или холистические методики, развитые в ряде религиозных традиций, прежде всего, на Востоке. Самый известный пример их — йога, имеющая целый спектр разновидностей (как то классическая йога, тантрическая йога и др.); другие примеры доставляют дзэн, даосизм, суфизм… Как нетрудно увидеть, эти методики можно, действительно, считать реализациями парадигмы Духовной практики в нашем смысле; но при этом некоторые черты парадигмы требуют обобщения. Безусловно необходимой общей чертой следует считать тип явления в целом: любая реализация должна представлять собой холистическую практику Антропологической Границы, т.е. процесс, ориентированный к Границе и затрагивающий все уровни организации человеческого существа. Далее, путь восхождения к Границе всегда структурирован, пролегая от исходного этапа вхождения в процесс — резкого рубежа, «духовных врат», — до некоторого телоса, «высшего духовного состояния», не принадлежащего уже горизонту наличного бытия человека. Наконец, столь же непременным элементом надо считать создание в центральной части процесса специфической динамики восхождения, включающей одновременные фокусирование внимания и концентрацию энергии («структура токамака»), причем ведущую роль в концентрации должна играть спонтанная энергия, исток которой вне горизонта опыта человека.
С другой стороны, во многих существенных аспектах духовные практики могут иметь глубокие различия меж собой. Важнейшее из всех разделений — альтернатива, касающаяся природы «высшего духовного состояния»: тот иной (по отношению к наличному бытию) онтологический горизонт, которому оно принадлежит, может иметь природу бытия личного или же безличного, имперсонального. Любая христианская практика должна, очевидно, отвечать первому из полюсов этой альтернативы, и в опыте исихазма телос его практики, обожение, раскрывается, в полном соответствии с тринитарным богословием, как вхождение в план личного (ипостасного) бытия-общения. Другой же полюс реализуют восточные практики, где телос представляется как растворение и утрата идентичности, достигнутость имперсонального бескачественного бытия, неотличимого от небытия (нирвана, Великая Пустота и т.п.). Это радикальное различие телоса необходимо сказывается на многих сторонах пути восхождения. Укажем всего один, но важный пример. Путь исихастского «умного делания» развертывается в диалогической парадигме как возведение себя (к Личности, Ипостаси); в соответствии с этим, требуется устранять из сознания все образы, лишь отвлекающие от диалога, однако культивировать, «возгревать» чувства, нравственно-эмоциональные реакции: они в диалоге органичны. Напротив, в восточных практиках путь развертывается в элементе отрешенного созерцания как разравнивание себя (к Нирване, Пустоте); в соответствии с этим, требуется устранять все эмоции, однако культивировать образную медитацию, которая содействует отрешенности, но с приближением к телосу должна прекращаться, так же как вообще все виды активности.
Все сказанное выше, казалось бы, совершенно не отвечает заглавию текста: мы вели речь отнюдь не о будущем, даже не о настоящем, а о глубоком прошлом, о древних практиках. Но, как бывало не раз, древность и современность вдруг обнаруживают интимную связь, оказываются близкими и помогают понять друг друга. И в нашей теме, ключевое звено их связи — Антропологическая Граница. Опыт Границы занимает все больше места в опыте человека — и именно здесь, в этом опыте, в настойчивом влечении к Границе, наши сегодняшние, и еще более завтрашние интересы встречаются с парадигмой Духовной практики, как с важнейшей стратегией Границы.
Таким образом, парадигма Духовной практики обретает новую актуальность как одна из стратегий Антропологической Границы; и это заставляет нас взглянуть на нее под новым углом. Как ясно из приведенных примеров, Антропологическая Граница не есть нечто единое и простое, она обладает некоторой структурой. Учитывая, что концепт Антропологической Границы должен трактоваться не субстанциально, а энергийно, в измерении бытия-действия, мы различаем в строении Границы части разной природы: граница, осваиваемая в виртуальных практиках, граница, что отделяет «область безумия» — процессы, индуцируемые из Бессознательного (неврозы, комплексы, перверсии…) и наконец, граница, отвечающая духовным практикам как процессам, что подводят к онтологической трансформации, изменению фундаментальных предикатов наличного бытия (онтологическая, или мета-антропологическая Граница). Соответственно, выделяются различные виды стратегий Границы: виртуальные стратегии — стратегии Бессознательного — духовные практики; и последний вид может быть определен как объемлющий те антропологические стратегии, что направлены к онтологической, или мета-антропологической Границе.
Традиция же — крайне своеобразный феномен, органический и самодовлеющий. Ее зарождение неуправляемо, ее нельзя учредить или сконструировать, и никогда еще не были эксплицированы те условия и тот род опыта, индивидуального и коллективного, в лоне которых совершается ее появление. Ее органическая природа проявляется также в важной особенности, которую можно назвать качеством несоединимости или несливаемости: различные традиции — а с ними и соответствующие духовные практики — конечно, соприкасаются меж собой, оказывают взаимные влияния, однако не допускают взаимного соединения или комбинирования, не сливаются, как вода и масло. Мета-антропологический телос определяет иерархию энергоформ, которые все связаны необходимой последовательностью и восхождение по которым — единый неразрывный процесс; так что вмешательство в любое звено грозит разрушением всего процесса. Поэтому любое смешение, эклектизм, искусственные комбинации разных традиций или практик заведомо бессильны создать новую традицию или духовную практику: они могут вести к Границе, но не к онтологической Границе.
Эти свойства традиции ведут к существенным выводам. Мы отмечали, что в кругу стратегий Границы ныне присутствует — и пользуется большой популярностью — целый спектр явлений, «близких к духовным практикам»: разнообразные психотехники типа холотропной терапии, методики медитации и холистического тренинга, сочиняемые на базе восточных традиций, экстатические процедуры сект и групп стиля New Age… und so weiter. Многие из них приписывают себе статус Духовной практики. Наш анализ позволяет лучше понять природу этих явлений. Как правило, они действительно продуцируют предельные, граничные формы опыта, тем самым, являясь стратегиями Границы; в своем строении они часто используют элементы парадигмы Духовной практики или даже в целом пытаются следовать ее образцу, — и, однако, по приведенным причинам, все они представляют собой не подлинные духовные практики, а только их имитации, симулякры. Подобные имитации, подмены энергоформ Практики могут возникать и вполне неумышленно, в ходе самой практики; и, сталкиваясь с ними, исихастская аскеза еще в древности выработала для их характеристики важное понятие «прелести» (подробно см. в книге 3). Это своего рода гибридные формы: имитируя структуру стратегий онтологической Границы (духовных практик), такие стратегии, тем не менее, не ориентированы к ней, а значит, ведут к другим частям (ареалам) Антропологической Границы — к сфере стратегий Бессознательного, либо виртуальных стратегий. Чаще и типичней всего — скрещиванье с ареалом Бессознательного: мы видели, что в стратегиях Бессознательного (их, впрочем, лучше называть фигурами Бессознательного, поскольку термин «стратегия» коннотирует с осознанностью, сознательностью), как и в Духовной практике, энергоформы выстраиваются действием Внеположного Истока, и потому именно эти два рода стратегий оказываются легко смешиваемы между собой в явлениях прелести. — Гибридные формы дополняют собой систему основных видов стратегий Границы, и с их учетом эту систему можно полагать завершенной.
Сделаем неожиданное заявление: из проделанных рассуждений отчетливо выступают контуры искомого — антропологической модели нового типа. Почему это так? В нашем тексте мы выделили и бегло охарактеризовали полный набор стратегий Антропологической Границы и дали, тем самым, описание топики Границы (коль скоро Граница, как говорилось, — энергийный, а не эссенциальный концепт). Но вспомним классический смысл о-пределения, де-финиции: определить предмет именно и значит описать его пределы, границы. Поэтому наша топика Антропологической Границы — не что иное как характеризация Человека (рассматриваемого в энергийной проекции, в измерении бытия-действия) через его Границу (также трактуемую энергийно). Разумеется, пока эта характеризация лишь зачаточна: она только перечисляет компоненты Границы, описывает их как некий разрозненный набор. Критически необходим следующий шаг — надо увидеть и понять взаимосвязи, взаимоотношения компонент. Чтобы восстановить единство того Человека, кому принадлежат описанные стратегии, надо раскрыть весь комплекс отношений между этими стратегиями — их различия, их взаимодействия, почему и когда человек выбирает те или другие из них, какие факторы, обстоятельства дают перевес тем или другим. Отсюда станет ясна топология, фактура энергийной антропологической реальности — и лишь тогда наша первичная опись, инвентаризация Антропологической Границы приблизится к подлинной антропологической модели.
Но и с учетом сказанного, заглавие текста пока оправдано лишь наполовину. Пусть наши рассуждения в самом деле намечают некоторую антропологическую модель — но отчего, по какому праву это «модель Третьего тысячелетия»? Известные аргументы были уже даны в начале раздела: рассматривая характерные явления современности, мы находили, что «определяющая черта антропологической ситуации — влечение к Границе». Но эти аргументы следует дополнить, за указанными явлениями стоят более крупные, глобальные факторы. «Влечение к Границе» выражает приближение к ней, активизацию отношений с ней, сразу во всех ее ареалах, и это все не может не толковаться как явный антропологический сдвиг, изменения, происходящие с человеком. Существенно и еще одно: нет оснований считать эти антропологические изменения вторичными следствиями каких-то более широких или более глубинных процессов; первичная их инстанция — сам человек. Подобное было почти немыслимо для всего классического европейского миросозерцания. Как мы говорили, человек как таковой, «сам человек», здесь не был ни цельным, ни центральным, и в историческом бытии он выступал как субстрат, не обладающий самодвижностью, способный меняться лишь под воздействием перемен в неких первичных, доминирующих планах реальности — идейных, социальных или материальных, смотря по вкусу. Привычным образом, бытие человечества описывали как социально-исторический процесс, производящий, наряду с прочими, также и некие антропологические следствия.
В итоге, новая антропология, которая была бы антропологией Границы, действительно, является заданием и потребностью времени. Потребна новая модель человека, которая давала бы тематизацию Границы и в центре которой стояли бы отношения человека с его Границей. Как мы убедились, такая антропология, такая модель должны исследовать конфигурации энергий человека, рассматривать человека в энергийной проекции, и Антропологическая Граница возникает в них как существенно энергийный концепт, сопоставляемый совокупности стратегий и практик человека. В свете этого, нам во многом уясняются перипетии современного развития темы о человеке. В рамках эссенциалистского дискурса, который всегда оставался доминирующим в европейской мысли, нельзя удовлетворительно развить тематизацию Антропологической Границы. Для философской антропологии Запада, Духовная практика — важнейший тип стратегий Границы и центральный концепт энергийной антропологии — не существовала и не могла существовать как понятие, расцениваясь как явление маргинальное и близкое к патологии. Энергийное видение человека на Западе связывали исключительно с Востоком, либо с оккультным и паранаучным мышлением (игнорируя ведущие к нему внутрихристианские потенции); и освоение его, делающееся все более актуальным, предстает здесь как переход в русло восточной духовности, либо маргинальной эксцентрики. В итоге, современное «влечение к Границе» еще заметно усиливает тот кризис европейского антропологизма, что давно уж инициирован общими факторами философского и культурного процесса.
Однако преобладающую реакцию на кризис выражают, бесспорно, анти-антропологические тенденции, выпукло представленные, к примеру, в теориях Мишеля Фуко или в постмодернистской концепции «смерти субъекта». В немалой мере, эти тенденции и видимую в них тягу к деантропологизированной картине реальности нельзя не счесть основательными и оправданными; они равно подкрепляются и эволюцией мысли о человеке, и реальным опытом современности и «постсовременности». Встает, однако, вопрос: не обязаны ли мы тогда счесть в той же мере неосновательной набросанную выше модель? разве она не тяготеет к прямо противоположной картине, к «цельности и центральности» человека, представляя его в качестве фокуса реальности и ее нексуса, начала топологической связности в бытии-действии? — Вопрос полезен для нас, он позволяет намного ясней увидеть смысл перехода к энергийному представлению человека. Весьма важно заметить, что это представление глубоко изменяет постановку проблем личности и идентичности (самоидентичности человека), так что может даже, в известном смысле, считаться «анти-антропологическим», деконструирующим представлением.
Но, вместе с тем, эта формула остается сама по себе неясной, недоговоренной; она не выражает законченной позиции в проблемах личности и идентичности. «Субъектность без субъекта» — вообще говоря, только поток энергий — сущее, заметно сближающееся с буддийским образом человека как потока дхарм. Конечно, это не просто поток, а такой, где есть элементы организации и структуры, обеспечивающие субъектную перспективу, — подобно тому как в буддийской антропологии поток дхарм человека структурируется на пять скандх. Но эти элементы еще явно недостаточны для какого-либо содержательного принципа самоидентичности — хотя, в то же время, нельзя утверждать и заведомого отсутствия или невозможности последней. Налицо неопределенность, и с позиций нашей модели она понятна и закономерна. Естественно полагать, что наделенность сущего предикатом (само)идентичности, равно как и конкретный характер последней, зависят от способа существования, или (само)осуществления сего сущего. Коль скоро же способ самоосуществления человека определяется через отношение к Границе, выражаемое стратегиями Границы, — следует ожидать, что вопрос о самоидентичности человека может иметь разный ответ в зависимости от реализуемой граничной стратегии или, что то же, от области (ареала) Антропологической Границы.
Нетрудноувидеть, что это и впрямь так. В ареале виртуальной реальности может, вообще говоря, становиться недооформленной, неполной даже субъектность — тем более, самоидентичность человека. В стратегиях Бессознательного человек, безусловно, может обладать самоидентичностью; однако в этих стратегиях отсутствует топологическая связность и цельность сознания (см. 6), и отвечающая им идентичность, неся вместе с ними печать конституированности Бессознательным, является специфической аномальной идентичностью изолированного участненного сознания. В итоге, вновь в выделенном положении Духовная практика: из всех стратегий Границы, лишь в ней идентичность цельного сознания не является исключенной. Но достигается ли она? Как легко видеть, в рамках парадигмы Духовной практики наличие мета-антропологической перспективы создает полную определенность в проблеме самоидентичности человека — однако эта определенность описывает не одно, а два решения проблемы, взаимно противоположные друг другу. Телос Практики, ее «высшее духовное состояние», несет вполне определенную позицию в проблеме идентичности — но, как мы убедились, эта позиция может быть двоякой: телос имеет природу либо личного бытия, обладающего самоидентичностью по определению, либо имперсонального бескачественного бытия, неотличимого от небытия, Ничто — и тогда самоидентичности не имеет.
Итак, возникает альтернатива. Самореализация в парадигме Духовной практики несет претворение недоопределенного энергийного «Я», «субъектности без субъекта», — либо возводящее «субъектность» в личность со всею полнотой идентичности, либо растворяющее «субъектность» вместе с ее начатками идентичности — в Ничто. Если же субъектность не связывает себя с этою парадигмой (как в случае постмодернистского сознания), она — на распутье, в перманентной онтологической бифуркации. Различия между этими ситуациями отнюдь не теоретические, а жизненные, не в философской позиции, а в способе и самом итоге самоосуществления человека. Альтернатива не имеет априорного решения. Нет и не может быть доказательства того, что такая-то из представляющихся стратегий «истинна», тогда как прочие «ложны». Выбор между самоосуществлением в лицетворении нашего недопеченного «Я» или же в его растворении — предмет не теоретического доказательства, а творимой истории, личной и общей. Ответ будет известен в конце.
Уже несколько десятилетий в современной философии происходит непрерывное укрупнение фигуры Густава Шпета и рост значения его творчества. Параллельно с данным процессом, и столь же непрерывно, происходит другой: процесс усложнения и обогащения представлений о творческом облике философа, о характере и существе его философии.
Долгое время эти представления были предельно просты. Лет сорок тому назад, внук философа, первый его биограф и мой близкий друг, Михаил Константинович Поливанов, рассказывая мне про своего деда, в качестве его философской характеристики лаконично произнес: «русский гуссерлианец». Эта сакраментальная формула была предметом прочного консензуса, бытовавшего во всех кругах, сколько-нибудь знакомых с именем и наследием Шпета: среди русских философов в эмиграции, советских и зарубежных специалистов по русской мысли и даже людей, некогда его знавших – ценивших его философов, таких как В.Асмус или П.Попов, уцелевших его учеников…
Однако, едва началось пристальное изучение трудов философа, как формула консензуса была сразу же покинута. Принадлежность Шпета в ранний период творчества (главная веха которого – книга «Явление и смысл» (1914)) к руслу феноменологии была, конечно, неоспорима, хотя и здесь уже замечались отклонения от классического учения, представленного в «Логических исследованиях» и «Идеях – I». Однако последующее его творчество начали активно сближать с целым веером других направлений мысли, находя в нем самостоятельный опыт герменевтики, предвосхищения или даже конструктивные основы семиотики, структурализма, а также глубокие, оригинальные разработки едва ли не во всем спектре гуманитарных наук – в логике, философии языка, психологии, эстетике и т.д. Новая стадия в формировании рецепции мысли Шпета оказалась стадией embarras de richesse, когда разнообразие тематики и идейного содержания его исследований, плюрализм их ведущих установок и тенденций развития привели к отсутствию какого-либо единства в восприятии этой мысли. В этот период в литературе соседствовали разные и далеко расходящиеся оценки философии Шпета; ее существо и главное содержание видели в феноменологии, герменевтике, логике, психологии, лингвистике… Но сегодня эта стадия уже миновала. Путь к новому консензусу, к зрелой рецепции мысли Шпета наметился, когда появилось понимание того, что главный вклад этой мысли нельзя вместить в рамки какого-то одного из направлений или дисциплин гуманитарной науки.
Выполнению этого задания и посвящен мой доклад.
Религиозный опыт – обширная и чрезвычайно гетерогенная сфера. Подавляющей частью, она содержит смешанный опыт, в котором элемент собственно религиозный, т.е. актуализующий отношение человека к онтологически Иному, сращен с различными сопутствующими, смежными видами опыта – опытом социальным, эмоциональным и др. Но в этом, говоря по Джеймсу, многообразии религиозного опыта, есть выделенный род – квинтэссенциальный и аутентичный религиозный опыт, специально очищаемый от всех инородных примесей: и это – опыт, культивируемый в духовных практиках. Именно он и будет нами рассматриваться. Более конкретно, мы будем опираться на современную реконструкцию опыта исихазма (мистико-аскетической практики Православия), проделанную в моих работах и, главным образом, в книге «К феноменологии аскезы» (М., 1998).
Редукция осуществляет конституцию новой когнитивной перспективы, в которой горизонт сознания ограничен миром субъектного опыта. Именно это же осуществляется и в уходе в пустыню. В обоих случаях, перед нами – радикальный жест (само)ограничения и, в этом смысле, аскетический акт; Шпет не раз говорит об «аскетике» разума (как позднее Фуко будет говорить о философии как аскезе). Цель этого акта ограничения (отсечения, взятия в скобки и т.п.) – убрать, исключить из поля зрения и восприятия все лишнее, что мешает концентрации на главной, сугубо внутренней задаче. В феноменологии, редукция конституирует мир сознания как мир субъектного опыта, способный к дальнейшему препарированию, которое осуществляют следующие стадии интенционального акта. В духовной практике, уход в пустыню конституирует мир сознания как мир аскетического опыта, аскетической традиции, способный к дальнейшей трансформации, которая будет выстраиваться как лестница духовно-антропологического восхождения с помощью «внутреннего органона», предоставляемого традицией.
Формирование описанной установки сознания, как во внешних, так и во внутренних ее аспектах, можно относить к раннему, преимущественно, коптскому исихазму 4-6 вв.
Наряду с данным соответствием, сопоставление феноменологического и исихастского сознаний должно учитывать и их фундаментальное различие, вызванное мистической природой последнего. Строение исихастского сознания не может исчерпываться сферой трезвения, поскольку исихастская практика, в отличие от интенционального акта, – предельная практика, процесс, восходящий к границе горизонта сознания и опыта. Согласно «внутреннему органону» исихастского опыта, на центральных этапах этого восходящего процесса, сознание имеет своим ядром прочное сочетание двух базисных элементов, внимания и молитвы. При этом, «внимание» здесь понимается обобщенно, как модус трезвения, «молитва» же имеет специальную форму так наз. «непрестанной молитвы». Из этих элементов, второй – главный, именно им обеспечивается восходящий характер процесса, его продвижение к пределам опыта; тогда как первый – служебный, дело его – создать «пространство молитвы» и его охранять от любых вторжений, помех. В свете этой картины, наше сопоставление может стать полным. В диаде «внимание + молитва» (что то же, «модус трезвения + молитва»), образующей основу исихастского сознания, второй, главный элемент не имеет отношения к феноменологии: дело молитвы – не ее область, как заявили бы и Гуссерль, и Шпет – и мы с ними согласимся. Однако же первый элемент, играющий в исихастском органоне огромную роль, практически идентичен интенциональному сознанию. А кроме того, и полная картина malgré tout тоже сохраняет известное соответствие с феноменологией: ибо интенциональное сознание и интенциональный акт тоже, если угодно, служебны – они служат постижению интенционального предмета, который есть, вообще говоря, некая внешняя данность, отнюдь не творимая самим сознанием.
Но этот негативный вывод еще не исчерпывает тему «исихазм и феноменология». Именно на своих высших ступенях исихастское сознание и опыт становятся мистическими par excellence – становятся такими сознанием и опытом, анализ которых Густав Шпет назвал «интереснейшей философской проблемой». Как мы покажем сейчас, в рамках феноменологии возможно все же отыскать путь к пониманию подобного опыта.
Сознание на высших ступенях духовной практики – чрезвычайно экзотический феномен, к которому проблематично уже само применение термина «сознание». На этих ступенях человек начинает трансформироваться в «тело без органов», функции и активности которого более принадлежат всему целому, нежели его отдельным частям. Однако, по самому определению практики, также и на этих ступенях главное содержание его активности остается тем же: человек актуализует свою устремленность к мета-антропологическому Телосу практики, энергийному претворению в иной образ бытия. На подступах к Телосу энергии человека уже собраны воедино и встреча энергий разного бытийного статуса достигнута; завершающая же задача заключается в осуществлении всецелой направленности человеческих энергий на инобытийную энергию. Предполагается, таким образом, что холистический ансамбль всех энергий человека, рождающийся в практике на базе сознания, сохраняет ключевой предикат сознания – способность направленности, нацеленности на предмет, т.е. не что иное как интенциональность. Но теперь это уже не предикат сознания, а предикат трансформированной, холистической антропологической реальности: новая, холистическая интенциональность.
Так открывается возможность интерпретировать высшие ступени исихастской практики также на основе феноменологической (интенциональной) парадигмы. Возможность состоит в обобщении этой парадигмы. Примем, по определению, что способность направленности на предмет, присущая холистической антропологической реальности, формирующейся на подступах к мета-антропологическому Телосу, есть обобщенная форма интенциональности – холистическая интенциональность. (Заметим, что с равным правом эта способность может рассматриваться и как обобщенная форма исихастского трезвения, «холистическое трезвение»; а поскольку интенциональная нацеленность на предмет есть активность интеллектуального (у)зрения, то эта же способность может рассматриваться еще и как «холистическое зрение». Здесь проявляется фундаментальное родство когнитивных парадигм, принадлежащих трем разным культурам: феноменологической парадигмы интенциональности – исихастской парадигмы трезвения – древнегреческой парадигмы умного зрения.) Тогда назначение и содержание высших ступеней исихастского опыта может трактоваться как «холистический интенциональный акт», в котором интенциональным предметом служит энергия иного образа бытия (подчеркнем: мета-эмпирический, инобытийный «предмет»! – что говорит о радикальности и, в известной мере, дискуссионности делаемого обобщения).
Данный вывод может быть уточнен: как нетрудно увидеть, эти высшие ступени правильней связывать не с интенциональным актом как таковым, но с его заключительной, ноэтической фазой. Исихастское сознание строго телеологично, и хотя каждая ступень исихастской Лествицы имеет свое назначение, однако носителем всей полноты смысла духовного процесса предполагается исключительно Телос, «конец-смысл». Поэтому на финальных ступенях практики, подводящих к Телосу, соединяются и суммируются все продуцируемые в практике смысловые содержания, совершается проницание всей суммы опыта финальным смыслом – что передается феноменологическим понятием Sinngebung и отвечает фазе ноэзиса. И опять-таки, с учетом того, что на этих ступенях совершается холистическое претворение антропологической реальности, здесь также следует говорить лишь о «холистическом ноэзисе». Как известно, в исихазме высшие ступени опыта уже не причисляются к «практике» (praxis) и носят особое название «феории», или же «созерцания». В этих терминах, вывод наш означает, что исихастская «феория» может интерпретироваться как обобщенная, холистическая форма ноэзиса.
Итак, в аспекте сопоставления с феноменологической парадигмой, и в терминах этой парадигмы, афонский и византийский исихазм 13-14 вв. был преимущественно сосредоточен на ноэтической (а следовательно, и ноэматической) фазе опыта. При этом, в опыте высших ступеней исихастской практики (или, более точно, феории) надо усматривать не обычный, а обобщенный, холистический ноэзис, осуществляемый не сознанием (или не только сознанием), а холистически трансформирующейся антропологической реальностью.
Общий смысл нашего рассмотрения вполне очевиден. Анализ, даже не самый тщательный, обнаруживает обширные и глубокие соответствия, совпадения между феноменологической парадигмой опыта и структурами опыта в духовной практике – ближайшим образом, в исихазме. Проделанный анализ был крайне далек от полноты, и выявленный репертуар сближений было бы нетрудно дополнить. Но самое примечательное и важное в другом. Как мы убеждаемся, феноменологический (интенциональный) строй – естественный строй если и не религиозного сознания вообще, то, по крайней мере, квинтэссенциально и аутентично религиозного сознания – сознания в духовной практике. Лапидарно выражаясь, феноменология есть естественный язык духовной практики.
С этим наверняка согласился бы Мишель Фуко, который в свои последние годы усиленно сближал философию с духовной практикой. И наше исследование, и его финальный вывод близки и родственны всему направлению «практик себя». Но гораздо трудней сказать, как бы отнесся к ним Густав Шпет!
Концепция нашей встречи предполагает, что в проблемном поле наших дискуссий в качестве исходного ключевого факта выступает так называемая Смерть субъекта. Это громкое эпистемологическое происшествие сегодня – центр, фокус целой обширной сети как феноменальных, так и ноуменальных событий и фактов. Поэтому каждому из нас, здесь присутствующих, предстоит проложить некоторый путь через эту сеть, отправляясь от ее центральной точки. Нам всем известен один такой путь, созданный и утверждаемый в постмодернистской парадигме, последней из больших нарраций европейского разума. Путь этот прям и бескомпромиссен, и он ведет в быстром темпе от смерти эпистемологического героя – чрез серию подобных же летальных событий, как то смерть Бога, смерть истории и проч. – к финальной кончине, к смерти Человека, описанной так красиво уже в 1966 г. в знаменитом финале «Слов и вещей» Мишеля Фуко. На этом пути нам даются четкие – по преимуществу негативные, деконструктивистские – ответы на все вопросы, которыми мы собрались здесь заниматься: о субъекте и о сообществе, о структурах личности и идентичности, парадигмах социализации и так далее. Ответы складываются в логичную и последовательную систему; но эта система не убедительна для меня. В отличие от стартового события, в котором заложен действительно момент истины, а не продукт постмодернистской идеологии, последующие шаги – весьма смешанной природы, в них скрыта глубокая зависимость от идеологических постулатов.
Какой же будет моя стратегия? Я принимаю как данность всего единственную характеристику ситуации: в ней происходят радикальные перемены и превращения как антропологического дискурса, так и его протагониста, человеческого существа вместе с его способами репрезентации. В частности, не может уже считаться универсально валидным классический антропологический дискурс, выстроенный, прежде всего, заслугами Аристотеля, Декарта, Канта и стоящий на фундаментальных концептах субъекта, сущности и субстанции. Но я с осторожностью воздерживаюсь от той интерпретации, какую дает этим переменам постмодернистский дискурс, равно как и от всякой иной интерпретации. Подобное воздержание есть методологическая позиция, которую мы находим в эпистемологии целого ряда научных подходов в разных дисциплинах (не только гуманитарных, здесь, скажем, и квантовая теория); она соответствует общей, широко понимаемой феноменологической установке и в Гуссерлевой феноменологии передается понятием эпохэ. Принимая эту позицию, я нахожу, что моя стратегия должна включать единственный принцип: верность опытной почве, а именно – почве моего антропологического опыта, который должен быть сделан столь полным как возможно и рассмотрен столь пристально как возможно. Иными словами, я должен выстроить мою когнитивную перспективу как перспективу феноменологическую, и должен поместить в ее фокус антропологическую реальность как таковую.
Тем самым, следующий вопрос таков: «Что есть антропологический опыт, и как он должен постигаться в моей когнитивной перспективе»? Согласно установке воздержания, опыт восприятия и осмысления антропологической реальности (что и есть антропологический опыт per definitionem) на исходной стадии должен быть репрезентирован максимально универсальным образом, без участия любых редуцирующих понятий или постулатов, в особенности, принадлежащих классическому антропологическому дискурсу. В качестве базового термина, порождающего достаточно общий способ репрезентации, мы избираем термин «антропологические проявления» (манифестации), трактуя его как самое универсальное и всеобъемлющее понятие, вместе с тем, весьма гибкое и допускающее самые разнообразные конкретизации и специализации. Антропологические проявления могут быть внешними и внутренними, могут принадлежать любому из уровней организации человеческого существа – уровням соматическим, психическим, интеллектуальным и т.д. и т.п. Ясно, что репрезентация антропологической реальности множеством антропологических проявлений никак не связана ни с одним из трех фундаментальных понятий классического дискурса, равно как и со всем этим дискурсом в целом. Она не является эссенциалистской репрезентацией и вместо статического и «именного» дискурса сущностей, она развертывается в дискурсе динамическом и «глагольном», в измерении бытия-действия. С другой стороны, следует проводить различие между антропологическими проявлениями и актами (действиями, поступками) человеческой личности. За долгую историю попыток преодоления спекулятивной метафизики, появлялось немало философий, в которых стратегия и эпистемология преодоления строились на приверженности почве опыта; и в сфере антропологии такие философии нередко использовали дискурс актов или активностей человека: можно назвать здесь различные формы эмпиризма, бихевиоризм, марксизм и др. Однако дискурс актов оказывается слишком беден и поверхностен для полномерного и адекватного выражения антропологической реальности, какой она представляется сегодня. По иным мотивам, но мы полностью солидаризируемся с критикой Хайдеггера, утверждающей, что передача греческой латинским actus обернулась огромным ущербом для философии. Что же до антропологических проявлений, то, помимо актов в полном смысле, они включают в себя обширный мир эмбриональных выражений антропологической реальности – зачатков, или же ростков актов, таких как побуждения, помыслы, внутренние движения, которые вполне могут никогда и не развиться до актов. Понятие антропологического проявления существенно ближе к понятию энергии, чем к понятию акта. Следует подчеркнуть, однако, что философия до сих пор не имеет понятия энергии, приспособленного для применения к антропологической реальности. Классический концепт античной мысли (Аристотеля и Плотина) не имеет особого отношения к этой реальности, и вся последующая западная философия, до позднего Хайдеггера включительно, не выдвинула и не создала какого-либо концепта иного рода. К созданию такого альтернативного концепта энергии продвигалась византийская мысль, когда в 14 в. она развивала богословие нетварных Божественных энергий. По логике вещей, это богословие в перспективе должно было бы дополниться богословием энергий тварных, человеческих, но этот следующий шаг никогда не был сделан, и концепции тварной энергии, в отличие от нетварной, не появилось. Тем не менее, мы можем считать, что антропология проявлений представляет человеческое существо как энергийное образование, в неком широком смысле. Подобное представление обладает известным сходством с буддийской антропологией, согласно которой человеческое существо образуется потоком дхарм и, тем самым, мыслится тоже как энергийное образование.
Способен ли дискурс антропологических проявлений доставить основу для полноценного неклассического антропологического дискурса? Чтобы ответить на этот вопрос, мы прежде всего должны рассмотреть, как на его основе может быть решена фундаментальная антропологическая проблема конституции человека. Решение оказывается поучительным: мы обнаруживаем, что оно отсылает к некоторой универсальной парадигме, первостепенно важной для антропологии и тем не менее весьма мало замечаемой и почти не изучаемой до сих пор. В качестве первого шага, мы выделяем определенный класс антропологических проявлений, играющий ключевую роль в конституции человека. По общему принципу, явление, либо сущее формирует свою конституцию и идентичность посредством своего отношения к Другому, обладающему иными, отличными фундаментальными предикатами. В нашем случае, мы развертываем антропологический дискурс, основанный на энергийном представлении в терминах антропологических проявлений, – и в таком дискурсе конституция и идентичность человека должны, очевидно, реализовываться теми проявлениями, в которых актуализуется отношение к Другому. Понятно, что подобные проявления служат проявлениями уже не только антропологической реальности как таковой, но одновременно и проявлениями Другого; и за счет этого фундаментальные предикаты человеческого существования, сознания и опыта в них испытывают изменения. Для таких специальных проявлений мы вводим термин предельные антропологические проявления (ПАП). Полная совокупность всех ПАП обладает особым значением и смыслом. Она включает в себя все феномены или проявления двоякой природы – такие что свойства их несут влияние, отпечаток как антропологической реальности, так и ее Другого. Тем самым, она образует своего рода промежуточную или пограничную область между ними; и на этом основании мы называем ее Антропологической Границей.
В качестве следующего шага, нам необходимо выяснить, как возникают ПАП, и как они выполняют свою конститутивную функцию. Как легко видеть, такая задача есть определенная конкретная формулировка универсальной проблемы: раскрыть конституцию и идентичность человека в их внутреннем механизме, как события, динамические факты; или, иными словами, описать их в измерении бытия-действия, где размещаются акты и ростки актов, как объяснено выше. Первое основное свойство конституции, рассматриваемой как событие, состоит в том, что это – двустороннее, или же реляционное событие, в котором участвуют как конституируемый феномен, так и его Другое. Отсюда вытекает, что, рассматривая конституцию в измерении бытия-действия, мы находим, что она имеет природу взаимодействия. Что это за взаимодействие, как оно происходит? Ясно, что прежде всего должен достигаться некоторый контакт между взаимодействующими сторонами; и чтобы он был возможен, человеческое существо должно в своих проявлениях (энергиях, силах) открыться Другому, разомкнуть себя для него, навстречу ему. С совершением ключевого события размыкания, его прямым продолжением становится событие встречи двух разноприродных энергий или сил, и в этой встрече энергии или силы Другого реализуют свою конституирующую роль. Что же касается ПАП, то это – именно те проявления, в которых имеет место размыкание.
Т.о., антропологическое размыкание выступает как динамическая парадигма конституции человеческого существа в дискурсе, представляющем антропологическую реальность в измерении бытия-действия; в частности, во всякой антропологии энергий, или сил, или дхарм, равно как и в нашей антропологии проявлений. Существенно отметить, что эта парадигма конституции человека, отчетливо отвечающая неклассической, неэссенциалистской и бессубъектной антропологии, имеет давнюю и богатую историю. Столь же существенно, что в этой истории два самых важных вклада – это самый древний и самый новейший. Последний принадлежит Жилю Делёзу, который дает четкое описание данной парадигмы, утверждает, что она является центральной парадигмой антропологии Фуко, и сам в целом присоединяется к тому, что он представляет как взгляд Фуко на основные реализации парадигмы в истории европейского человека. Что касается философий, в которых может быть обнаружена эта парадигма, то он указывает только Ницше и Хайдеггера. К этому я бы уточнил, что в текстах Ницше размыкание фигурирует лишь неявно. Хайдеггер же, напротив, отводит ему видное место в своей аналитике Dasein, рассматривая его как экзистенциал, именуемый Erschliessen или Erschlossenheit; но, следуя своей характерно неоклассической и полуэссенциалистской позиции, он избегает подчеркивать его неклассическую природу и вместо этого стремится интегрировать его в классическую традицию, усматривая его следы, его исторические корни вплоть до Платона. Но, независимо от того, насколько оправданна такая расширительная интерпретация, необходимо указать, что главное место во всей западной истории размыкания до Хайдеггера и Делёза, бесспорно, принадлежит Кьеркегору (хотя обычно он совсем не упоминается в этой связи).
Мысль Кьеркегора всегда напряженно сосредоточена на проблеме конституции и самоидентичности человека. Решение проблемы представляется в его текстах в нескольких версиях, которые существенно различаются меж собой, однако все более или менее эксплицитно базируются на парадигме размыкания. Для Кьеркегора, долг и назначение каждого человека в том, чтобы достичь или создать, выстроить свою подлинную личность (Я, самость); и это главное искомое экзистенциально-антропологической стратегии конституируется исключительно путем размыкания человека. Поэтому «долг каждого – сделать себя открытым», и дихотомия Открытость – Замкнутость служит центральной оппозицией в кьеркегоровской аналитике личности. Что важно для нас, для Кьеркегора истинное размыкание – это лишь размыкание навстречу Богу, которое означает «установление отношений с той силой, что полагает мою самость (дат. Selv)»; и вследствие этого, «у кого нет Бога, у того нет и самости» (все цитаты – из «Болезни к смерти», пер. наш). Эти концепции Кьеркегора обладают большою близостью к самой начальной странице в европейской истории размыкания, которую составляет созданное греко-византийской патристикой учение о синергии, или же согласном, гармоническом соработничестве Божественных и человеческих энергий. Непосредственно очевидно, что, будучи взята со стороны человека, синергия в своем динамическом ядре – не что иное как антропологическое размыкание. Учение это возникло в равной мере на основе мистико-аскетического опыта исихазма и христологии преп. Максима Исповедника и VI-го Вселенского Собора (680), учившей о наличии и единстве двух воль, Божественной и человеческой, во Христе. В течение многих веков оно играло существенную роль в богословской полемике между православием и католичеством. Эволюция западной рецепции синергии (основные ее этапы описаны в моей книге «К феноменологии аскезы» (М., 1998)) может быть кратко резюмирована как весьма медленный переход от прямого и часто резкого отрицания (впрочем, с рядом интересных и важных исключений, к которым принадлежат, к примеру, мистик св. Бернард Клервоский и гуманист Эразм Роттердамский) – к осторожному и колеблющемуся принятию в теологии. В философии же последним этапом служит радикальная смена всего контекста, когда французский постструктурализм Фуко и Делёза выдвинул полностью секуляризованную версию парадигмы размыкания, целиком игнорируя ее богатую вне-западную историю, аскетическую и богословскую, и не упоминая ни словом не только синергии, но даже и Кьеркегора.
Возвращаясь к нашему варианту парадигмы, мы видим, что его специфические отличия сконцентрированы в концептах ПАП и Антропологической Границы. За счет этих конструктивных добавлений оказывается возможным продвинуться к тому, чтобы идентифицировать и охарактеризовать все существующие типы конституции личности и идентичности человека. В согласии с парадигмой, каждой репрезентации Другого соответствует некоторое определенное множество ПАП, в которых совершается размыкание человека навстречу данной репрезентации. Какие же именно репрезентации имеют место?
Когда феномен человека трактуется онтологически, как определенный способ или горизонт бытия, Другим по отношению к нему является, очевидно, некоторый другой горизонт бытия, «Инобытие». В этом случае, антропологическое размыкание должно достигаться в таких ПАП, которые направляются к актуальному претворению в Инобытие, онтологическому трансцензусу. Подобные ПАП реально существуют в антропологическом опыте: они культивируются в духовных практиках – школах духовного, мистического и аскетического опыта, которые с древности создавались внутри мировых религий. Антропология духовных практик детально проанализирована в моих работах. Ее главное специфическое отличие – лестничная структура: духовная практика есть ступенчатый процесс ауто-трансформации человеческого существа, где каждая ступень – некоторая конфигурация множества всех энергий человека, а весь строго упорядоченный ряд ступеней ориентирован к Инобытию как мета-антропологическому телосу (термин, вводившийся и у Кьеркегора в дескрипции конституции личности), энергиями которого и конституируется процесс. – Выделяя данный класс ПАП, мы идентифицируем определенную область Антропологической Границы и определенный тип конституции человека: тип, который порождается реализацией Другого как Другого онтологически, как Инобытия. Эту область мы именуем Онтологической топикой Антропологической Границы. Как мы видели, она тесно связана с духовными практиками, которые составляют ее опытную и феноменологическую основу.
Подобная связь отражает более общий факт: неэссенциалистская антропология как таковая тесно связана с «практиками себя» - такими антропологическими стратегиями, в которых человек осуществляет сознательную, целеполагающую и целенаправленную трансформацию себя самого. В подобных стратегиях человек старается держать под наблюдением и под контролем полную систему своих импульсов, стремлений, энергий, направленно преобразуя ее; и тем самым, он, пускай не всегда отрефлектированно, представляет себя как энергийное, а не субстанциальное или эссенциальное образование. Отсюда следует, что опыт практик себя естественно подводит к неклассической интерпретации антропологической реальности, и на его основе может возникать и формироваться неклассическая энергийная антропология. Данная сфера опыта объемлет две главные области: древние духовные практики и традиции, а также всевозможные виды новейших антропологических практик, выражающих неудержимую тягу современного человека к предельному, экстремальному опыту в любых его реализациях. Область Человека Классического (т.е. опыта, удовлетворительно трактуемого классическою антропологией) оказывается, таким образом, своего рода Серединным Царством между двумя неклассическими разновидностями Homo Sapiens, древней и новой.
Далее, мы констатируем, что существует также и отличная репрезентация Другого, а, стало быть, и отличная топика Антропологической Границы. Неоспоримо, что Другое по отношению к горизонту человеческого опыта и существования может мыслиться другим, инаковым, и не онтологически. Человек может отождествить этот горизонт с горизонтом своего сознания – и в этом случае, Другое будет репрезентироваться как бессознательное. Последнее же никогда не трактовалось как иной способ бытия, и его инаковость является не онтологической, а онтической. Как онтическое Другое сознания и горизонта человеческого существования, бессознательное порождает определенный класс ПАП и определенный тип структур личности и идентичности. Множество всех таких ПАП мы называем, по определению, Онтической топикой Антропологической Границы. Проявления, индуцируемые энергиями бессознательного, многочисленны и разнообразны; они служат предметом изучения в психоанализе и включают в себя комплексы, неврозы, психозы, мании, фобии и т.п. При антропологическом анализе нас интересуют, прежде всего, общие свойства, которыми эти проявления отличаются от ПАП из другого класса, отвечающего Онтологической топике. В широком смысле и в вольном словоупотреблении, можно сказать, что самое общее различие между двумя топиками заключается в замене онтологии топологией. Как показывают исследования духовных практик, в стратегиях, ориентированных к Инобытию, развивается особая динамика, представляющая собой спонтанное порождение строго упорядоченной серии динамических структур, или «энергоформ» (ступеней лестницы духовно-антропологического восхождения), которые отличны от обычных стабильных состояний конфигурации человеческих энергий. Что же касается проявлений, индуцируемых из бессознательного, то в них эта онтологическая динамика заменяется топологической. Это означает, что присутствие энергийного, или силового источника в том же горизонте бытия, однако за пределами горизонта сознания и опыта действует как топологическая аномалия: за счет влияния этого незримого, внеопытного источника, топология мира сознания и опыта перестает быть обычной топологией евклидова мира и делается какой-либо «неклассической» (впрочем, сам этот термин к топологиям не применяется): искривленной или многосвязной или дискретной и т.д. Это отражает, в частности, тот факт, что типические феномены, обусловливаемые бессознательным, именуются «паттернами» или «фигурами» («фигуры бессознательного» - термин Юнга), что указывает на их топологическую природу. Богатейшую базу для выявления и дескрипции топологической природы феноменов индивидуального и коллективного бытия предоставляет философия Делёза, декларирующая «топологическое мышление» и развивающая цельный философско-топологический дискурс с обширным арсеналом концептов необычного для философии рода (как то складка, стык, сгибание, изгиб, прореха, выворачивание, подкладка и т.д. и т.п.). Однако, используя этот арсенал, необходимо учитывать, что сам Делёз относится к топологическому мышлению с некритическим энтузиазмом, абсолютизирует топологическое видение реальности и зачастую игнорирует факт наличия целых сфер явлений и процессов иной природы, для которых такое видение неадекватно.
В составе Антропологической Границы, подобные не-топологические (про)явления не ограничиваются Онтологической топикой. Хотя фундаментальное отношение Человек – Другое (Другой) реализуется всего двумя способами, отвечающими онтологической и онтической репрезентациям Другого, тем не менее существует еще одна топика Антропологической Границы. Так происходит за счет того, что существует один (и только один) вид ПАП, для которых их предельность не связана с присутствием Другого; и эти ПАП суть феномены виртуальной антропологической реальности. По определению, любой виртуальный феномен не является актуальным, т.е. полностью актуализованным – а это, очевидно, значит, что он является недоактуализованным коррелатом – в этом смысле, спутником – определенного актуального феномена; так что, заимствуя физический термин, можно сказать, что всякий актуальный феномен окружен «виртуальным облаком», состоящим из всех его возможных недоактуализаций. Любая из этих недоактуализаций характеризуется отсутствием, недостачей каких-либо конститутивных свойств, предикатов соответствующего актуального феномена. Как вытекает отсюда, в виртуальных антропологических явлениях фундаментальные предикаты антропологической реальности испытывают изменения – и, по определению, это значит, что такие явления должны причисляться к ПАП. Множество всех таких ПАП мы называем Виртуальной топикой Антропологической Границы.
Три обнаруженные топики исчерпывают строение Антропологической Границы. В самом деле, феномены Границы могут конституироваться либо внешней (в вышеописанном философском смысле) энергией, либо, напротив, отсутствием структуростроительной энергии, необходимой для полной актуализации; внешняя же энергия есть, по определению, энергия Другого, которое может репрезентироваться как Другое онтологически или же онтически. Данные три ситуации соответствуют в точности областям онтологической, онтической и виртуальной Границы, и, как явствует из этого рассуждения, нет никаких иных областей, которые Антропологическая Граница могла бы включать в себя.
Затем мы обнаруживаем онтологическую бифуркацию между антропологиями Запада и Востока. Инобытие может иметь две противоположные реализации, соответственно, в динамической персоналистской или статической имперсональной парадигме; и отсюда, две реализации получает и Онтологический Человек. Указанные реализации Инобытия отвечают западному и дальневосточному типам мировосприятия и, в согласии с парадигмой размыкания, они обе выступают как производящие принципы для определенных типов личности и идентичности человека. В обоих случаях здесь конституируется тип, названный нами участной идентичностью и формирующийся в восхождении к мета-антропологическому телосу. Но мы специально подчеркнули, что основные свойства и структуры данного типа идентичности строго диктуются и определяются телосом; и, следовательно, телос, репрезентирующийся как Бог-Личность или же как имперсональный Абсолют (Нирвана или Великая Пустота, начало за пределами оппозиции бытия и небытия) должен конституировать различные типы личности и идентичности. В наиболее чистом виде, эти типы реализуются в соответствующих духовных практиках, каковы исихазм в западной личностной парадигме и тибетская Тантра или даосизм в восточной имперсональной парадигме.
Каковы же именно эти типы? Самым ярким образом в них сказывается формирующая роль телоса. Телос имперсональный – Абсолют, лишенный всякой динамики, всяких структур. В силу этого, ступени лестницы, возводящей – или, если угодно, низводящей – к нему, представляют собой энергоформы, всё менее и менее сложно организованные. Антропологические энергийные структуры последовательно демонтируются, размываются, растворяются; в неоплатонической мистике, также принадлежащей к имперсональной парадигме, этот процесс получил название упрощение. Методики подобных процессов базируются по преимуществу на медитации и созерцании, с постепенным отключением всех эмоциональных активностей – и предполагается, что в финале процесса личная идентичность и самосознание целиком исчезают, растворяясь. Как это формулирует одна из Йога-сутр Патанджали, при приближении к телосу (Самадхи), «самосознание лишается всякой собственной формы и целиком растворяется в сущности созерцаемого, где Бытие и Небытие неразличимы» (Сутра III.3).
В персоналистской парадигме, которая наиболее отчетливо артикулирована в христианской догматике, Абсолют репрезентирован как Пресвятая Троица Божественных Лиц-Ипостасей, способ бытия которых есть личное общение. Он обладает собственной внетемпоральной динамикой порождения и исхождения, которая наиболее адекватно передается византийским понятием (лат. circumincessio), буквальный смысл которого – «обходить по кругу», а смысл богословский – полный и совершенный, непрестанный, хотя и вневременной, взаимный обмен бытием между Лицами-Ипостасями: совершенное кругообращение бытия. Такой совершенный обмен бытием интерпретируется как любовь, связующая Ипостаси, и как их общение. Здесь возникает, таким образом, онтологическое тождество трех фундаментальных понятий: перихорисис – любовь (понятая как онтологический принцип) – личное общение; и это тождество может рассматриваться как сжатая, но, в известном смысле, полная характеризация персоналистской парадигмы для Инобытия. Можно сказать и иначе, проще: это тождество есть философское определение личности (но, разумеется, отнюдь не «индивида» классической метафизики!). Очевидно, что этим тождеством определяется и некоторый тип самоидентичности, который естественно назвать тринитарной самоидентичностью. Как уже было сказано, это – идеальная, абсолютная идентичность, реализуемая в полноте лишь исключительно (личностно репрезентирующимся) Инобытием. Что же касается эмпирического человека в горизонте наличного бытия, то им реализуется несовершенная участная идентичность, которая означает энергийное приобщение к тринитарной идентичности и формируется в восходящем духовно-антропологическом процессе. В противоположность структурам идентичности в имперсональной парадигме, в данном случае с приближением к телосу происходит отнюдь не растворение, а укрепление, наращивание, артикуляция структур идентичности (при этом, при существенном участии вовсе не отключаемых эмоциональных активностей) и рост отчетливости самосознания.
В духовных практиках восхождение к имперсональному телосу предполагает осознанное и намеренное, последовательно-планомерное и контролируемое растворение идентичности, которая на начальных стадиях была вполне развитой и артикулированной. Напротив, в виртуальных практиках идентичность недоразвита, недоактуализована изначально, и вовсе не подвергается какому-либо намеренному и контролируемому изменению (способности самоконтроля у Виртуального Человека более всего недоактуализованы и дефектны). Что же касается паттернов бессознательного, то каждый их вид представляет собой некоторый топологический феномен или эффект, имплицирующий определенный специфический дефект (деформацию, псевдоморфозу, усечение или иное нарушение) идентичности; так что возникающие здесь дефекты далеко не произвольны, а, напротив, могут быть систематизированы, классифицированы и сведены к типовым формам, которые служат симптомами соответствующих паттернов. Но в недоактуализованной идентичности Виртуального Человека, вообще говоря, любые элементы или структуры идентичности могут оказаться не актуализовавшимися. Иными словами, здесь возможны совершенно произвольные дефекты идентичности; и это означает, очевидно, что, сравнительно с Онтической топикой, в Виртуальной топике деструктивные и распадные тенденции в сфере идентичности человека принимают более глубокий, радикальный характер.
Заметим, что представленная антропологическая модель, предлагая определенное неклассическое решение проблем конституции человека, изначально интегрирована в сегодняшний философский контекст, в проблематику антропологии после смерти субъекта. Стоит указать в заключение также и некоторые вехи, интегрирующие ее в более широкий контекст философской и религиозной мысли. Бесспорно, наша модель может рассматриваться как некое современное развитие исконных интуиций православного персоналистского видения мира и бытия – а, более конкретным образом, исихастской практической антропологии. Однако исихазм мы прочитываем в феноменологической перспективе, как определенную практику себя, и мы воспринимаем его весть, его message, как, в целом, созвучные призыву Эдмунда Гуссерля: призыву к обращению или возвращению Zur Sachen selbst, к неукоснительной верности почве опыта. Верность же антропологическому опыту наших дней в его полноте и его подлинной природе исключает возможность осмысления этого опыта в форме классической метафизической или богословской системы или, скажем, системы в традиции русской религиозной философии. Несомненно и явственно, этот опыт отвечает какому-то радикально новому, максимально пластичному, меняющемуся и полифоническому образу Человека – Человека, который способен выбирать ошеломляюще различные сценарии самореализации. И очень важно, что видение, направляемое древними православными и исихастскими интуициями, не противоречит такому образу. Никогда это видение не было абсолютистским и никогда не соответствовало кантовской религии долга, Pflicht, что предоставляет человеческому существу единственную возможность – подчиняться Нравственному Закону и продвигаться к Высшему Благу. «Если захочешь погибнуть, никто тебе не противится» – гласит классический исихастский текст.
Итак, альтернативные сценарии всегда допускались здесь; и наша модель дает их явную реконструкцию, базируясь на ключевом наблюдении, что древняя парадигма синергии, или же антропологического размыкания, может быть заново продумана и обобщена – с тем, чтобы, включив в себя новые способы размыкания, стать универсальной динамической парадигмой конституции человека. Как мы обнаруживаем, базовые свойства и предикаты способа человеческого существования таковы, что человек оказывается плюралистичен на более глубоком уровне, нежели просто возможность множества различных сценариев самореализации. Уже на уровне базовых структур своей конституции, Человек есть, если угодно, сообщество. Правильней говорить, что вместо единого «человеческого существа» (каким всегда философия представляла Человека), существует «антропологическое пространство», в котором актуализуется набор существ, имеющих фундаментально различную конституцию личности и идентичности, но при этом совершающих всевозможные и непрестанные взаимопревращения. Онтологический Человек, реализующий парадигму христоцентрического обожения или же парадигму Калачакра Тантры, есть одно из таких существ – но он не один в антропологическом пространстве. Топологический Человек, реализующий паттерны бессознательного, есть одно из таких существ – но он не один в антропологическом пространстве. И так далее. Весь набор, образующий «сообщество Человек», объемлется собирательным концептом Антропологической Границы. На базе этого концепта, модель наделяется своими эпистемологическими методиками. Вот первая и основная из них: изучение всякого антропологического феномена должно начинаться с антропологической локализации, т.е. с установления того, к какой из топик Антропологической Границы принадлежит данный феномен.
Во всех энергийно-синергийных моделях такого типа, одна из главных проблем – описание антропологической эволюции: в любой период истории, мы фиксируем преобладание определенных антропологических формаций; и встающая проблема: проследить и понять смену этих преобладающих формаций, – имеет и теоретическую, и практическую важность. Здесь мы расходимся с Делёзом: антропологическая эволюция представляется в двух моделях чрезвычайно по-разному. Сочетая идеи Фуко и Ницше и не погружаясь в историю глубоко, Делёз выделяет лишь три формации, сменяющие последовательно друг друга: «форма-Бог», конституируемая «силами возвышения к бесконечному» (17 и 18 вв.), «форма-Человек», конституируемая «силами конечности», в качестве которых выступают Жизнь, Труд и Язык (с 19 в.), и наконец, «форма-Сверхчеловек», которая пока только зарождается и предположительно будет конституироваться силами «конечного-неограниченного» (fini-illimité), которые присутствуют, например, в компьютерных чипах, элементах генетического кода и аграмматических структурах (des agrammaticaux) в текстах модернистской литературы.
Что же до нашей модели, то она представляет антропологическую эволюцию (в крупном, без учета гибридных топик) как последовательный переход от Человека Онтологического, через промежуточную формацию «Человека Безграничного» (который определяется отсутствием, вытеснением отношения к Антропологической Границе и приблизительно соответствует – как по структурам конституции, так и по эпохе господства – «форме-Бог» Делёза), – к Топологическому Человеку (20 в.) и затем далее к Виртуальному Человеку. За этой эволюцией обнаруживается вполне определенная динамика, и это – динамика последовательного спада, убывания формостроительной, творческой энергии человеческого существа. Из наших рассуждений, эта динамика спада видна на примере идентичности: описывая Онтическую и Виртуальную топики Границы, мы специально демонстрировали и подчеркивали ущербный характер их структур идентичности, причем было указано и то, что такой характер усугубляется с переходом от топики Онтической к Виртуальной.
Без сомнения, Виртуальный Человек – никоим образом не Сверхчеловек. Как аргументируется в моих работах, вследствие вторичной и привативной природы виртуальной реальности, все более полный переход в Виртуальную топику влечет за собой развертывание сценария эвтанасии для человечества. Поэтому оценки антропологической ситуации и перспективы в двух неклассических моделях разнятся, мягко говоря, заметным образом. Тем более интригует наше будущее, за которым остается последний выбор.
Идея Совершенного человека - гораздо более, чем идея. На протяжении многих эпох, во многих меняющихся формах это один из движущих мотивов и регулятивных принципов в жизни разнообразнейших традиций, обществ, культур.
Она отражалась глубоко и на сознании отдельного человека, и на характере социальных структур, и на их деятельности. Но вместе с тем нельзя все же отнести ее к числу всецело универсальных антропологических идей и полагать непременной, неустранимой частью представлений человека и человечества о самих себе. Иным эпохам и обществам, иным направлениям мысли она была совсем и несвойственна; чтобы не ходить далеко, заметим, что именно таким оказалось и наше время, эпоха эгалитарных демократий. Демократия - сообщество принципиально несовершенных граждан и не притязающих на совершенство правителей. Ведь если Совершенные есть - следует их найти и полностью вверить им все бразды - и уж это будет отнюдь не демократия, не так ли? Бердяев и многие антиутописты сближают совершенство с тоталитарной утопией. Или можно спросить: совместима ли с совершенством и с устремлением к нему - идея толерантности, столь дорогая либеральному гуманизму? Итак, для господствующих сегодня воззрений, идея Совершенного человека не только далека, но даже и подозрительна. - Что же? Тем более интересно вглядеться в эту идею, найти кроющиеся в ней онтологические и антропологические предпосылки, понять, как и отчего в долгой своей истории она то с силою утверждалась, выходила на первый план, то вызывала сомнения, меняла форму, а то и с не меньшей силою отвергалась. Настоящий текст будет посвящен отношениям идеи с одной определенной духовной традицией - традицией православного исихазма. Но, разбирая этот конкретный исторический пример, мы с неизбежностью затронем и многие общие проблемы.
Обычное, обыденное значение слова «совершенный» применительно к эмпирическим предметам есть значение превосходной или даже как бы предельной степени. Вещь, или явление, или предикат (как то: умение или владение чем-либо) могут быть хороши, отличны, превосходны или, наконец, совершенны. Это означает, что по природе своей они допускают различия, градацию по ступеням или степеням и допускают изменение, переход меж ними; причем диапазон различий не безграничен, и возможные градации имеют некоторый предел, коим и служит «совершенство». Понятие также имеет ярко выраженный ценностный аспект: ступени, ближе стоящие к пределу, - предпочтительней, они больше и полнее наделены некими желаемыми, ценными качествами. Само же совершенство есть полнота, абсолютное воплощение этих качеств. Вообще говоря, оно не обязательно имеет характер зримого, наглядного образа, но обязательно является определенным, интеллигибельным. Это не апофатическая, а катафатическая категория: совершенство - всегда совершенство чего-то, конкретно выраженного.
В совокупности все эти семантические компоненты совершенства приводят к очевидному выводу о его философской природе: совершенство следует рассматривать как идеал. Поэтому, как и для всякого идеала, особую проблематику порождает вопрос о его достижимости и достижении. Вопрос этот не имеет единственного решения. Идеал, как известно, допускает абстрактную кантианскую трактовку, оставляющую за ним лишь регулятивную роль и отнюдь не предполагающую его достижения; но допускает и противостоящую ей гегелевскую, согласно которой он реализуется в развитии. Соответственно возможны и разные позиции относительно достижимости совершенства, заключенные в диапазоне между этими классическими трактовками.
Дальнейшее углубление в понятие совершенства может доставить этимология. Греческие термины означающие понятия «совершенный» и «совершенство», являются производными от термина - цель, завершение, и эту же связь - ибо в церковнославянском греческое слово «телос» переводилось как «верх» - сохраняет русское слово, перешедшее из церковнославянского; латинские perfectus, perfectio производны от fасеrе с предлогом реr, - что может трактоваться как «сделанное, исполненное до конца, всецело». Очевидным образом, все эти этимологии ориентируют на телеологическую трактовку понятия: совершенство может пониматься в смысле полного соответствия или полной осуществленности некоторой цели, полной завершенности, воплощенности некоторого замысла. Это один из главных аспектов, фигурирующий почти во всех концепциях совершенства, а всего более акцентированный и разработанный у Аристотеля. По Стагириту, совершенство сущего есть полная достигнутость внутренней цели, заложенной в его природе; в свою очередь, эта природная цель заключается в осуществлении, актуализации всех потенций, которыми наделено сущее; так что «совершенное» понимается как полностью и всецело актуализованное. Эта трактовка была прочно воспринята европейской метафизикой и воспроизведена во многих ее учениях. Так, у Фомы Аквинского в Большой Сумме утверждается, что «Сущее совершенно постольку, поскольку оно осуществлено», а Спиноза в «Этике» дает следующую лаконичную дефиницию: «Под совершенством... я буду понимать реальность». (Ясно, что это понимание совершенства влечет за собою умаление реальности греха и зла: чтобы не пришлось считать совершенством предельные злодеяния и пороки, необходимо принять, что существуют одни благие потенции, а грех и зло суть лишь следствия недостачи, слабости некоторых из них, чисто привативные феномены. Такой взгляд, выдвинутый уже в патристике и последовательно проводимый у Августина, затем через Декарта и Лейбница - чью концепцию совершенства пародировал в «Кандиде» Вольтер - перешел в новоевропейскую философию и остался господствующим в ней.) Далее, столь же общераспространенным подходом к совершенству является эстетический, также утвердившийся уже в античности и обладающий еще большею древностью, нежели телеологический подход: его можно проследить вплоть до пифагорейцев. Эстетическое понимание совершенства связывает его с принципами гармонии, лада, упорядоченности, с соразмерностью строения и формы; оно также утверждает, что с совершенством несовместимы любые разнородность и разнобой, асимметрия, недовершенность... Пройдя через всю историю европейской мысли, в Новое Время эта концепция включается в основы классической философской эстетики Лессинга и Винкельмана; так, согласно последнему, «совершенство есть возвышенная и гармоничная форма». И наконец, начиная с Платона, эстетический аспект дополняется этическим: совершенство утверждается как причастное Благу и само Благо. Данный аспект не только закрепится, но и получит первенствующее значение в христианскую эпоху, а его взаимоотношения с эстетическим идеалом станут предметом бесконечной рефлексии, колеблющейся от полного совмещения двух принципов (в Аристотелевом идеале калокагатии, нравственной красоты) до их полного разведения и противопоставления (у романтиков, Кьеркегора и многих прочих, включая Митю Карамазова). Напротив, для античного сознания все названные аспекты были не только не противоречащими друг другу, но взаимно необходимыми сторонами единого и цельного совершенства: идеал телеологический, Цель, опознавался как Благо и совпадал с этическим; будучи же не частной и преходящей, а идеальной, Цель в полноте своей осуществленности виделась одновременно и как эстетический принцип, Красота.
Идеальная природа совершенства, дополняясь полнотою его бытийности (обеспечиваемой его телеологическим аспектом), подводит к его сближению с божественным началом, высшим бытийным принципом. И неизбежно такое сближение возникает, едва у элейцев, и в первую очередь у Парменида, впервые формируется отчетливое представление о таком принципе. Бытие Парменида, Абсолютное Благо Платона и неоплатоников, Бог христианской схоластики и метафизики, начиная уже с Боэция, - всем этим началам тем или иным образом принадлежит совершенство, хотя точный характер и этой принадлежности, и самого совершенства может быть очень разным, а порой и не очень определенным.
Разобрав таким образом понятие совершенства, мы не получаем еще, однако, ответа на вопрос: приложимо ли это понятие к человеку? Ответ требует конкретизации антропологической позиции: в зависимости от принимаемых положений о природе человека, о его «назначении» (если подобный концепт вводится), он может быть и положительным, и отрицательным, а также более сложным, не сводящимся к простому «да» или «нет». Различные варианты ответа, известные в европейской мысли, тесно связаны с ее конкретными духовными традициями и историческими этапами.
Со времен глубокой архаики для эллинского сознания не было сомнений, что человеку доступно техническое совершенство: он может быть совершенным исполнителем, высшим мастером в определенном ремесле или искусстве, профессии или общественной функции. Но достаточно рано возникло и отличение «человека, взятого в частной функции», от «человека, взятого самим по себе», человека как такового; возникло представление об особой всеобщей сути или природе человека - зачаток антропологической концепции. «Природа человека» связывалась с его «душой», и также на достаточно раннем этапе интуиции совершенства и совершенствования (достижения совершенства, приближения к совершенству) начали прилагаться к этой природе или душе. При этом, в силу идеального характера совершенства, его достижение душой мыслилось прямо затрагивающим отношения человека с миром богов и превышающим рамки эмпирического существования. Иными словами, обретение душой совершенства изначально получало выраженный религиозный и мистический аспект.
Первый в европейской культуре развитый комплекс представлений о совершенстве человека и пути к нему был создан орфическою традицией около V в. до н.э. (впрочем, как считалось с древности и как писал еще Геродот, эта традиция заимствовала многое у пифагорейства; но истинная мера заимствования и преемства с трудом поддается сегодня научной оценке). Орфическая доктрина, развернутая в обширный, сложный конгломерат верований, мистериальных обрядов и мистико-философских текстов, утверждала, что в человеке подспудно и заглушенно таится бессмертное божественное начало, частица божественной природы, и человек наделен высшим призванием освободить эту частицу, дав ей воссоединиться вновь со всею стихией божественного. Исполнением призвания служит путь очищения, куда входят мистические обряды и аскетическая практика, в совокупности слагающиеся в особый образ и способ существования, «орфическую жизнь». Весьма существенно, что путь к совершенству - как это было еще у пифагорейцев - предполагает также познание, обретение мудрости; достижение совершенства души требует совершенствования разума. Этот интеллектуальный мотив, крайне характерный для эллинского сознания, станет одним из самых дискуссионных, напряженно обдумываемых и пристрастно обсуждаемых во всей дальнейшей истории идеи человеческого совершенства. Роль разума в идеале совершенного человека и на пути к этому идеалу - один из основных спорных пунктов, размежевании между Афинами и Иерусалимом, эллинской и иудео-христианской традициями.
Соединив орфико-пифагорейские влияния и темы с идеями Парменида и сократовым положением о тождестве блага и познания, Платон строит первую философскую концепцию совершенства и человеческого совершенствования. Начиная с «Федона», он резко разделяет тело и душу, телесное и душевно-духовное начала в человеке и тем основывает линию дуалистической антропологии, важную и влиятельную на всем протяжении истории европейской мысли. Согласно этой платонической антропологии (заметим в скобках, что онтологии Платона, в отличие от антропологии, присущ не дуализм, а монизм, как обосновывал и подчеркивал А.Ф.Лосев), душа причастна миру идей, она божественна и вечна - или, по крайней мере, непреходяща, ибо платоново понятие вечности довольно темно; она есть принцип формы, проста, неделима.
Раскрывая, что означает уподобление богу, Платон, как мы можем видеть, усиленно подчеркивает роль разума и вслед за ним - нравственного начала, т.е., в терминах Канта, также разума, но практического. Напротив, о теле и плоти он говорит всегда мало, хотя совершенство души требует их преодоления, освобождения от них. За этим обстоятельством стоят сразу две особенности пути совершенства и очищения по Платону. Во-первых, здесь проявляется общая закономерность, открытая независимо мистиками и аскетами во многих традициях: для духовного пути имеют большую важность позитивные, а не негативные устремления, положительные, а не отрицательные задачи. Путь к совершенству у Платона включает определенные установки по отношению к телесному началу (отказ от потакания телу и его склонностям, отрицание их нравственной ценности и т.п.), но вовсе не выдвигает их на первый план и не заостряет - не требует крайностей аскезы, поста, умерщвления плоти... Стихия телесного и отношения с нею скорее отодвигаются как нечто неважное, не стоящее внимания; а то, что стоит внимания - и это вторая особенность - связано прежде всего с разумом и познанием. Эта особенность уже не универсальна, но специфична для эллинского миросозерцания, а позднее - для опирающейся на него секуляризованной новоевропейской метафизики. Божественным началом в человеке здесь утверждается разум, и путь совершенства - путь самоутверждения разума в познании. Такой путь должен начинаться с подготовки, формирования разума, и потому лишь на поверхностный взгляд странно, что у Платона столь крупное место занимает педагогическая тема, тема о «философском воспитании» и воспитании вообще, о наставниках и учениках... Здесь характернейшая черта греческого сознания как сознания культурного раг ехсеllеnсе: его культивирующая, прорабатывающая, возделывающая установка по отношению к человеку и окружающему миру.
Часто делают замечание, что высшие ступени духовного пути в описаниях представителей самых разных традиций, мистических учений и школ предстают близкими и почти идентичными. Как мы сейчас убедимся, это стандартное замечание можно признать справедливым лишь с большой оговоркой. Платон, а за ним и неоплатоники, рисуя путь совершенства как путь познания, подчеркивают, что истинное познание вовсе не совпадает с обычным познанием эмпирического мира посредством чувственных восприятий; напротив, оно предполагает отвлечение от чувственного мира и направляется к созерцанию мира умопостигаемого. И здесь нас действительно встречает элемент высочайшей степени универсальности: трудно было бы указать учение или школу духовного опыта, где искомым духовным состоянием не утверждалось бы созерцание. Равно универсален и следующий элемент: повсюду и неизменно созерцание понимается не как дистанцированное оглядывание, но как актуальное соединение с созерцаемым, осуществляемое не чувственным зрением, но некою иной, высшей способностью. И все же это еще не конец темы. Мистическое созерцание-соединение имеет два рода, существенно различающиеся, и это различие - наличное, вопреки обсуждаемому взгляду, на самой вершине духовного пути, - проводит глубокую границу, водораздел между духовными традициями, оставляя от всех по другую сторону - христианство. Ибо лишь в этой единственной традиции мистическое созерцание одновременно оказывается личным общением, а духовный путь строится как диалогический процесс: расширяющееся и углубляющееся взаимодействие двух личностных центров. Ниже мы еще вернемся к этим кардинальным отличиям.
Как и во множестве других сквозных тем в истории европейской мысли, в теме о совершенстве и совершенном человеке Платон - узловая фигура: фокус, где сходятся почти все (но все-таки лишь почти!) ключевые идеи и мотивы, как из эллинского прошлого, так и из христианского будущего. «Кто такой Платон, как не Моисей, говорящий на аттическом наречии?» - вопрошал во II в. платоник Нумений, а вскоре следом за ним - христианин Климент Александрийский; риторический вопрос недвусмысленно утверждал за «аттическим Моисеем» роль объединителя двух, - а точнее даже и трех, - великих традиций. Но еще прежде чем дать идейную базу для философского осмысления иудаизма, а затем и христианства (не забудем, впрочем, что адекватность этой базы множество раз оспаривалась), мысль Платона внесла богатый вклад практически в каждую из последующих античных школ: Аристотеля, стоиков, даже эпикурейцев, не говоря, разумеется, о неоплатонизме.
Конечно, решая тему о совершенстве и совершенном человеке, Аристотель отбрасывает столь важный элемент платоновской концепции, как идею Блага. Вот базовая дефиниция, которую дает Стагирит, отводя совершенству отдельную статью в своем «философском словаре», Пятой книге «Метафизики»: «Совершенным называется (1) то, вне чего нельзя найти хотя бы одну его часть ... (2) то, что по достоинствам и ценности не может быть превзойдено в своей области ... (3) законченным называется то, что достигло хорошего конца: оно закончено потому что у него конец... И конечная цель есть конец» (Меt 1021 b12 - 29). Вперед здесь выдвигается, как мы уже говорили, телеологический принцип, совершенство как осуществленность внутренней цели; и в этике Стагирита мы находим, что в качестве последней для человека утверждается «счастье». И все же каркас концепции сохраняется. Существо Аристотелевой «эвдемонии» - деятельность разума, и это деятельность особого рода, «спекулятивная», что видится не столько действием и движением, сколько покоем созерцания. Предмет же созерцания должны составлять вещи божественные - и так близость к Платону восстанавливается. Принимается у Стагирита и идея максимального уподобления богу. Дальше от платоновской основы отходят эпикурейцы. Вместе со всею их философией их концепция совершенства и совершенного человека необычно для античного и особенно позднеантичного мира упрощена, плоскодонна; но именно оттого она и заслуживает некоторого внимания. Это первая полностью секуляризованная, безрелигиозная концепция в нашей теме. Эпикуреизм не отвергал богов, однако ни совершенство человека, ни путь к этому совершенству, по эпикурейским воззрениям, никак и ничем не были связаны с существованием богов. Здесь вовсе не утверждалось, что достижение совершенства есть приближение к богу или выполнение божественного предназначения. Взяв идеал эвдемонии у Аристотеля, Эпикур сделал содержанием этого идеала принцип наслаждения. Вопреки столь частым вульгарным либо пристрастным толкованиям, этот принцип значил отнюдь не стремление к чувственным наслаждениям, но свободу от страха и страдания, выражаемую знаменитым позднеантичным понятием атараксии - отрешенности, невозмутимости, безразличия. Действительное существо эпикуреизма - не в культе чувственных устремлений, но в некоем редуцированном, урезанном понимании человека, своего рода мини-антропологии, где не только иное человеку, божественное, не играло никакой роли, но и вся сфера мысли, разума и познания сводилась к служению бытовому идеалу тихой уединенной жизни, в довольстве малым и в безразличии ко всему. В полном соответствии с этим во всей позднейшей европейской культуре прямым наследником эпикуреизма оказывается лишь утилитаризм.
Еще одним продвижением в направлении христианской антропологии было отчетливое тяготение стоицизма к универсальной идее человека, идее единой, всеобщей человеческой природы, не связанной ни с какими национальными, сословными или иными эмпирическими различиями между людьми. Отрицание всякой ценности и значения за такими различиями - обычный стоический мотив. Обратиться и стать совершенными, мудрецами равно могут грек, римлянин, варвар, патриций, раб... - и выразительным практическим доказательством этого было то уже, что двумя крупнейшими фигурами позднего стоицизма были раб Эпиктет и император Рима Марк Аврелий.
Стоит, однако, указать, что само ядро стоицизма, идеал атараксии, лишь в очень ограниченной мере приближался к будущим христианским представлениям. Он был слишком тесно связан с дуалистическим типом антропологии, чуждым христианству. Если в антропологии христианства, наиболее чисто, аутентично представленной в мистико-аскетической традиции, обсуждаемой ниже, путь духовного восхождения связывается с достижением полной подвластности, управляемости чувственно-эмоциональной сферы - так, чтобы человек был способен «преложить от дурного на доброе» все в ней зарождающиеся импульсы и движения, - то стоицизм стремился не к преложению, а к отсечению, умерщвлению всей этой сферы: не к добрым чувствам, а к абсолютному безразличию и бесчувствию. Ключевое и центральное для христианства начало любви попросту отсутствовало в арсенале стоических понятий.
Еще отчетливее, чем в стоицизме, черты переходного явления между античностью и христианством выступают в воззрениях Филона Александрийского. Средоточие позднеантичного синкретизма, александрийская культура в своем общем подходе может быть вольно охарактеризована как применение греческой метафизики к истолкованию и осмыслению разнообразных восточных культов и мистических школ. Филон ставил подобную задачу применительно к религии Ветхого Завета, иудаизму; и как опыт сопряжения, синтеза «Афин» и «Иерусалима» итоги его усилий не могли не оказаться в тесном родстве со вскоре явившимся опытом этого же синтеза в христианстве. Эти особенности его ситуации в полной мере обнаруживают себя и в теме о совершенстве, где мы встречаем причудливое переплетение платонических, стоических и иудейских мотивов. Разумеется, путь к совершенству здесь - путь к Богу; Бог же - библейский Яхве, наделенный одновременно и чертами бога по Платону и Пармениду. Путь начинается с веры, которая утверждается - по иудейской традиции, но в полном расхождении с греческой, где вера всегда занимала относительно незаметное и невысокое место, - «царицей всех добродетелей». Следующая ступень - уничтожение страстей души. Последние выстраиваются в иерархию, где худшей, опаснейшей служит гордость: Филон трактует ее как стремление сравняться с Богом. Дальнейшая ступень - отрешенность от телесного, которая заключается, по Филону, не в крайностях аскезы, а в обретении безразличия ко всему, связанному с телом и плотью. Обе эти ступени отражают явное влияние стоиков; но, в отличие от стоиков - и в согласии с платониками, - Филон далее мыслит еще одну, высшую ступень - созерцание Проявлений, или же «Сил», Бога, главная из которых - Логос, Слово. Также в отличие от стоиков, концепция Филона не является универсалистской, но несет элемент эзотеризма и избранничества: путь к совершенству не мыслится открытым для всех. И, в отличие уже от всей греческой античности, человек не считается способным достичь завершения пути одними собственными усилиями. По своей природе и сути совершенство - дар Бога, посылаемый человеку, однако в ниспослании этого дара известная роль принадлежит и человеческому усилию: дар посылается лишь достойным, и человек должен стремиться стать таковым. Здесь мы можем увидеть первый отдаленный прообраз идеи синергии.
В кругу понятий и представлений христианства совершенство присутствует изначально. Откроем «Симфонию» к Новому Завету, и она скажет нам, что в синоптических евангелиях нет существительного «совершенство» и всего в двух случаях, у Матфея, употреблено прилагательное «совершенный». Но оба случая крайне важны: это слова Христа, из тех, что во все эпохи служили и указанием для верующих, и предметом мысли для богословов и философов. Речь Евангелия о совершенстве открывается обращением Нагорной Проповеди: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный» (Мф. 5,48); и затем, уже уча в Иудее, богатому юноше Христос говорит: «Хочешь быть совершенным, пойди, продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, и следуй за Мною» (Мф. 19,21). Это все; и еще однажды, согласно Евангелию от Иоанна, Спаситель говорит о совершенстве на тайной вечере: «Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино» (Ин. 17,23). Синодальный перевод уверяет нас, что «совершенный» употреблено у Иоанна еще трижды (в трех почти идентичных местах, говорящих о «совершенной радости», (Ин. 15,11; 16,24; 17,13), однако вводит в заблуждение: во всех этих местах греческий оригинал говорит не о совершенстве, а о полноте. Но в Посланиях о человеческом совершенстве говорится значительно больше и чаще; и уже явственно можно выделить основные аспекты и грани того содержания, какое апостолы вкладывали в это понятие.
Начнем, впрочем, с ограничивающего замечания. Также и в Посланиях совершенство и совершенный человек не ставятся в ряд центральных понятий христианской антропологии. Они не входят в число ключевых терминов и выражений, какими апостолы передают то главное и специфическое, что приносит Благая Весть. Этот специфический элемент христианской вести о человеке выражает прежде всего другая формула: новый человек. Радикальная новизна открывшейся жизни во Христе; уход, удаление, разрыв с прежним, «ветхим» человеком и всей «ветхой» жизнью, обращение и переворот, совершившиеся в человеческом существовании, - вот лейтмотив первохристианского мироощущения, и всего полнее и органичней этот мотив могли выразить именно такие слова, как «новый человек» и «новая жизнь» (ср. также «новая тварь» (2 Кор. 5,17 и др.), «новое небо и новая земля» (2 Пет. 3,13 и др.) и т.п. Однако эти моменты новизны, разрыва, переворота, стоявшие на переднем плане для первохристианства, слишком мало и слабо были (если вообще были) представлены в семантике «совершенства» и «совершенного человека». Это - «спокойные» понятия, пришедшие из круга античного миросозерцания с его олимпийской уравновешенностью, и в новозаветную эпоху неоплатонизм еще не внес в них мотива напряженной и ностальгической тяги к Единому. Поэтому они не занимают в Новом Завете большого места. И все же разница между «новым человеком» и «совершенным человеком» в новозаветном дискурсе - скорее в тональности и расстановке акцентов, нежели в существе содержания. Не ставя в центр совершенства, не уделяя даже ему особо заметного внимания, этот дискурс тем не менее так толкует и применяет его, что оно явно оказывается входящим в арсенал тех понятий, посредством которых утверждаются новые, аутентично христианские позиции в онтологии и антропологии.
По канонической философской методике мы приступим к разбору новозаветного понятия совершенства с помощью проведения различий: увидим, как соотносятся в нашей теме «новое» и «ветхое». Как только что упомянуто, понятия совершенства и совершенного человека - из греческого ареала. Ветхий Завет практически не употребляет их. Отыскивая же какие-либо близкие или аналогичные понятия, мы находим две антропологические категории, которые более всего можно считать коррелятивными, сопоставимыми с «совершенным человеком»: «избранные» и «праведники». Но в случае первого понятия мы быстро обнаруживаем и существенные отличия от идеи совершенства. Избрание - акт воли Божией, который принципиально непостижим, неисповедим, лежит вне логического, этического или какого угодно обоснования; наоборот, он сам полагает основание всему: «Кого изберет Господь, тот будет свят». (Числ. 16,7).
Человеческие свойства и качества «избранного» - Авраама, Соломона, Давида... - могут иметь, а могут и не иметь отношения к его избранию и избранничеству: того нам не дано знать, и потому эти свойства и качества не поддаются никакому анализу и не подлежат никакому закону, - а собственно, даже и обсуждению. «Избранные Богом» составляют выделенный род, члены которого не сопоставляются и не сравниваются с другими людьми, они выделены не по каким-то признакам и заслугам. Основание их статуса - исключительно в отношении Бога к ним, но не в их (со)отношении с другими людьми. С совершенством же - абсолютно иначе. Как мы говорили вначале, совершенство - «превосходная степень», и понятие совершенного человека раскрывается именно через сопоставление, соотнесение «совершенного» с другими людьми. Всегда законен и даже необходим вопрос: в чем именно, в каких свойствах заключается совершенство «совершенных»? В ответе на данный вопрос и эксплицируется конкретная концепция совершенства. И лишь применительно к совершенству, но никак не к избранничеству, возможно говорить о «достижении» его или о «пути» к нему. Итак, избранничество и совершенство - понятия разных семантических рядов, обозначающие два различных рода выделенности человека. Такими различными они и существуют в Новом Завете, куда идея Богоизбранности перешла и укоренилась органически. Но это не исключает возможности их переплетения и взаимодействия в конкретных темах; и, как мы далее увидим, такое взаимодействие действительно возникает при описании пути к совершенству. Необходимый и первенствующий элемент на этом пути - благодать, и в семантике данного понятия присутствует явственный элемент избранничества. Благодать - дар, а дар дарится тому, кого изберет даритель; и в полном согласии с этим Новый Завет употребляет выражение «по избранию благодати» (Рим. 11,5).
Напротив, в понятии «праведника» нетрудно признать действительный и довольно близкий аналог «совершенного человека». Ветхозаветная «праведность» отсылает к правосудию и закону: она означает правоту, оправданность человека перед правым (истинным, справедливым) судом, что судит по данному от Бога Закону. Тем самым праведник (Ной, Иов) есть безупречный, совершенный исполнитель Закона: совершенный ветхозаветный человек; а праведность есть «ветхозаветное совершенство». Но здесь же начинаются и отличия. Старое, ветхозаветное совершенство человека не может вполне совпадать с новым, возвещаемым Благой Вестью. Новое, евангельское совершенство, в чем бы оно конкретно ни заключалось (об этом речь ниже), отсылает ко Христу, и быть совершенным теперь означает быть «совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1,28). Такого совершенства заведомо не может обеспечить одно лишь следование Ветхому Завету и его Моисееву Закону, и потому Павел говорит: «Закон ничего не довел до совершенства» (Евр. 7,19). Итак, «ветхозаветное совершенство», выражаемое понятием праведности, более слабо и недостаточно по сравнению с новым «совершенством во Христе», и праведник, вообще говоря, еще не является совершенным. Следует только уточнить, что все сказанное относится именно к ветхозаветным понятиям праведности, праведника и т.п. Однако в Новом Завете эти понятия переосмысливаются, переводясь из дискурса закона в отличаемый от него дискурс веры. (Особенно явно и определенно это делает Павел в Послании к Римлянам, гл. 4-6, где, в частности, им вводится новое понятие «праведности веры» - или «от веры», «через веру» - отличаемой от исполнения Закона.) Будучи же таким образом христианизированы, они сокращают дистанцию, отделяющую их от «совершенства во Христе», и Новый Завет нигде явно не противопоставляет эти два ряда понятий.
В качестве своеобразного «промежуточного пункта», середины между ветхозаветными и новозаветными, иудейскими и христианскими представлениями о праведности и совершенстве может рассматриваться учение ессеев, кумранской общины. Концепция совершенства, связываемого в первую очередь с праведностью, стояла у кумранитов в центре и явственно соединяла в себе старые и новые элементы; сакральный глава общины именовался «Учителем праведности».
Рассматривая новозаветные высказывания о совершенстве и совершенном человеке, мы замечаем вскоре, что Новый Завет до крайности лаконичен в том, что касается конкретного содержания идеала совершенства. На первый взгляд, его описанием могут показаться уже приводившиеся слова Спасителя богатому юноше (Мф. 19,21) - но, перечтя, мы поймем, что говорится в них не о совершенстве и даже не о пути к нему, а только о том, как можно стать на таковой путь. Имеется всего лишь одно вполне определенное суждение: «Любовь есть совокупность совершенства» (Кол. 3,14). Оно очень важно, ибо заставляет нас без колебаний отнести «совокупность совершенства» - совершенство в его полноте - к горизонту божественного бытия: в новозаветном дискурсе любовь - божественное начало, одно из имен Божиих (1 Ин. 4,8). Другой элемент конкретности дает также уже приводившийся стих (Ин. 17,23): «Я в них... да будут совершены воедино». Смысл его, увы, уже не столь ясен, но все же мы можем видеть, что в достижении совершенства наличествует некий сверхиндивидуальный, соборный или церковный аспект, оно предполагает собирание усовершающихся или усовершаемых в единство.
С этою сдержанностью, уходом от явного описания логически согласуется другая заметная особенность, которую можно, пожалуй, счесть даже главной, определяющей чертой новозаветной речи о совершенстве. Новый Завет почти никогда не говорит о совершенстве - «в совершенном виде», как о чем-то уже обретенном и наличном; оно неизменно выступает как искомое, предмет устремлений или цель, указуемая апостолом, - причем эти стремления или эта цель не столько ближайшие, конкретно-практические, сколько имеющие характер духовной установки, принципиальной ориентации. Тексты о совершенстве довольно немногочисленны; мы приведем сейчас основные из них, и будет легко увидеть, что все они именно такого рода: «Братия, поспешим к совершенству» (Евр. 6,1); «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф.4,13); «Епафрас... подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны» (Кол. 4,12). Еще в одном месте своих посланий Павел говорит об этой принципиальной недостигнутости совершенства несколько детальней и глубже: «Я не почитаю себя достигшим, а только... стремлюсь к цели... Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить... Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя... Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его» (Флп. 3,13-21). Здесь, в христианском понимании совершенства, нам открывается своеобразная мистическая диалектика: совершенство христианина в том, чтобы «не почитать себя достигшим» совершенства! И тут же апостол разъясняет, отчего это так: оттого, что истинной целью является для христианина «жительство на небесах», когда естество его будет преображено сообразно Телу Христову, - а истинным совершенством человека можно считать, разумеется, лишь совершенную достигнутость его истинной цели.
Последний текст Павла можно полагать ключевым для нашей темы о совершенстве. Насколько это вообще в принципе возможно, он дает нам увидеть, что же такое христианское «совершенство во Христе Иисусе». Но надо с предельным вниманием и тщанием прочесть апостольское свидетельство. Мы увидим, что с полною определенностью здесь сказано одно только: исполнение, последний и завершающий итог духовного пути - в ином, божественном образе бытия. Было бы неверно решить, что о том, каков этот образ бытия, апостол здесь тоже сообщает нечто определенное, дает дискурсивное описание на языке здешней вещественной действительности. Нельзя использовать его слова, чтобы «реконструировать», что же есть «жительство на небесах» или преображение уничиженного тела сообразно Телу Христа. Здесь начинается другой язык, не имеющий буквального, прямого прочтения. Однако и сказанное с определенностью очень значительно. В нем заключены два момента, которые в совокупности намечают новую линию в трактовке совершенства, новую цельную концепцию, что будет впоследствии подхвачена и развита (хотя и в немалой степени имплицитно, косвенно) в мистико-аскетической традиции Православия.
Мы видим, во-первых, что христианское понятие совершенства связано с определенною онтологией, картиной бытийных представлений. В этой связи имеются и простые, почти очевидные, и более глубокие, даже таинственные моменты. Христианская онтология утверждает резкую границу между совершенным бытием Божиим и несовершенным бытием человека, твари, приписывая последнему даже двойное несовершенство: печать тварности, или оначаленность, и печать падшести, или оконеченность. Но, по классической античной трактовке, главный предикат всего совершенного - суверенность, самодостаточность, ненуждаемость ни в чем за пределами себя самого. Человек же, уже в силу своего «первого несовершенства», тварности, обладает не собственным, а лишь заимствованным бытием, наделяясь им от Бога, - и потому «человеческое совершенство» есть, строго говоря, contradictio in adjecto; в точном смысле понятия совершенство может принадлежать лишь Богу. Это - очевидность, но это еще не конец вопроса. Человек может стремиться (и действительно стремится) к совершенству - что, в силу сказанного, по своей сущности совпадает со стремлением к Богу. Но может ли он достигать совершенства?
Разбираемый текст Павла дает непростой ответ. Истинное совершенство, то есть истинное соединение с Богом, Христом, имеет быть достигнуто христианином; однако это достижение включает в себя два крайне существенных условия. Во-первых, оно не может быть осуществлено лишь собственными усилиями самого человека, но совершается Божественным действием: действием «Спасителя... Который уничиженное тело наше преобразит» или, что то же, действием благодати Св. Духа, посылаемого Отцом чрез Сына, - как уточнит позднейшее богословие. Во-вторых, оно совершается не всецело в пределах эмпирического существования человека, эмпирически наличной пространственно-временной антропологической реальности. Будучи переходом и вхождением в иное, божественное бытие, онтологическим трансцензусом, оно, по определению, включает в себя выхождение за эти эмпирические пределы, - в некоторый эсхатологический, метаисторический и метаантропологический горизонт. Данные формулы вновь не должны рассматриваться как дискурсивное описание. «Трансцензус», «метаистория», «метаантропология» - все это пока суть только некие символические обозначения для высших ступеней духовного опыта, представленного в христианском Откровении и позднейшей мистике. Всякая попытка их раскрытия, развертывания немедленно сталкивается с апориями: ибо как возможно, что может значить «соединение» тварного и нетварного? Разве может в нем тварное не перестать быть тварным - но, с другой стороны, разве может оно перестать быть им, если «и боги бессильны сделать бывшее небывшим»? Апории вовсе не обязательно заграждают всякий путь мысли, и затронутые тут темы имеют плодотворную жизнь в христианском умозрении. Но нам сейчас нет нужды уклоняться в них, ибо нужный нам вывод уже получен. А именно: понятие «совершенства человека», в истинном и полном смысле понятия совершенства, не является чуждым Новому Завету и может вводиться христианским богословием, однако же как понятие не антропологического, а метаантропологического плана, предполагающее обобщенную и расширенную трактовку феномена человека. Как далее мы увидим, именно такую трактовку последовательно развивает православное мистическое богословие, основанное на концепции обожения.
Здесь мы как раз подходим ко второму моменту, что также вытекает из разбираемого места Послания к Филиппийцам. Метаантропологический характер понятия «совершенства человека» изымает это понятие из круга категорий эмпирического существования, представляя его как предельно радикальный и предельно проблематичный (ибо зависящий от Божией воли и содействия, гарантий коих никому не дано), заведомо недосягаемый в эмпирии идеал. В свете такой природы понятия естественно было бы считать, что понятие «совершенного человека», в отличие от «совершенства человека», уже не является осмысленным и оправданным: достигший совершенства принадлежит метаантропологической реальности и тем самым более не является, в обычном принятом смысле, «человеком». Однако в обсуждаемом тексте апостол вполне недвусмысленно употребляет понятие «совершенного человека», прилагая его к некоторым из христиан в их земной жизни («Кто из нас совершен, так должен мыслить»). Вывод отсюда возможен только один. В разбираемом месте, - а можно подкрепить этот вывод и другими отсылками, - присутствуют, переплетаясь, не одна, а две различные идеи совершенства, которые соотносятся меж собой как «сильное» и «слабое», более радикальное и менее радикальное, а также в известном смысле как абсолютное и относительное понятия. Наряду с описанным выше понятием совершенства - очевидно, полновесным, не включающим никакого ослабляющего момента, - принимается еще и другое, которое приложимо к человеку в его земном существовании и доступно ему. Именно, чтобы достигать полного, метаантропологического совершенства, совершенной соединенности с Богом, необходимо пройти ведущий к нему путь. Быть на этом пути означает хранить устремленность к Богу, и человек вовсе не всякий и не всегда умеет ее хранить, он легко утрачивает ее. Если же он добивается того, чтобы не утрачивать ее, обладает способностью или искусством всегда ее сохранять - есть основание говорить, что ему присуще совершенство в хранении устремленности к Богу.
Это и есть второе понятие совершенства - то, которым передается совершенство христианина в его здешней жизни, на путях земного существования. Присутствующее, как мы убедились, уже в Новом Завете, оно было замечено и выделено и в западном, и в восточном богословии. У Фомы Аквинского ему соответствует понятие «совершенства цели», perfectio finis, отличаемое Фомой от более сильного «совершенства формы», perfectio formae. В Православии же оно должно быть сближено с понятием синергии, о котором мы будем говорить ниже. По его специфической природе, на первый взгляд, следует отнести его к вышеупомянутому типу «частных», или «технических», совершенств: как мы говорили, на заре истории понятия его применяли в Греции к конкретным занятиям: как совершенство в беге или выделке кож... Но это было бы поспешным решением: хранение устремленности к Богу явно принадлежит не к частным видам человеческой активности, но к икономии Богообщения, реализации самой бытийной природы человека. Тем самым, в отличие от всех «частных совершенств», оно должно принадлежать к онтологическим понятиям. Однако, с другой стороны, «хранение (Бого)устремленности» еще не означает сущностной причастности, связи с иным (Божественным) горизонтом бытия. Поэтому его не сможет передать, не включит в себя никакая онтология эссенциалистского типа, в которой описываются лишь сущностные отношения категорий и начал. Оно сможет войти лишь в такую онтологию, в которой статус онтологических понятий получат не только сущностные, но и энергийные связи человека с Богом: воления, импульсы, внутренние движения человека. И мы заключаем, что философский и теологический анализ двоякого понятия совершенства, возникающего в Новом Завете, имеет своей предпосылкой принятие либо построение некоторой энергийной онтологии. Важнейшие особенности такой онтологии мы кратко рассмотрим в следующем разделе.
Если же не учитывать различия между энергийным и эссенциальным типами онтологии, то будет и весьма затруднительно передать различие между двумя типами совершенства. Тогда легко может возникнуть позиция, согласно которой совершенство и совершенный человек, в сильнейшем смысле этих понятий, предполагающем совершенное единение с Богом, осуществимы в здешней, эмпирической реальности. Такая позиция - глубокое искажение христианства. Но она возникает нередко в обществе и в истории, будучи характерной для групп и сект, образующихся вокруг полуобожествляемой фигуры харизматического лидера.
В такой форме идея совершенного человека может оказываться пагубным извращением и реальной опасностью, ибо за «совершенным», наделенным божественною харизмой, «верные» охотно признают и абсолютную власть. Примеры таких явлений, немалочисленные в современности, доказывают, что определенная форма идеи совершенства действительно может нести в себе тоталитарные потенции, как это утверждали Бердяев и другие. Пример несколько иного рода можно найти в русской философии. Как нетрудно увидеть, в «Трех разговорах» Соловьева в образе Антихриста изображен именно «совершенный человек» - а точней, обсуждаемое извращение христианских представлений о человеческом совершенстве, когда игнорируются необходимые неотмирные и премирные стороны этого совершенства. Под углом нашей темы знаменитая «Повесть об Антихристе» может быть понята как предостережение против антихристианского искажения идеи совершенного человека - против переноса этой идеи в рамки падшего мира.
Напротив, энергийная антропология исихазма, к которой мы сейчас перейдем, не только позволяет отчетливо разделить в совершенстве человека доступную «здесь» устремленность и доступную лишь «не здесь» полноту, но обнаруживает и онтологические корни этого разделения.
Здесь нам естественно начать с конца: с того вывода, в который в XIV в. вылился и оформился тысячелетний опыт исихастской традиции. Это - паламитский догмат о Божественных энергиях, согласно которому человеку, по его тварной природе, доступно соединение с Богом в Его энергиях, но не в Его сущности (усии). Передавая реальный опыт практики православного подвижничества, догмат выдвигает на первый план во всем домостроительстве Богообщения его энергийный аспект. Определяющим для пути духовного восхождения - а тем самым и для совершенства человека в обоих видах его, как здешнего «совершенства-устремления», так и метаантропологического «совершенства-соединения», - оказывается то, что происходит с энергиями человека. Однако обычная речь классической европейской метафизики и теологии плохо приспособлена для того, чтобы описывать реальность и происходящее в ней с энергийных позиций, под углом понятия энергии. Доминирующим началом тут, как правило, служит сущность (essentia) или какая-либо категория восходящего к ней эссенциального понятийного ряда - цель, форма, закон и др. Что же касается энергии, то это понятие, будучи введено Аристотелем и получив затем некоторую разработку в неоплатонизме, в дальнейшем оказывается почти совершенно отсутствующим в истории западной философии. Основной причиною было то, что в латыни термин - «энергия» не был ни скалькирован с греческого, ни передан каким-либо новым словом; вместо этого переводчики Стагирита использовали распространенное слово actus, имевшее целый ряд значений, и общих (как деятельность, дело, движение, действие), и узко конкретных (как мимика актера или понукание скота).
Философски с термином actus связывалось скорей содержание, соответствующее греческому «действие», «дело», далеко не эквивалентному Ενέργεια; и специфический смысл греческой «энергии» вообще утрачивался, выпадал из латинской - а следом за нею и новоевропейской - философской речи. Даже схоластика, столь близко следовавшая Аристотелю, не восприняла этого смысла и связанных с ним тем и ориентации. Как особое понятие энергия появляется и внедряется на Западе весьма поздно, и притом первоначально лишь в естествознании и натурфилософии, хотя начала, в той или иной мере родственные энергии, играли значительную роль в отдельных философских учениях, как, напр., у Лейбница. Роль этих родственных и коррелятивных начал, - таких как воля, стремление, желание, деятельность, экзистенция и др., - со временем возрастала и в современную эпоху стала видной и важной; и, однако, сама энергия как таковая до сего дня так и не вошла заметным образом в европейскую философию. (В качестве исключения следует, впрочем, указать мысль позднего Хайдеггера, где глобальное продумывание и пересмотр античного образа мышления основательно затронули и тему энергии; одному из центральных текстов, трактующих об энергии, - IX книге «Метафизики» Аристотеля - Хайдеггер посвятил специальный курс.)
В итоге - последовательное выдвижение энергии на первый план, - настоятельно подсказываемое и православной догматикой, и исихастской практикой, - не может опираться на какой-либо готовый концептуальный аппарат и требует специальной перестройки философской речи. В осуществлении такой перестройки приходится, в силу отмеченных особенностей истории, отправляться от истоков, от классической аристотелевой трактовки базовых философских начал, чтобы затем нужным образом изменить ее.
(Приемлемые русские термины для первого - возможность, потенциальность, потенция; для второго - энергия, деятельность, действие, актуализация, осуществление; для третьего - энтелехия, действительность, актуализованность, осуществленность.)
В данном порядке следования эта триада образует прочное смысловое единство: она описывает, как произвольное сущее переходит из своей возможности, из пребывания в потенции, - в действительность посредством энергии как осуществляющей силы или действия, актуализующего или оформляющего начала. Тем самым здесь описывается осуществление произвольного сущего, осуществление как таковое, и вся триада представляет собой произвольное «происшедшее», или «событие» реальности, данное в своем онтическом строении. В этой универсальной онтической структуре события кроются и решения наших вопросов: как связаны между собою энергия и сущность и каким образом возможно построить философский дискурс так, чтобы энергия в нем служила определяющим началом.
Служа в универсальной триаде онтического события серединным, посредствующим звеном, энергия априори может сближаться как с одним, так равно и с другим из остающихся «крайних» начал триады: вообще говоря, ее можно трактовать как начало, по смыслу и содержанию более близкое к энтелехии, - или же более близкое к потенции. Метафизика Аристотеля выбирает первый из этих путей - и, вполне понятно, приходит к эссенциальному дискурсу, примату энтелехии в событии и сущности - во всем здании метафизики. Естественно ожидать, что альтернативная трактовка энергии, ослабляющая либо отвергающая совсем ее привязанность к энтелехии, сообщит ей большую автономию и более значимую роль.
Итак, предположим: события реальности в своем троичном онтическом строении таковы, что энергия в них представляет собой начало, близкое к потенции, - она означает не оформление в некую законченную сущность-форму (энтелехию), но скорее исходный импульс, усилие, направляющееся к актуализации некоторой потенции; она есть начинательное усилие актуализации, что открывает и обеспечивает выделение и исхождение, подъятие определенной потенции из сферы потенциального в сферу актуального, зачин актуализации потенции. Сам же процесс этого выделения и исхождения из безграничного многообразия возможностей, «моря виртуальной реальности» - иначе говоря, само событие - мы, в общем случае, уже не будем считать необходимо связанным какой-либо предсуществуюшей формой или предзаданной целью. Что то же, мы будем полагать, что событие не обязательно характеризуется энтелехией. Последняя может отсутствовать или, точнее, быть как бы бесконечно удаленной: завершенность события может обретаться уже не в границах данного горизонта реальности, а только «в пределе», в трансцендирующем преодолении этих границ. Это означает, что вместо энтелехии завершающим элементом в структуре события будет выступать уже иное начало - «трансцензус». Такое изменение оптической структуры оказывается чрезвычайно глубоко и влечет кардинальные, всюду сказывающиеся последствия.
Событие, когда оно наделено трансцензусом, означает актуальное бытийное превращение: является онтологическим событием, каковым могло отнюдь и не быть произвольное Аристотелево событие, являющееся, вообще говоря, лишь троичным оптическим образованием. Далее, событие теперь обладает, в общем случае, только метазавершением; тогда как в горизонте здешней реальности оно предстает свободным: безэнтелехийным и деэссенциализованным, изъятым, вообще говоря, из всего порядка закономерности, что имплицируют сущность и энтелехия, - т.е. из всей сети форм, целей, сущностей и законов, тотальная охваченность которой составляет столь характерную черту реальности как у Аристотеля, так и во всей почти европейской метафизике. Не имея для себя никакой, вообще говоря, предзаданной цели, формы и сущности, событие оказывается также открытым, и вслед за ним этот существенный предикат открытости приобретает и вся слагающаяся из событий реальность. В прежней трактовке - в дискурсе сущности - энтелехия, сущность и примыкающие к ним начала служили словно крышкой или печатью, которыми закрывались, запечатывались событие и реальность; они придавали последним завершенный и полный в себе - замкнутый характер. В новой же трактовке, которая полагает начало устранения энтелехии, крышка или печать сняты, и реальность оказывается открытой. Она словно клубится, выйдя из моря виртуальной реальности, и, клубясь, стремится вовне: у нее есть лишь ее динамика, ее выступления, которые более не подчинены единому эссенциальному порядку или укладу закономерности. И главная роль в этой открытой картине реальности принадлежит именно энергии, - ибо в отсутствие энтелехии энергия становится определяющим элементом в структуре события, собравшим в себе все существенное содержание последнего. При этом сама энергия тоже становится иной: приблизившись к , она теперь является динамическим началом или принципом, определяющим скорее чистую динамику реальности, нежели становление реальности в некоторую систему форм.
Описанный подход к событию и реальности, к основным началам сущности и энергии определяет исходные позиции нового философского подхода - дискурса энергии, в котором энергия, обретя автономию от сущности, начинает выполнять функцию порождающего принципа. В этом дискурсе философская речь в любой теме должна развертываться прежде всего в плане энергии, как прослеживание того, что происходит с энергией. Это касается и наших антропологических тем: если прежде заданием философской антропологии предполагалось «исследование сущностного строения человека» (М. Шелер), то теперь, в отличие от этого, перед антропологией должна ставиться задача исследования энергийного строения человека. Конкретная личность, индивид, в каждый момент обладает определенным множеством разнородных энергий, которые могут разделяться по очень многим принципам, но, прежде всего, - по своему истоку и роду (например, телесные, душевные, духовные энергии), а также по своей направленности (к Богу, ближним, вещественному или умственному предмету, внутрь или вовне личности, отталкивание или притяжение, и т.п.). Структура этого множества - в моих работах я называю его энергийным образом человека - и составляет энергийное строение личности. Оно непрерывно меняется (в отличие от статичного сущностного строения), и потому в дискурсе энергии антропология динамична, она описывает процессы, деятельность - во внутренней, равно как и во внешней для человека, реальности. На данной основе мы можем переходить наконец к анализу совершенства. Мы установили выше, что христианская антропология, начиная с Нового Завета, выделяет - и разделяет - два рода совершенства человека: «совершенство устремленности к Богу», единственно доступное человеку в пределах его эмпирической жизни, и «совершенство соединения с Богом», достижимое лишь в мета-антропологическом и эсхатологическом горизонте. Оба эти концепта получают пристальную, подробную разработку в мистике исихазма - как в практическом опыте подвижничества, так и в неотрывном от него мистическом богословии. И для обоих возможность их адекватного философского истолкования достигается лишь с позиций дискурса энергии.
Таким образом, мы охарактеризовали совершенство-устремление как сверхъестественный тип энергийного образа человека. Аскетическая схема трех главных (онтологически) типов энергийного образа создает, далее, основу для понимания того, как должен строиться путь к подобному совершенству. Прежде всего, очевидно, необходимо устранить появление противоестественных энергийных образов, заведомо несовместимых со сверхъестественным строем Богоустремленности. Это - первая большая задача на духовном пути: борьба со страстями и их искоренение, знаменитая «невидимая брань». В аскетике она изучена с максимальной пристальностью. Здесь разработаны скрупулезные классификации страстей, с тонкой детальностью прослежены психологические механизмы их зарождения и развития, найдены многочисленные приемы и средства их преодоления. Необозримая литература посвящена этому духовному этапу, поскольку именно он, совокупно с установкой покаяния, открывает собою путь восхождения, являясь, тем самым, наиболее всеобщим, относящимся к наиболее массовым проблемам. Однако по этой же причине мы не должны сейчас останавливаться на нем - как на этапе начальном и наиболее далеком от совершенства.
Схема трех типов может вызвать предположение, что целью и итогом «невидимой брани» является возврат человека к естественному энергийному образу, - дабы затем переходить от него к совершенному строю. Однако это не так: естественный тип, как мы говорили, предельно изменчив, он легко поддается любым воздействиям, - а среди них в здешней жизни всегда преизобилуют толкающие и уклоняющие к страстным состояниям. Возврат к естественному, или рассеянному, типу, лишенному всякой собранности, единства, структуры, сулит не столько продвижение в восхождении, сколько повтор того же, бесплодный цикл впаданий в страсть - оставлений страсти - и новых впаданий в ту же или иную страсть. Такой тип динамики отличает отнюдь не духовный путь, но подчиненность эмпирическому порядку и, тем самым, отсутствие онтологически значимого пути, выражаемое такими понятиями, как «суета», «марево» или восточное «Майя». Суть же духовного восхождения составляет образование принципиально новых энергийных структур, отличных от трех базовых типов и последовательно приближающих энергийный образ человека к строю Богоустремленности. Стоит заметить, что обычная картина восходящего, прогрессирующего процесса (эволюции, органического или социально-исторического развития и т.д.) также имеет в своей основе последовательное формообразование, вырастание усложняющейся иерархии форм и структур. Но там всегда идет речь о материальных структурах и формах, каждая из которых есть воплощение, реализация определенной сущности, так что эта обычная картина - в рамках эссенциального дискурса. В намечаемой же нами картине процесс предстает как последовательное формирование энергийных структур, которые обладают радикально иными свойствами, - прежде всего по отношению к таким категориям, как свобода, причинность, открытость, устойчивость, преемственность, и т.п. Задача создания подобной картины и исследования соответствующих энергийных структур независимо возникает во многих весьма отдаленных разделах современной науки - физике, психологии, философии... как видим, вплоть до аскетики. Но во всех разделах задача еще далека от решения, а в аскетике попросту непочата - и потому мы ограничимся здесь немногими замечаниями предварительного характера.
Непочатость задачи является, впрочем, относительной: мы имеем в виду лишь концептуальную разработку, которая, действительно, отсутствует, - не только на языке современного мышления, но и в традиционном богословии. Однако в практическом опыте исихастской мистики, о котором говорят аскетические трактаты, накоплен чрезвычайно богатый материал. Его понимание и продумывание - дело будущего, требующее особой методики, которая, в свою очередь, должна базироваться на особой герменевтике мистико-аскетических текстов, - до сих пор, по сути, не разработанной. Пока же мы можем сказать, что аскетика выделяет ряд ступеней духовного пути, причем и суть этих ступеней, и их взаимная последовательность описываются очень далеко от ясной систематичности, нередко в противоречивых выражениях, и разные свидетельства нередко расходятся между собою в деталях. (Напротив, во всех главных чертах эти свидетельства, хотя они часто разделены многими столетиями и принадлежат авторам самых разных наций, обнаруживают удивительное согласие и единство.) Есть основания считать, что с каждою из таких ступеней связана своя структура энергийного образа и потому классическая аскетическая иерархия ступеней подвига дает нам и прообраз искомой последовательности энергийных структур, восходящих к строю всецелой устремленности к Богу. Следует, однако, сказать, что законченное дискурсивное описание этой последовательности и всех ступеней ее даже в принципе не является достижимым. Особенность всех высших ступеней в том, что они уже принадлежат сфере в точном смысле мистического опыта, т.е. представляют собой не одно только действие человеческих энергий, но также и действие божественной энергии, благодати Св. Духа, которое не допускает описания по образцу обычных естественных процессов. Здесь - важная грань, что разделяет между собой изучение энергийных структур в естественных науках и в мистической жизни.
Но одно лишь равновесие и покой заведомо недостаточны, - недостаточны, так сказать, с обеих сторон: они не защищают человека от новых покушений и возврата страстей, и они не обеспечивают углубления духовного процесса. Внутри исихии различима также своя структура: открываясь как приятие «венцов мира и тишины» после битв со страстями (Лествичник), она далее обнаруживает в себе и зачатки дальнейшего продвижения. Залог и средство его - контроль (наблюдение, самоотчет) человека за своим внутренним устроением, затем развивающийся в способность управления этим устроением. Поэтому исихия - не просто покой, но чуткий и зоркий, бдящий покой. Эти качества ее передают категории внимания и трезвения, а также встреченная уже нами «стража над собою», или - «стража ума»: они на аскетическом языке выражают способность наблюдения и контроля. В аспекте свойств энергийного образа им соответствует, очевидно, своего рода прозрачность: наличие энергий, обращаемых внутрь и как бы сканирующих внутреннюю реальность, которая делается для них проницаемою.
Именно эти качества умосердца создают предпосылки для достижения бесстрастия - очередной духовной ступени, уже вплотную приближающейся к совершенству Богоустремленности. Бесстрастие - такое внутреннее устроение, которое недоступно самому зарождению страстей (точней, относительно недоступно, ибо защищенности абсолютной нельзя иметь в эмпирическом существовании). Нетрудно увидеть прямую связь и зависимость этого определяющего свойства бесстрастия от свойств умосердца. Умосердце объединяет в себе, в цельном единстве, обе группы внутренних энергий, что составляют деятельность человеческого сознания, - энергии умные и сердечные, - и оно. дает сформированному энергийному единству непрерывающуюся самореализацию в творении умносердечной молитвы. Такая энергийная структура в своей завершенной цельности есть уже, очевидно, зачаток и ядро «энергийного совершенства», обладающее одним из основных свойств совершенства - самодостаточностью. И потому в энергийной структуре умосердца - в той мере, в какой она полно осуществлена, - не могут уже возникать те произвольные энергийные привнесения и деформации, что являются зародышами страстных состояний, «прилогами» и «приражениями» страстей, по аскетической терминологии.
Определенный способ устойчивого преодоления, искоренения страстей, очевидно, заключает в себе и позднеантичный языческий идеал атараксии. Теперь мы можем вернуться вновь к обсуждавшейся уже теме о соотношении этого идеала с христианскими представлениями - и расставить окончательные акценты. Обе традиции решали, в существенном, одну и ту же проблему, однако выдвинули принципиально различные решения. Тут оказывается удобен математический язык: позиции язычества и христианства (стоицизма и исихазма) соотносятся здесь как «тривиальное», или «нулевое», и «нетривиальное», или «конструктивное», решения. Стоический мудрец неуязвим для страстей, ибо вся уязвимая для них часть его энергийного образа - «желательная» часть, по терминологии аскетов. - у него умерщвлена, отсечена и отсутствует. Но у подвижника-исихаста эта желательная часть преобразована, интегрирована в структуру умосердца и является активно действующей. Для нее найдены иная организация и иная реализация, и в этой реализации структура умосердца выступает в конечном итоге как ключ, конструктивный способ преобразования всего энергийного образа человека в структуру любви. В свете этого мы можем назвать ее подлинным антропологическим открытием исихазма.
Мы пишем научный текст, и он не может быть, говоря с Кантом, «грезами духовидца», живописующими то, что лежит за гранью здешнего бытия и природного восприятия человека. Понятие «совершенства-соединения», как подчеркивалось, принадлежит метаантропологии, ибо относится, по апостольскому выражению, к «нашему жительству на небесах». Из категорий православного учения о человеке с ним соотносятся ближайшим образом такие понятия, как обожение, святость, преображение. Говоря о них, мы ограничимся лаконическим представлением позиций Традиции.
Итак, истинным основанием уникальной индивидуальности каждого служит присутствие этого качества уникальности (единственности) в горизонте обожения, имеющее место по свойству личного бытия, входящее в природу личности.
Обычный круг представлений теснее всего связывает совершенство и святость; в широком словоупотреблении слова «святой» и «совершенный человек» фигурируют почти как синонимы. Такое сближение оказывается оправданным и тогда, когда мы попытаемся придать словам строгий статус понятий. При этом, как нетрудно увидеть, святость предельно близка именно к совершенству-соединению, с его метаантропологическим характером. В строгом церковном смысле святость есть также метаантропологический концепт: она не есть прижизненное состояние или качество, но осуществляется в своей полноте лишь как премирное, включившее в себя и святую кончину, исполнение всего жития, трансцендентный итог и плод всей его целокупности; и лишь по его завершении оно опознается и удостоверяется Церковью как святое житие, путь к святости. В богословском плане святость есть не что иное, как обоженность, достигнутая в полноте энергийная соединенность с Богом. Признание же и почитание человека святым при жизни есть аберрация религиозного сознания, весьма нередкая и по своей сути та же, о которой мы говорили в конце раздела II: утверждающая, явно или неявно, сущностную, а не энергийную только, причастность Богу здешнего мира и человека.
Однако войти в конкретное содержание совершенства-соединения - насколько это возможно вообще! - более всего позволяет нам тема преображения. Это именно тема об ином образе - новом, «прославленном», пронизанном Божественною энергией, - в который имеет претвориться в обожении прежняя, ветхая человеческая природа. Прообраз и самое название темы заданы священным событием Преображения Христа на Фаворе (Мф. 17,1 - 13). Как разъясняют экзегеза и богословие, то изменение или претворение, что совершилось в Событии, произошло не со Спасителем, а с учениками: по благодати, они сделались способны узреть Христа в Его Богочеловечестве, в обладании не только человеческою, но и Божественной энергией. По исихастскому толкованию, это священное событие делается прообразом опыта, обретаемого в мистическом Богообщении: подвижник, достигая вершин подвига, удостаивается созерцания Света Фаворского, Божественной энергии - того же нетварного Света, что видели на горе апостолы. Такое созерцание недоступно обычному зрению человека; оно означает, что подвижник достиг иного зрения, «умного», или «духовного». По аскетической терминологии, с ним совершилось «претворение», или «отверзание», чувств: последние дополняются новыми, сверхприродными способностями восприятия.
Тема об «умных чувствах», детально развитая в исихастской литературе, чрезвычайно обогащает наши представления о совершенстве-соединении. Конечно, большею частью она говорит о пути к мистическому отверзанию, о его условиях и предпосылках, о необходимости и способах отличать истинные сверхприродные восприятия от имитирующего их ложного опыта - «прелести». Но мы немало узнаем и о том, каковы же свойства обретаемой в обожении сверхприродной перцептивности человека. (Как всегда в темах метаантропологического и эсхатологического характера, свидетельства подвига доставляют лишь несовершенный начаток этих свойств, откуда мы также несовершенно заключаем к действительному их облику.) Из опытных свидетельств усматриваются два феномена, которые можно полагать ее специфическими отличиями. Мы обозначим их соответственно терминами синэстезис и панэстезис. Первое - синтез восприятия: «умные чувства» не составляют уже пяти разрозненных, изолированных способностей. Утончаясь и расширяясь, эти способности переходят границы физических восприятий; «отверзаясь», трансцендируя, они вырастают в единую, универсальную метаперцепцию, сверхприродную всевосприимчивость человека. Второе же - распространение перцептивной способности с изолированных органов человека на цельное человеческое существо. По согласным описаниям православных мистиков, в опыте высших состояний Богообщения человек «весь становится зрением», равно как и «весь становится слухом». Как предвосхищение чаемого преображения наших «уничиженных тел ... сообразно славному телу Его», за этим угадывается изменение самой конституции человеческого существа, преодоление принципа его составленности из отдельных органов, выполняющих каждый лишь свою частную функцию. В новом же принципе организации, что сквозит здесь, можно опознать не что иное, как древний принцип всеединства.
И здесь мы уже начинаем приближаться к концу, к тому последнему, что мы можем пока сказать об Исполнении и о совершенстве. Возникла новая ара предикатов христианского совершенства, которые соотносятся меж собой по старинному принципу Аристотеля и схоластики: как действие в активом и пассивном залоге, действие и испытываемое воздействие, претерпевание. Наделяясь полнотой всевосприимчивости (то есть общительности) и всевоспринимаемости (то есть предоставленности-себя-общению), усовершенное во Христе Иисусе существо человека становится единым пространством, или полем общения. Что есть совершенное общение? В патристике существуют два его образца: сообщение Ипостасей Пресвятой Троицы, а также Божественной и человеческой природ во Христе. В обоих случаях образ связи передается одним и тем же особым понятием: «перихорезис». Взятое от греческого глагола «обходить по кругу», понятие обозначает полноту взаимопроникновения, мыслимого динамично и энергийно, как непрестанная обоюдная самоотдача. Но это же отношение Божественных Ипостасей, мы знаем, есть любовь, совершенная и Божественная, - что и есть собственно любовь, любовь как таковая, по христианскому пониманию. Полнота же самоотдачи есть, очевидно, совершенная жертва.
Совершенные общение, любовь, жертва - эти фундаментальные реальности новой жизни во Христе - определяют, в философском дискурсе, новый онтологический горизонт, «план личного бытия-общения», бытие личности. Они составляют круг первоначал исихастской энергийной мета-антропологии, - как в прежней эссенциалистской метафизике этот круг составляли Благо, Истина, Красота. И они же - как вполне уже ясно нам - составляют те категории, в которых раскрывается христианское совершенство-соединение, совершенство о Христе Иисусе.
Платон. Федон 80 Ь. Собр.соч. -М., 1970. Т. 2. С. 45.
Платон. Теэтет 176 Ь. Т. 2. С. 270.
Платон. Тимей 29 е . Там же. Т. 3. Ч. 1. -М., 1971. С. 470.
Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. -М.. 1980. С. 171.
Эпиктет. Беседы в 4-х книгах. II 8.1-2. Лосев А.Ф. Эллинистически-римская эстетика I- II вв. н.э. -М., 1979. С. 326.
Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию (Письмо ХСП). -М., 1977. С. 216.
Эпиктет. Беседы в 4-х книгах. I 3,3. Лосев А.Ф. Там же.
Sеnеса L. Аnnеi. De beneficiis IV.VII. Opera. Vol 11. Lipsiae, 1873. С. 63.
Диоген Лаэрций. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. VII, 88. -М., 1979. С. 295.
Платон. Государство 518. Т. 3. Ч. 1. С. 326.
Плотин. Эннеады V 2,1 Сочинения. -СПб., 1995. С. 67.
Плотин. Эннеады VI 9,8. Там же. С. 288.
Дальнейший философский анализ лишь бегло намечен; подробно он проводится в работе: Хоружий С.С. Исихазм как пространство философии. Вопросы философии. 1995. № 9.
Аристотель. О душе 412 а21. Собр. соч. в 4-х томах. Т.1. -М., 1976. С. 394.
Св. Исаак Сирии. Слова подвижнические. -М., 1854. С. 23.
Св. Иоанн Лествичник. Лествица. (27,37). -Сергиев Посад, 1894. С. 236.
Там же. (27,2).
Хоружий С.С. Аналитический словарь исихастской антропологии. // Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия. -М., 1995
Иеромонах Софроний. Старец Силуан. -М., 1991. С. 103.
Св.Феофан Затворник. Умное делание о молитве Иисусовой. Сборник поучений св.отцов и опытных ее делателей. Составил игумен Валаамского монастыря Харитон. Изд.З. -М.. 1992. С. 114.
Там же. С. 113.
Там же. С. 257.
Преп.Максим Исповедник. Главы о любви III, 98. Творения. Т.1. -М., 1993. С 134.
Флоровский Г.В. Византийские отцы У-УШ веков. Изд.2. Грегг 1972. С. 115.
Святогорский томос 1341 г. Монах Василий (Кривишеин). Аскетическое и богословское учение св. Григория Паламы. (Прага) 1936. VIII. С. 143-144.
Св. Макарий Великий. Наставления о христианской жизни. Добротолюбие. Т.1. -Св.-Троицкая Сергиева Лавра,. 1992. С. 274.
Св. Феофан Затворник. Указ. изд. С.132-133, 111.
XIX век и эпоха до Первой мировой войны отнюдь не были для Европы идиллическим временем, не знающим жестоких войн, тяжких бедствий, острых конфликтов. Напротив, все это было в изобилии – однако сознание европейского человека воспринимало свою эпоху и общество как устойчивый и надежный мир, стоящий на незыблемых принципах и нормах. С тех пор прошел сейчас почти век. При всех его катаклизмах, этот век знал и периоды относительного спокойствия; он стал веком невиданного технического прогресса; освоенность окружающего мира, удобство жизни неизмеримо выросли – но при всем том сознание европейского человека воспринимало свою эпоху как время острого и все расширяющегося кризиса, необратимого разрушения устоев миропорядка, который еще недавно казался вечным. И надо сказать, для этого были и остаются все основания. В отличие от конфликтов прошлой эпохи, кризисные явления в гораздо большей степени приняли внутренний и системный характер. Своими корнями они проникали все дальше вглубь общества и человека, и ныне, в наступившем тысячелетии, уже ясно и отчетливо видно, что главным, определяющим горизонтом неуходящего кризиса является и самый глубинный горизонт: антропологический.
Подобно греческому «атом», латинское «индивид» исконно означало простую и неделимую, а потому и неизменяемую, стабильную единицу, лежащую в основе мироустройства, физического космоса атомов и социального космоса индивидов. Однако в начале ХХ в. наука открыла явления распада атома, и они стали источником оружия массового убийства, породив огромные и опаснейшие последствия. К концу ХХ в. стало ясно, что такова же судьба и социального атома, человека. Здесь начали наблюдаться свои феномены распада, мнимо неделимый и неизменяемый индивид стал резко и радикально меняться; но в этом случае последствия распадных процессов могут стать еще опаснее и губительней (в частности, потому что, в отличие от физических процессов, происходящее с сегодняшним человеком еще совершенно непонятно науке).
Глубокие перемены охватывают все стороны, все измерения человеческого существа, вплоть до биологической основы. Сама основа основ, генетическая программа человека, еще едва познанная, становится полем для экспериментов, и подобные эксперименты могут, в принципе, вызвать самые фантастические и гибельные эффекты; генная катастрофа как следствие неконтролируемого развития генной инженерии, сочетаемого с крайне незрелым ее уровнем, сегодня обсуждается как реальная опасность. Гендерные революции, идущие на Западе, резкий рост численности и активности сексуальных меньшинств несут с собой новые, искусственные механизмы деторождения и ставят под вопрос будущее всей критически важной сферы биологической репродукции. В сфере феноменов сознания не менее радикальный характер носит «психоделическая революция», проповедующая использование любых средств – наркотиков, галлюциногенов и иных препаратов, психотехник, духовных практик – для достижения измененных состояний сознания; с ней вплотную смыкаются научные и паранаучные методики, ведущие к сходным целям, такие как холотропная терапия Грофа или приемы вызова пренатальной памяти. Во всем этом ярко выступает одна черта, никогда прежде не заявлявшая о себе с такой силой: неудержимая тяга современного человека ко всякому необычному, экстремальному опыту. Она же видна и в другом характерном явлении современности – в постоянном росте популярности и разнообразия практик трансгрессии, в которых человек преступает тот или иной запрет, норму, закон. Сюда входят самые различные вещи – открытые нарушения норм морали, акты религиозной профанации и кощунства, садомазохистские извращения, насилия и кражи, делаемые ради острых ощущений, и т.д., вплоть до актов суицида и терроризма. Этот обширный спектр явлений антропологического кризиса пополнился в наши дни новым видом, который обещает стать самым массовым, а также и самым радикальным. Это – всевозможные виртуальные практики. Из всего множества их особо выделяются те, что связаны с новейшими компьютерными технологиями и длительными, глубокими погружениями в виртуальную реальность. Как констатируют исследователи, здесь антропологическая и компьютерная реальность входят и проникают друг в друга так тесно и многообразно, что порождают гибридные формации, существа с кардинально иной конституцией, в основе которой «интерфейс мозг – машина». Длинная цепь современных превращений человека и его способов репрезентации – цепь распада антропоатома – близится здесь к концу. Вспоминая, что светское сознание давно уже характеризует современное общество как «постхристианское», можно констатировать, что сейчас как бы оформляется следующая стадия процесса. В качестве реальной и близкой перспективы сегодня уже активно обсуждается приход «постчеловеческого» или «трансчеловеческого» мира (posthuman/transhuman world), для обитателей которого, наделенных гибридной антропокомпьютерной конституцией, совсем или большей частью не будут существовать все ценности человеческой духовности, нравственности, культуры. Летом 2004 г. в Оксфорде состоялась первая конференция «Постчеловеческое будущее».
Нельзя не признать, что в своей глубине и радикальности описанные антропологические феномены действительно составляют главный, определяющий уровень протекающего планетарного кризиса. Как же должно их воспринимать, как должно реагировать на них христианское и церковное сознание? – С глубокой древности, уже и в дохристианских обществах, во времена крупных потрясений и перемен всегда возникали две позиции, противоположные друг другу, но равно типичные и распространенные. Одна из них, позиция невозмутимой отрешенности, была классически выражена Экклесиастом: Ничтоже ново под солнцем! Все новые явления, резкие перемены лишь кажутся их современникам новыми и резкими, меж тем как по сути все неизменно и таковым пребудет. Под иными именами, в иных обличьях, все современные новации, и добрые, и дурные, появлялись уже не раз… На другом полюсе – реакция возбужденного сознания, что склонно, напротив, преувеличивать масштабы событий и перемен, видеть в них мистический – а часто и мистифицированный, фантастический – смысл; в христианскую эпоху этот смысл обычно бывал апокалиптическим, эсхатологическим. Современное христианское сознание демонстрирует обе эти традиционные тенденции. В своей немалой части, оно не хочет признать всю глубину кризиса и всю значительность изменений, происходящих с человеком; не принимает необходимости менять старые понятия, искать новые стратегии и достигать нового видения реальности. В другой части, оно, напротив, видит в происходящих процессах симптомы окончательного разрушения всех ценностей и устоев, хочет как можно прочней изолироваться от них и читает в событиях знаки приближающегося конца света. Для нас же важно заметить, что при всей своей противоположности, обе эти реакции одинаково неконструктивны, поверхностны. Они обе отказываются от углубленного, взвешенного подхода, который требует взглянуть на новые явления изнутри, проанализировать и понять их специфическую природу – и лишь затем, на основании этого, дать оценку и определить стратегию христианского сознания по отношению к ним; решить, возможно ли противостоять им, и каким образом.
В оставшейся части сообщения мы попробуем бегло показать, что христианская антропология несет в себе достаточные ресурсы для такого подхода и может предложить реальные и разнообразные стратегии для преодоления опасных тенденций.
В нашем кратком описании явлений антропологического кризиса, мы сразу же выделили важную общую особенность, своего рода общий знаменатель всего обширного спектра этих явлений. Он может быть обозначен одним словом: предельность. Рассмотренные явления глубоко различны и внешне, и внутренне, в своей природе; но во всех случаях, во всех их видах можно проследить, что тем или иным образом в них осуществляется приближение человека к пределу, границе горизонта человеческого опыта, сознания и существования. В генетических экспериментах и психоделических «выходах», причудливых и жестоких практиках телесности в актуальном искусстве, опытах обитания в виртуальных мирах… - на всех этих новых, странных путях самовыражения человек испытует пределы своих возможностей и самой своей природы. Пробуя любые средства и способы, он стремится преодолеть ограничения, путы этой природы и найти выход к чему-то иному, максимально иному – выход в некую иную реальность, где и он сам будет также иным. И в этом напряженном стремлении, в истовой жажде иного, жажде премены христианское сознание безошибочно улавливает, распознает извращенную или, как говорят философы, превращенную форму духовного поиска и стремления, «заблудившуюся жажду Бога», по выражению о. Георгия Флоровского. Ибо стремление человека к иному и к премене извечно, и его полной, совершенной реализацией является лишь Богоустремление: стремление к иному бытию, свободному от всех ущербностей, что вследствие фундаментальных предикатов конечности и смертности отличают наличное бытие человека – «тварное падшее бытие», по богословскому определению. Нет и не может быть более радикальной формы предельного опыта и стремления к иному, нежели опыт Богоустремленности. На своих вершинах, к которым возводит путь молитвы и подвига, этот опыт приближает к обожению и «превосхождению естества», по древней аскетической формуле, - полному соединению всех человеческих энергий с Божественной энергией, благодатью; что означает актуальное приобщение человека иному бытию. Как это особенно выявляется в аскезе, практике духовного восхождения, христианский опыт есть в полном и сильном смысле предельный опыт – опыт радикальной трансформации, трансцендирования человека; но при этом, опыт не деструктивный, а созидательный для личности.
Из этого уже можно заключить, что обе типические позиции, и безучастная отрешенность, и апокалиптическая возбужденность, не представляют адекватного христианского ответа на новую антропологическую и духовную ситуацию. Распознав в новых явлениях превращенную форму имманентного религиозного стремления, христианское сознание выходит, тем самым, к иной позиции, прообраз которой можно видеть в Писании, в проповеди Павла перед афинским ареопагом. Как апостол раскрывал афинянам, что их почитание неведомого Бога может обрести истинный свой смысл во Христе, - не надлежит ли и нам постараться раскрыть неоязычникам «постхристианского» мира, что тяга их к предельному опыту в глубине своей еще сохраняет религиозные корни и подлинное, высшее свое удовлетворение может найти в христианском опыте устремления к обожению – опыте, предельней которого не существует? Раскрыть их устремления как превращенную форму и как заблудившуюся жажду, и указать выход из блужданий и путь возврата от превращенной формы к чистой, подлинной? Если бы подобная миссия оказалась возможной и успешной, это означало бы и возможность эффективного противостояния тенденциям антропологического кризиса.
Исполнение миссии не является, однако, легкой задачей. Чтобы начать становиться постчеловеческой, мирская культура вначале должна была осознать себя «постхристианской»; и хотя сам термин едва ли для нас приемлем, стоящее за ним сознание радикальной секуляризации, почти или совершенно полного ухода от христианского строя жизни и мысли, - без сомнения, справедливо. Это значит, что секуляризованное сознание утратило контакт с этим строем; и для того чтобы сознание христианское могло ему что-либо раскрыть, донести до него, сегодня нужно еще создать условия, предпосылки. Контакт, что разрушился в атмосфере «постхристианства», должен быть восстановлен, и эта работа восстановления контакта, восстановления живого восприятия и понимания христианской жизни, разумеется, есть общение. Режим общения, диалога, есть первая и главная предпосылка оздоровительного процесса. Он предполагает обращенность к Другому, диалогическому партнеру, и внимающую открытость ему навстречу. И он может быть установлен: социальная и антропологическая реальность сегодня предельно гетерогенна, подвижна, и наряду с идущим формированием постчеловеческой культуры, социокультурный анализ находит в ней и явные тенденции к возрождению религиозности, питаемые крахом просвещенческого мировоззрения и, очевидно, влекущие за собой способность диалогической открытости христианскому сознанию.
О важности диалога, общения сегодня говорят постоянно; но в нашем случае сразу же надо подчеркнуть, что задача преодоления антропологического кризиса предъявляет к общению весьма особые требования. Проблемы лежат на антропологическом уровне, и нельзя достичь их решения лишь посредством того сотрудничества институтов и структур, что выражается популярной формулой «диалог Церкви и общества». Мы хотим, чтобы современное секулярное сознание сумело по-новому взглянуть на свой путь, свой опыт – взглянуть в свете иного, христианского опыта; а затем сумело бы и приобщиться этому опыту, найти в нем утоление собственной жажды предельности и премены. Какое же общение может привести к таким результатам? – В обширной сфере общения, диалога, коммуникации – множество форм и видов этих процессов. Их суть всегда состоит в обмене тем или иным содержанием; но они крайне разнятся и по характеру этого содержания, и по способу его передачи, трансляции. На одном полюсе стоят простые процессы передачи информации, в которых и содержание и способ его трансляции полностью описываются рациональными законами. Это чисто формальное общение не передает никакой человеческой специфики; оно возможно и между компьютерами, и в других неживых системах. Далее, самый типичный вид общения – трансляции всевозможных социальных и культурных содержаний, таких как идеи, знания и мнения, нормы и правила, навыки и установки деятельности; типичным же механизмом служит тут обучение, во всем разнообразии его уровней и форм. Понятно, что и это культурное общение не может сыграть нужной роли. Поставленная задача предполагает трансляцию живого опыта, причем опыта особого рода – антропологического и духовного опыта, который формирует структуры личности и идентичности, так что в итоге его трансляции, обмена им, сами участники общения существенно изменяются.
Подобная проблема трансляции находила решение в духовных традициях и практиках, где культивировался строго определенный род духовного опыта и вставала задача его хранения и передачи, столь же строго тождественной. В христианском мире проблему решала древняя аскетическая традиция, развитием которой стал православный исихазм. Искомым решением стал здесь институт старчества – создание своеобразных антропологических диад «Старец – Послушник». Трансляция внутреннего опыта во всей его глубине и тонкости делалась возможна за счет теснейшей связи многоопытного монаха-старца с новоначальным послушником, и всеобъемлющего послушания второго первому. Но традиция развивалась далее, и уже на современных ее этапах, в русском исихазме XIX в., открыто было, что духовный опыт может неискаженно транслироваться не только в столь специальной форме как диада «Старец – Послушник», но также и в гораздо более общих условиях. Возник феномен русского старчества, особенно известный по своему знаменитому очагу в Оптиной Пустыни: глубинное личное общение и воздействие, трансляция любых антропологических, духовных, даже и мистических содержаний оказывались возможны и достижимы во встречах старца, искушенного подвижника-исихаста, с обычным человеком, представителем мирского сознания. По всем свидетельствам, то, что давало старцам эту необычайную способность, было, в первую очередь, даром безмерной любви Христовой – так что общение со старцем было общением любви преизбыточествующей, не следующей никаким нормам и кодексам, но видящей каждого человека как личность, что предстоит Богу собственным уникальным образом. Человек мира в этом общении не делался исихастом, однако в личную свою меру воспринимал исихастский, Богоустремленный опыт и строй личности.
Здесь мы наконец видим, что приблизились к решению нашей проблемы. В этом примере мы находим черты, которыми должно обладать христианское сознание сегодня, чтобы сделать свой опыт внятным и близким для секуляризованного, «постхристианского» сознания – как опыт превосхождения естества, высший род предельного опыта. Убедившись в его природе как безусловно и максимально предельной, секуляризованное сознание могло бы потянуться к нему и в той или иной мере приобщаться к нему (как сегодня оно пытается приобщаться к восточным практикам) – и на этом пути деструктивные, гибельные формы предельного опыта сменялись и замещались бы иными формами, не менее предельными, однако не разрушающими личность, а созидающими ее в христоцентрической перспективе. И для достижимости всего этого, нам, христианам, надо стараться войти с этим сознанием в такое общение, которое в меру возможного было бы подобно общению русских старцев.
Рассмотренная проблема – всего лишь один пример, показывающий, что опыт древней аскетической традиции может быть ценным и актуальным в сегодняшней антропологической ситуации. Но исихастская антропология – как показывает ее современный анализ в моих книгах – имеет и более общее значение. В сегодняшних интенсивных поисках новой концепции человека, она выступает как источник ценных ресурсов – опытных фактов, установок, идей – для антропологической мысли. Кризис европейского человека, с обсуждения которого мы начали, имеет не только практическую сторону, связанную с новыми антропологическими опасностями и рисками; другой его важнейший аспект – кризис в понимании человека. В итоге длительного процесса, включавшего и разрушительную критику, и накопление фактов, опыта, противоречащего старым постулатам, классическая антропология Аристотеля-Декарта-Канта была признана несостоятельной в своих концептуальных основах. Эти основы включали в себя, в первую очередь, три фундаментальных понятия: сущность, субстанция и субъект; и все три, в конечном итоге, были дезавуированы в качестве философских характеристик человека. Последним и решающим этапом ухода классических концепций стал отказ от понятия «сущность человека». Ныне идет активное привлечение и изучение новых, неклассических антропологических понятий и принципов; и в эту работу аскетическая антропология способна внести важный вклад. Это в корне неклассическая антропология: имея опытную, практическую природу, она не характеризует человека никакими отвлеченными понятиями типа сущностей и субстанций, но рассматривает его как совокупность всех его проявлений, или энергий – является не эссенциальной, а энергийной антропологией.
В заключение надо подчеркнуть, что энергийная аскетическая антропология имеет под собой и прочные основания в учении Церкви, являясь всецело христоцентрической антропологией. Ее отличие от эссенциальных нормативных дискурсов не является чисто негативным: в сверхнормативных дискурсах исихастской антропологии имеет место не просто отбрасывание нормы, но замена сущностной конституции дискурса энергийной или же энергийно-синергийной конституцией, которая определяется всецелой устремленностью человека к соединению со Христом и получает догматическое обоснование в богословии Божественных энергий. Тем самым, икономия общения, равно как и нравственного действия, последовательно выстраивается аскетическою антропологией в христоцентрической перспективе. И это значит, что применение этой антропологии к современной антропологической ситуации дает освещение этой ситуации также в христоцентрической перспективе, приближая христианскую мысль к творческому осмыслению современности.
О. Георгий Флоровский (1893-1979) и оставленные им многочисленные труды занимают в истории русской мысли отдельное и своеобычное место. Они, прежде всего, далеко не умещаются в этой истории: творчество Ф. заметной и важной частью было англоязычным, а его рецепция в России до сих пор лишь зачаточна, тогда как на Западе успела основательно сложиться еще при его жизни. Другая особенность касается спектра областей этого творчества: главный вклад Ф. принадлежит христианскому богословию, распределяясь между несколькими предметными дискурсами – патрологией, экклезиологией, теологией культуры; но наряду с этим, крупное значение и влияние имеют труды Ф. по истории русской мысли, русской духовности и культуры. Эта особенность существенно сказывается и на персонологии Ф., которая лишь в малой части может рассматриваться как «философия личности». Ее основная часть – реконструкция и анализ представлений о личности у греческих Отцов Церкви и в православном учении о Церкви; другая же часть раскрывает персонологическое содержание различных страниц – эпох, движений или отдельных фигур – идейной и культурной истории России. При этом, несмотря на внешнюю гетерогенность, эта персонология, как и все творчество Ф., в полной мере обладает внутренним единством и цельностью. Признанным отличием Ф. как богослова было точное догматическое чутье, и его позиции во всем направлялись и поверялись установками веры и положениями догматики Православия. Поэтому, не получив нигде единого изложения (и, в частности, не включая систематической конституции концепта личности), будучи рассеяна по многим текстам разного времени и жанра, его персонология тем не менее являет собой цельную концепцию личности, последовательно строящуюся на принципах теоцентрического и христоцентрического персонализма. И, как в пору экуменической деятельности Ф., его позиции признавались подлинным «голосом православия», подобное значение имеет и эта персонология: в своей основе, она может рассматриваться как достоверная передача понимания личности в православии.
Культурфилософский фундамент всей персонологии Ф. – противопоставление языческой античности и христианства: античность – мир, не ведавший личности, создавший натуралистическую и космологическую картину реальности; христианство – новый мир, новизна которого заключается именно в открытии личности и решительном поставлении ее в центр бытия и истории. «Античный мир не знал тайны личного бытия. И в древних языках не было слова, которое точно обозначало бы личность. Греческое prosopon означало скорее личину, нежели лицо … и то же нужно сказать о латинском persona» (ВО4, 22). «Греки могли представить только «типическое» и ничего подлинно личного… У Аристотеля частное существование не есть личность» (ВПЭ, 238, 237), и в целом, античному разуму присуща была «космологическая установка», противоположная «персоналистской установке». Напротив, в христианстве «Бог входит в человеческую историю и становится исторической Личностью… Бог оказался настолько глубоко и лично озабоченным судьбой человека (и именно судьбой каждого из «малых сих»), что в качестве личности вмешался в беспорядок и убожество его потерянной жизни… Между Богом и человеком осуществилась личная связь» (УБМ, 214). Эта связь, которая, по Ф., есть не что иное как вера («Под верой я понимаю личное общение с личным Богом» (УБМ,214)), меняет весь характер и строй существования: «Личная встреча верующего со Христом – вот самая сердцевина всей духовной жизни православного человека» (ЭПЦ,273). С этим претворением природы существования, аналогичное персоналистское претворение должен пройти и характер умозрения: «Если вообще возможна христианская метафизика, это должна быть метафизика личностей» (ГП,293). Сравнительно с античным мировоззрением, это кардинальнейшая перемена, и поэтому «идея личности была… величайшим вкладом христианства в философию» (ВПЭ,239). Однако у самого Ф. эта идея рассматривается, как было сказано, почти исключительно в богословском и в историко-культурном дискурсе.
Рассмотрение понятия личности в рамках патрологии отвечает истории понятия: главная и важнейшая линия его формирования возникала в трудах Отцов Церкви (в первую очередь, Каппадокийцев) и определениях Вселенских Соборов. Концепция личности строится здесь в дискурсе тринитарного богословия. Существенно, что это – новый дискурс, отличный от античной философии: «Недостаточно было взять философские термины в их обычном употреблении – запас античных слов оказывался недостаточным для богословского исповедания. Нужно было перековать античные слова, переплавить античные понятия. Эту задачу взяли на себя Каппадокийцы… Св. Григорий [Назианзин] говорит обычно на языке Платона и неоплатоников… Однако на платоническом языке он выражает не платоническую мысль» (ВО4,75, 98, 100). Центральный пункт концепции – отождествление «лица» (греч. prosopon) и «ипостаси» Триединого Бога. При этом, ипостась имела сразу статус концепта, лицо же обретало этот статус через отождествление: если первоначально «понятие “лица” лишено той определенности, которая вносится в понятие “ипостаси” самой этимологией слова, -hypostasis от hyfistemi (= hypo + istemi; ср. hyparxis, hypokeimenon), причем суффикс “sis” придает коренному смыслу оттенок статический, но не динамический (не процессуальный)» (ВО4,79), – то затем, уже в период Халкидонского Собора (451 г.) «понятие “лица” чрез прямое отождествление с понятием “ипостаси” совершенно освободилось от той неопределенности, какая была свойственна ему в тогдашнем… словоупотреблении» (ВО58,92). Другим базовым понятием служит сущность (ousia, essentia); она трактуется как «общее», ипостась-лицо как «частное», конкретное, как «самостоятельное, отдельное существование». Понятие «природы» (physis), после периода колебаний, у Леонтия Византийского и Максима Исповедника окончательно сближается, вплоть до отождествления, с сущностью. На этом же зрелом Халкидонском и пост-Халкидонском этапе окончательно оформляется негативный тезис об отсутствии «человеческой ипостаси», т.е. самостоятельного личного начала в эмпирическом человеке. Данный тезис доставляет и окончательное размежевание с «антропологической» персонологической парадигмой, развитой в западной метафизике и раскрывавшей концепт личности категориями субъекта и индивида, сопоставляемыми эмпирическому человеку. «Понятие «ипостаси» должно быть отграничено… от понятия «индивида»… «ипостась» не есть то же что индивидуальность» (ВО4,80).
Так складывается «теологическая» (тринитарная) персонологическая парадигма (ТПП). Но, помимо концепции Божественной Личности, она включает другую необходимую часть: положения о «человеческой личности», а точнее, о связи эмпирического (тварного падшего) человека с Божественной Личностью. Они более тесно связаны уже с христологическим богословием Византийских Отцов и поздних Соборов V-VIII вв., разбираемым во второй из двух знаменитых патрологических монографий Ф. Ведущей идеей здесь служит идея или парадигма причастия: человек конституируется как личность исключительно в своем приобщении, причастии Божественной Личности, конкретно же – Ипостаси Христа, соединившегося с человеческою природой Сына-Логоса. «Личностное начало… личностный характер можно удержать только в постоянном контакте с Богом» (НТ,206). Первым выражением парадигмы причастия стала концепция обожения (theosis), впервые находимая у Афанасия Александрийского и получающая зрелую форму у Григория Богослова: «Под «обожением» … Григорий разумеет не превращение естества, не пресуществление, но всецелую причастность, сопроникнутость Божеством» (ВО4,116). Затем эта концепция уточняется посредством более тонких и детальных понятий «воипостазирования» и «олицетворения»: по Леонтию Византийскому, «В единую ипостась Богочеловека … восприемлется и как бы «олицетворяется» (enprosopopoiese!) человеческое естество – и при этом Божественная Ипостась остается простой и неизменной, как и до соединения… Человеческое естество восприемлется в самую Ипостась Слова» (ВО58, 124, 125). Со временем обожение выявилось как одно из краеугольных понятий православного богословия; но при всем множестве его функций, одною из главных остается установление связи антропологии с персонологией, приобщение человека – Личности: «Здесь [в обожении] имеет место тайна личного общения. Теозис означает личную встречу. Это то глубокое общение человека с Богом, в котором всё человеческое существо как бы проникнуто Божественным присутствием» (ГП,289).
Одна из основных тем философской персонологии – проблема идентичности. Описываемая у Ф. ТПП греческих Отцов не доходит въявь до этой проблемы, однако приближается к ней при обсуждении Новозаветного обетования воскресения во плоти, вызывающего неизбежные вопросы: воскреснет ли «тот же самый» человек? и как следует понимать «тот же самый»? Трактовка этой темы у Григория Нисского может рассматриваться как первое (имплицитное) решение проблемы идентичности в христианской мысли: по Григорию, у каждого человека есть «eidos, внутренний образ, идея или форма тела… это… идеальное лицо человека… В падениях оно искажается или вернее «закрывается чуждой личиной»… По этому «облику» в воскресении душа «узнает свое тело как отличную от других одежду»… Сохранится не только единство субъекта, но и тождество субстрата – не только индивидуальное тождество личности, но и непрерывность вещества» (ВО4, 175, 182). Далее, Ф. затрагивает и этические аспекты персонологии. Проблема зла трактуется им как сугубо личностная: «Зло, в строгом смысле, существует только в личностях… это извращенная личностная деятельность. Но эта деятельность неминуемо переходит в безличностное. Зло деперсонализует личность. Правда, полной обезличенности достичь невозможно. Даже бесы никогда не перестают быть личностями» (НТ,206). Теснейше связаны со злом страсти. «Страсти суть место, гнездилище зла в человеческой личности… Страсти всегда безличны, они суть средоточие космических энергий, превращающих человеческую личность в своего узника, своего раба… Страстный человек, «человек, обуянный страстями»… теряет свою личность, личностную идентичность. Он становится хаотическим, противоречивым существом со множеством лиц, точнее, масок» (НТ,206).
Интерсубъективная и социальная проблематика, необходимо входящая в любой опыт персонологии, в рамках ТПП рассматривается на базе учения о Церкви. Экклезиология – одна из главных сфер творчества Ф., где труды его заслужили мировую известность; и персонология его прочно укоренена в экклезиологии: это – существенно церковная персонология. Такую укорененность создает, в первую очередь, развитая им концепция «кафолического преображения личности» при ее вхождении и включении в соборное единство Тела Христова. В Церкви происходит «кафолическое преображение человеческой души… через отречение от замкнутости и самодовления. Однако это отречение не есть погашение личности, не есть растворение личности во множестве. Напротив, оно есть расширение личности, включение многих и чужих «я» в свое внутреннее «я»… В этом и заключается подлинная тайна Церкви» (БО,134). Данная концепция – развитие православного богословия соборности, идущего от Хомякова, и, как всегда в этой богословской линии, ее позиции противопоставляются трактовке личности в западной теологии и метафизике. Кроме того, по Ф., «кафолическое преображение личности» в Церкви означает обретение способности совершенного общения личностей, подобного общению-перихорисису Ипостасей Св. Троицы. «В естественном сознании понятие личности есть начало разделения и обособления… различение между «я» и «не-я». А в Божественной жизни нет этого рассечения на «я» и «не-я». В Церкви по Троическому прообразу смягчается и снимается эта непроницаемость «я» и «не-я», взаимная непроницаемость многих «я»… Однако… кафоличность – это вовсе не корпоративность или коллективизм… кафолическое сознание отнюдь не родовое и не расовое… Кафоличность есть строй, порядок или уклад личного сознания… Это телос личного сознания, осуществляемый в творческом развитии, а не путем упразднения личного начала» (БО, 134, 146, 147). При этом, важное отличие концепции кафоличности (соборности) у Ф. – полная преодоленность в ней почти неискоренимого свойства русских теорий соборности: хотя бы частичного примата, подавления личного начала общественным. Избежать этого свойства позволяет принцип прямого личного Богообщения, неоспоримо утверждаемый православным богословием, но бывший долгое время отодвинутым, забытым. Ф. вновь выдвигает его на первый план: «Личностное не должно быть принесено в жертву корпоративному, растворено в нем, … [ибо] каждая личность находится в прямом и непосредственном единении со Христом и Его Отцом» (Ц,195).
В довольно обширном корпусе текстов, объемлющем почти все его творчество 20-х гг. и многие работы 30-х, Ф. выступает как культурфилософ и историк идей, исторический эссеист и портретист; конкретным материалом для этих текстов служит всегда история России. Персонологическое содержание данного корпуса двояко. Во-первых, во всех анализах исторических и идейных явлений, всех портретах и проч., Ф. выступает как стойкий персоналист: принцип личности и место, ему отводимое, служат главным критерием значимости, ценности и истинности явления. (Так, на основании этого критерия он ставит особо высоко Герцена и Достоевского как истовых поборников личности; объясняет «великий раскол» на западников и славянофилов «различным пониманием идеи личности»; отвергает учение Н.Федорова за то, что в нем «нет места для осуществления личности», и т.д.) При этом, в ранних работах он скорей стихийный персоналист: хотя личность решительно принимается в качестве критерия для оценки (ср.: «Личность должна быть подлинным критерием и направляющим заданием культурного творчества» (ПС, 128)), какой-либо отчетливой концепции личности у него еще нет. С этим связан второй момент: постепенно указанная концепция намечается, начинает вырисовываться – и в знаменитых «Путях русского богословия» (1937) достигает достаточной определенности. Важно заметить, что эта намечающаяся концепция личности не есть точно та же ТПП, которая реконструируется в патрологических и экклезиологических трудах Ф.; но она и не противоречит ТПП, а дополняет ее. Здесь нет догматического дискурса Божественной Личности; речь идет об узрении личностного содержания существования и пути человека.
В немецкой статье «Evolution und Epigenesis» (1930) Ф. пробует построить философскую концепцию личности. Он исходит из оппозиции личность – организм, характеризуя динамику органического бытия понятиями развития и эволюции, а динамику личности – взятым из биологии понятием эпигенезиса: «Становление личности не есть развитие… Его можно определить как эпигенезис, ибо в нем происходит… возникновение сущностно нового, приращение бытия» (EE, §5). Главное свойство личности – свободное целеполагание: «Человек сознает себя как личность именно в том, что воспринимает и ощущает себя в мире заданий», причем его задания выводят его «за горизонт природного становления»: «Человек обретает и осуществляет себя… в превосхождении своей врожденной, природной меры, в «исступлении из себя», и в этом становится личностью» (EE, §5). Но эта попытка трактовки личности вне специфически христианского контекста осталась изолированной. Персонология Ф. практически полностью интегрирована в этот контекст; в согласии с тезисом о христианской природе личности, ««Оправдание личности» приводит нас к… вере в Триединого Личного Бога… Если нет Бога как Лица, то нет … и лица в человеке» (ВМИ,202, 204). Eo ipso, «лицо в человеке» – не просто личность, но «христианская личность», которой Ф. иногда противопоставляет «обособившуюся личность», аналога «индивида» западной философии. «Христианская личность» – ключевая категория теологии культуры Ф. Она не дана человеку изначально, но составляет для него предмет созидания, строительства, так что реализация личностных потенций человеческого существования есть «процесс духовного и нравственного сложения христианской личности» (ПРБ, 21).
Природа этого процесса определяется двумя принципами, которые в обычном понимании едва ли не противоположны друг другу, но у Ф. предельно сближаются: это – аскеза и творчество. Сближение достигается за счет переосмысления творчества: у Ф., это – деятельность человека прежде всего во внутреннем своем, а не внешнем мире, а «внутреннее творчество» и есть не что иное как аскеза: «Аскеза – творческая работа над собой, творческое созидание своего Я» (ХЦ, 224). Но и аскеза, по Ф., не чисто интроспективная активность, но особый строй сознания и человека, дающий ему осилить мирские проблемы и стихии; это – «преодоление мира… через становление новой личности, [что] можно назвать путем культурного творчества» (ПРБ, 22). Понятые друг через друга, аскеза и творчество вкупе определяют строй или модус ориентированного на личность существования человека. Ему присущи «нравственно-волевая ответственность… собранность духа… цельность жизни, опыта и видения» (ПРБ, 4). Противопоставляется ему другой строй, где происходит не строительство, а разложение личности: его характеризуют утопизм, мечтательность, «стихийная безвольность», «кружение помыслов и страстей».
В итоге, культурфилософская персонология Ф., в строгом смысле не вполне согласующаяся с богословской (семантика и коннотации «личности» и «лица» в двух разделах существенно различны), по существу, так же нераздельно едина с нею, как христологическое богословие – с тринитарным.
Как мы видели, персонология Ф. – ни в коей мере не обособленная концепция, она с самого начала возникает как выражение позиций патристического богословия, или «христианского эллинизма». По выдвинутой Ф. концепции «неопатристического синтеза», ориентация на это богословие не является консервативной и архаизирующей установкой, ибо оно обладает непреходящим нормативным значением для христианского разума. Эта концепция принята современным православием, и неопатристическая персонология Ф. вошла в основу последнего этапа православного богословия – «богословия личности», активно развиваемого сегодня православными богословами и философами, такими как митроп. Иоанн (Зезюлас), Хр.Яннарас и их последователи. С другой стороны, в построении этой персонологии существенную роль играют противопоставления и отмежевания. Основные из них уже отмечались: это дохристианское «натуралистическое» и «космологическое» мировоззрение и наследующая ему западная философия и теология. Один из конкретных адресатов полемики Ф. – протестантизм: «В протестантских кругозорах… все человеческие действия относились за счет Божией воли и силы… Гегель раскрыл эту тайну протестантизма, Фейербах договорил ее до конца: из этого пленения личности в тенетах «хитрого разума» оставался единственный выход – в формальный субъективизм кантианского типа» (ЕС,202). Концепты субъекта и индивида, базовые для западной персонологии, встречают разное отношение. Индивид, индивидуальность
воплощают тенденцию обособления, препятствующую созиданию христианской личности: «Уединенный, ограниченный, самодостаточный индивид – это продукт преувеличенного абстрагирования» (ПН, 214), «Личность есть нечто несоизмеримо большее, чем индивидуальность» (ОСК, 92). Субъект же – скорее нейтральный термин, допустимый и в контексте ТПП, ср.: «Возникает рядом с Богом вторая, иносущная Ему «сущность», или природа, как отличный от Него и в известной мере самостоятельный и самодеятельный субъект» (ТТ, 39). Однако уже «трансцендентальный субъект» – специфическая принадлежность западной парадигмы, несовместимая с христианской личностью: «Человек отвлекается от самого себя, обезличивает себя… превращает себя в «трансцендентального субъекта». … «Трансцендентальный субъект» никогда не услышит… голоса Божия… И не к «трансцендентальному субъекту», не к безличному «сознанию вообще» говорит Бог. Бог Откровения говорит к живым людям, эмпирическим субъектам» (БО, 124-125). Наконец, еще одна линия полемики порождается оппозицией личность – организм. Из выражений органической парадигмы, Ф. обсуждает концепцию культурно-исторических типов, морфологический подход к истории, а в плане конкретном – теории романтиков, поздних славянофилов, евразийцев и др. Он последовательно критикует их представления о личности, показывая, что в них «личное теряет самостоятельность, растворяясь в родовом» (МПУ, 88).
ПС – Письмо к П.Б.Струве об евразийцах (1922) // Из прошлого русской мысли. М., 1998. Открытое письмо
ВМИ – В мире исканий и блужданий. III. Пафос лжепророчества и мнимые откровения (1924) // Из прошлого русской мысли. М., 1998. Статья в научном журнале
ПН – Памяти П.И.Новгородцева (1924) // Из прошлого русской мысли. М., 1998. Статья в научном журнале
МПУ – Метафизические предпосылки утопизма (1926) // Вопросы философии, 1992, №10. Статья в научном журнале
ЕС – Евразийский соблазн (1928) // Новый мир, 1992, № 1. Статья в литературном и научном журнале
ТТ – Тварь и тварность (1928) // Избранные богословские статьи. М., 2000. Статья в научном журнале
ОСК – О смерти крестной (1930) // Избранные богословские статьи. М., 2000. Статья в научном журнале
EE – Evolution und Epigenesis (1930) // Der Russische Gedanke. 1930, Heft III. S.240-252. Статья в научном журнале
БО – Богословские отрывки (1931) // Избранные богословские статьи. М., 2000. Статья в научном журнале
ВО4 – Восточные Отцы IV в. Париж, 1931. Монография
ВО58 – Византийские Отцы V-VIII вв. Париж, 1933. Монография
ПРБ – Пути русского богословия. Париж, 1983. (1-е изд. – Белград, 1937). Монография
Церковь: Ее природа и задача (1948) // Избранные богословские статьи. М., 2000. Доклад. (Англ. оригинал: The Church: Her Nature and Task)
НТ – Ночная тьма (1948) // Избранные богословские статьи. М., 2000. Статья в научном журнале. (Франц. оригинал: Tenebrae Noctium: Position d’un chrétien de l’Eglise Orthodoxe russe)
УБМ – Утрата библейского мышления (1951) // Избранные богословские статьи. М., 2000. Статья в научном журнале. (Англ. оригинал: The Lost Scriptural Mind)
ХЦ – Христианство и цивилизация (1952) // Избранные богословские статьи. М., 2000. Статья в научном журнале (Англ. оригинал: Christianity and Civilization)
ВПЭ – Век патристики и эсхатология. Введение (1955) // Избранные богословские статьи. М., 2000. Доклад. (Англ. оригинал: The Patristic Age and Eschatology. An introduction)
ЭПЦ – Этос Православной Церкви (1959) // Избранные богословские статьи. М., 2000
ГП – Св. Григорий Палама и предание Отцов (1960) // Избранные богословские статьи. М., 2000. Доклад. (Англ. оригинал: St. Gregory Palamas and the Tradition of the Fathers)
А. Эмпирический горизонт семантики молчания (которым исчерпываются все трактовки понятия во внерелигиозных контекстах). В этом горизонте, молчание означает отсутствие внешней речи, молчание уст; и поскольку такая речь – акт коммуникации, то молчание здесь – коммуникационная категория, означающая отсутствие вербальной коммуникации. (В отличие от этого, тишина, отсутствие звука, не есть коммуникационная категория.) Как негативная или привативная характеристика, знак отсутствия, молчание имеет специфическую семиотическую природу, что сказывается на структуре и свойствах продуцируемого им семиозиса. Внутренняя речь, речь ума, здесь трактуется как род молчания: «молчун» говорит сам с собой, монах-«молчальник» говорит с Богом.
В. Онтологический горизонт семантики молчания возникает, когда в коммуникационную ситуацию включается и внутренняя речь, за счет того что Другой (коммуникационный партнер) способен к восприятию этой речи; в этом случае коммуникация носит мета-эмпирический характер и представляет собой Богообщение. Духовные традиции и мистические учения выделяют здесь два рода молчания: поскольку коммуникационные партнеры резко (онтологически) разноприродны, то существенно различны и их молчания. Для человека в Богообщении, молчание – прямое усиление молчания в обычной эмпирической коммуникации: это – отсутствие, умолкание также и внутренней речи, молчание ума. Наряду с ним, в данной мета-эмпирической коммуникации можно говорить и о молчании Бога, причем здесь, в свою очередь, априори мыслимы две различные ситуации: когда отсутствие коммуникации объясняется либо несовершенством, несостоятельностью человеческих попыток к ней, либо внутренним свойством самой Божественной реальности. Первой ситуации отвечают состояния Богооставленности в мистическом опыте, второй же – ряд учений гностической и спекулятивной мистики, утверждающих молчание как предикат Божества.
Названные градации указывают лишь главные разграничительные линии в сложноустроенной, изощренной номенклатуре молчания как феномена духовной практики и шире, духовной жизни. Но даже эти основные виды молчания часто смешиваются и сливаются; в частности, это имеет место в трактовке исихазма у С.С.Аверинцева.
В богословии возникают, очевидно, вопросы об отношении молчания к предикатам Божественного бытия, ставимые и разрешаемые весьма различно в разных духовных традициях и разных христианских конфессиях. Так, в Православии, где современное богословие характеризует Божественное бытие как личное бытие-общение, отправляясь от трактовки молчания в исихастском опыте, возможно рассмотреть отношение молчания к таким догматическим концептам как ипостасное общение, перихорисис, обожение.
В обширной психологической проблематике нам представляются наиболее интересными вопросы о трансформациях внутренней речи, сопровождающих восхождение по ступеням практики и разрешающихся в молчание ума. Мы покажем, что молчание ума носит глубоко парадоксальный характер: в противоположность молчанию уст, оно означает не отсутствие коммуникации, но, напротив, ее наиболее совершенную и полную форму, мета-эмпирическую и вневременную. Анализ внутренней речи на вершинах духовной практики приносит ценные данные и выводы для ряда принципиальных проблем исследования мышления и сознания, таких как мысль и слово (мысль за пределами вербальности), мысль, речь и темпоральность и др. В частности, если в психологии рядом авторов, от Выготского до Зинченко, описывались протовербальные механизмы и модусы мышления, то анализ феноменов мистического опыта позволяет говорить о существовании также своеобразных «поствербальных» модусов: в них (внутренняя) речь прекращается как темпоральный процесс, но при этом претворяется, «сгущается» в некую, условно выражаясь, экстра-вербальную и экстра-темпоральную форму, которой присуща предельная смысловая насыщенность.
В историю русской мысли, русской культуры Владимир Сергеевич Соловьев входит не только своим творчеством. Особой малой традицией в эту историю входит также обычай отмечать дату его кончины, обычай поминок по Соловьеву. Отчасти такую традицию, видимо, породил известный танатоцентризм русского и православного сознания, их поглощенность темой смерти и воскресения: как не раз отмечали, русская культура соловьевской эпохи была своего рода культурой поминок, в которой особо значимыми событиями служили кончины и юбилеи кончин духовных лидеров и учителей. В частности, и у Соловьева в числе его заметных текстов найдем «Три речи в память Достоевского» и «Три характеристики» почивших коллег-философов. Но еще весомей и важней то, что независимо от всех общих факторов, от реакции общества, кончина мыслителя оказалась глубоко насыщенным духовным событием, к которому мы еще вернемся.
Затем есть и еще ряд ликов, что вошли в образ Соловьева, выражая разные грани его главного отличия: отличия, которое воспринималось как его странность, чуждость всему привычному, всякому земному укладу. Это – излюбленные, хрестоматийные облики: Соловьев – мистик-визионер, Соловьев – странник, Соловьев – аскет, юродивый, эксцентрик, чудак… они не выдуманы, они необходимы и органичны в образе, однако по их хрестоматийности на них нет нужды останавливаться сейчас. И после них остается, пожалуй, всего один лик, последний и самый важный для нас. Соловьев – первый русский мыслитель, построивший свою философскую систему и ставший основателем религиозно-философской традиции. Признаем, что это тоже символический лик: отец-основатель приобретает в ретроспекции черты архетипа, становится символом того, чему начало он положил. При внешней разветвленности и разрозненности, мысль Соловьева обладает тесным ядром из ряда крупных взаимосвязанных концепций большой продуктивности. Концепция Богочеловечества выступает производящим принципом динамической, процессуальной картины мира и бытия, философии истории и эсхатологии. Концепция Всеединства универсальна: если назвать лишь главные ее линии, она определяет онтологию, задает принципы теории цельного знания, связуется с методом критики отвлеченных начал и служит методологическим принципом, который доставляет как способ создания понятий, так и способ композиции, объединения всех разделов философской системы. Наконец, мифологема Софии у Соловьева тоже становится концепцией, многоплановой и многофункциональной: она внедряется в конструкцию всеединства, подчиняясь задаче ее согласования с тринитарным и христологическим богословием; она служит соединительным звеном, позволяющим ввести в философию многие реалии религиозно-мистического опыта; и наконец она сообщает системе Соловьева эстетическую окраску и некое недосказанное, невыразимое до конца присутствие женственного начала.
Как неоднократно писали, этот идейный комплекс удачно соединял в себе установки классической европейской философии и интуиции русско-православной ментальности, найдя некую равнодействующую, точку встречи между профессиональным философским дискурсом и славянофильскими поисками выражения аутентичного опыта русской и православной культуры. Отсюда открывались творческие возможности, и они оказались немалыми. По праву можно сказать, что весь период расцвета русской религиозной философии, или же религиозно-философский ренессанс, был лишь реализацией того мощного импульса развития, который задала русской мысли философия Соловьева. И это значит, что в очередной раз феномен Соловьева выступает как символ: символ плодотворного единения начал западного и русско-православного разума.
То, что мы бегло описали, есть канонический образ Соловьева, каким его вылепили прямые наследники, русский символизм и Религиозно-философский ренессанс. Удивительно, что последующая история, вплоть до наших дней, почти не внесла в этот образ существенных изменений. Культурное сознание менялось радикально, на смену символизму пришли другие течения, за ними третьи, сменились сами принципы видения и подхода к реальности – но созданный символизмом образ Соловьева остался, быть может, самым устойчивым его наследием. Альтернативные версии были немногочисленны и слабы. Конечно, они начали возникать еще прежде канонического образа, в порядке неизбежной реакции на странность и новизну феномена Соловьева. В консервативных церковных кругах у философа не могла не родиться репутация безумца (таково было прочное мнение Победоносцева), лжепророка («Ложный пророк» – название известной статьи Антония Храповицкого о Соловьеве), ересиарха. Забавным образом, отсюда недалеко и восприятие Соловьева в кругах, прямо противоположных, «передовых»: в среде безрелигиозной интеллигенции, позитивистски настроенной профессуры… Для полноты можно упомянуть и рецепцию Соловьева в «советской философии», где он выступал в качестве ведущей фигуры лагеря мракобесов-идеалистов, чьи лжеучения помогали держать массы под ярмом угнетателей. Понятно, что все такие подходы не порождали и не могли породить состоятельной альтернативы символистскому образу. Единственным дополнением к нему были штудии отдельных тем творчества или биографии мыслителя.
Это отсутствие продвижения отражает судьбу всей традиции русской религиозной философии. Религиозно-философский ренессанс, современный русскому символизму и типологически коррелативный ему, остался последним этапом ее творческого развития. Мысль диаспоры была в философском отношении только подведением итогов. Никакой новый цельный этап не возник, не сформировался до сих пор; но только такой этап мог бы создать новый полноценный образ Соловьева во всей его многомерности. Итак, есть неразрывная связь между судьбой образа, судьбой наследия Соловьева и судьбой всей традиции русского религиозного умозрения. Судьба же традиции сегодня открыта и подвопросна. В постсоветской России религиозная мысль (как, впрочем, и мысль вообще!) не заявила еще себя творческой мыслью; перед нею задача перейти от школьного освоения своего наследия к его творческому приумножению. Новое современное понимание Соловьева – часть этой магистральной задачи, и сейчас мы можем лишь попытаться обозначить начальные подступы к нему.
Переход к новому образу требует оттолкнуться от старого. Оттолкнуться же для философа значит предельно приблизиться: так, чтобы в смысловом облике различилось противоречащее и противоположное старому образу. Сегодня в мире культурных символов для этой вечной критической установки мы находим удобной рабочую форму деконструкции. В «Даре» Набокова есть известная метафора, как бы резюмирующая, что делает там автор с образом Николая Чернышевского. При крутой перемене – бедствии, переезде, перестройке – люди отбирают нужнейшее из своего добра, и отчего-то выходит так, что на почетном месте среди самого сберегаемого торчит массивный портрет бородатой личности, которая собственно неизвестно кто – дедушка чей-то из Ростова, а может нет… Вот образцовый пример деконструирующей метафоры культурного символа. На практике методу часто придают окраску идейного развенчания или постмодернистского карнавального прикола, но это никак не обязательно – он есть попросту современная версия критического самоанализа культуры. В этом смысле, проведение через деконструкцию есть неизбежная судьба культурного символа: способ его рефлексии в системе культуры и условие его эффективности в этой системе.
Вся эта линия визионерской мистики, включая и Соловьева, отличается характерной структурой опыта. В своем полном строении, мистический опыт имеет три сферы: 1) «сырой опыт», или непосредственные данные восприятия и переживания, 2) процедуры испытания и удостоверения, очищения и проверки опыта, 3) претворение, истолкование опыта. Поскольку область мистики изобилует всевозможными явлениями ложного опыта, то вторая из этих сфер критически важна, и степень ее развития есть показатель подлинности и достоверности опыта. Основные критерии и процедуры, входящие сюда, сверхиндивидуальны, интерсубъективны, они вырабатываются и функционируют в лоне той или иной традиции, школы опыта, и потому, в частности, христианская мистика (если оставить в стороне мистику чисто спекулятивную) в своих наиболее полноценных образцах церковна. Но отличительная черта индивидуалистской и внецерковной мистики софийного визионерства – практически полное отсутствие сферы проверки опыта – даже самого понятия, самой инстанции таковой проверки. Опыт здесь остается неочищенным, «грязным» опытом, и в структуре духовного события оказывается существенная лакуна, зияние: происходит своего рода «короткое замыкание», когда от сырой материи восприятия тут же переходят к далеко идущим философским и богословским обобщениям. Меж тем, не вульгарные материалисты, а основатели христианской мистики, отцы-пустынники предостерегали, что видения могут, скажем, являться «от прикосновения к известному месту мозга и от воспаления в нем жил» (Евагрий Понтийский, IV в.). Насколько известно, ни сам Соловьев, ни его критики не поднимали вопрос о характере и структуре его опыта. Но вопрос этот, помимо собственной важности, выводит и к ряду новых тем.
Во-первых, мы уже можем провести типологическую границу, отделив мистический опыт Соловьева (а с тем, и все построения на его базе) от мистико-аскетической традиции православия, и вообще от всякой развитой школы духовного опыта. Все подобные школы стоят на сращении опыта мистического и опыта аскетического в строгую дисциплину или духовный метод, в рамках которого и создается структура из трех сфер, сырого опыта – его очищения – его претворения. Соловьев же был всегда крайне аскетичен, но свою мистическую жизнь и свой аскетизм он вовсе не соединял меж собой. Сферы мистики и аскезы были радикально разорваны, и этот разрыв существен. Начав с лакуны в структуре опыта, мы обнаруживаем эти же элементы лакуны, зияния, разрыва в структурах поведения и самой личности. В структурах опыта мы находим не только отсутствие сферы очищения и проверки, но вообще отсутствие метода и дисциплины; и это же отсутствие метода и дисциплины – характернейшая черта модели поведения философа. Далее, мистико-аскетический опыт холистичен, он включает и телесный аспект, причем дискурс тела также интегрируется в единую организацию опыта. У Соловьева же разрыв мистики и аскезы порождает и в этом аспекте момент разрыва: своего рода разрыв личности и естества. Естество его, покинутое вне делания, что поглощало душу и дух, но третируемое бесцельной и беспорядочной аскезой, расшатывалось, приходило в дисгармонию с целым – и вот, будучи отроду наделен отличной физикой организма, он к сорока годам имел эту физику в руинах, выглядел вдвое старше чем был и не мог работать без помощи красного вина… Но дискурс тела у Соловьева, в плане и творчества, и личности, – глубокая тема, сулящая неожиданности, и мы к ней еще вернемся, обсуждая судьбы Софии.
Итак, за сырым опытом видений у Соловьева следуют тут же выводы из него, философское и богословское истолкование. Ущербная структура опыта не может не сказаться на этом истолковании: отсутствие установки очищения и углубления опыта характеризует уже и качество мысли. Мысль очарована и разгорячена, прельщена представшим видением, и она уверена, что в нем ключ ко всем тайнам мира и бытия. Под этим импульсом она начинает возбужденно, неудержимо двигаться, чертить схемы, строить конструкции мироздания, теогонии и космогонии… Поскольку же мысль здесь не занимается собой, она строит из готовых материалов, беря их повсюду и, в первую очередь, из предшествующих построений того же рода. В итоге, первым претворением софийного опыта Соловьева оказывается глобальное схемостроительство или, как он выразился, «синтез всех религий и синтез религии, философии и науки». Языком этого претворения служат каббала, гностицизм, поздний Шеллинг, а историко-культурным контекстом – вся маргинальная, парафилософская аура европейской мысли – натурфилософская мистика Ренессанса, герметизм, оккультизм, масонство… – и сам Соловьев вполне адекватно именует этот жанр мысли, отделенный от большой философской и богословской традиции, теософией. Большая философская традиция оказывается почти в стороне, поскольку уровень рефлексии в целом не достигает ее, а большая богословская традиция – поскольку она не может отвести желаемого места Софии.
Ранняя схематически-гностическая транскрипция опыта очень скоро сменяется другой, и эта смена – принципиальный рубеж: здесь происходит рождение философа. Удивительно быстро, за два-три года, на свет появляется триада, в которой заключена полновесная философская система Соловьева: «Философские начала цельного знания» – «Чтения о Богочеловечестве» – «Критика отвлеченных начал». Недостаточно видеть в этом явлении лишь новое прочтение софийного опыта, новый род служения Рыцаря Софии. Здесь выступает новый лик его образа, нераздельный с софийным ликом, и все же с ним (вопреки этимологии!) неслиянный: лик философа. Философский дар Соловьева проявлялся у него изначально, и первой, исконной формой проявления было видение вещей и явлений, всей целокупности бытия под знаком всеобщего единства: всеединства. Эта древнейшая философема, , возникает у него уже в самом раннем сочинении, “Мифологический процесс в древнем язычестве”. Наряду с мистическим мотивом Софии, философская интуиция всеединства есть первоэлемент творческой личности Соловьева, ее питающий корень и исток. Но всеединство далеко не было его открытием, не было новым руслом; и обладай он лишь этим питающим истоком, он был бы обречен на философские повторения. Аналогично, будь таким истоком одна София, он занял бы в истории мысли столь же видное место, как Гихтель и Готфрид Арнольд. То, что создало философский феномен Соловьева, есть соединение его двух истоков: встреча Софии и Всеединства.
Система Соловьева – прямой плод этой встречи. Нет никакой нужды излагать здесь ее содержание, сегодня оно излагается в учебниках. Но стоит напомнить, что значило появление этой системы и к каким следствиям оно привело. Как ясно видно в оптике вековой дистанции, значение события было очень различным в разных философских контекстах. Разумеется, самую крупную роль появление системы сыграло в истории русской философии. Описывать эту роль также нет никакой нужды; общепризнано, что философия Соловьева открыла новый период русского философского развития, она изменила сам тип русского философствования и вывела русскую мысль не только на новый этап, но и в новый статус. Труды Соловьева доставили русской религиозной мысли язык и аппарат для выражения ее тем и создали рабочий фонд для ее развития на уровне профессионального дискурса европейской философии. Они же задали мощный импульс этому развитию, очертив ряд проблемных полей и указав пути разработки их. Они несли призыв к продолжению работы, начатой в них, и этот призыв подхвачен был скоро и энергично.
Напротив, в контексте европейской философии система Соловьева никак не могла иметь такого звучания. Все новое, что было в ней для России, не было столь новым для Запада. Для европейского философского процесса она не предлагала свежих возможностей и не имела особой близости с современными ей течениями. В своих устремлениях, своем пафосе она перекликалась с теми поисками обновления европейской мысли, что отвергали господствовавший позитивистский, сциентистский, формалистический дух и воплощались всего наглядней в творчестве Ницше и Бергсона. Но такая перекличка еще не означала идейной близости, и притом эти устремления мысли Соловьева пока были ею реализованы очень несовершенно. Идеи и тенденции, приближающиеся к будущим путям европейской мысли, получат реальное развитие у Соловьева только поздней.
Несовершенства системы острей всего чувствовал сам автор. С позиций самого Соловьева, в свете его проектов система видится наиболее негативно: как неудача. Она не удовлетворила его и была им оставлена. Причины прозрачны: в системе должны были воплотиться оба главные лика Соловьева, соединенные в двух смыслах слова «философ», служитель Софии и служитель философии; и оба воплощения оказались бледными и искаженными.
Как философский феномен, система не стояла на уровне поставленных ей заданий и самого философского дара Соловьева. Задания требовали создать и представить в действии цельный альтернативный способ философствования: альтернативный уже не только позитивизму, как в первой диссертации, но всей европейской метафизике Нового Времени и ближайшим образом, немецкому идеализму. При всей грандиозности, в таком задании, в отличие от ранних гностических спекуляций, не надо видеть налет mania grandiosa. В жизни философии, как всякой жизни, есть органические ритмы застывания – обновления, и обновления достигают тут лишь возвратом к истокам, новой рефлексией на первоосновы философского дискурса. Застывание же типично выражается в формализации дискурса, господстве отвлеченных догм и конструкций – и мы видим в ретроспективе, что философское чутье Соловьева было точным: в европейской мысли его эпохи действительно назрела нужда в очередном очищении от отвлеченности. Поздней оно было проделано многими способами и закрепилось в конце концов в формуле «преодоление метафизики». Итак, соловьевский замысел был оправданным и даже по-своему традиционным; но столь же традиционным был и корень неудачи: исполнение – не на уровне замысла.
Ключ к новому способу философствования указан был в переходе от старых, отвлеченных понятий к новым, названным положительными или религиозными. При этом, «отвлеченность» философ определил как «гипостазирование предикатов» и на этом основании признал бытие отвлеченным началом, а сущее – положительным. Однако любая аналитика понятий – сегодня тут можно сослаться на Хайдеггера – говорит, что в аспекте отвлеченности, абстрактности сущее (Seiende, ens, ) нисколько не предпочтительней бытия (Sein, esse, ). Отказ от бытия в пользу сущего участняет онтологию, но отнюдь не снимает отвлеченности, и то, что выдвинул Соловьев, есть лишь формальный, отвлеченный прием, дающий иллюзорное преодоление отвлеченности. Для настоящего преодоления, как сегодня известно, нужна была не формальная, а содержательная трансформация дискурса, его обогащение новыми измерениями – энергийно-деятельностными или экзистенциальными, персоналистскими, диалогическими и т.п. Такое преодоление отсутствовало в системе и начало появляться у Соловьева куда поздней, в разработках 90-х годов. Это отсутствие содержательной идеи не-отвлеченного сказалось и в том, что Соловьев не нашел адекватного термина для неотвлеченных начал и прибег к явно неудачному, «положительные начала»: положительные – то же что позитивные, а позитивная философия резко им отвергалась. Далее, в принципах построения система никак не выходила из стереотипов отвлеченного конструирования. Все философские разделы строились по стандартному образцу: избиралось верховное понятие, некоторый образ Положительного Всеединства, и из него триадами, путем дедукции гегелевского типа, изводились понятия производные. Суммарное целое несло типичные пороки системного философствования. В нем были широта охвата, богатая система понятий, но в то же время – эклектика, влияния Канта и Шопенгауэра (которые поздней отмечал сам автор), Гегеля и Шеллинга (о которых он, напротив, не говорил), а главное – это целое не достигало своих основных целей. Но, хотя сам Соловьев уже вскоре отошел от своей системы, в дальнейшем она неоправданно заняла центральное место в его наследии. Этот дефект рецепции повторится потом с Флоренским: первое крупное свершение, яркое, но для самого автора только начинательное, несущее печать раннего несовершенного опыта, – закрепляется в восприятии его творчества как главное, что связано с его именем, заслоняя окончательное и зрелое.
С софийными заданиями обстояло не лучше. София не заняла в системе места премирной царицы – владычицы, хотя именно этого требовал мистический опыт. Центральное и верховное место заняло всеединство, София же, как вводится она в 7-м Чтении о Богочеловечестве, выступает всего лишь одной из его репрезентаций. Меж тем, для софийного опыта соотношение в точности обратно: всеединство и другие философские категории лишь по-разному репрезентируют Софию, отчасти раскрывая, а отчасти скрывая ее, служа, если угодно, ее учеными псевдонимами. Все эти псевдонимы, и вместе и по отдельности, заведомо не могли явить Царицу-Софию в том сиянии, с той силою личного присутствия, какие являла она в Трех Свиданиях. И Рыцарь Софии не признал построенную им систему достойным выражением облика Подруги Вечной.
Итак, задания оставались, и Соловьев не мог не вернуться к ним. Через десять лет он делает решительную попытку въявь, эксплицитно утвердить Софию на подобающем ей месте в сфере философии и богословия. И эта новая попытка, что совершается в третьей части книги «Россия и Вселенская Церковь», тут же фатально увлекает его на скользкий путь ранней его «Софии». Конечно, «жизни годы прошли недаром», и Соловьев не может уже писать на жаргоне из смеси гносиса, каббалы и упрощенного Шеллинга. Но он обнаруживает, что кроме гностического мифа, уклона в гносис, нет попросту никаких иных путей, чтобы развить онтологию как софиологию, сделать Софию самостоятельной и центральной фигурой в бытийной драме. И он volens nolens плетет очередную версию этого мифа – теософские фантазии о душе мира, о падении Софии, страдном пути ее восстания и т.д. и т.п. В богословском плане, это приводит его к откровенно хлестаковской догматике, где София – «субстанция Божественной Троицы», которая воплощается в троякое Богочеловеческое Существо, его же «обнаружение» – Христос, «дополнение» – Св.Дева, а «распространение» – Церковь. И хотя «Россия и Вселенская Церковь» – самый прокатолический из всех трудов Соловьева, но третья часть ее звучала столь однозначно, что, как пишет Сергей Соловьев, друзья-иезуиты обвинили автора в ереси и отказались от участия в издании книги.
Но снова, в который раз, творческий дух мыслителя осмысливает, преодолевает и превосходит себя. Как и ранняя система, теософская схема «России и Вселенской Церкви» оставляется автором и не получает продолжения. Больше того, им полностью оставляется и само софиологическое направление: во всем его богатейшем творчестве 90-х годов нет уже никаких софиологических построений и спекуляций. И то, что эти годы – финальный этап, окончательный итог его пути, делает данный факт глубоко значимым. По христианскому видению истории, которое целиком разделял Соловьев, всякий путь, всякая цепь событий несут смысл свой в своем конце; и потому отсутствие софиологии в финале творчества Соловьева следует понимать как смысловой итог и урок всего этого творчества. Смысл софийного пути Соловьева – в финальном отказе строить учение о Софии.
Отказ от софиологии не был, однако, отказом от Софии, от первоисточного опыта Трех Свиданий. Напротив, он продиктован был верностью этому опыту, стремлением найти ему наконец неложное, неискажающее прочтение. Напомним, что мы заметили о структуре этого опыта: он был лишен сферы испытания и очищения, не выверялся критериями и рефлексией – и такой опыт не мог быть достоверной основой для философских и богословских выводов о стоящей за ним реальности; он не имел нужных свойств ни философского, ни богословского опыта. Именно к данному заключению и привела Соловьева неудовлетворенность его попытками развить учение о Софии; но кроме этого негативного итога, он сумел все же распознать – или, по меньшей мере, интуитивно нащупать – истинную природу своего опыта – что наконец открывало путь к его адекватному прочтению. Картина соловьевского творчества 90-х годов не оставляет сомнений, что на этом зрелом этапе софийный опыт ничуть не меньше продолжает играть свою движущую и питающую роль. Однако теперь он прочитывается автором иначе: как опыт эстетический и эротический.
В первом аспекте, софийный опыт стал богатою почвой для лирической поэзии и прежде всего, лирики природы. Соловьев создает теперь свои лучшие стихи, и это убедительно говорит, что прежнее прочтение опыта в ключе всеохватного философско-богословского синтеза было навязанным: как только исчезает учение о Софии, наступает расцвет лирики Софии. Однако исчезновение софиологии, разумеется, означало крупные изменения и в философии Соловьева. Для нее также наступает этап окончательной зрелости, и на этом этапе философский и софийный аспекты его творчества и личности достигают взаимной гармонии. Прежде Рыцарь Софии был, как мы видели, теософом, и это надо понять двояко: как тео-соф в смысле буквальном, он делал Софию богом, утверждал ее как Божественное Существо, обоготворял; как теософ в смысле принятом, он развивал свою мысль в теософском способе, как систему вольного – или вольничающего – богомудрия. На новом этапе, он перестает быть теософом – и это снова в обоих смыслах. Он больше не обоготворяет Софию и остается просто – воздающим ей служение, любящим ее: фило-софом. Одновременно он отбрасывает и теософский способ философствования. Разрыв с теософией означает разрыв с великими синтезами как внешними идеологическими заданиями, вменяемыми мысли, – и мысль, освободившись, наконец обращается к себе и углубляется в себя. И тут обнаруживается, что углубление отношений с Софией и с философией – лишь две стороны одного и того же процесса – а именно, углубления отношений с опытом, углубления в опыт как исток.
Мы указали выше, что на зрелом этапе софийный опыт раскрылся также Соловьеву как опыт эротический. В этом аспекте, он стал почвой для напряженного продумывания начал любви, пола, телесности и женственности. Новое отношение к опыту, достигнутое на этом этапе, ясно сказывается на характере продумывания: Соловьев не строит теорий, но фиксирует внутренние противоречия, апории, по-новому ставит темы, указывает острые вопросы, лишь в форме осторожных гипотез набрасывает ответы… – и так вместо очередного учения о Софии возникает нечто менее шаткое и эфемерное, что можно обозначить как Топос Софии – поле, комплекс, узел глубоких и неразделимых проблем, которые можно эксплицировать и анализировать, однако едва ли можно до конца разрешить. При этом, самое имя «София» теперь практически исчезает: обыкновенно его заменяет менее обязывающая «Вечная Женственность».
Еще важней, однако, понять те выводы и решения, к каким приходит философ. Благодаря своей «странности», они широко известны, но в силу нее же они, как правило, были оставляемы без анализа. А между тем, под формой скупых гипотез у Соловьева развернут впечатляющий Гендерный Проект, набросок новой конституции всей гендерной сферы. В проекте есть два центральных мотива: во-первых, образ асексуальной Вечной Женственности и во-вторых, задача «перерождения человеческой природы», ее переустройства совместным богочеловеческим действием на принципах, которые Соловьев определяет как «андрогинизм, духовная телесность и богочеловечность». В образе Вечной женственности весьма заметно, что этот образ создан не столько теоретическим разумом, сколько некой личной потребностью; кроме резкой отделенности от секса и причастности Вечной Красоте, в нем все неопределенно и противоречиво. В частности, А.Ф.Лосев замечает, что по связуемым с нею предикатам, Вечную Женственность надо бы полагать не женским, а женско-мужским началом; и сюда же можно добавить, что идеал Андрогина и идеал Вечной Женственности едва ли одновременно совместимы. Однако абсурдно разбирать проект или утопию Соловьева как логическое построение. Важно уловить жизненный нерв всего проекта, всего Топоса Софии – и, задавшись такою целью, мы видим, что это отнюдь не просто искоренение сексуальности, устроение асексуальной гендерной сферы. Уловить этот нерв можно лишь тогда, когда мы включим в поле зрения еще одно фундаментальное начало: ибо то, что кроется за странными мыслями Соловьева, питая и направляя их, есть древняя интуиция о связи секса и смерти.
Эта мистическая интуиция жила веками, но ни наука, ни философия ничего не имели сказать о ней. Лишь относительно недавно стали намечаться пунктиры связей – и мы вдруг замечаем, что странности Соловьева – в удивительной созвучности с ними! Во-первых, как и говорит идея Вечной Женственности, сферы пола и секса не совпадают: существуют явления жизни, где есть пол, половые различия, однако нет полового размножения. Во-вторых, что существенней, смерть в точном смысле, как обрыв жизни и образование трупа, есть неизбежный спутник секса; и можно, пусть очень нестрого, сказать, что в ходе эволюции этап появления клеток-эукариот с половым размножением есть рубеж, на котором вместе и взаимосвязанно в мир входят секс и смерть. (Можно предположить и то, что это событие, пройдя через все уровни генетической памяти, в конце концов отразилось в мифологеме падения.) В третьих, в отличие от темы смерти, тема бессмертия, видимо, не имеет осмысленной постановки на биологическом уровне. Живое, не подверженное смерти, проходит, тем не менее, изменения, однако невозможно дать дефиницию его самоидентичности, которая позволяла бы заключить, остается ли это живое «тем же» или переходит в «другое». Поэтому «бессмертие», как понятие и как проблема, возникает лишь на дальнейшем, мета-биологическом уровне организации. В мире же чисто биологическом нельзя провести различие между понятиями «бессмертия», «гибели в другом», «жизни в другом» и «жизни чрез гибель». Лишь с наличием (само)сознания должны эти понятия различиться – но и здесь наука и философия пока не имеют ничего об этом сказать – налицо открытые проблемы, которые не назовешь маловажными. Соловьев же нам говорит, без нажима, гипотетично: чтобы преодолеть начало смерти, необходимо полярно трансформировать сексуальность, придав ее энергиям иную направленность, – и это есть «высший путь любви», на котором исчезнет секс, каков он есть ныне, однако пребудет пол, как Вечная Женственность и как «истинный андрогинизм без внешнего смешения форм». Это преодоление смерти на высшем пути любви видится ему в мета-антропологической перспективе – не биологическим бессмертием (оно для него, как и для современной науки, нонсенс), но духовно-телесным и богочеловеческим, рисовать эмпирический путь к которому – соблазн и вздор. Здесь, в этом видении богочеловеческой мета-антропологической стратегии, рождающейся из сплетенья начал любви, пола и смерти, заключена и близость Соловьева к Федорову и принципиальная дистанция от него.
Весь этот круг поздних мыслей Соловьева интересен сразу во многих отношениях. Прежде всего, он может быть увиден в свете фрейдовской теории сублимации – но эту нить мы оставим сейчас в стороне: она должна быть рассмотрена во всем комплексе психоаналитических проблем и мотивов, связанных с Соловьевым. Далее, антропологическая реальность видится здесь в ключе динамики, философ мыслит активные антропологические стратегии, кардинальные изменения, вплоть до трансформации самой человеческой природы, – а надо учесть, что в его эпоху и эта природа, и вся антропологическая ситуация считались всеми (за вычетом одного Ницше) вполне статичными, с допущением лишь постепенного совершенствования человека под действием социального прогресса. В этом антропологическом динамизме поздний Соловьев близок исихастской традиции, утверждающей возведение человеческой природы к обожению, – но увы, сам он не распознал этой близости, до конца сохранив предвзятое негативное представление об исихазме. Конечно, он близок и сегодняшней ситуации, когда антропологическая динамика неуклонно убыстряется и кардинальные антропологические изменения, сдвиги уже не теория, а жизнь. Одна из сфер, где эти сдвиги идут активней всего, – именно гендерная сфера, к которой прямо относятся интуиции Соловьева. Сегодня эта сфера полна дискуссий, экспериментов, новых моделей, и в этой бурной атмосфере мысль его может внести свой вклад, напоминая воинствующему феминизму, с какими глубинами бытия связаны все происходящие здесь процессы.
И последнее – уже далекое от злобы дня. Узел начал Любовь – Секс – Смерть не развязан в христианстве, и скрытые в нем острые проблемы, апории не разрешены. Христианство категорически утверждает Любовь как первопринцип Божественного бытия. Но осуществляется этот первопринцип во взаимных отношениях Ипостасей Пресвятой Троицы, в свершающемся меж Ними «перихорисисе», совершенной взаимоотдаче бытия, и ни женственного, ни полового начала в сей троической икономии нет. Какое же отношение к этой Любви имеют женщина и половая любовь? Ответов множество, и это значит, что пока нет ни одного. Дело Христа – победа над смертью, и приобщение к этому делу победы над смертью утверждается как единое на потребу, единая всеподчиняющая ось существования человека. Но какое отношение к этой победе над смертью имеют женщина и секс? Ответов много, и это значит, что нет ни одного. И пока проблемы открыты – мысль Соловьева в ее резкой странности будит живое отношение к ним.
Но в облике пророка есть и другой смысл, другой слой, кроме популярных клише. Поздние тексты Соловьева и само его восприятие, видение событий в последние годы жизни мы продолжаем оценивать как пророческие, зная, что в лобовом смысле ничего пророческого там нет и за вычетом каких-то общих легко угадываемых черт, никаких сбывшихся картин будущего там отнюдь не представлено. После всей деконструкции пророческого элемента в обычном смысле, еще остается нечто, что заставляет нас упорно здесь признавать этот элемент. Нам кажется, что вопреки отсутствию сбывшихся предсказаний, Соловьев все же показывает нам нечто истинное и обычному взгляду недоступное. Ощущение справедливо, и это «нечто» есть – эсхатологическое видение исторического бытия. Пресловутая эсхатология Соловьева, которой насыщены его поздние тексты, от «Панмонголизма» до «По поводу последних событий», главнейшею и ценнейшей частью кроется не в прямом содержании этих текстов, а в предстающем там особом качестве мысли и способе видения событий, в осуществленной эсхатологической оптике. Эта оптика показывает, не как выглядит будущее, но как выглядит присутствие будущего, присутствие конца в ткани исторического существования, как выглядит эсхатологическое измерение истории. Передать это же присутствие стремился Ницше, сказавший: «Грядущее и отдаленнейшее суть мерило всех нынешних дней»; но с такой силой это не удалось ему. И такой показ можно тоже назвать пророчеством, это согласно с тем толкованием пророческого служения, какое дает сам Соловьев в конце «Оправдания добра». На этом глубинном уровне Пророк граничит с Философом: он научает опыту грядущего – и уже присутствующего – конца всех вещей, как Философ научает опыту грядущей – и уже присутствующей – смерти.
В итоге, как же определить, на каких позициях он стоял и кого представлял в своей межконфессиональной активности? Стандартный ответ таков: он пребывал в православии, но вместе с тем глубоко ценил и любил католичество; и стремясь к их соединению, он дает высокий пример, служит символом православного экуменизма. Однако из сказанного выступает нечто иное: мистик протестантского типа, принадлежавший генетически к православию и теоретически убежденный, что все христиане должны присоединиться к Папе, т.е. к католичеству. И в этой картине мы сразу же узнаем другой лик Соловьева, которого здесь раньше отчего-то не разглядели: пред нами – бездомный странник в межконфессиональном пространстве.
Но какова в реальности эта роль? Приходит пора подвести итоги, резюмировать судьбу соловьевского наследия, и это в точности значит – рассмотреть последний остающийся лик – Соловьев как основатель философской традиции. Путь этой традиции, русской религиозной метафизики ХХ века, отлично известен, и нам лишь следует взглянуть на него под соловьевским углом, понять его отношения с наследием Соловьева. Вопрос этот лишь на первый взгляд вполне ясен. Да, Религиозно-философский ренессанс, вся культура Серебряного Века стояли на Соловьеве, себя возводили к Соловьеву, создали культ Соловьева. Но любой культ нуждается в деконструкции, и все ее тезисы, по сути, уже высказаны выше. Несомненно, Серебряный Век широко подхватил соловьевские идеи, так что ведущие из них выросли в целые направления. София стала центральным концептом русской софиологии, всеединство – центральным концептом метафизики всеединства, а Богочеловечество – центральным концептом христианского эволюционизма, который вышел далеко за пределы русской мысли. Но при всем том, возвеличив Соловьева, Серебряный Век оказался глух к его трудному опыту и главным урокам. Соловьев создал учение о Софии, но он отнюдь не завещал строить учения о Софии. Напротив, его опыт, его урок – в неудаче таких учений, в их неадекватности существу изначального мистического опыта. Он создал первую русскую философскую систему, но он отнюдь не завещал строить систем. Напротив, опыт его пути, его урок – в преодолении системного философствования, в выходе из его конструкций к предметным разработкам, в иной философский способ. Однако Серебряный Век, превознося Соловьева, принялся строить философские системы и софиологические учения. Он оказался наследником худшего, а не лучшего, раннего, а не зрелого в его опыте, следуя за ним в том, от чего он сам отказался. В главных своих чертах, в общем типе системная философия Соловьева была устарелой уже при своем появлении – но именно за нею пошла русская мысль. Напротив, единственная его работа, новаторская по философской глубине, выполненная без поспешного схематизма, без русской литературщины и приблизительности – разумеется, мы говорим о «Теоретической философии» – осталась едва замеченной. И закономерно, что при всем блеске, философия Серебряного века оказалась имеющей короткое дыхание и недолгую жизнь. В России ее развитие оборвалось насильственно, но в диаспоре оно могло продолжаться и пришло к концу по причинам внутренним, исчерпав творческие потенции. Сегодня весь этот мир мысли, блеснувший на недолгое время, уже миновал. Он – только часть закончившейся истории.
… Русская реальность всегда отличалась фантастическою переплетенностью фальши и подлинности. Рядом с постсоветскими узурпациями, в России начинает вестись (а в мире всегда велась) и настоящая работа над Соловьевым. Критикуя его ранние схемы, глобальные проекты, мы видели и немало идей, принципов, установок – большею частью в позднем, зрелом его наследии – что сохраняют актуальность и глубину; и многие из них находят сегодня отклик и творческое восприятие. В этой новой работе – новые трудности и опасности. Вновь броские идеи раннего Соловьева могут заслонить зрелого Соловьева, который остается недоизучен и недопонят. На месте старого символистского образа может возникнуть рассыпанный набор отражений, являющих Соловьева борцом за новые благородные дела: Соловьев экуменический, Соловьев феминистский, демократический, экологический… Ни живой традиции, ни впечатляющих достижений в сегодняшних усилиях покуда нет. На вековых поминках по Соловьеву похвастать нечем. И пытаясь собрать цельный образ мыслителя из рассыпающихся осколков, постичь его таинственный поздний опыт, пытаясь пробиться сквозь удушающую постсоветскую ложь, мы заново входим в истину предсмертных слов Владимира Сергеевича Соловьева: Трудна работа Господня.
Новизна этих достижений была, впрочем, относительной, ибо в немалой мере они лишь артикулировали в научном дискурсе то, что было исконным достоянием внутреннего сознания самой исихастской традиции. Никак не случайно той вехой, с которой можно вести начало нового этапа, явилась работа афонского монаха о. Василия (Кривошеина) “Аскетическое и богословское учение св. Григория Паламы” (1936). Этот пионерский труд, вышедший из среды самой традиции, намечал новую перспективу для изучения не только исихазма, но, по сути, и всей сферы православной религиозности: наряду с конкретным анализом паламитского богословия, здесь отчетливо встают контуры единого большого целого, объемлющего три масштабных явления: Исихазм – Паламизм (или лучше, богословие энергий, поскольку термин “паламизм” неорганичен для православного словоупотребления) – Патристика. Становится ясно, что это тройственное единство, в котором осуществляется синтез патристики и аскетики, и есть основа православного миросозерцания и духовного опыта – или, в иных терминах, основа особого Восточнохристианского дискурса. И естественно, что исследование данной триады во всей ее внутренней структуре, прослеживание ее единства и ее базовой роли в православной духовности стали центральным содержанием нового значительного этапа православной мысли. Создание этого этапа активно развернулось почти одновременно с появлением работы о. Василия. Его история – особая тема, почти не обсуждавшаяся пока, но ставшая уже актуальной. Сейчас мы лишь упомянем, что все основы этапа были заложены в трудах богословов русской диаспоры, из коих на первом месте надо назвать работы Вл. Лосского и о. Георгия Флоровского в 40-х и 50-х годах, Флоровского и о. Иоанна Мейендорфа – в 60-х и 70-х годах, еп. Василия (Кривошеина) и игумена Софрония (Сахарова) – в оба эти периода. Отдельно необходимо упомянуть вклад о. Думитру Станилоаэ, капитальная монография которого о Паламе выпущена была уже в 1938 г. К обозначившемуся руслу вскоре начали примыкать православные исследователи многих стран – О. Клеман, еп. Каллист (Уэр), Х. Яннарас, митроп. Иоанн (Зезюлас) и целый ряд других богословов, по преимуществу, греческих и сербских. По мере развития, это русло все шире привлекало внимание инославных ученых, отношение которых постепенно переходило от настороженной критики к признанию глубины поднятой тематики и конструктивному участию в ее разработке. В итоге всего процесса, полностью сформировалось определенное направление православной мысли, которое часто обозначают терминами неопатристика и неопаламизм. Стоит заметить, что эти термины, хотя и общепринятые, не вполне адекватны, ибо парадигмой православного сознания является не создание дискретного ряда последовательных модернизаций, что выражает префикс нео-, но идентичная трансляция духовного содержания в лоне непрерывной традиции.
Сегодня данное направление продолжает успешно развиваться – но в этом развитии, по нашему убеждению, уже приближается пора обновляющих перемен – в частности, в дисциплинарной структуре проблематики. С самого начала в центре внимания исследователей стояли и продолжают стоять задачи исторические и богословские; и по сей день мы, безусловно, отнюдь не можем утверждать исчерпанности ни тех, ни других. Эта проблематика сохраняет свое значение; однако наряду с ней, а отчасти и внутри нее, в ее рамках, возникает и набирает вес, актуальность проблематика другого профиля, другая постановка задач. Заметим, что в современной христианской мысли повсюду и уже немалое время происходит неуклонный поворот к антропологии, постепенный перевод традиционной богословской проблематики в антропологический дискурс; и, в частности, о. Иоанн Мейендорф писал, что современные установки православного богословия и могут, и должны соответствовать тезису: “В настоящую эпоху богословие должно стать антропологией”. Применительно к изучению исихазма, такой антропологический поворот естественен и необходим, ибо цельное понимание исихастской практики может базироваться лишь на ее рассмотрении как определенного антропологического явления. И отсюда вытекает, что, вслед за описанным этапом православной мысли, уже подготавливается почва и назревает необходимость следующего этапа, где традиционная проблематика религиозной мысли будет рассматриваться в антропологической перспективе, под углом антропологического подхода.
Итак, антропологический этап в развитии Восточнохристианского дискурса должен нести явное и последовательное утверждение энергийности этого дискурса, с четким отмежеванием от эссенциализма, и должен означать глубокую реструктуризацию этого дискурса, изменение его дисциплинарного строения и состава, приоритетных проблем и направлений, базовых концептов и всего языка описания. Пример сходной реструктуризации дает постмодернистская рецепция аскетизма, возникшая в последние годы и трактующая явления и школы аскезы на базе постструктуралистской культурной антропологии и, прежде всего, концепций Фуко, как определенный вид холистических антропологических практик, или же “практик себя” (pratiques de soi). Это новое течение, весьма активное и популярное (всего более в США), выявляет важные черты аскетического дискурса, позволяет делать свежие наблюдения и острые, провоцирующие выводы; но в целом, его принципы, разумеется, далеки от установок Восточнохристианского антропологизма. Главным и радикальным расхождением является отсутствие мета-антропологической перспективы – того “открытого воззрения на человека”, о котором о. Иоанн Мейендорф говорил как о необходимом условии антропологизации богословия. Здесь априори человек не открыт, а замкнут – замкнут в своем исходном способе бытия, своей изначальной природе – и вследствие этого постмодернистский подход почти полностью игнорирует мистическую суть аскезы, ее методичную и в то же время предельно напряженную устремленность к мета-антропологическому телосу, к онтологической трансформации – в случае исихазма понимаемой как обожение, совершенное соединение энергий человеческих и Божественных.
Развиваемое мной направление исследований может рассматриваться как одна из возможных версий современного антропологического подхода к феномену исихазма, а затем и ко всему Восточнохристианскому дискурсу, ядром которого служит мистико-аскетический исихастский опыт. В полном согласии с отмеченными чертами мистического опыта, здесь обнаруживается, что встающие задачи требуют новой энергийной антропологии и являются существенно междисциплинарными, идущими поверх старых разграничений гуманитарного знания. Ниже мы попробуем проследить, как и отчего проблемы исследования исихазма, которые по праву могли казаться весьма узкими и специализированными, на деле требуют широкой междисциплинарной программы и выводят к глубоким обобщениям и весьма актуальным темам, рождаемым назревшей необходимостью нового видения человека.
Мы выше подчеркивали, что Восточнохристианский дискурс, имея в своей основе синтез патристики и аскетики, носит последовательно опытный характер, утверждает приоритет и примат опыта. Эта определяющая черта его порождается отнюдь не приверженностью к парадигме опытного эмпирического познания, как в европейской науке Нового Времени. Ее корни совсем в другом: в истовом стремлении не утерять, сохранить во всей целости и полноте аутентичное ядро христианского благовестия – ибо это ядро здесь видели не в каком-то учении и не в каких-то идейных установках, а именно – в новом уникальном ( и мета-антропологическом!) опыте, опыте христоцентрического способа жизни, жизни со Христом и во Христе. Подобно тому как на Западе Августин и следом за ним вся западная теология были движимы задачей создания, а затем развития цельного христианского вероучения – так Восточнохристианский дискурс был изначально движим другой единой фундаментальной задачей: задачей сохранения и точной, тождественной передачи, идентичного воссоздания, воспроизведения опыта подлинного христоцентрического Богообщения. Легко понять, что именно такой выбор главной задачи диктуется самой природой и сутью Восточнохристианского типа религиозности, выступающими в его самоназвании: ибо это самоназвание, Право-славие, Ortho-doxia, значит не что иное как правое, правильное прославление Бога, правильное отношение к Богу; а отношение к Богу в христианстве – это отношения с Богом, личные отношения, что выражаются, прежде всего, не в умозрительных тезисах, а в способе жизни, или что то же – в определенного рода опыте.
Решение православной задачи также должно было быть не умозрительным, а жизненным, опытным; и в первую очередь, оно обращало к поиску достоверных образцов, примеров искомого опыта. Поскольку же речь шла о личном, человеческом опыте ( в отличие от научного, экспериментального), то отыскание его образцов значило отыскание подлинных носителей опыта. Ключевой вопрос для православного сознания вставал так: Кто суть носители подлинного, достоверного опыта единения со Христом? И здесь обнаруживалось, что ответ на этот вопрос историчен – или, если угодно, священно-историчен. Для разных фаз, разных духовных условий христианской истории носителями опыта единения со Христом последовательно и преемственно выступают: апостолы – мученики – подвижники. Все три категории радикально различны между собой, но очень важно, что сам достигаемый ими опыт признается в точности тем же, самотождественным. В эпоху земной жизни Христа Его ученики, апостолы, дают первый несомненный пример христоцентрического Богообщения, которое в данном случае может даже пониматься как общение в обычном эмпирическом смысле. Затем в эпоху гонений церковное сознание признает, что соединение со Христом осуществляется в мученичестве, ибо в нем происходит приобщение к смерти Христовой – а оно есть тем самым и приобщение к Его победе над смертью, к новой жизни во Христе. Здесь опыт единения имеет совершенно иную форму, это уже нисколько не эмпирическое общение, но опыт смертный, одна из форм граничного опыта человеческого существования, опыта Антропологической Границы. И все же обе формы, апостольская и мученическая, разделяют между собой важную общую черту: возможность их создается лишь некоторыми особыми, исключительными условиями, предпосылками, которые не зависят от обретающего опыт человека. Как общение учеников со Христом возможно было лишь при земном пребывании Его, так жребий мученика, согласно позиции Церкви, недостижим одной лишь своей волей, ибо нельзя самому искать мученичества.
Как ясно отсюда, с уходом эпохи гонений христианское опытно-ориентированное сознание – то, которое в дальнейшем определило себя как сознание православное, – оказывалось перед принципиальной проблемой: проблемой дальнейшего воспроизведения или трансляции опыта актуального соединения со Христом, идентичного апостольскому и мученическому опыту, – но уже при отсутствии исключительных условий, в обычном эмпирическом порядке существования. Теперь необходимо было отправляться от обычных условий падшего тварного бытия, без того чтобы возможность исхождения из здешнего образа бытия и превосхождения его обеспечивалась наличием каких-то особых предпосылок. Необходимо было осуществить предельный опыт не в специальных создавшихся для него условиях, но в обычной ситуации человеческого существования. Как достигать истинного единения с Богом, истинного онтологического претворения наличного образа бытия человека, когда сама ситуация этого бытия уже не доставляет условий и предпосылок к этому достижению? – Такова обобщенная постановка духовной задачи подвига, понятой как антропологическая проблема. Рациональное, отвлеченное решение подобной задачи заведомо невозможно; и однако решение было найдено: не интеллектуальным путем, но и не вне-интеллектуальным, а холистическим и опытным – не отвлеченной мыслью, а целостной жизнью.
Отыскание и оформление решения вылилось в работу нескольких столетий. Трудность и длительность этого процесса возрастали и оттого, что в реальной исторической обстановке то был сложный религиозно-социальный и социокультурный процесс, сочетавший в себе многие разнородные факторы и мотивации – упомянем хотя бы пресловутое противостояние Империи и Пустыни. Итогом всей духовной работы и явился феномен исихастской аскезы – как двуединого или двухуровневого явления, соединяющего индивидуальный опыт и соборную среду проработки, идентификации и трансляции опыта. Раскроем эту важную формулу. Опыт аскезы должен достигать возведения человека в иной образ бытия, и эта уникальная цель влечет целый ряд особых, специфических требований к данному опыту. Из арсенала лишь своего индивидуального опыта человек не может почерпнуть ответов на главные вопросы: как достигать стоящей мета-антропологической цели? как интерпретировать возникающие опытные явления, не имеющие аналогов в опыте обычном, обыденном? как проверять, что опыт не уклонился от цели, отличая истинные явления продвижения к мета-антропологическому телосу от их обманных подобий, симулякров? Необходимо должен существовать цельный методологический комплекс, органон мистико-аскетического опыта, определяющий условия его организации, проверки, истолкования; и этот органон не может быть создан индивидуальным подвизающимся, но должен передаваться ему, будучи создаваем и храним некоторой сверх-индивидуальной, интер- и транс-субъективной инстанцией. Поскольку же речь идет об опыте холистическом и личном, заведомо не выразимом в виде формальной инструкции, то его хранение должно быть его живым существованием, а инстанция хранения – живою средой.
3. Что есть, под углом зрения нашего антропологического подхода, Райская Лествица (именно таково, напомним, название трактата св. Иоанна Синайского с первым описанием всего пути подвига)? Для аскетической и паламитской антропологии – как и для современного взгляда – человек и разум его, прежде всего, удобопременчивы, по аскетическому выражению, – то есть гибки, вариативны, сценарны, полидискурсны; поэтому и дескрипция исихастской практики может быть дана во многих дискурсах, каждый из которых имеет свою ограниченную сферу валидности. Наибольшую сферу валидности, наибольшую адекватность имеют два: дискурс личного диалогического общения и дискурс системно-процессуальный. Первый обычен и привычен для явлений духовной жизни и молитвенной практики, и современная дескрипция исихазма на его основе уже давалась (см., например, наш “Аналитический словарь исихастской антропологии” в книге “К феноменологии аскезы” (М.1998)). Другой же нагляднее показывает междисциплинарный характер проблем изучения исихастской практики, и сейчас мы обратимся к нему. Чтобы он не казался техницистской вульгаризацией духовной реальности, следует помнить, что это – всего лишь один из языков описания, допустимый в определенном диапазоне и сохраняющий подчиненность ведущим языкам христианского религиозного опыта.
Итак, исихастская практика есть “холистическая практика себя в своих энергиях”. Эта формула означает, что человек рассматривается здесь не субстанциально, а энергийно, в энергийном аспекте (измерении, проекции) – как совокупность всех своих изменчивых импульсов, проявлений, “выступлений”, телесных, душевных и духовных, которые Православие именует энергиями человека. Человек берется как непрерывно меняющаяся конфигурация разнородных и разнонаправленных энергий, или же “энергийный образ”; и аскетическая практика есть энергийная аутотрансформация – направленное, последовательное преобразование человеком собственного энергийного образа. Путь этого преобразования есть процесс продвижения или восхождения (“лествица”), ведущий от исходного типа энергийного образа, который называют естественным или рассеянным, – чрез «Духовные Врата» (обращение и покаяние) и следующие за ними стадии – к финальному типу, который именуется, по Исааку Сирину, сверхъестественным и отвечает цели, Телосу практики – Обожению. В православном вероучении, согласно свв. Максиму Исповеднику и Григорию Паламе, обожение трактуется как совершенное соединение всех тварных энергий человека с Божественной энергией, благодатью. Между исходным и финальным типами энергийного образа располагается в строгом порядке ряд ступеней, и весь процесс представляется как упорядоченная иерархия определенных энергийных конфигураций. Номенклатура ступеней и их общее число строго не закреплены, однако в главных свойствах Лествицы вся многовековая история Традиции, все ее авторы сохраняют полный консензус. Кратко укажем эти свойства.
В процессе восхождения можно выделить три крупных блока, которые мы сейчас обозначим в сугубо системной терминологии:
Анализ каждого блока – особая субпрограмма, особая и большая проблематика, затрагивающая весь комплекс наук о человеке, включающая свой дискурс тела, дискурс перцепций, эмоций, свои герменевтические, философские, богословские задачи. Здесь мы лишь обозначим содержание этих блоков.
К Блоку Отрыва мы относим те ступени процесса, на которых происходит становление исихастской практики как альтернативной антропологической стратегии. Это значит, что в энергийных конфигурациях, отвечающих этим ступеням, намечается, развивается и закрепляется исход из обычного порядка существования, из “мира” (в специальном аскетическом смысле этого понятия, означающем, кратко говоря, совокупность всех обычных антропологических стратегий, всех типов энергийного образа, отвечающих обычному социально интегрированному существованию человека). Данную часть процесса составляют, прежде всего, классические разделы подвига – Духовные Врата и Невидимая Брань. Начальная ступень вхождения в практику, Духовные Врата, обладает собственной внутренней структурой, которая уясняется уже из самой метафоры “врат”: тип энергийного образа, отвечающий этой метафоре, должен совмещать активности, обращенные к двум разным мирам, которые разделяются-соединяются вратами, к реальности пред-вратной и за-вратной. Соответственно, Духовные Врата соединяют в себе начальную фазу Обращения, где совершается коренное изменение отношения к окружающей эмпирии, энергийный исход из мира, и последующую фазу Покаяния, содержание которой – интеграция в открывающуюся реальность подвига, начало жизни в ее режиме, по ее правилам. В целом же, суть происходящего здесь – смена типа энергийного образа и, прежде всего, установок сознания: “умопремена”, что и есть буквальный смысл греческого имени данной ступени, “метанойя”.
Следующий крупный этап в Блоке Отрыва, “Невидимая Брань”, также имеет ясно выраженное процессуальное назначение: это есть устранение неких особых типов энергийного образа, которые обладают самовоспроизводимостью, устойчивостью, инерцией – и потому служат препятствием к изменению, к выстраиванию дальнейших ступеней Лествицы. Таковые инерционные конфигурации человеческих энергий и называются в аскетике “страстями”. Генезис и природа страстей раскрываются через их связь с бессознательным: они индуцируются энергиями бессознательного и представляют собой, в существенном, те же циклические механизмы психики, что психоанализ называет паттернами или фигурами бессознательного. Тем самым, в этой части Лествицы аскетическая антропология теснейше соприкасается с психологией и психотерапией. Психоанализ как психотерапия, в известной мере, может рассматриваться как коррелат Невидимой Брани в сфере секулярных практик; и углубленный сравнительный анализ двух дискурсов, еще никогда не проделанный систематически, является весьма актуальной задачей. В своей борьбе со страстями Невидимая Брань направляется к их искоренению, бесстрастию; однако, в отличие от идеала бесстрастия, который выдвигали языческие учения (прежде всего, стоики), бесстрастие в исихазме не означает замирания и отмирания, атрофии душевных активностей и реакций человека: душевные стихии не отмирают, но претворяются, меняют направленность и характер, включаясь в процесс восхождения.
За устранением страстей-препятствий следует Блок Онтодвижителя – ядро духовного процесса, охватывающее целый ряд ступеней. Здесь формируется уникальная динамика духовной практики, обеспечивающая восхождение по Лествице, продвижение от одной ее ступени – к следующей. Вся суть практики как актуальной онтологической трансформации, как восхождения к мета-антропологическому телосу Обожения, указывает на то, что человеческие энергии, имеющие исток в эмпирической реальности, в горизонте здешнего бытия, неспособны осуществить подобное восхождение. Движущая энергия восхождения, изменяющего образ бытия человека, не может быть замкнутой в самом этом образе бытия: ее исток с необходимостью должен быть внеположным по отношению к данному бытийному горизонту. Это заключение передает краеугольную опытную истину подвига: энергия, возводящая человека к Обожению, – не человеческая, а Божественная энергия, благодать Божия, так что суть восхождения – стяжание благодати. Дело же человеческих энергий – действовать воедино, соработничать с Божественной энергией; и это соработничество, сообразование, “когерентность” двух разноисточных и разноприродных энергий, ключевое для восхождения к Обожению, выражается древним православным понятием синергии.
Достижение синергийного устроения человеческих энергий – основное содержание “умного художества” аскезы. Ему служит тонкий и строгий духовный метод, или же органон исихастского опыта, который создается и существует в лоне исихазма как традиции. Ключевое звено исихастского метода – сочетание двух главных составляющих духовной практики, которые суть – внимание и молитва. Как широко известно, исихастская практика есть школа непрестанного творения Молитвы Иисусовой. Телос практики, Обожение, есть энергийное вхождение в Божественное бытие, которое в христианстве раскрывается как личное бытие-общение; поэтому восхождение к телосу – Богообщение, и именно молитва, только молитва может составлять его синергийное существо – собирать и направлять все энергии человека навстречу Божественной энергии, в соработничество с нею. Однако расположение энергий предельно подвижно, “удобопременчиво”, и опыт говорит, что молитвенное расположение способно легко утрачиваться. Молитва лишь тогда истинно и прочно становится духовным методом и средой, стихией, процессом восхождения к Обожению, когда она сопровождается другим фундаментальным элементом – вниманием, которое выступает в функции бдительной “стражи” молитвенного делания. Должно быть создано двуединство, неразделимая диада этих элементов, где внимание как бы окружает невидимой стеной-стражей пространство, “клеть” молитвы – и тогда молитва, как открывает опыт, способна обращаться в особый спонтанный и кумулятивный, наращивающий интенсивность процесс, в котором и свершается “самодвижное”, по слову аскетов, благодатное возведение человека в его энергиях, его энергийном образе – по ступеням Лествицы. Эта-то исихастская диада, Внимание и Молитва в нераздельном динамическом двуединстве, совместном действии, и есть Онтодвижитель или точнее, та часть его, что составляется человеческими энергиями; сама же возводящая сила – за одной благодатью. Формирование диады начинается сразу же вслед за Невидимою Бранью и главною частью завершается на сердцевинной ступени процесса, каковой служит знаменитое “сведение ума в сердце”.
Это описание центрального блока процесса позволяет выявить некоторые ранее не замечавшиеся междисциплинарные аспекты изучения исихазма: здесь выступает параллель с определенным типом природных процессов. Сущее, наделенное энергиями и ориентирующееся, направляющееся всей совокупностью своих энергий к “внеположному телосу”, который отвечает иному порядку бытия, обладает предикатом бытийной, онтологической открытости. Поэтому в системном дискурсе оно может характеризоваться как “открытая система” в целокупной реальности, в бытии; и такая система, как можно увидеть, обнаруживает важные структурно-динамические сходства с физическими открытыми системами – открытыми в бытии эмпирическом, в сущем. Имеет место известная параллель между икономией, “основоустройством” открытости онтологической и онтической, метафизической и физической. Отличительное свойство физических открытых систем – возможность иметь внешний, внележащий источник энергии. При этом, особый класс таких систем образуют системы в состояниях, сильно удаленных от равновесия. Если подобная система обладает внешним источником энергии, прохождение этой внешней энергии через систему может породить в системе процесс спонтанного структурирования, образования последовательности структур нарастающей сложности, т.е. иерархии динамических структур. Образец такой иерархии дают, например, структуры классического хаоса. Процессы данного рода изучаются в синергетике, и современная физика придает им большую важность; как было найдено, их аналоги имеются также в системах биологических и социальных.
Аналогия с духовной практикой отсюда вполне ясна. По отношению к совокупности энергий человека, Божественная энергия выступает как “онтологически внеположный источник энергии”; и ступени практики – определенные энергийные конфигурации, типы энергийного образа человека, располагающиеся в строгом порядке и восходящие к обожению, являют собой своеобразную иерархию динамических структур, или “энергоформ”. За языковым сходством обнаруживается реальное содержание: мы видим, что синергийная практика и синергетические процессы имеют действительную общность. Этот вывод эвристически продуктивен: он побуждает внимательней проследить найденную параллель – и мы убеждаемся, что она идет достаточно глубоко, охватывая начало и конец процесса.
В физике открытых систем предпосылкой спонтанного порождения иерархии структур служит специальная “раскачка” системы – ее предельное удаление от равновесия, области стабильных режимов. Исихастская же практика, как альтернативная антропологическая стратегия, имеет своим началом исход из мира, понятого энергийно, – предельное удаление от всех обычных стратегий эмпирического существования, реализуемое в обращении и покаянии. При этом, покаяние характеризуется в аскетике именно как своеобразная “раскачка” духовно-душевной реальности человека, ее максимальное выведение из равновесия посредством крайних, резких аффектов – отвращения к себе, сокрушения, плача... Таким образом, начало аскетической практики также допускает системно-синергетическую интерпретацию, и она небесполезна: физическая параллель помогает понять, что крайние состояния, какие создает покаяние, странные, даже дикие для обыденного сознания, не раз причислявшиеся к патологиям позитивистской наукой, – необходимы для того, чтобы войти в иную, альтернативную стратегию и динамику – чтобы открылись Врата Духовные.
Для полноты можно указать еще естественнонаучные параллели методологического и эвристического характера, которые существуют между исихастской практикой и квантовой механикой, областью квантовых явлений. Основа их – общее свойство инаковости, альтернативности как исихастской практики, так и квантовых явлений по отношению к некоторой “обычной” сфере реальности – сфере обычных антропологических стратегий в первом случае, и области классических явлений – во втором случае. В силу этой инаковости, в обеих областях протекают иные процессы, действуют иные закономерности, чем в “обычной” реальности; и потому, в частности, опыт, относящийся к этим областям, требует особой организации, особых процедур осуществления и особых методик интерпретации: законно провести параллель между органоном исихастского опыта и органоном квантовомеханического эксперимента. Представляло бы интерес конкретное раскрытие этой параллели: в органоне исихастского опыта можно найти содержательные соответствия таким аспектам квантовомеханического эксперимента как процедуры приготовления состояний, проблема несовместимости квантового объекта и наблюдательного прибора и др. В итоге, антропология духовной практики раскрылась бы как, в определенном смысле, “квантовая антропология”.
Формирование Онтодвижителя знаменует определенные перемены в ходе восхождения, характере возникающих энергийных конфигураций. Процесс как бы минует срединную линию, экватор, с прохождением которого энергии человека преимущественной частью уже не заняты обстоянием человека, окружающим тварным миром, но направляются к Богу, к синергийному устроению. Это означает, что на дальнейших ступенях Лествицы действие Божественной энергии становится менее сокровенным и более явственным, и процесс вступает в зону приближения к телосу, отличие которой – те или иные явственные знаки начинающегося фундаментального переустроения человека. Это отличие “Блока Телоса” сопровождается, однако, другим: несмотря на появление “явственных знаков”, описание духовного процесса в избранном нами системно-процессуальном дискурсе не облегчается, а затрудняется, суживает, а не расширяет свои возможности, ибо мы подходим уже к границе сферы валидности данного дискурса – непосредственные действия Божественной энергии лежат за этой границей. Сказанное не означает отсутствия всякой информации и невозможности всякой речи о Блоке Телоса – но эта речь должна постепенно изменять свой характер, оставляя попытки концептуализации и анализа и ограничиваясь дескрипцией опытных свидетельств. Фонд их, слава Богу, богат.
Опытные же свидетельства показывают, что “явственные знаки” обнаруживаются, прежде всего, в сфере перцептивных модальностей, способностей восприятия человека. Это понятно и неизбежно: формирование синергийного устроения человеческих энергий можно естественно трактовать именно в перцептивных терминах – как переориентацию восприятий человека от “дольнего” к “горнему”, как развитие новой, мета-антропологической перцептивной модальности – способности воспринимать Божественные энергии, быть “прозрачным для благодати”, по аскетической формуле. При этом, ввиду глобальности, холистичности синергийного устроения энергий, прежние способности восприятия должны сообразовываться с новою “синергийной перцептивностью”, подчиняясь ей или вбираясь в нее. Трансформация перцептивной сферы и формирование некоторых новых перцепций на высших стадиях мистического опыта – феномены, зафиксированные в опыте многих духовных школ и традиций. В исихастской практике они носят название “отверзания чувств” и появления новых “умных чувств”. Именно “умными чувствами” совершается достигаемое, по свидетельствам подвижников, на высших ступенях исихастской аскезы, созерцание Фаворского Света – света, осиявшего апостолов в событии Христова Преображения на Фаворе.
В своей полноте, достижение мета-антропологического телоса Обожения – за пределами не только системно-процессуального дискурса, но и самого опыта человека; дискурс религиозный передает эту полноту посредством эсхатологических теологем и мифологем. Однако опыт высших ступеней мистико-аскетической практики, опыт таких явлений как “отверзание чувств” и созерцание Нетварного Света показывает, что существует некоторая область явлений, где хотя и нет полноты достижения телоса, но уже явственно начинается трансформация человеческого существа, начинают меняться фундаментальные предикаты, определяющие признаки способа бытия человека. Это – явления, примыкающие к телосу и предваряющие его, служащие своего рода преддвериями онтологической трансформации, или же подступами к ней, ее знаками, предвестиями, начатками... Во всем многообразии доступного человеку опыта, это суть предельные, граничные феномены, и всю сферу таких граничных феноменов, как связанных, так, возможно, и не связанных с духовной практикой, мы называем областью Антропологической Границы. Итак, описание Блока Телоса подводит нас к возможности характеризовать область высших ступеней исихастской практики, помимо традиционных понятий, таких как “высшее духовное состояние”, Обожение и др., также понятием Антропологической Границы. Как ниже увидим, данное понятие оказывается нужным и перспективным. Подчеркнем, что, подобно всем ведущим понятиям исихастской антропологии, оно имеет энергийную, а не субстанциальную природу: к Границе принадлежат стратегии и практики, активности и режимы деятельности человека.
Путем компаративного анализа (см. нашу книгу “О старом и новом” (СПб., 2000)) оказывается возможным вычленить универсальные черты, присущие всем практикам. Из этих черт, набор которых оказывается достаточно содержателен, складывается цельная процессуальная парадигма, названная нами “парадигмой духовной практики”. Прежде всего, все практики развивают энергийную антропологию: они рассматривают человека в его энергиях и явно или неявно, основным рабочим объектом для них служит полная совокупность этих энергий, или же энергийная проекция, энергийный образ человека. При этом, восточные практики оперируют собственным пониманием энергии, которое, наряду с другими базовыми реалиями восточной мысли, во всех основных традициях разработано тонко и глубоко – однако, увы, не переводится адекватно в концепты и дискурсивные конструкции европейского мышления. Тем не менее, сопоставление (дальне)восточного «дискурса энергии» с исихастским и православным – прежде всего, в случае буддийской антропологии, где роль энергии выполняет таинственная “дхарма”, несущая в себе ключ ко всему миру буддийского духа, – весьма нужно и актуально, ибо понятие энергии, каким оно фигурирует в антропологической сфере, до сих пор остается во многом смутным, хотя для всей темы духовных практик и Антропологической Границы оно основоположно. Далее, универсален, конечно, и общий тип явления: любая практика есть холистическая и предельная “практика себя” – процесс, затрагивающий все уровни организации человеческого существа, иерархически структурированный и ориентированный к Антропологической Границе. И наконец, универсальные черты включают также наличие всех трех выделенных нами крупных блоков – Блока Отрыва (содержание которого обычно связывается с понятием очищения), Блока Онтодвижителя (хотя характер движителя уже отнюдь не универсален, как мы ниже увидим) и Блока Телоса (наряду с исихазмом, наиболее разработанного, вероятно, в тантрическом буддизме).
С другой стороны, компаративный анализ выявляет и обширный спектр различий между духовными практиками, в числе которых имеются и самые принципиальные, коренные. Генезис этих наиболее важных различий прозрачен. Для каждой практики, отвечающая ей иерархия ступеней-энергоформ конституируется ее телосом. Телос же не является всецело внутренним элементом практики. Как ясно видно на примере обожения, это – элемент специфического, двойного статуса: он принадлежит некоторой религии в качестве одной из ее базовых теологем и заимствуется, усвояется практикой, получая в ней дополнительный смысл и статус в качестве (транс-)цели ее мета-антропологического процесса, – так что служит, в итоге, связующим звеном, интегрирующим практику в религию в качестве духовно-деятельностного ядра, стержня последней. И мы заключаем, что принципиальные различия мировых религий в их онтологических основаниях должны неизбежно имплицировать столь же принципиальные различия между телосами духовных практик. Эти последние различия и суть, очевидно, главные, наиболее глубокие различия между практиками – и, в свою очередь, они должны порождать многие другие различия.
Основной онтологический водораздел между мировыми религиями полагает разделение на «религии Личности» и «религии Космоса», религиозные миры, конституируемые представлением о личном (личностном) или же безличном, имперсональном Инобытии. В первом случае Инобытие (Божественное, Абсолютное, Совершенное бытие, бытие как таковое и т.п.) мыслится как наделенное положительными содержаниями, предикатами, которые все обладают абсолютной полнотой актуализованности, явленности, осуществленности; и наделенное некоторой динамикой, хотя и не темпоральной, а лишь бытийно-логической. Концептуально и рефлексивно, подобные представления наиболее проработаны в христианстве (однако в своих общих основаниях, к этому руслу принадлежат и другие «авраамические религии», иудаизм и ислам). Динамический аспект личностной парадигмы здесь выступает наиболее выпукло за счет догмата Троичности, утверждающего Божественное бытие как сущностное единство трех Лиц (Ипостасей), связуемых определенными динамическими отношениями (рождения и исхождения). Онтологическое содержание этой личностно-тринитарной динамики лучше всего передает созданное Восточным христианством понятие «перихорисиса» (от греч. глагола, означающего «обходить по кругу»): оно описывает указанную динамику как непрестанную, полную и вневременную взаимоотдачу или же взаимообмен, кругооборот бытия между Лицами. Эта совершенная взаимоотдача бытия трактуется также как любовь, связующая Лица, и как их общение; так что, в итоге, личностная парадигма в горизонте Божественного бытия может быть сформулирована как онтологическое тождество трех фундаментальных понятий: Любовь – Общение – Перихорисис. Данную концепцию Божественного бытия современное православное богословие выражает формулой «личное бытие-общение». — Напротив, в русле имперсональной онтологии Инобытие мыслится категорически несовместимым не только с любой динамикой, но и с любыми положительными содержаниями. Здесь преобладает речь отрицаний, апофатический дискурс; в китайских и японских традициях негативистский уклон нередко доходит и вообще до отказа от языка онтологии, онтологических понятий, и Инобытие не рассматривается как «онтологический горизонт», особый род бытия. О выражающих его понятиях – Нирвана, Небо, Великая Пустота – утверждается часто, что их нельзя полагать ни бытием, ни небытием, и все признаваемые за ними предикаты, такие как неподвижность, пустота, абсолютный покой и т.п. – характерно апофатической природы.
Эта фундаментальная бифуркация в религиозной сфере прямо переносится в сферу духовных практик. Телос практики означает (энергийное) вхождение в Инобытие, отвечающее той или другой из двух парадигм; и телосы двух противоположных видов конституируют два глубоко различных (невзирая на вышеотмеченные универсальные, общие черты) вида Лествицы, восходящего мета-антропологического процесса.
В случае личностного телоса, путь практики ведет и вводит в личное бытие-общение; и путь к этому совершенному общению есть также общение, хотя уже не совершенное. Исихастская молитва, все Умное делание исихазма развертывается в диалогической парадигме, и восхождение по исихастской Лествице есть углубление диалога, прогрессивное нарастание его напряженности, интенсивности, насыщенного и всепоглощающего характера. Этот диалог Богообщения – не обмен информацией, он экзистенциален, эмоционален. Диалогическая связь здесь исключительно экзистенциально-эмоциональна, перцепции непричастны к ней – и это значит, что восхождение требует активизации эмоций (конечно, не любых и не беспорядочно, но – будимых и организуемых Богоустремленностью) и отстранения чувственных восприятий, в частности, и главного вида их, визуальных образов, и внешних и внутренних: любые образы суть лишь отвлечение или помеха чистоте молитвенного диалога. Именно таковы указания исихастских учителей; так, у св. Феофана Затворника два наставления настойчивы и постоянны: «изгнание образов» и «возгревание чувств» (эмоций). Здесь ярко проявляется, что исихастские борьба со страстями и бесстрастие значат отнюдь не отсечение, но преложение, претворение эмоций. Надо обратить внимание также и на температурную метафору. Она традиционна в дискурсе молитвы, и мы уже пользовались ей при описании Онтодвижителя исихастской практики; естественно принимать, что аккумуляции молитвенной энергии, активизации эмоций и выстраиванию иерархии антропологических энергоформ отвечает своего рода «разогревание» внутренней реальности человека. И наконец, надо упомянуть еще аспект (само)идентичности. Как мы говорили в цикле «Шесть интенций», в этом аспекте исихастская практика как путь «лицетворения» или «воипостазирования» человека, есть «энергийное обретение тринитарной идентичности». Эта тринитарная или ипостасная идентичность характеризуется динамическими и максимально насыщенными структурами идентичности; так что сравнительно с ущербными, редуцированными типами идентичности, характерными для обыденного существования, практика несет укрепление и усовершение самоидентичности человека.
Фундаментальная бифуркация Человека Религиозного влечет за собою многие следствия и ставит многие вопросы, как теоретические, так и практические, жизненные. Можно надеяться, что выяснение антропологических измерений бифуркации откроет некоторые новые возможности для анализа и решения этих существенных вопросов.
Прежде всего, к области Антропологической Границы принадлежат процессы в сфере “безумия” в широком смысле термина, применявшемся Лаканом, – процессы типа неврозов, фобий, комплексов и прочих феноменов, описываемых психоанализом. Эти процессы оказываются в неожиданном и глубоком соответствии с духовными практиками – соответствии типа полярной или зеркальной противоположности, причем роль Божественных энергий в них выполняют энергии Бессознательного. Сознание обладает иерархической, вертикальной структурированностью, и за счет этого, воздействие на него энергий внешнего, внеположного истока может быть двоякого рода: воздействие, распространяющееся от верхних уровней сознания, то есть активностей, сохраняющих полную цельность, или топологическую связность сознания, – и воздействие, распространяющееся от нижних, “субнормальных” уровней, активности которых не сохраняют эту цельность и связность, создавая замкнутые “миры безумия”. Естественно говорить, что в этих двух случаях осуществляется воздействие на сознание энергий двух различных Внеположных Истоков, соответственно, Супра-Истока и Суб-Истока; и первый род воздействий осуществляют Божественные энергии, второй же – энергии Бессознательного. Эти два рода энергий Внеположного Истока порождают два различных рода стратегий Границы, причем никакого иного, третьего рода Внеположного Истока, по логике данного рассуждения, уже не может существовать. В итоге, Антропологическая граница оказывается имеющей некоторую структуру, топику: в ней есть область, ареал, связанный с духовными практиками, и есть другой ареал, связанный с “практиками Бессознательного”. Эти два ареала конституируются двумя возможными Внеположными Истоками, и для полного описания топики Границы остается только ответить на вопрос: возможны ли стратегии или феномены Границы, не связанные с энергией никакого Внеположного Истока? Ответ положителен: феноменами Границы, не имеющими связи с энергиями Внеположного Истока, являются виртуальные практики, выходы в виртуальную реальность – реальность недоосуществленную, недовоплощенную, не имеющую той или иной части свойств полномерной, актуальной реальности. Область виртуальных явлений – третий и последний ареал Антропологической Границы.
Легко увидеть, что, когда мы полностью описали топику Антропологической Границы, – данным описанием доставляется некоторая конструктивная дефиниция человека: ибо о-пределением, де-финицией философского предмета служит – по определению! – именно его граница. Как показывает анализ проблемы самоидентичности человека, как раз отношения с Границей оформляют, конституируют эту идентичность; и в тех случаях, когда индивид остается вне стратегий Границы, он не обладает развитой идентичностью, будучи определяем не действительным определением человека, но окружающей человека эмпирией, “обстоянием”, отношения с которым составляют содержание не-граничных стратегий. Итак, в нашем определении, человек – взятый, напомним, в измерении энергии, бытия-действия, – есть ансамбль стратегий Антропологической Границы. Отправляясь от данной дефиниции, можно, очевидно, развить определенную цельную антропологическую модель. Она изначально междисциплинарна и полидискурсна: каждый из трех ареалов Антропологической Границы задает собственное поле дискурсов и дисциплин.
Таково завершение пути, по которому нас вела непрерывная логика развития антропологического подхода к исихазму. Возникающая антропологическая модель в высшей степени современна: предельный опыт находится сегодня в центре не только новейшей философии, но, все больше и больше, – самой жизни. И эта удивляющая актуальность древней практики для новейшей ситуации человека вновь подтверждает то, что ведомо было издавна: подлинная встреча с Богом, “момент Истины”, обладает абсолютною современностью любому моменту человеческой истории.
I. Школа
Патристический и неопатристический тип и стиль мысли определяется о. Георгием в постоянном сопоставлении (и противопоставлении) с западной богословской и философской традицией. Поэтому сначала мы набросаем историко-философскую схему, которая описывала бы, в каком соотношении с этой традицией находилась русская философия на разных своих этапах. Для такой схемы нам будет удобно использовать понятия «школы» и «традиции» в истории мысли, определенным образом различая их.
Сделать выбор выпало Соловьеву. В его трудах русская религиозная философия перестала быть разрозненной коллекцией предварительных попыток и выступила впервые как полноценное философское учение. Мысль Соловьева обрела продолжателей, и весьма быстро эта философия выросла в цельное направление, которое сегодня известно как метафизика всеединства. Для философии Соловьева — а вслед за нею и для всего направления — статус ее по отношению к западной мысли уже был вполне определен. Я опишу этот статус так: русская религиозная философия самоопределилась как некоторая новая школа в рамках классической европейской философской традиции. Эту ответственную формулу, определяющую положение народившейся философии в европейском контексте, необходимо подробнее разъяснить и обосновать.
Уточним прежде всего связь между категориями «школа» и «традиция» в истории мысли. Естественно считать, что «традиция» — категория более широкая, в рамках одной традиции возможен набор, многообразие школ. Что объединяет их, из чего должна состоять общая и единая основа традиции? Говоря кратко, она образуется из наиболее общих представлений о бытии, о мышлении, а также об организации дискурса, богословской и (или) философской речи. Сейчас для нас существенней всего первое. Важно отметить, что, помимо общего, охватывающего лишь главные линии и черты взгляда на теологию и (или) философию, их природу, задачи, строй, база традиции включает и определенную онтологическую основу. Не детали онтологии, которые в пределах одной традиции могут очень варьироваться, но тип онтологии ее минимальный каркас, лежащие в ее истоке немногие глубинные интуиции о бытии и реальности. Такой тип — весьма универсальная историко-философская категория: это, действительно, «инвариант» традиции, общая принадлежность всех участвующих в ней школ.
Далее, мы уточним, что будет пониматься здесь под «классической западной богословско-философской традицией». Мы включаем сюда всю магистральную линию движения европейской мысли в христианскую эпоху: от патристики и через схоластику — к секуляризации мысли и становлению классической новоевропейской философии, в котором главные вехи суть Декарт, Лейбниц и немецкий идеализм. Какая онтологическая основа может ассоциироваться с данной традицией? — Эта основа начинала создаваться предшественниками патристики, затем — Отцами IV в., и в истоках своих была еще универсально-христианской, общей для Востока и Запада. Но уже на рубеже IV и V вв. складывается особая западная редакция или ветвь патристики — и именно она в дальнейшем доставляет исходный пласт, фундамент для онтологической основы западной мысли. Родоначальник этой ветви — блаж. Августин. После его трудов в корпусе онтологических представлений западного христианства образует исходный пласт уже не просто патристика, но существенным образом, патристика сквозь призму Августина, в селекции и редакции Августина (и также с его, значительным новым вкладом почти во всех разделах и темах)
Дальнейшие привнесения в основу были вполне кардинальны, однако для наших целей достаточно лишь очень бегло сказать о них. Важно прежде всего, что их можно рассматривать как изменения, сохраняющие общий тип онтологии, главные черты которого — модель онтологического расщепления, включающая два горизонта бытия, и сущностный (эссенциалистский) характер основных категорий и отношений. И важно, что оба главных этапа привнесений, схоластика (томизм) и классический немецкий идеализм при всех своих огромных различиях, для нашей темы, т.е. «при взгляде с Востока», можно все же считать идущими в одном направлении. Это направление воспринимало и усиливало специфические тенденции «редакции Августина». Здесь все отчетливее и резче выделялись, обособлялись и ставились во главу угла начала разума и отвлеченного мышления (особенность, у самого Августина умерявшаяся экзистенциальными мотивами и развитой интуицией цельной личности). И все в большей мере умозрение смыкалось с дохристианской античной мыслью, усваивая ее понятия и позиции в чистом виде, отказываясь от работы их опосредования христианской догматикой или, иначе говоря, от перевода их в христианский дискурс — работы, которую всегда и твердо считала необходимой патристика.
Подобный статус рождает, однако, вопросы. Априори он вполне может нести в себе внутреннее противоречие: если задания и цели новой школы независимы, не почерпаются из традиции — отнюдь не исключено, что они и несовместимы с традицией, не могут быть осуществлены в рамках нее. Возможно ли было в рамках классической западной традиции выразить тот опыт, те духовные начала, из которых исходила русская философия? Этот вопрос не слишком продумывался теоретически, и ответ на него давался не столько рассуждением, сколько жизнью, ходом реального исторического существования русской мысли. Сегодня этот ответ уже достаточно ясен нам. Он не является однозначно положительным или отрицательным. Задания русской мысли осуществимы были в рамках западной традиции — но лишь в известной мере и до известного этапа. База традиции и эти задания имели между собою некоторую реальную общность, общую почву. И коль скоро включение в традицию, начиная с Соловьева, было делом решенным — оптимальная стратегия для русской мысли сводилась, очевидно, к тому, чтобы нащупать эту общую почву и с максимальной полнотой реализовать предоставляемые ею возможности.
Итак, во всеединстве была найдена точка встречи, схождения миров западной философии и русского православия. То было, если хотите, архимедово открытие Соловьева: точка опоры, которая разом позволила ему поднять русскую мысль в философский горизонт. Точка оказалась найденной весьма точно, и плоды метафизики всеединства по сей день составляют главное содержание русской философии. Но мы не хотим сейчас останавливаться на них, цель наша — проследить и понять дальнейший путь. Возможности философского развития, открытые перед русской мыслью парадигмою всеединства, были значительны; однако в эпоху Серебряного века философский процесс (как и иные процессы национального бытия) шел с небывалой интенсивностью, убыстренностью — и довольно скоро, уже к периоду революции, эти возможности начали обнаруживать свою ограниченность. Понять все причины и значение этого обстоятельства помещало то, что оно совпало хронологически с катастрофой России. И все-таки становилось ясно, что при всех успехах метафизики всеединства русская православная духовность существенной своей долей не получает в ней выражения. В эту долю входила прежде всего антропология Православия, представления о человеке в его связи с Богом. Здесь были классические мотивы православной мистики и аскетики, издревле важные и влиятельные для русского сознания: темы об изменчивости человеческой природы, о драматической борьбе со страстями, о переустройстве души и благодатном обожении. Вся эта тематика, тоже обширная и богатая, не улавливалась метафизикой всеединства, не передавалась ее понятиями и ускользала из ее построений.
К отысканию подобных начал русская философия подошла всего ближе, когда включила в круг своих проблем имяславие: особенное и чрезвычайное почитание Имени Божия, сложившееся в отдельных кругах монашества, в частности, на Афоне и на Кавказе, и вызвавшее в 1912-13 гг., в связи с попытками его обоснования и открытой проповеди, острый церковный конфликт, знаменитую «афонскую смуту». Имяславие было глубокой теоретической темой, явившейся вместе с тем прямо из религиозной практики, из древних очагов мистической традиции Православия; и это сразу же вызвало обостренный интерес и доверие к нему со стороны целого ряда русских философов. Булгаков, Флоренский, Эрн, Лосев стали приверженцами движения и вплотную занялись богословским и философским анализом его оснований. Взгляды всех были едины в том, что обоснование имяславия следует искать в учении о Божественных энергиях, развитом в богословии св. Григория Паламы (XIV в.). Это учение, осуществившее синтез всей восточной патристики и одновременно — богословское выражение практики исихастского подвижничества, отнюдь не входило в орбиту метафизики всеединства (как, впрочем, и вообще прежде не подвергалось философскому рассмотрению). Его понятия и положения были новыми и, таким образом, вставал вопрос о расширении, за их счет, предшествовавшей базы русской философии. В условиях большевистской России эта философская работа была проделана лишь частично, и все ее результаты надолго оказались под спудом. Но это неожиданным образом сыграло даже некую положительную роль. Ибо то новое и важное, что несли в себе исихазм и паламизм, не могло войти в русскую философию как простое дополнение к базису метафизики всеединства (а равно и не могло доставить оправдания имяславия). Дальнейшее продвижение русской мысли требовало не столько дополнения этого базиса, сколько отказа от него. И внешний, насильственный обрыв философского процесса, быть может, по-своему облегчил отход от прежней, столь хорошо проторенной дороги.
После национальной катастрофы отход от прежнего русла развития русской мысли происходил в обеих ветвях разделившейся отныне культуры. На родине то был отход в небытие. В рассеянии жизнь продолжалась, и это был не только и не сразу отход, для него потребовалась еще и дистанция в поколение. Ведущие философы, чье творчество успело раскрыться прежде, продолжали разрабатывать метафизику всеединства. Иначе быть едва ли могло; но о назрелости перемен много говорит тот факт, что все эти философы, бесспорно, крупные и яркие, практически не оставили продолжателей. Силы духовного творчества, еще далеко не иссякшие, начали искать выражения на другом пути. И можно считать символичным, что прокладывать этот путь одним из первых начал Владимир Лосский, сын знаменитого представителя метафизики всеединства, автора системы интуитивизма. Здесь в центр сразу было поставлено все то, что метафизика всеединства лишь платонически (во всех смыслах) желала вобрать в себя: темы внутреннего опыта Православия, мистико-аскетическая антропология.
Поворот мысли к этим темам стал событием с далеко идущими следствиями. В отличие от московской защиты имяславия, где он уже намечался, теперь он отнюдь не предполагал сохранять базу метафизики всеединства. Он ушел от всякой связи с нею — и больше того, он не связывал себя ни с какою философией вообще, не мыслил себя философским движением. Своим главным предметом он делал непосредственный опыт мистической и аскетической жизни Православия; теоретическое же содержание лишь в той мере, в какой оно прямо связывало себя с этим опытом. Иными словами, в центре внимания стали исихазм и паламизм, духовная практика и богословие, издревле имевшие своим основным очагом православный Афон. И глубоко не случайно, что первым значительным текстом, где выразился начавшийся поворот, стала работа афонского монаха Василия (Кривошеина) «Аскетическое и богословское учение св. Григория Паламы» (1936).
Что значило это для путей русской философии? Непосредственная философская работа была временно отодвинута, отстранена. Для привычной схемы развития теоретической мысли, поворот к аскетической и богословской проблематике был возвратом вспять. Но было бы крайне ошибочным и поспешным видеть здесь только попятное движение. Происходило существенное углубление исторического зрения, открытие новых связей, корней, истоков русской мысли. При всех достоинствах наш Религиозно-философский ренессанс не мог похвастать глубиной исторической и историко-философской рефлексии. В нем русская философия едва ли прослеживала свои истоки далее Соловьева, славянофилов, Чаадаева и, может быть, еще русских шеллингианцев и масонов; а ее историко-культурный и историко-философский контекст виделся состоящим почти из одних западных влияний. Теперь же этот контекст менялся, и притом радикально. Близкими и важными для русской мысли, вносящими вклад в ее генезис и ее задачи, оказывались совсем иные явления, древние пласты и плоды восточно-православной духовности. И поворот, кажущийся возвратом вспять, оказывался исполненным глубокого смысла: то был возврат к истокам, их открытие и продумывание.
Вернемся, однако, к тому конкретному повороту, что происходил с русской мыслью в рассеянии. Это был, разумеется, «поворот по Флоровскому», поворот к патристическим истокам, с преимущественным вниманием к их поздней, византийской составляющей, а также и с некоторым расширением их за счет отцов-аскетов. Такое расширение вполне отвечало патристическим установкам: укорененность в стихии духовной практики — важнейшая часть тех критериев, по которым строит и поверяет себя патристический дискурс (в отличие от чисто теоретических критериев классической западной традиции). Плоды поворота, во всей совокупности, можно обозначить одной общей формулой: открытие православного энергетизма. То было истинное открытие; в сравнении с ним московский пролог был, выражаясь грубовато, фальстарт: обращение к исихазму и паламизму происходило там с предвзятою целью (защита имяславия) и с грузом определенной философии (метафизика всеединства). Теперь же углубление мысли в мистико-аскетическую стихию Православия, наконец, совершалось основательно и непредвзято. Узрение этой стихии в ее существе и во всем ее историческом объеме подводило к двум кардинальным выводам, один из которых был исторического, другой же философского рода.
В истории Православия для русской мысли явственно обнаруживались новые важные звенья, новые связи, и в совокупности выстраивалась целая новая линия родства и преемства. Ее реконструкция и исследование — также в значительной мере труд Флоровского, продолженный затем о. Иоанном Мейендорфом. Классическая патристика IV в. получила не только латинский синтез и новое развитие у Августина; у преп. Максима Исповедника она получила также православный синтез и новое развитие, прочно укорененное в мистико-аскетическом опыте.
Далее, подобно тому, как на Западе явился следующий этап богословского развития в учении Аквината, в Православии на исихастких соборах и в учении св. Григория Паламы достигнута была новая стадия богословского уяснения – «паламитский синтез» XIV в., вобравший и темы о Боге, и темы о человеке, с прежней прочной опорой на опыт подвижнической практики. Затем, однако, эта линия перестает воплощаться в умозрении и уходит в сокровенное, «подземное» существование, сберегаясь в немногих очагах, в форме узких полуэзотерических школ духовной практики и духовного учительства. По Флоровскому, в это время происходили явления «псевдоморфоза». Но даже тогда ее воздействие было глубоким и сильным, хотя весьма имплицитным, опосредованным. Оно существенно отразилось в системе ценностей и идеалов русской культуры (а отсюда, в частности, и в литературы), в тех самых ее духовных заданиях, реализации которых стремилась служить русская философия. Именно оно в немалой степени стоит за теми расхождениями и напряжениями в отношениях с западной традицией, о которых мы говорили выше. Начиная же с деятельности преп. Паисия (Величковского), с появления и распространения русского «Добротолюбия», постепенно намечается новое возрождение патристико-исихастской линии и выход ее на поверхность религиозной, а затем и культурной жизни. «Поворот» знаменовал ее окончательное закрепление в культурном сознании.
Со стороны же идейного существа «поворот» нес еще более важные перемены. Наступало все более ясное понимание того, что энергийные, или же энергийно-синергийные начала, о которых говорят исихазм и паламизм, пронизывают и всецело определяют собой православную онтологию и антропологию. Как мы замечали, Религиозно-философский ренессанс, обратившись к этим началам, еще не сделал подобных выводов, он думал совместить энергийные концепции с прежним онтологическим базисом метафизики всеединства. Поскольку же этот базис отвечал руслу христианского платонизма, то «пролог в Москве» повторял путь неоплатоников, которые как раз и дополняли классический платонизм Аристотелевым понятием энергии и целым рядом производных концепций. Поэтому А.Ф. Лосев вполне справедливо обозначал подход, намечавшийся им и другими в Москве, как «христианский неоплатонизм»; но он был уже неправ, считая, что этим термином объемлется и сам паламизм, исихастское богословие энергий. Паламизм отнюдь не есть христианский неоплатонизм, ибо он не был плодом философской эволюции, он пришел из нового мистического опыта, христоцентрического и личностного. Он тоже был синтезом, но этот синтез христианского опыта оказался очень отличен от неоплатонического синтеза языческой философии. Догматическое определение Собора 1351 г. гласило: человеку возможно соединиться с Богом не по сущности, а лишь по энергии. Первая, негативная, часть этой формулы была в полном расхождении с платонической онтологией. И не только с ней. Продумывание онтологических основ православного энергетизма с неизбежностью вело к выводу о том, что эти основы представляют некий особый тип онтологии, который расходится также и со всею онтологической базой «классической западной традиции». Не только в (нео)платонизирующей августинианской линии, но и в линии томистской, опирающейся на Аристотеля, и в русле немецкого идеализма — всюду эта база носит эссенциалистский характер, чуждый энергийным концепциям или, во всяком случае, никак не ставящий их во главу угла.
Сказанное позволяет перейти и к более общим выводам. «Поворот» русской мысли был поворотом и в ее отношениях с европейской философией, в ее историко-философском статусе. Новое содержание, которое входило в нее и которое опознавалось как органически отвечающее ее исконным заданиям, оказывалось несовместимым с ее прежним положением. Совершавшиеся перемены делали для нее невозможным оставаться и далее только одною из философских школ в составе Классической Западной Традиции. И достаточно очевидно, какой же иной статус оказывается для нее адекватным на следующей стадии, после «поворота». Наличие иного, собственного русла истории, идущего непосредственно от патриотических истоков христианского умозрения; наличие иной, собственной онтологической базы — эти черты со всей определенностью говорят, что существу феномена русской мысли соответствует не статус школы, а статус самостоятельной, иной традиции. Или точней — этапа, звена в некоторой иной традиции, сущей издревле.
Существо «поворота» — отмена соловьевского выбора: переход русской философии из Первой традиции, в которой она пребывала в качестве одной из школ, во Вторую традицию. Предполагается, что благодаря этому тип философии и ее основные позиции придут, наконец, в полное соответствие с ее исходными интуициями и духовными заданиями: поскольку для русской мысли Первая традиция «чужая», а Вторая — «своя». Последнее несомненно; однако же возникает немало вопросов.
В противоположность Первой, Вторая традиция покуда вообще не была философской традицией. Выше мы уподобили по значению роль Григория Паламы во Второй традиции роли Фомы Аквината в Первой. Однако менее формально, по существу, такое уподобление никак не является справедливым. Мысль Паламы, как подчеркивают все авторы «поворота», — органическое продолжение патристики. Это — тот же дискурс: мысль организована в том же строе, по тем же правилам; и критерии, коим она подчиняет и коими поверяет себя, включают ту же сверхрациональную компоненту, верность мистическому опыту Богообщения и соборному опыту церковности. Движение мысли здесь совершается в элементе бытия-общения, в личностной и диалогической стихии. Дело же Аквината — смена дискурса: схоластика решительно избрала для себя аристотелианский строй, в котором мысль подчиняется лишь собственным автономным законам. Палама на Востоке продолжил патристику, Аквинат на Западе закрыл ее. Схоластика — следующий этап, и следует он в очевидном направлении, к обособлению суверенной сферы самодостаточного и саморазвивающегося разума. Она не была еще окончательным шагом в этом направлении: оставался церковный догмат. Но при взгляде изнутри сферы обособленного мышления — куда схоластика уже поместила себя — догмат видится внешним ограничением, оковами, путами для разума, и следующий естественный и необходимый шаг — освобождение от оков: секуляризация. С ней шло свободное, беспрепятственное воссоединение с античными истоками философской мысли и открывались широкие возможности для плодотворного философствования, начало которому положил Декарт. — Таков был путь западной философии, и по сей день это магистраль, царский путь философствования как такового.
Восток же выбрал путь «бесконечной патристики». Это целиком отвечало ведущей духовной установке Православия, что выражена уже в самом его имени: во главу угла ставится точное, «правое» держание бытийной ориентации, фундаментального онтологического вектора от человека к Богу. Здесь отказываются от обособления разума, сохраняя патриcтический характер дискурса, личностный и диалогический, и патриcтическую концепцию человека как «твари», оначаленной цельности, предстоящей Богу. И догмат тут — никак не оковы мысли, а начало, ее питающее и стимулирующее: догмат — идиома, свернуто доносящая до разума сверх-(но не анти-!)разумный опыт цельности и личности, опыт Богочеловеческого бытия-общения, которое тоже совершенно реально, не менее чем сам разум, и ничуть не является фантазмом. — Все это ценно и замечательно, допустим, но все-таки остается крупная неясность: как же развивать философию в таком дискурсе? До сей поры ее тут не было, и возможна ли тут она вообще?
Конечно, мы не дадим здесь полного ответа на эти вопросы, затрагивающие саму дефиницию философии и сущность ее отношений с религией; но некоторые вехи указать можно. Вторая традиция не исключает философствования, однако она меняет его характер. В Первой, классической традиции, начиная с Декарта, мир мысли — классический декартов мир. Тезис cogito ergo sum устанавливает первый закон, геометрию этого мира Как мира прямолинейных декартовых координат: коль скоро чистое cogito — достаточное удостоверение sum, значит, в мире мысли правит, определяет его законы движения (развития рассуждения) лишь одна равносильная бытию и, стало быть, самодостаточная мысль; любые иноприродные воздействия устранены, и мысль движется по прямым линиям. (Точней, она движется, конечно, по любой траектории — скажем, по Гегелевой «спирали» — но только она сама и полностью определяет для себя эту траекторию.) В обоих мирах, феноменальном и ноуменальном, Декарт сделал одно и то же открытие: ввел декартовы координаты, классическую прямоугольную геометрию. Но во Второй традиции мир мысли — не мир обособленного мышления. Здесь на логику рассуждений влияет догмат, на характер категорий влияет личностность онтологии и антропологии; имплицирующая постоянные «сцепления и расцепления» (выражение Паламы) разума с внеразумным содержанием. И в итоге, здесь уже не декартов, а эйнштейнов мир: мир с искривленной геометрией, где не только чистая мысль, и за счет этого мысль движется по измененным и усложненным законам. Мы выяснили выше, что Вторая традиция не может иметь платонической онтологии; сейчас же мы видим, что она не может иметь классического декартова Метода, категориального строя. Ей должен быть присущ сугубо неклассический, неплатонов и недекартов тип философии, и создание его требует смены парадигм, отчасти подобной той, через которую прошли в нашем веке естественные науки.
Философия начинается с Начала. С темы Начала: начала как такового, начала сущего, начала (начинания) философской мысли и речи... Классическая традиция в данной теме, как и в большинстве прочих, покинула патриотические истоки, найдя богословскую речь о Начале как о Творении и твари лишь apxaичною мифологией и дав теме о Начале иное начало, смыкающееся с античной мыслью, начиная от элеатов. Однако Вторая традиция выдвигает здесь иную, собственную трактовку, и на ее примере можно хорошо увидеть философские возможности и философские отличия «дискурса бесконечной патристики».
Отличия можно заметить немедленно. Центральное понятие «твари» в восточной патристике отчетливо трактуется — если использовать оппозицию Хайдеггера — не в элементе «метафизики», а в элементе «аналитики», феноменологического наблюдения: как род бытия, имеющий внутренний предикат сотворенности — в смысле наделенности началом, «начальности» или «оначаленности». Тварь есть бытие оначаленное и, соответственно, «тварность» — принцип внутренней формы оначаленного бытия. Тема о статусе твари привычно и просто решается в классической традиции в русле эссенциалистской онтологии, как тема об онтологическом расщеплении, сущностном различии бытия божественного и эмпирического, ограниченного априорными формами. Но здесь нет углубления, рефлексии над самим актом Творения — он остается чисто мифологическим моментом, и это немало содействует тому, чтобы философия отвернулась от всего патриотического подхода к теме Начала. Меж тем, продумав лишь одну черту Творения: его невынужденность, отсутствие его необходимости — мы, вместе со Второй традицией, заключаем, что Творение имеет характер произволения, акта волевого и, стало быть, не сущностного, а энергийного — так что уже здесь мы входим в сферу энергийной антиплатоновской онтологии. Далее элементы энергетизма умножаются и усиливаются. Классическое мышление отказывается от холистического понятия твари, расчленяя его на Ум и Мир (res cogitans — res extensa). При этом, качества активности, самодвижности, динамизма связываются почти исключительно с первым, с Умом, который, как. мы уже много подчеркивали, обособляясь, изымается из антропологии, а также и из проблематики Творения, de facto чаще всего трактуясь как бесконечное и безначальное, смешиваясь с Божественным бытием. Творение же, понятое как сотворение Мира, Космоса, «природы», тем самым редуцируется до натурфилософской проблемы, отодвигаясь в разряд маргинальных для философии сюжетов. В противоположность этому, Вторая традиция развивает аналитику цельной твари как оначаленного бытия, и эта аналитика не только онтологически значима, но составляет, по сути, главное содержание онтологии.
Итак, патристическое определение здешнего бытия как тварного, или оначаленного, имплицирует характеристику этого бытия как принципиально открытого, двуисходного, наделенного онтологическою свободою. Здесь для онтологии тварь — активное, динамичное начало, и за счет этого онтология делается историчной и событийной. Творение не может остаться единственным онтологическим событием, изолированным и полным в себе.
Оно с необходимостью влечет продолжение, завязывает историю, причем — что важней всего — в это продолжение самостоятельный и полноценный вклад вносит тварь, живая, водящая и самодвижная: онтология оказывается не просто событийной, но диалогичной. Напротив, в классической картине Творение, понятое космологически и натурфилософски, отнюдь не включает твари как онтологически свободного агента и не требует, вообще говоря, никакого продолжения. Для Первой традиции Творение — изолированное событие, природное или ex machina; но для Второй традиции существует не столько отдельная тема Творения, сколько большая тема о статусе тварного бытия, куда интегрирован момент Творения. Здесь этот момент — завязка и неотделимая часть цельной, онтологически событийной и диалогически развертывающейся истории или драмы.
В бытийной драме есть подлинный, и даже острый драматизм, ибо сюжет ее — преодоление смерти. Из двух бытийных исходов, открытых твари, один предполагает смертность, другой — преодолевает ее. В преодолении (самопревосхождении, онтологическом трансцензусе) тварь обретает качества Божественного бытия, так что исход преодоленной конечности означает соединение с Богом: обожение. В согласии с паламитским догматом, соединение с Богом может быть только энергийным, т.е. соединением энергий твари с Божественной энергией, благодатью Св. Духа. Так тема Начала, тема творения и тварности, органически включается в энергийную онтологию и в ней находит новое неклассическое решение.
В итоге, вовсе не очевидно, что «поворот» русской мысли должен вести к ее большему отдалению от мысли Запада. Суть и значение его, в первую очередь, внутреннего порядка. «Поворот» означает достижение зрелости, достижение окончательного самоопределения: когда русская философия возводит свои задания уже не к возвышенным туманностям — таким, как строй русской души, дух русской культуры, заветы православной духовности... — а к ясным и конкретным явлениям, с бесспорностью входящим в ее предысторию: патристика, исихазм, православный энергетизм. И, кроме того, осознает, что эти явления обозначают самостоятельную богословско-философскую традицию, жить в которой значит нечто иное, нежели вечно и недовольно мельтешить в чужом доме, таща у его хозяев, ругая их — и таким образом согревая русской душевностью холодную западную жизнь...
Но здесь нам, очень возможно, скажут: разве это не ложная дилемма — уходить из «дома» или «мельтешить недовольно»? разве нет третьего — счесть дом своим и жить в нем как все? Вопрос этот избит донельзя в поверхностных, газетно-идеологических своих пластах; но, как ни странно, довольно мало продуман по существу. По существу же — если оставить журналистам жвачку о «России между Востоком и Западом» и если сразу отделить вопрос о путях индивидуального творчества, признавши, что на этих неисповедимых путях любой дом может оказаться человеку своим, — перед нами вопрос о природе исторического бытия. «Счесть дом своим» значит идентифицировать, отождествить свою духовную ситуацию с сущею в этом доме. Это кажется возможным, ибо дом и ситуация в доме — наличны, даны, суть рядом; ergo, они доступны, и можно войти в них, принять их. Однако присмотримся: так ли уж они «даны»? Они даны и близки в пространстве, однако они пребывают еще и в измерении времени, причем — духовного, культурно-исторического времени. И здесь близости и доступности, вообще говоря, может отнюдь не быть! Проблема снимается для примитивно-мифологического сознания, которое, как заметили в нашем веке, игнорирует инаковость временного измерения: производит «специализацию» реальности, заменяя исторические, временные отношения пространственными. Именно это же совершает крайнее западничество, желающее без долгих дум «присоединиться к передовой культуре». Гонясь за передовым, здесь только впадают в первобытную иллюзию. Взгляд западника — взгляд дикаря, для которого история — склад готовых вещей в пространстве. Прямая противоположность ему — историзм Пушкина, со сжатою силою выраженный предсмертным заветом: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю».
Но, к сожалению, пушкинское исповедание историзма не исчерпывает проблемы. В энергийной реальности открытость истории включает и возможность аисторичной истории, «постистории». Качество историчности может быть утрачено, и «специализация» может стать реальностью, а не свойством примитивной оптики (впрочем, и в первобытном мире она скорее реальность, нежели свойство оптики). Эта возможность имеет прямое касательство к нашему времени, ибо один из очевидных путей к утрате истории — признаваемая сутью нашей эпохи глобализация, формирование единой планетарной культуры, неизбежно сопровождаемое эффектами наложения и смешения локальных культур и историй. Сама по себе глобализация отнюдь не равнозначна деисторизации бытия. Напротив, новозаветный историзм изначально ориентирован именно на глобальный сценарий, предполагающий объединение локальных историй в единую Вселенскую Историю. Наиболее развитые варианты этого сценария представлены западным средневековьем, а в наше время — русскими теориями Богочеловеческого процесса и учением Тейяра де Шардена. Однако в энергийной реальности все это именно лишь варианты, и сейчас реальность демонстрирует признаки глобализации совсем иной: такого объединения историй, где совершается не претворение, а растворение. их историчности, эрозия или даже демонтаж исторического измерения бытия (справедливо или несправедливо, подобного рода; глобализацию часто отождествляют с «американизацией», а, популярная концепция «конца истории» Фукуямы видит ее признаки в глобальном утверждении западного либерализма).
И с победой такого варианта уже не «взгляд западника — взгляд дикаря», а христианский историзм — архаичное мифологизированное видение, ретроутопия. — Итак, нет априорной, «эссенциалистской» истинности той или другой позиции. Есть лишь наше стояние в свободе, открытость, выбор. Какой быть уже идущей глобализации? Будет ли она уничтожением историчности или ее исполнением? Выбор онтологичен, и это значит, что он делается не в какой-то один момент, будущий или прошлый он — всегда с нами, как внутреннее качество историчного бытия: следствие его топологии, задаваемой онтологической бифуркацией.
Известна сейчас и еще позиция, также расходящаяся с набросанною выше стратегией «синергийного историзма»: много и одобрительно обсуждаемая позиция «диалога культур». Ее никак не упрекнуть в антиисторизме, напротив, здесь — повышенная чуткость к истории, к специфике исторического бытия вообще и каждой эпохи, каждой культуры, в частности. Здесь призывают войти, углубиться в каждую эпоху, уловить и воспринять ее уникальную, особенную природу; и утверждают, что этот зоркий и чуткий историзм, живое общение с многоликой историей — единственная плодотворная стихия формирования самосознания, вырастания и воспитания духа, личности. Все это, безусловно, замечательно, но все же является одно сомнение. Здесь человек — собственно, орган восприятия и связующий посредник во всем составе наличествующей истории, в собрании уже состоявшихся историй. Для нас же, в первую очередь, человек (культура, народ) — обладатель собственной истории, никогда прежде не бывшей. Ее исход неведом и непредопределен, и потому осуществление ее — актуальное творчество новой истории. Оно нуждается в определенных, и глубоких, отношениях с историей прежней, но к ним сводиться не может, ибо не в прежней истории, а в будущей, в открытости и свободе, обретен будет его исход. Именно это первородство, творческая обращенность к Богу и к будущему, формируют самосознание человека в истории. А диалог культур оборачивается, в итоге, одною из вариаций постмодернистского соблазна, когда уходят от творчества истории — в пользу прогулок по ней, сопровождаемых умною беседою с ее обитателями... Выше мы говорили, по большей части, как раз о восстановлении истории, о погружении в историю — но все это лишь ради того, чтобы раскрыть ресурсы сегодняшнего творчества. Надо суметь доказать то, что доказать нелегко, но возможно: в сегодняшней философской ситуации, коренные особенности открывающейся нам традиции — энергийная онтология и антропология, неклассический тип и строй мысли — могут составить ценный и конструктивный вклад в происходящий активный поиск новых начал и путей для философствования.
Так раскрываются философские аспекты концепции неопатристического синтеза, вновь и по-новому подтверждая ее глубину и плодотворность.
В Стамбуле в прошлом году проходил Всемирный Философский Конгресс, и я поехал на него со специальным намерением: взглянуть на лик профессионального сообщества, дабы проверить, оценить на материале – справедливы ли эти общие и мои интуиции, ощущения того, что мы находимся в философском межвременье. И, в целом, ощущение это подтвердилось. Конечно, надо задать вопрос – насколько все было представительным; но ответ здесь, пожалуй, положителен. Никто, бесспорно, не исключит, что где-нибудь вне этого конгресса или всех вообще конгрессов могут сидеть мыслящие существа, в которых уже творится и есть будущая философия. Но, за вычетом этого, по всем критериям конгресс позволял судить о ситуации. Событие происходит раз в четыре года, готовится долго, тщательно – и именно с заботой о представительности, о том, чтобы охватить все темы и все идейные направления, все крупные фигуры, национальные школы... Участников съезжается масса, и можно довольно надежно предполагать, что ничего существенного не упущено. И при всем том – ничего существенного и не было. Разыгрывался огромный праздник мелких и шустрых, всемирный карнавал маргиналов мысли. Разве что – еще были лица, в которых, что называется, поддерживалась честь профессии. Скажем, выступал Хабермас, и можно было признать, что в этой фигуре присутствует-таки философия, хотя едва ли он говорил нечто особенно глубокое или новое. Подобных фигур было несколько, и если заключенное в них неопределимое присутствие философии обладает способностью трансляции, это вселяет некоторую надежду.
За этим следует, конечно, последний вопрос: а о чем свидетельствует в этом плане сегодняшняя, наличная ситуация? И здесь я скажу как христианский философ: ситуация всегда на грани. Как уже указано, оба рода тенденций налицо, и я не расхожусь с большинством оценок, утверждающих опасное преобладание тенденций грозной, а то и смертоносной неподконтрольности. И тем не менее, за человеком и человечеством всегда остается последний шанс не допустить их победы: шанс благоразумного разбойника.
человек и земля человека”.
I. Кризисная эпоха и ее осмысление
В истории европейской мысли Фридрих Ницше и Владимир Сергеевич Соловьев соединяются как вестники Великого Кризиса, великих сдвигов и перемен, которые были ими угаданы и осмыслены, хотя и пришли в мир уже после их кончины. Кризисные процессы, охватившие мир с приходом ХХ столетия, были сокрушающи и многообразны. Андрей Белый, в чьем творчестве и сознании фигуры двух мыслителей были удивительно сближены, одним из первых с отчетливостью артикулировал этот всеохватный характер кризиса, выделив его основные измерения. В 1917-18 гг. он пишет книгу “На перевале”, три части которой последовательно раскрывают эти измерения: Кризис жизни – Кризис мысли – Кризис культуры. Наряду с всеохватностью, кризис оказался и поразительно длительным. Иногда лишь снижая остроту, становясь менее заметным, он прошел через весь минувший век – и ныне мы констатируем. что кризисное сознание обострилось вновь. Очередную фазу мы называем уже кризисом не рубежа веков, а рубежа тысячелетий; и мало-помалу постигаем. что перед нами не смена времен, а некое особое время, и все фазы, прошедшие и, возможно, будущие, -- не столько переходный момент, сколько самостоятельная кризисная эпоха.
Мы ставим вопрос о признаках, об отличиях, о самом существе этой кризисной эпохи. Выше мы видели, как обозначил главные элементы кризиса Андрей Белый; но это было в самом начале эпохи, много десятилетий назад, и с той поры – скажем с Пушкиным – “Чему, чему свидетели мы были!” Кризис, что наблюдал поэт, вместо завершения, развился и углубился – и возникает уверенность, что в его существе, за теми аспектами, что были видны в начале, лежат некие иные, более глубинные и более радикальные. Пытаясь разглядеть это подлежащее, hypokeimenon, ныне уже не европейского, а планетарного кризиса, различить за кризисом жизни, мысли, культуры некоторый более глубинный, порождающий горизонт кризисного процесса, мы приходим к единственному выводу: этот глубинный и порождающий горизонт кризиса – человек. Здесь, может быть, главная черта наших дней. Совершается своего рода антропологический поворот: происходящее с человеком, на антропологическом уровне реальности, приобретает решающую роль в бытии общества и культуры, глобальной динамике современного мира; и в существе кризисной эпохи ведущею стороной становится антропологический кризис.
Наш вывод побуждает посмотреть по-новому и на творчество провозвестников кризиса. Встает вопрос: можно ли найти в этом творчестве провозвестия и данного горизонта кризиса? сказали ли Соловьев и Ницше о надвигающихся антропологических сдвигах, о кризисе европейского человека? Мой доклад – попытка краткого ответа на этот вопрос; и поскольку известно, что тема о человеке выдвигалась настойчивей и развивалась богаче в философии Ницше, нежели в философии Соловьева, то наше обсуждение будет посвящено, по преимуществу, Ницше, касаясь творчества Соловьева лишь в отдельных моментах. Но прежде всего, чтобы определить концептуальные рамки обсуждения, мы кратко очертим современное состояние антропологической проблемы.
Итак, смерть субъекта, свершившаяся в европейском сознании, -- это и смерть классического “человека Аристотеля-Боэция”. Никакого нового человека на смену покойному до сих пор не родилось: и это – один из ключевых факторов, затягивающих преодоление кризиса. Разумеется, здесь появлялись некоторые общеизвестные фигуры или модели: фрейдистский человек, экзистенциалистский человек; можно добавить к ним и давно маячившего в искусстве романтико-символистского “многоликого” человека, наделенного множеством “индивидуальных субстанций”. Но по разным причинам они не составили достаточно основательной альтернативы человеку Аристотеля-Боэция и не смогли стать новой базовой антропологической моделью для европейской мысли. Мысль и общество продолжают, подобно Диогену, пребывать в поисках человека. Понятно. что сей Диогенов поиск должен развертываться в пространстве не-субстанциалистских и не-эссенциалистских дискурсов (куда неизбежно тяготели и все известные уже попытки альтернативы). В заключение преамбулы мы попробуем расставить некоторые вехи в этом пространстве – с тем чтобы далее, в основной части, антропологические концепции Соловьева и Ницше могли бы соотноситься с этими вехами.
Ясно, что на подобной основе возможно большое многообразие конкретных антропологических моделей, и энергийная антропология доставляет адекватное пространство антропологического поиска. Различные концепции и модели в этом пространстве отходят в разной степени от эссенциалистской модели, в зависимости от того, в какой мере в них, наряду с текучей энергийной стихией, присутствуют и неизменные, инвариантные структуры и формы. И важно заметить, что во всем многообразии возможных антропологических альтернатив существует и предельная концепция, максимально порывающая с эссенциализмом и указующая собой крайнюю границу пространства поиска. Эта граница – дхармический человек буддизма, концепция, в которой исчезает не только субъект, но и сама субъектность, индивидуальность, и человек предстает как чистый поток энергий – дхарм. Ницше отчетливо видел эту предельную роль буддизма, и часто буддийская антропология выступает для него в качестве референтного дискурса. Как мы увидим, не менее поучительным референтным дискурсом может служить и другая аскетическая модель, антропология православного исихазма. Однако вся эта богатая практическая антропология – еще далеко не философская антропология. Фигурирующее здесь понятие энергии – не философский концепт, а лишь практический инструмент, привязанный к антропологическому контексту, самоидентичность человека требует совершенно нового понимания, и можно назвать еще целый ряд проблем, рождающих глубокие трудности на пути создания подлинной замены ставшему недееспособным человеку Аристотеля-Боэция. При таком состоянии проблемы, полезно вновь обратиться к истокам кризиса и вспомнить, кк представлялись тем, кто возвестили его, крах старой модели человека и рождение новой.
II. Смерть человека Аристотеля-Боэция
Скажем кратко теперь, каковы отношения Соловьева с эссенциалистской антропологией. С первых своих этапов, с замысла “критики отвлеченных начал”, философия Соловьева ставила цели критики и преодоления классической метафизики; но в силу многих причин, они не стали главными в его творчестве. В своем общем типе. равно как в ведущих идеях, эта философия куда менее революционна, чем философия Ницше. Не только в ранний, но и в зрелый период, в “Оправдании добра”, она сохраняет характер эссенциалистской метафизики, тяготея к платонизму, и, как обычно для данного типа философии, уделяет антропологии весьма малое внимание. Но мысль Соловьева отличается живым разнообразием идей, резкими поворотами развития и вопреки ее общим, “усредненным” свойствам, в ней можно найти и существенные моменты, где она вносит вклад в продвижение европейской мысли о человеке, шедшее путем разрушения эссенциалистской антропологической модели. Я укажу сейчас всего два таких момента, которые представляются мне наиболее важными.
Прежде всего, Соловьев решительно вводит в учение о человеке процессуальность, антропологическую динамику. Нельзя, конечно, сказать, чтобы старые концепции человека в европейской метафизике были целиком статичны. Ни у Гегеля, ни у Шеллинга они не были таковы, и все же в целом антропология тяготела к статичности: человек предполагался наделенным неизменной природой, а динамические элементы в картине реальности, дух и разум, в значительной мере автономизировались, обособлялись от человека и изымались из узко понятой антропологии. Хотя этому традиционному дуализму в антропологии, идущему еще от орфиков и Платона, не был чужд и Соловьев, однако центральное для него понятие Богочеловечества сообщает динамику и погружает в процесс именно человечество и человека. Какую антропологическую модель несет в себе этот Богочеловеческий процесс, мы рассмотрим в следующем разделе; но сразу заметим. что процессуальность модели сама по себе еще не означает разрыва с эссенциализмом, поскольку, например, процессы органического, эволюционного развития имеют заведомо эссенциальную природу. В конце XIX в. притягательная сила новооткрытой парадигмы эволюции была огромна, и Соловьев, равно как и Ницше, весьма поддавался ей. Поэтому, хотя идея Богочеловеческой динамики была активно подхвачена в ХХ в. и русской религиозной философией, и западной философской теологией, от Тейяра до Тиллиха, но продвижение к новой антропологии тут не слишком значительно.
III. К новому видению человека
Во-первых, онтологическая трансформация или, в православной терминологии, превосхождение естества, недостижима силами самого естества, тварной падшей природы человека; и потому движущей силой восхождения к телосу является Божественная энергия, тогда как энергии человека должны направляться к согласию и сообразованию с ней, что передается византийским понятием синергии. Конституируясь синергией, ступени практики не могут, тем самым, осуществляться вне практики, в обычных стратегиях эмпирического существования. И это значит. что не только сам телос, но и путь к нему, вся практика в целом являет собой принципиально иное, альтернативу этим обычным стратегиям, обычному порядку существования человека. В культуре предметом духовных поисков весьма часто служит именно некая бытийная альтернатива, и потому аскеза всегда привлекала внимание тех ищущих людей культуры, чьей зоркости хватало, чтобы увидеть в ней ее альтернативную природу (в Новое Время таких было немного, ибо дух Просвещения учил видеть в аскезе скорей курьез или изуверство). Ницше принадлежал к этим зорким. Часто эти люди не принимали те или иные черты аскетической альтернативы и желали выстроить другую альтернативу, собственную. Но в этом они терпели неудачу, порой трагическую. Исток таких неудач кроется во второй особенности, порождаемой мета-антропологическою природой телоса.
Поскольку телос практики не является ни данностью, ни даже заданием, целью в эмпирическом бытии, то человек не может и сам, опираясь лишь на индивидуальный опыт, найти направление и определить путь к нему, держать вектор альтернативы. Энергийный образ – принадлежность индивидуальности, и его трансформация – также дело индивидуальности, но это дело, прохождение практики, включает. на поверку, существенные трансиндивидуальные аспекты. Выстраивание ступеней, ведущих не к эмпирической цели, а к мета-антропологическому телосу, есть уникальная деятельность, ставящая задачи организации, проверки, интерпретации мистического опыта, и решения подобных задач с необходимостью трансиндивидуальны, интерсубъективны. Методология и герменевтика исихастского опыта образуют особый “органон”, что может создаваться и существовать уже не в пределах индивидуальности, а лишь в неком объемлющем, соборном целом, которым служит духовная традиция. Феномен духовной практики включает, т.о., два уровня: наряду с уровнем индивидуальной практики как таковой, в нем существует также коллективный, или соборный уровень традиции, так что традиция есть необходимая предпосылка, или же среда и средство осуществления практики. Единство двух уровней есть своего рода “мета-биологическая система”: оно подобно биологическому виду, в котором индивидуальное существование особи также имеет своей необходимой предпосылкой (средой и средством) существование коллективного целого, популяции. Однако конституирующий принцип традиции, разумеется, отнюдь не биологичен: если вид осуществляет трансляцию жизни, то традиция – трансляцию опыта бытийной альтернативы, мистического опыта Богообщения и обожения.
Описанная “парадигма духовной практики” есть древний образец энергийной антропологической модели. Крах эссенциальной концепции человека сделал ее вновь актуальной, и сегодняшние поиски новой антропологии, исходящие, главным образом, из концепции “практик себя” Фуко, систематически и активно используют элементы этой парадигмы. Мы попытаемся показать. что отношения Ницше с аскезой тоже не ограничивались яростным отрицанием, и в его проекте новой антропологии можно обнаружить весьма существенные соответствия с парадигмой духовной практики.
Перечисленные свойства охватывают многие существенные черты структуры духовной практики; но было бы преждевременным решить. что антропологическая модель Ницше в целом, grosso modo, следует парадигме духовной практики и, при возможных отклонениях в деталях, может рассматриваться как реализация этой парадигмы, где телос (сверхчеловек) является не мета-антропологическим, “посюсторонним”, diesseitige, а движущей энергией, аналогом синергии в исихастской практике, служит воля к власти. Мысль Ницше не есть монистическая философия, ее ткань пестра и, в частности, его антропологическая мысль заведомо не складывается в единое последовательное учение. По ближайшем рассмотрении, мы находим, что в антропологии Ницше, наряду с парадигмой духовной практики, присутствует и иная, конкурирующая парадигма, носящая органический и биологический характер.
Следы этой парадигмы обнаруживаются, если поставить вопрос: как связаны в процессе восхождения к сверхчеловеку два уровня этого процесса, индивидуальный и сверхиндивидуальный? В парадигме духовной практики данная связь вполне отчетлива: восхождение есть индивидуальная практика, равно как и обожение, телос, есть претворение индивидуальной личности, а не какого-либо сообщества; тогда как сверхиндивидуальное целое, традиция, лишь обеспечивает необходимые условия индивидуальной практики, служа для нее средой и средством. В антропологии Ницше характер связи виден не сразу. Ясно лишь, что совпадения с духовной практикой здесь уже нет: по Ницше, восхождение к сверхчеловеку в целом заведомо не вместимо в границы индивидуальной судьбы, и никакому человеку не дано пройти в своей жизни весь путь, все ступени к сверхчеловеку. Больше того, неверно даже и говорить, что индивидуальный человек “проходит путь”: он лишь является звеном этого пути, проходит же его – человек как род, а не как индивид. Но это радикально меняет сцену! Неужели то. что мы приняли за “духовную практику”, было лишь социоисторическим развитием, неким видом прогресса? -- Нет, это все же не так. Модель прогресса – полярная противоположность духовной практике: это восхождение общества к цели, которою является также некий тип общества, тогда как индивид служит лишь средством восхождения и никак особенно не меняется, разве что несколько улучшаясь и осчастливливаясь обществом. Однако сверхчеловек, хотя к нему и ведет не индивидуальный, а сверхиндивидуальный, социальный процесс,, есть новый образ индивидуальной личности, а отнюдь не социума. В силу этого, перед нами третья модель, промежуточная между полюсами духовной практики и социального прогресса и также вполне знакомая: разумеется. это биологическая модель, процесс типа образования вида (филогенеза) или выведения породы.
Нельзя не учесть, однако, что при отсутствии цельного антропологического проекта, у философа всегда были некие глубинные интуиции о человеке, его судьбе и природе – не складывавшиеся в теорию, порой даже отчетливо не высказывавшиеся, но при всем том, стойкие и важные для него. Больше того, можно полагать, что именно эти интуиции, связанные в единый узел-комплекс, служили неким производящим ядром, подспудным питающим источником творчества Соловьева. Этот узел составляют большие темы: Любовь – Пол – Смерть, которые у него сплетаются меж собой тесным и очень своеобычным образом. На первом месте здесь нужно поставить жажду бессмертия, извечную для всех мистиков. Она выступает в форме идеи преодоления смерти, которое утверждается как высшая задача и назначение человека. Сразу несколько мотивов внесли свой вклад в укрепление этой идеи и этой жажды, не только мистический тип личности, но и свойственное глубоко Православию “пасхальное” восприятие христианства как прежде всего – Благой Вести о победе над смертью; а также потрясения и переживания, вызванные кончиной отца (1879 г.) и смертельной болезнью (1883 г.). Далее, к этой идее теснейше примыкает другая: твердое убеждение Соловьева в существовании неразрывной связи смерти и пола, а точней секса – не столько самого различия двух полов, сколько их плотского соединения, сексуального акта. Оба эти явления, или стихии тварного бытия выражают его падший характер, они суть печати падения и греха, и они взаимно предполагают и взаимно влекут друг друга. И отсюда – третья идея, уже как следствие этих двух: преодоление смерти должно означать и преодоление сексуальности, преображение сексуальной любви в некий иной, высший род любви. И весь идейный узел довершают интуиции о том, каков же сей высший род, высший облик любви, -- интуиции, перерастающие в знаменитые соловьевские утопии “всемирной сизигии”, андрогинизма, таинственного претворения – или отсечения? -- сексуальной сферы. За этими интуициями и утопиями возвышаются, питая и направляя их, образы Софии и Вечной Женственности. Эти ключевые идеи-образы Соловьева нередко представали в неясных очертаниях, менялись на протяжении жизни, однако сопровождали философа всегда, как самое сокровенное и дорогое.
Несомненно, эти диаметральные расхождения коренятся скорее в структурах личности обоих мыслителей, чем в структурах их теоретических построений. Темы о человеке не могут не быть личными темами, и последние основания их решений всегда, в конечном счете, кроются в жизни, личности и судьбе. В этих экзистенциальных измерениях мы говорим уже не об идеях, а об опыте, и в отличие от идей, опыт Ницше и Соловьева сохраняет свежесть и ценность всецело. Оба мыслителя не были, мягко выражаясь, обыкновенными смертными. Судьба обоих несет печать гениальности и трагедии, и их глубокий трагический опыт останется современным всегда, покуда человек будет стремиться постичь себя.
Кризисные явления в происходящем заключаются, прежде всего, в том, что с человеком начали совершаться какие-то нежданные и резкие изменения. Человек перестал быть прежним, казалось бы, вполне знакомым предметом, неизменным в своей основе, – и вместо этого стал предметом каких-то активных перемен, интенсивной антропологической динамики. К ее явлениям, например, принадлежат экстремальные, трансгрессивные, виртуальные практики, суицидальный терроризм; и такие явления все более ширятся и множатся. К этому добавляется, что все существующие теории и концепции оказываются не в силах описать и объяснить эту новоявленную динамику. Это касается даже самых общих, базовых элементов европейской концепции человека. В своих ведущих, фундаментальных характеристиках человек рассматривался как субъект и индивид, ему приписывалась твердо определенная сущность, у этой сущности выделялся целый ряд непременных компонент – сущность духовная, нравственная и еще многие. Каждый аспект сущности воплощался в определенной разновидности субъекта, человек был нравственным субъектом, правовым субъектом, хозяйственным... И всю эту стройную схему, все ее понятия в современном мире приходится признать неработающими. Они не объясняют того, что реально делается с человеком. В духе интеллектуального климата и стилистики последней эпохи, эти обстоятельства были выражены с вызовом и с помпой, рекламой, начали провозглашать «смерть субъекта», затем и вообще «смерть человека». Но, независимо от манеры выражения, к тому были основания по существу. Классическая европейская антропология действительно отказала. Явилась необходимость поиска.
Разумеется, совершенно не исключено, что путем подобного обозрения и поиска мы также не найдем ничего подходящего, – и тогда нам придется измышлять нечто принципиально новое. Но все-таки прежде этого нужно посмотреть, что же существует еще, кроме той модели, которая отказала. И тут нельзя не заметить сразу: все отказавшие позиции были выработаны в классической европейской метафизике, в философской и религиозной мысли Европы, и по преимуществу, Европы Нового времени. Имеется ли что-либо вне этих пределов? – Имеется достаточно много, прежде всего, духовность Востока. И в этом направлении поиски ведутся самым активным образом – притом, уже несколько десятилетий, так что сегодня эти поиски света с Востока всерьез не назовешь уже новым направлением и новой антропологией.
Сначала и главным образом, европейский человек обратился в данную сторону не на теоретическом, а на самом практическом уровне. Как мы знаем, уже заметное время налицо массовые увлечения восточной духовностью – именно как некоторым практическим выходом для человека, как антропологической практикой. Интерес к философии, к восточной мысли налицо также, но его масштаб куда меньше. В первую очередь, западный человек ощутил, почуял, что в восточных традициях для него лежит некий привлекательный антропологический путь – и начал заниматься восточной духовностью как практической антропологией.
Поле, о котором я говорю, являет нам традиция Восточного христианства. В ней можно найти богатый источник антропологических ресурсов: новых (хотя и древних!) подходов к человеку, новых принципов и приемов его описания и осмысления. И, разумеется, Восточное христианство может доставить эти новые пространства мысли, новые пространства для теоретической антропологии лишь в силу того, что в нем наличествует богатая практическая антропология. В его сфере издревле развита определенная антропологическая практика, во многом родственная тем самым дальневосточным практикам, которыми так увлекается в последние десятилетия европейский человек. Однако есть и глубокие различия. Наиболее важны из них различия религиозного рода, но в нашем контексте надо особо отметить один культурный аспект: в отличие от (дальне)восточных практик, восточно-христианская практика пользуется европейским дискурсом, выражает себя на языке европейского мышления. Хотя это и не язык западной, классической философской традиции, но это еще язык, также восходящий к греческим, античным основам европейской мысли.
Поиски в сфере дальневосточных антропологий, дальневосточных практик сразу же сталкиваются с очень серьезной проблемой непереводимости. Как источник чисто практических методик, эта сфера эксплуатируется не только активно, но и относительно успешно (хотя доля искажений, вульгаризаций, редукций к примитиву достаточно велика). Но теоретическое ее осмысление сразу же сталкивается с тем, что исходный язык настолько отличен здесь от тех слов, тех понятий, в которых всегда себя понимал и расшифровывал европейский человек, от тех общих идей, на которых строилось здание европейской мысли, – что соединить одно с другим, выстроить некую синтетическую философию и теоретическую антропологию на базе дальневосточных практик оказывается не только затруднительным, но и, пожалуй, невозможным. К этому миру можно лишь примкнуть, но плодотворно воспользоваться им для обновления оснований европейской философии человека не удается. Разве что психологи научились извлекать некоторые восточные богатства; но в целом, сегодня мы вынуждены считать язык классических восточных практик в его базовых понятиях непереводимым.
Меж тем, с Восточнохристианской традицией это совершенно не так; и потому антропологический поиск, когда он обращается к восточно-христианскому полю, может быть достаточно плодотворным. Но здесь пора указать еще одно важное обстоятельство: подходить к полю духовных практик столь внешним, утилитарным образом, стремясь только к их эксплуатации для своих целей, – равно неуместно и бесполезно. Ничего подлинного такой подход не сможет извлечь, входить в этот мир с корыстными целями безнадежно. Это очень особый мир, он требует особых процедур погружения, вхождения. Там своя шкала ценностей, свои формы опыта. Я не хочу сказать, что откровенно прагматичный подход, желающий лишь извлечь нечто для пополнения арсеналов философии и науки, не сможет заполучить для себя никакой добычи. Однако добытое будет заведомо сомнительно и заведомо далеко от истинного существа, истинной жизни духовной традиции. Проникнуть к ним можно лишь на путях приобщения и доверия, с забвением всяких заданных корыстных целей.
Прежде всего, раскроем его духовные цели. Откуда, как все это началось? Началось с того, что Христа не стало уже на земле; некоторым исходным рубежом можно полагать священное событие Вознесения, когда Христос покинул горизонт эмпирического существования. Но остался его завет. Согласно этому завету, содержанием, назначением человеческой жизни должна была стать новая жизнь во Христе, в соединении со Христом. В подобном соединении-общении с Ним пребывали Его первые ученики, апостолы, – однако что же могло означать «соединение со Христом», когда Христа уже не было в здешнем бытии? Это было совершенно неясно; но как бы соединение ни понималось, оно было, в первую очередь, практически невозможно. Человек существует в своем способе или горизонте бытия. Христос в этом горизонте отсутствует, и потому соединение с Ним самым очевиднейшим, прямым образом невозможно. Но в то же время оно входит в основное задание человека! Задание оказывается парадоксальным, загадочным.
И тем не менее Восточнохристианское сознание не отказалось от этого задания, оно отнеслось к нему не только с серьезностью, но и с глубокой буквальностью. Оно не перестало считать, что целью человека остается подлинное соединение со Христом. Но в новых условиях, в новой реальности это уже означало соединение с некоторой целью, находящейся не в здешнем бытии, не в нашем бытии, а в бытии, от него отличном, ином: в «Инобытии». Возникала невозможная цель, невозможное духовное задание соединения с Инобытием. Исполнению этого задания и посвящалась та антропологическая практика, которую начало выстраивать Православие. Практики такого рода обычно именуются «духовными практиками». Но следует пояснить, отчего я здесь говорю именно о Православии, о Восточном христианстве.
Дело в том, что, хотя в первые века своей истории христианство и представляло собой единое духовное целое, но в западной и восточной, латинской и греческой его частях очень рано начали складываться заметные различия типа религиозного сознания, различия в ориентации, в стратегии этого сознания. Для западного сознания ключевая и главная задача виделась скорее в развитии христианства как учения, которое могло бы ответить обоснованным образом на все доктринальные вопросы. А для православного, Восточнохристианского сознания, хотя оно и было ведущим в создании догматики христианства, в центре стояла не теоретическая задача развития учения, а практическая задача достижения определенного опыта: именно этого таинственного опыта соединения со Христом, которое стало уже соединением с Инобытием.
И суть всей практики – законченное формирование которой заняло ни много ни мало тысячелетие, с IV-го века и до XIV-го! – всего вернее определить именно как бытийное размыкание человека. Для достижения этого потребовалось развить особое антропологическое искусство: именно таким образом, в художественных, эстетических терминах (скорее чем в богословских или тем паче философских, научных) сама практика описывала и понимала себя, ее самоназванием было «умное художество». Человеку было необходимо сделать с самим собой нечто, абсурдное для обыденного рассудка: превратить себя в живое сущее, разомкнутое для присутствия Инобытия, «прозрачное для благодати», по православному выражению; и это непостижимое самопреобразование самими исполнителями его, подвижниками, воспринималось как близкое по своей природе к искусству.
Однако одновременно оказывалось, что процедура бытийного размыкания человека включает в себя ряд очень строгих ступеней, этапов. В невозможном пути обнаруживалась своя железная объективность. И внутреннее, смысловое содержание истории исихазма заключается именно в последовательном открытии и освоении тех ступеней, которыми совершается восхождение к Инобытию. Сейчас, когда этот путь восхождения давно проложен и основательно описан теми, кто проторил его, изнутри, его строение можно описывать с разных позиций, в разных терминах. Для нас удобен язык антропологических стратегий.
В начале пути требовалось в полной мере осознать, что искомая цель – Инобытие, она не лежит нигде в здешнем мире, не имеет никакого отношения к его вещам, предметам, явлениям. Чтобы ориентировать, направить себя к такой отсутствующей, запредельной, нездешней цели, человеку было необходимо создать у себя чувство бытийной альтернативы: чувство отталкивания от всего порядка, всего горизонта здешнего бытия, чувство устремления в ином направлении, прочь от него. Для такого задания была органична вертикальная метафора, было естественно сказать, что человек должен стремиться «не долу, а горé», по старинному выражению, должен осуществлять себя не в плоскости здешнего бытия, а вырываясь, отрываясь от этой плоскости. Но подходит здесь и системно-теоретический язык: мы можем сказать, что человек должен у себя создать некоторый «блок отрыва», отрыва от всего здешнего как такового. И притом, отрыв должен быть резким, радикальным, ибо человек принадлежит здешнему всем своим естеством, всем сложившимся укладом мирского существования.
Неизбежно, резкий отрыв достигался резкими, даже крайними средствами. Из иудейской духовной традиции, склонной к крайним, экспрессивным формам духовной жизни, как мы знаем из Ветхого Завета, была заимствована культура покаяния. Это по-настоящему радикальная, экстремальная антропологическая практика: в ней практикуются резкие выражения эмоций, отчаяние, сокрушение, слезы. Весь этот арсенал оказывался необходим для того, чтобы человек смог оторваться от привязывающей стихии здешнего бытия, и в его ориентации, его стратегии появилась вертикальная составляющая. Необходимо было – в особенности, на ранних стадиях – также и удаление от эмпирического социума, навязывающего свои занятия, свои нормы, не дающего выстраивать новую антропологическую реальность: и потому происходил уход в пустыню, складывалась знаменитая двуполярность древнехристианского мира, «Империя и Пустыня». – Вслед за тем, когда установка вертикальной устремленности была воспитана, создана, возникала следующая, не менее тяжелая и непонятная задача. Оказывалось, что по этой вертикали еще и нужно восходить, подниматься. Но каким образом подниматься? Собственных сил, собственных энергий для этого у человека нет, его энергии могут лишь развертывать его данность, реализовывать его природу. Превосходить же, преображать эту природу, восходя к Инобытию, человек если и способен, то не своею собственной силой, а упоминавшейся уже энергией самого Инобытия, благодатью.
Требовалось, таким образом, создать самое ядро практики, своего рода антропологический – и мета-антропологический! – подъемный движитель, «мотор», который доставлял бы возможность подниматься по ступеням духовной практики, словно по лестнице, ведущей к претворению человеческого существа в Инобытие. Созданию такого ядра посвящен был центральный период развития исихастской практики, имевший длительность в несколько столетий, приблизительно с VI-VII-го и до IX-X-го века. Тогда, в частности, был создан первый систематический исихастский трактат – и нисколько не удивительно, что он носил название «Лествица».
Автор его вошел в историю православной духовности как Иоанн Лествичник. Там была подробно описана, проанализирована вся лестница «вертикального», бытийного восхождения человека к соединению с иным бытием. Отчетливо представало там и то главное, ключевое, что мы указали выше: уникальный антропологический и бытийный движитель, таящий в себе способность «вертикального» возведения человека. На сегодняшнем научном языке мы скажем, что духовная практика изобрела или обнаружила в человеке определенный антропологический ресурс, суть которого – в сопряжении, сведении воедино некоторых двух активностей. Именно это сопряжение оказывалось имеющим чудодейственную силу возведения человека вверх или точнее, размыкания человека к тому, чтобы в нем начала действовать возводящая его внешняя, не ему принадлежащая энергия.
Две сопрягаемые активности назывались Внимание и Молитва. Что касается молитвы, то она, разумеется, присутствовала в духовной практике с самого начала. Всегда было самоочевидно, что устремление к Богу есть тот или иной образ вхождения с Ним в общение, и общение в данном случае есть именно молитвенное общение, молитва. Однако на опыте было познано, что молитва, вместе со всем человеком, тоже должна восходить по духовной лествице – постепенно приобретать иные, новые формы. И в первую очередь, молитва должна сделаться непрестанной. Чтобы человек мог доподлинно восходить к иному бытию, к актуальному претворению своей прежней, ветхой природы, он ни на миг не должен терять, утрачивать своего устремления к Инобытию, выражаемого молитвенным обращением. Но это невозможно для него, человек рассеивается. Он многосложно, разнообразно устроен, и разные уровни его существа вовлечены в разные собственные активности, которые требуют внимания к себе. Итак, вторым ключевым элементом оказывается именно внимание: умение управления вниманием.
Человеку необходимо суметь так собрать, сконцентрировать свое внимание на молитве, молитвенном общении, чтобы достигнутое общение могло бы не прерываться. Установившись в молитвенном устроении, надо было установившуюся молитву зорко стеречь. Подобная дисциплина внимания именовалась хранением или стражей. Она явно близка к хорошо знакомой философии – а особенно, философской феноменологии – проблеме концентрации внимания на определенном внутреннем объекте. Но в данном случае объектом служил сам человек в его целости: человек должен был зорко следить за всем собой, так чтобы не прерывалась непрестанная богоустремленность. И вот когда эти два элемента, внимание и молитва, прочно и подлинно сопрягались, сцеплялись между собой, – оказывалось, что с человеком начинаются неожиданные антропологические эффекты. Непрестанная молитва оказывалась уникальным способом аккумуляции человеческой энергии, в ней достигалась невероятная, немыслимая прежде сосредоточенность, сфокусированность человека на нужном ему устремлении.
Притом, эта сосредоточенность энергии была особого рода. Достигался отнюдь не экстатический, эмоциональный порыв, но порыв, строго управляемый вниманием: такой, который путем внимания зорко следит, держит в фокусе сознания все уровни человеческого существа и ориентирует их в нужном направлении. И за счет этого, подобная аккумуляция энергии оказывалась реально преобразующей человека: формостроительной. Начинал совершаться реальный процесс трансформации человека; и, как выяснялось при этом, данный процесс тоже носил ступенчатый характер, следовал некоторыми закономерными ступенями. Образ Лествицы точно отвечал сути дела, человек поднимался по Лествице духовного восхождения. Каждая ступень Лествицы оказывалась определенным способом, режимом устройства всех энергий человека, всех его активностей, проявлений – не только интеллектуальных, психических, но в том числе, и телесных, тело также вовлекалось в бытийное устремление.
Такова была центральная стадия – ядро, суть практики, когда человек оказывался весь собран воедино, в поле сцепленных активностей внимания и молитвы, и совершал действительный бытийный подъем. По достижении этой стадии, далее человек входил и в высшую область, когда с ним начинало совершаться реальное преображение его существа. Он в самом деле уже оказывался преобразуем, преображаем некими энергиями, которые на православном языке называются благодатными, божественными энергиями. С одной стороны, он реально воспринимал эти энергии, их воздействие, с другой стороны, столь же реально осознавал, что они не принадлежат ему, что их источник не в нем и не где-то в его горизонте бытия, а за пределами этого горизонта, – так что эти энергии в настоящем смысле инобытийны.
К зрелому, систематичному освоению этих высших стадий, их пристальному наблюдению, размышлению над ними, духовная традиция подошла очень нескоро – в последние столетия Византийской империи. Этот этап, называемый Исихастским возрождением XIV-го века, начался со знаменитого исторического эпизода, называемого «Исихастскими спорами». Исихасты говорили, что на высших духовных стадиях, достигаемых в практике, у человека доподлинно открываются иные способности, иное зрение и начинаются некоторые восприятия, которые уже не относятся к здешнему бытию, а относятся к Инобытию, причем в духовном опыте Инобытие воспринимается как свет: особый род света, не совпадающий со светом физическим, природным, но совпадающий с тем светом, что осиял учеников Христа в евангельском событии Преображения на горе Фаворе. Развернулась дискуссия о свете, созерцавшемся исихастами. Противники исихастов утверждали, что это лишь некие иллюзорные эффекты, и созерцаемый свет имеет здешние, естественные источники. Однако имевшие опыт практики утверждали, что это не так, и никаких естественных источников, равно как естественной природы, у этого света нет. Природа его инобытийна, и воспринимает его не естественное зрение человека, а некое иное восприятие, рождающееся у человека в духовном опыте. Позиция исихастов была подтверждена, богословски обоснована в писаниях св. Григория Паламы, и принята в 1351 г. поместным собором Константинопольской Церкви.
Далее перед традицией вставали следующие, иные задания, касающиеся, в первую очередь, возможностей исихастской практики за пределами монашества, в мирской жизни. Однако пришло крушение Византии, и развитие исихазма надолго замерло. Мы же сейчас отметим еще только один момент в нашей краткой характеристике традиции. Мы описывали духовную практику как индивидуальный процесс, совершаемый определенным адептом практики, аскетом-подвижником. Однако в действительности пройти путь практики индивидуально нельзя; он проходится лишь в лоне духовной традиции. Причина этого в том, что путь требует метода, а метод этот таков, что не вырабатывается индивидуальными средствами. Он вырабатывается и хранится, транслируется из поколения в поколение только в некотором объемлющем, сверх-индивидуальном целом, которое и есть духовная традиция. Поэтому феномен духовной практики должен быть осмыслен в неразрывной связи с явлением духовной традиции, они образуют неразрывное единство. Практика индивидуальна, но она существует только в объемлющей среде традиции. Именно традиция осуществляет проверку всякого индивидуального опыта, она идентифицирует, верифицирует и толкует его, создавая для этой цели высокоорганизованный методологический аппарат. Лишь исключительно из традиции, из этого сверх-индивидуального, соборного целого, можно надежно удостоверить подлинность опыта, отсечь опыт ложный и констатировать, что достигается истинный опыт, а не психическая иллюзия.
Из нашего беглого рассказа мы уже можем заключить, что духовная практика – и ближайшим образом, исихазм – несет в себе существенные антропологические уроки. Мы видим, что здесь создается свой подход к человеку, и это такой подход, который не свойственен классической западноевропейской науке. Во-первых, практика не говорит о каких-то идеальных чертах человека, она не приписывает ему какой-то отвлеченной сущности, не характеризует его какими-то принципами или началами. Она работает исключительно с человеческими энергиями и преобразует эти энергии. Таким образом, речь идет об энергийной антропологии. Классическая европейская антропология, описывая человека как субъекта и приписывая ему определенную сущность, по-латыни «эссенцию», essentia, развивала эссенциальный подход к человеку. Духовная же практика развивает энергийный подход к человеку, имеющий принципиальные отличия и открывающий другие возможности.
Есть и еще одна важная особенность. Духовная практика устремлена к Инобытию – и тем самым, она выдвигает на первый план, считает определяющими в человеке такие его проявления, такие энергии, в которых человек оказывается открыт, разомкнут для иного образа бытия. В подобных проявлениях человек подходит к пределу своего горизонта бытия, и поэтому их естественно называть предельными проявлениями. Можно сказать, таким образом, что антропология духовных практик ориентируется, в первую очередь, на предельные проявления человека, придает им определяющее значение – и в этом смысле, является предельной антропологией. Именно это и суть две главные черты, два главных антропологических урока из духовных практик.
Придя к этим выводам на материале исихазма, мы можем затем проанализировать под таким же углом и другие мировые традиции духовной практики: суфизм, йогу, тантрический буддизм, даосизм – и мы убедимся, что обе главные найденные черты и там налицо. Есть некоторая, удобно так выразиться, универсальная антропологическая парадигма духовной практики. На практическом уровне она несет в себе, воплощает альтернативный подход к человеку, сравнительно с европейской антропологией субъекта и сущности. Выявив и рассмотрев этот подход, мы можем подойти к нему с теоретической рефлексией и концептуальными задачами – тем самым, открывая пространство альтернативной антропологии.
Если же вернуться к общим следствиям, то мы сумели извлечь тот урок, что на базе духовных практик возможна иная антропология, у которой будет два ведущих принципа. Во-первых, это энергийная антропология: она не берется рассуждать о сущности человека, а смотрит лишь на его всевозможные проявления, энергии. Энергии понимаются очень широко – интеллектуальные энергии, психические, эмоциональные, соматические... – и именно с «энергийным человеком» эта антропология работает.
Во-вторых, это предельная антропология: она считает, что среди всех энергий, всех проявлений человека, играют определяющую роль и, в частности, формируют идентичность человека, – предельные проявления, те, в которых он разомкнут для воздействия «иного» (т.е. того, что внеположно горизонту его существования) и способен войти в соприкосновение с «иным».
Далее можно сделать следующий теоретический шаг. Мы замечаем и учитываем, что «иное» человеку, внеположное горизонту его существования, имеет не единственный вид, оно разнолико. Иное человеку это не только Бог, человек способен очень по-разному смотреть на себя и на иное себе. Когда он смотрит на себя как на определенный род бытия, тогда иным себе он осознает иной род бытия, и реализует себя в духовной практике, выстраивающей, «тематизирующей», выражаясь философски, его отношение к Инобытию.
Но горизонт человеческого существования имеет и другие фундаментальные характеристики. Для современного европейского человека естественно и типично смотреть на себя как на носителя сознания, как на существо, определяемое наделенностью сознанием. Иное же сознанию – это бессознательное. Это фундаментальное понятие современной мысли по определению обозначает нечто лежащее за горизонтом сознания; и если человек определяется через сознание, то это есть тоже «иное» человеку. И вообще говоря, человек может открывать себя, размыкать навстречу воздействию и такого иного. Очевидно, что это будет совсем другой род практик, другой род человеческого опыта – но также предельный.
Итак, «человек и его иное» – универсальная формула, которая раскрывается не одним способом, а тремя. Здешнее бытие – иное бытие: реализация такого отношения с иным есть духовная практика. Если человек избирает ведущую оппозицию как оппозицию «сознание – бессознательное», тогда это человек, отношения которого с иным описывает психоанализ. Здесь обширнейший ассортимент антропологических практик – неврозов, комплексов, психозов, маний, и это также обширнейшая сфера предельных проявлений человека. Если же определяющей антропологической оппозицией служит оппозиция «актуальное – виртуальное», то отношение человека и иного реализуется в виртуальных практиках.
Прежде всего, мы получаем возможность единого обозрения «человека в целом», во всем диапазоне доступных для него вариаций, изменений. И сравнительно со старыми представлениями о человеке, этот диапазон поражает своей громадной, необозримою широтой. Три способа размыкания человека, три антропологические оппозиции дают три его принципиально разных определения, в каждом из которых у человека иная конституция, иной способ формирования идентичности и т.д. – так что есть основания говорить, что человек – собственно, три разных существа. При этом, однако, каждый отдельный человек способен быть любым из этих существ, превращаться из одного в другое, в третье... – и предстающая весьма по-новому картина человеческого существования дает богатую почву для размышления и исследования.
Далее, мы получаем возможность и для описания антропологической динамики. В качестве главной характеристики антропологической ситуации у нас естественно выступает доминирующий, преобладающий (в данный момент или данную эпоху) тип размыкающего отношения и предельных практик; и соответственно, главным содержанием антропологической динамики оказывается эволюция этого доминирующего типа. Взглянув под этим углом, мы увидим, что вплоть до новейшего времени антропологическая ситуация оставалась относительно стабильной: в течение многих веков истории, человек признавал своим определяющим отношением – отношение к Инобытию. Безраздельная доминантность этого способа определения человека впервые поколебалась новоевропейским процессом секуляризации общества; но только в ХХ-м веке преобладания достиг другой вид предельных практик, определяемый бессознательным. Через несколько десятилетий началось бурное развитие виртуальных практик, которые сегодня, в свою очередь, уже продвигаются к доминирующей роли.
Вместе с этою сменой антропологических доминант, мы замечаем и еще одну чрезвычайно специфическую черту современной антропологической динамики. Выдвижение новых предельных практик не устраняет со сцены старых, но лишь потесняет их – так что в конце концов, все их возможные виды и разновидности начинают присутствовать одновременно. Поскольку же человек свободен реализовывать себя в любом из этих видов, равно как способен переходить из одного вида в другой, подобная ситуация означает не что иное как антропологический хаос, чреватый смешиванием, спутыванием и разрушением структур идентичности человека. В отношениях между тремя существами, что вкупе образуют существо «Человек», всё смешивается – утрачивается всякий порядок, строй, исчезают ценностные критерии... – и в результате, Человек испытывает глубокую дезориентацию, растерянность. Он больше не знает, не может понять, кто он такой, кем он проснулся утром Третьего тысячелетия – как известный герой Кафки. Также подобно герою Кафки, он пока лишь осознает происходящий с ним антропологический беспредел и не имеет средств справиться с ним. Ему предстоит найти эти средства – в противном случае он разделит судьбу Грегора Замзы до конца.
Таков предварительный диагноз, который наша модель позволяет поставить современной ситуации и происходящему антропологическому кризису.
Мое знакомство с трудами кардинала Йозефа Ратцингера – ныне Главы Римско-Католической Церкви, Папы Бенедикта XVI-го – началось давно, около четверти века назад. Тогда в России мы были еще отрезаны от религиозной мысли, и Западной, и нашей собственной – отрезаны настолько прочно, насколько это удавалось идеологическим службам большевиков. Крах режима, однако, близился, и удавалось им уже плоховато. «Поверх барьеров» шло даже сотрудничество западных и российских христиан – конечно, в очень скромных масштабах. Некоторые западные книги переводились на русский язык в России, затем перевод печатался на Западе, и наконец как «тамиздат» хотя бы небольшой частью тиража возвращался в отечество. Первым подобным предприятием был, видимо, перевод книги Николая Зернова «Религиозно-философское возрождение в России», осуществленный небольшим кругом молодых христиан из окружения о. Александра Меня; на мою долю в том «проекте» выпала глава о Софии… Позднее за недосугом я почти не участвовал в этой работе; но одна книга задела мое внимание. Имя автора было мне незнакомо. Книга была на совсем простую тему; но, раскрывая ее, развивала отнюдь не такие уж простые мысли, говорила плотно и точно, втягивала вглубь. Вместе с моим другом, А.В.Ахутиным, мы сделали ее перевод. Это была книга: Josef Ratzinger. Einführung in das Christentum. Введение в христианство. Выпущенный в свет издательством «Жизнь с Богом» в Брюсселе, перевод наш стал началом знакомства русского читателя с творчеством одного из крупнейших католических богословов наших дней.
И вот – новая встреча. Более трех десятилетий отделяет «Введение в христианство» от книги «Вера, истина, толерантность», впервые опубликованной в 2002 г. Однако во многом эти две книги можно сблизить друг с другом; на них отчетливая печать одной личности со своим богословским видением и творческим стилем. Обе они – не из рода монографий, погруженных в анализ специальных проблем. Будучи пастырем, автор избирает самую общую тематику, касающуюся всего народа Божьего, разрабатывает жанры, обращенные к самому широкому кругу: если «Введение в христианство» есть, уже по определению, пропедевтика, то жанр новой книги следует обозначить как апологетика – защита, обоснование основ христианской веры. Однако, беря популярные жанры, автор наполняет их далеко не поверхностным содержанием: обе книги отличает обширная эрудиция и высокая насыщенность мысли, постановка глубоких, принципиальных проблем и их последовательное, по-немецки тщательное развитие.
Но есть и существенные отличия – прежде всего, смена жанров. Если четыре десятилетия назад задачи и интересы Церкви призвали Йозефа Ратцингера, пастыря и богослова, к пропедевтике, к наставлению вошедших и входящих в христианство, то сегодня эти же задачи и интересы призвали его к апологетике, защите христианских позиций перед лицом тех, кто им чужд, отрицает их. Как показателен, симптоматичен этот переход! Казалось бы, в масштабе эпох, в масштабе истории христианства срок, разделяющий две книги, ничтожен. Но, когда писалось «Введение», на Западе еще отнюдь не было привычным называть время, в которое мы живем, «постхристианством»; и напротив, большинство просвещенных европейцев не сочли бы неверной или устаревшей классическую формулу, ставшую некогда названием эссе Новалиса: «Европа, или христианство». А в сегодняшней Европе, как о том свидетельствует ее новая конституция, большинство уже вполне согласится с противоположной версией старой формулы: «Европа, или постхристианство». И надо добавить, что идущий процесс вовсе не только внешний, это не простое оттеснение или «уменьшение в размерах» западного христианства. «Постмодернистская теология», лишь по недоразумению еще считающая себя христианской теологией; растущие и множащиеся радикальные течения (в особенности, в протестантстве), отбрасывающие уже не отдельные догматы, а всю догматику, отбрасывающие и Предание, и Церковь… - в этих и многих сходных явлениях перед нами явно – постхристианство внутри самого христианства.
Такова реальность, к которой должен обращаться сегодня христианский апологет, – и трудно не согласиться, что, как и отцам-апологетам раннего христианства, ему необходимы не только твердость в вере, но мужество и отвага. Он обращается к массам новых сомневающихся, равнодушных, враждебно настроенных, убежденных, что среди множества религий и вер мира, наверно, во всех «что-то есть», какая-то своя истина, своя польза… - однако абсурдно думать, будто в некой одной из этого множества явлена и воплощена окончательная полнота истины. Все эти массы отлично знают, что христианство заявляло подобное притязание на истинность, и определенное время такое притязание поддерживалось европейским разумом – однако затем чем дальше тем больше оно стало отвергаться тем же европейским разумом, не говоря уже о других, нехристианских культурах. Поэтому ныне задача апологетики крайне тяжела. Что раньше было риторикой (и часто, увы, избитой риторикой), требует ныне риска, ответственности и творчества. Надо найти новую логику, новые аргументы и с учетом всего накопившегося груза критики, груза отчуждения, выстроить перспективу, в которой сегодняшнее сознание могло бы снова увидеть истину Благой Вести.
Книга принимает на себя такое задание и последовательно, систематично исполняет его. Это впечатление последовательного, логичного продвижения – немалая заслуга автора, если учесть, что книга его не написана как единый текст, но составлена из статей и выступлений, возникших в разное время и лишь подвергнутых отбору и финальной редакции. Нам представляется отчетливое видение проблемы, ее постановка, развертывается стратегия решения. В этом авторском видении, вся проблема кризиса христианства в современном мире имеет один главный узел, ключевой пункт, и служит им – истинность христианства. Преодоление кризиса, решение задачи апологетики должно заключаться в том, чтобы в духовной ситуации современности, пристально рассмотрев все противостоящие позиции, осмыслить заново и обосновать незыблемое притязание христианской веры на обладание абсолютной истиной – той истиной, которая во Христе. В свою очередь, в этом обосновании также выделяется один ключевой, решающий пункт: он в том, чтобы доказать и закрепить исключительную связь с христианством определенного предиката истины, ее универсальности. Именно эта триада понятий: вера – (ее) истинность – (ее) универсальность, в их глубокой связи, находится в центре книги, образуя концептуальное ядро, вокруг которого организуется вся ее проблематика.
Описанные позиции и принципы, на которых базируется новый апологетический проект, представлены в первой части книги. Здесь автор закладывает основы собственного подхода к проблематике компаративного религиоведения: формулируются критерии классификации религий, выделяются главные типы религиозности, прослеживается история их отношений. Само собой ясно, что главное разделение во всем космосе религий проводится между руслами политеизма и монотеизма, причем определяющим признаком политеистической религиозности автор указывает вначале «мистику» – не некоторый род мистики, но мистику вообще, в целом, как если бы религиозность монотеистическая была вне сферы мистического опыта. Понятно, что эта дихотомия «мистика – монотеизм» неосновательна, ненаучна; и автор уже вскоре откажется от нее, назовет «неудачной». Но стоит заметить, что тут – не случайная оплошность. Это отношение к мистике отвечает каким-то давним чертам христианского сознания, хорошо известным и в православии. Издавна наши церковные люди с опаской и скорей негативно относились к «мистике», интуитивно с ней связывая представления о чем-то темном, о погружении в Божественное как в безличную стихию; тогда как личные отношения с Богом Живым, христианская молитва, таинства Церкви – «какая же это мистика?»
Затем мы исподволь приближаемся к центральным вопросам о христианстве. Прослеживая развитие обоих главных русл религиозности человека, автор выясняет, в каком отношении к христианству они находятся. Разумеется, основные вехи христианского отношения к другим религиям твердо установлены Церковью еще в эпоху до разделения. Они являются общими для Западного и Восточного христианства, и автор не думает их менять, будучи в своих богословских установках хранителем, а никак не ниспровергателем церковной традиции. Однако, как замечал Павел Флоренский, «в канонических формах дышится легко»; и мы шаг за шагом видим, как без всяких радикальных новаций, благодаря лишь точности мысли и ясному видению цели – что дает вера! – на наших глазах возникают творческие решения многих трудных вопросов современной апологетики.
Вплоть до появления христианства, русло монотеизма – русло веры Израиля. Его определяющие черты, ход его эволюции первостепенно важны для концепции автора и фиксируются тщательно. Конститутивная черта монотеизма – не только то, что в нем — единственный Бог, но то, что в нем Бог – живой, личный и входящий в личную связь с человеком: окликающий человека. Понятие «оклика», зова Божия к человеку – ключевое в богословии Ратцингера, в его конституции события веры. В этой экзистенциально-диалогической трактовке веры – в свою очередь, ключ ко всему дальнейшему. Такая вера в своем существе универсальна, и ее развитие в истории может быть только постепенной актуализацией, выявлением этой универсальности, происходящим путем очищения, освобождения сущностного ядра от всех случайных деталей, исторических и этнических, всех участняющих, редуцирующих особенностей. И именно так: как путь неуклонной универсализации религиозного сознания, путь очищающего восхождения от племенного культа к мировой религии, прочитывает автор Священную Историю Ветхого Завета. «У Израиля нет собственного Бога, и он поклоняется только единому Богу вообще. Этот Бог говорил к Аврааму и избрал народ Израиля, но в действительности Он является Богом всех народов, общим Богом, действующим в истории человечества» (110). И все же «полная универсальность иудаизма была невозможна, поскольку было невозможно извне полностью войти в религиозное сообщество» (115). Требовалось «разрушить преграду» (Еф 2,14), и потому решающий, последний шаг на пути к общечеловеческой религии мог быть только новым прорывом: делом новой религии.
Отношения с политеистическим, языческим руслом, разумеется, более сложны, конфликтны, и здесь автору труднее найти достаточную почву для своего принципа инклюзивности, вводящего все религиозные и культурные формации в единую перспективу, нацеленную в сторону христианства. Но – дело мастера боится! Прежде всего, автор проводит рассечение этих языческих формаций на две части, на собственно «религию» и на «философию» (где таковая имелась). Отношения с ними выстраиваются по-разному, но все же и тот, и другой элемент – в орбите принципа инклюзивности. Разумеется, не только христианство, но и монотеизм как таковой целиком отрицает многобожие, и все языческие боги отвергаются и низвергаются как идолы; но в этом низвержении есть своя диалектика, которую выражает принцип «культурного континуитета». Он означает, что «священное место остается священным, и намерение почитания Божественного, присутствовавшее и раньше, подхватывается и преобразуется для нового смысла… Боги низвергнуты… но в то же время обнаружилась и их истинность: они были отблеском Божественного, предчувствиями образов, в которых их сокрытый смысл был очищен и исполнен до конца» (171). – Здесь, таким образом, связь с истинной верой сугубо диалектична, чрез отрицание; но у философии эта связь – прямая и непосредственная. Даже в политеистических культурах разум тяготеет к идее единого Бога и неизбежно движется к ней. Поэтому «провозвестники христианства… усматривали семена Логоса, Божественного разума, не в религиях, а в движении ума (169)… Христианская проповедь среди народов подсоединялась к философии, а не к религиям» (149).
Особая судьба и роль при этом принадлежит греческой философии. Как философия par excellence, она представляет сам разум как таковой, и вместе с ним не «устанавливает отношения» с истинною верой, а изначально уже присутствует в ней, участвует в ее формировании, ее конституции. Утверждение этой органической, нераздельной связи – один из главных смысловых акцентов всей книги. Автор тщательно доказывает и усиленно подчеркивает ее – как оттого, что это – необходимейшее звено его концепции, так равно и оттого, что в западной теологии еще до сих пор популярна теория «эллинизации христианства», согласно которой эллинская философия – лишь позднейшее наслоение, исказившее облик аутентичного «библейского христианства». В более современной версии теории, вероучение Церкви, созданное в эпоху Соборов, - всего лишь продукт «инкультурации», то бишь рецепции христианства в греческой культуре; и в других культурах, равно как и в нашей современности, вся эта рецепция, включая Предание и догматику, может и отвергаться. В прямую противоположность всем подобным теориям, автор представляет греческую мысль и библейскую веру как два магистральных русла развития духа, которые с самого начала были во внутреннем родстве, были во многом параллельны.
Так мы приближаемся к решению центральной задачи книги. В описании автора, христианство вырастает в истории духа и культуры как ее подлинное исполнение: как встреча и гармонический синтез двух ее главных русл, «истории веры» и «истории разума». В качестве такого синтеза, оно достигает предела и полноты универсальности, является «истинной религией» и в нем «оказываются примиренными вопрос об истинности и вопрос о Божественном» (167). С этими выводами, поставленная задача нового осмысления и обоснования истинности христианской веры может считаться, в главном, выполненной. «Старомодный вопрос об истинности христианства» получил новый, современный ответ.
Итоговая картина совершенного согласия, «симфонии» религии и просвещения, Откровения и философии в христианстве весьма впечатляет – настолько, что уже рождается обратный вопрос: не слишком ли она вышла стройной и гармоничной? В особенности, этот вопрос мог бы возникнуть у русских читателей, еще помнящих, какие картины рисовали апологеты советского марксизма, представляя его исполнением лучших чаяний всего человечества, притом – «научно доказанным». Нет ли и здесь налета идеологической ретуши, стилизации? Разумеется, и апостольское указание, что вера наша – «для эллинов безумие», и взаимная враждебность языческой философии и христианства не игнорируются и не затушевываются – однако достаточно ли они приняты во внимание, не служит ли их упоминание простой формальностью? Еще с античного христианства, с Тертуллиана, если не раньше, известна сильная и влиятельная линия в христианской мысли, утверждавшая крайнюю иррациональность, парадоксальность, антирассудочность христианской веры, полную ее чуждость всем конструкциям разума. В числе многих представителей этой линии – Паскаль, Лютер, Кьеркегор, она была популярна в ХХ в., ее идеи отразились на русской религиозной философии (к примеру, в «Столпе и утверждении истины» Флоренского прочтем: «Что есть разумная вера? … Отвечаю: «разумная вера» есть гнусность и смрад пред Богом», и еще многое в этом роде). Автор не входит с нею в полемику, даже не упоминает ее – и, весьма вероятно, ее приверженцы не будут согласны с его позициями. Не будут с ними согласны и сторонники «эксклюзивного» взгляда на отношение христианства к другим религиям – взгляда, согласно которому все эти религии целиком ложны и не имеют с христианством ничего общего (хотя автор и говорит, что такой взгляд сегодня уже не поддерживается никем, в России он широко распространен, даже и в усиленной форме, согласно которой целиком ложно все, что за пределами православия).
Нельзя, кроме того, не вспомнить, что в современной мысли, помимо традиционного католического подхода к проблеме истины – подхода, ставящего во главу угла предикат универсальности, – есть ряд и других основательных подходов. Из них наиболее существенны подход Витгенштейна и аналитической философии (он в книге затронут, но крайне бегло), подход Хайдеггера (преемствующий античной философии) и наконец, подход православной мысли – христоцентрический, отправляющийся от тезиса: Истина – Христос, она имеет природу Личности, она есть «Кто, а не что». Последний подход – также в рамках христианского богословия, и его соотношение с проводимой в книге трактовкой подтверждает общее правило, согласно которому богословское сознание в католичестве обычно отправляется от Божественной Сущности, Усии, тогда как в православии оно развивается в личностной парадигме, исходит из Ипостаси. Понятно, что принцип инклюзивности, столь важный для апологетики Ратцингера, заметно труднее согласовать с христоцентрической трактовкой истины. Все три названных подхода к проблеме истины рождают вопросы в связи с позициями книги, открывают темы дальнейших размышлений.
Эта открытость для вопросов и размышлений не колеблет выводов автора. В пределах намеченного круга задач, представленный опыт апологетики выдерживает испытание критикой. Да, заявления о том, что «христианство – это философия, совершенная философия», «в христианстве просвещение стало религией», «воля к рациональности принадлежит к сущности христианства» и т.п. – звучат настойчиво в книге, играют видную роль в логике ее рассуждений. Тем не менее, утверждаемый здесь образ веры отнюдь не является рассудочной, рационалистической редукцией. Достаточно напомнить уже сказанное: в начале и в основе веры – зов Божий к человеку, событие оклика человека Богом. До этого события он сам не может дойти никакими своими средствами, будь то умом, волей, благими делами или чем угодно. Всякий духовный акт совершается в парадигме разрыва и, в частности, высший такой акт, «крест – разрыв, отверженность, уход с земли на небо». Эти концепции отдают должное сверхрациональным глубинам веры, не оставляя сомнений в том, что в богословии кардинала Ратцингера, ныне Папы Бенедикта XVI, Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не только Бог философов и ученых.
Здесь можно заметить, что создалась парадоксальная ситуация. Новая книга одного из высших иерархов католической Церкви вызвана к жизни острыми, актуальными проблемами сегодняшнего христианства, потребностью в решении этих проблем. А между тем, ее главные темы, главные усилия автора оказались как будто сосредоточены в глубокой древности, в сфере истоков и общих отличий христианства. Парадокс этот поучителен. Обратиться к истокам христианства и утвердить заново его истинность значит заново утвердить, удостоверить и силу, жизнь христианской традиции, одновременно удостоверив и собственную связь с традицией, свое стояние в ней. И когда наше стояние в традиции полностью удостоверено, отрефлектировано нашим разумом, мы обнаруживаем, что традиция для нас становится ключом к современности: мы можем находить в ней ответы на вопросы о мире и о самих себе, о смысле и нравственной оценке явлений. Как раз об этом говорит известная концепция неопатристического синтеза Георгия Флоровского: верность живой традиции – принцип творческий, дающий возможность понимать и осиливать свое время. И я бы позволил себе сказать, что подход кардинала Ратцингера к современным проблемам – в согласии с этой православной концепцией. Его решения этих проблем рождаются из пребывания в живой традиции веры.
Как мы убедились, проблема истинности христианства фундаментальна, имеет непреходящее значение. В книге, однако, обращение к ней мотивируется современной ситуацией. Сегодня в мире преобладает взгляд, который не просто отрицает эту истинность, но утверждает, что даже вопрос о ней не имеет смысла: религии имеют дело якобы с сугубо субъективной реальностью и сами понятия истинного и ложного к ним неприложимы. Поэтому в кругу актуальных проблем для автора на первом месте задача критики этого господствующего взгляда. Главным образом, в орбите его критики – два направления мысли: религиозный релятивизм, уравнивающий все религии и веры как всего лишь частичные, искажающие отражения недоступной и непознаваемой Божественной реальности, и сциентизм, отвергающий религиозные представления о мире и весь религиозный дискурс как вненаучные формы выражения, не допускающие верификации.
Релятивизм для автора – главная опасность, «центральная проблема для веры в наше время», поскольку, утверждая «конечную эквивалентность всех религий», он утверждает, тем самым, их несостоятельность в самой их цели и сути, реализации связи человека с Абсолютным бытием; и потому обессмысливает их все. Сегодня это – господствующий тип мироотношения, имеющий множество форм: здесь пестрый набор течений, групп, сект на базе восточных религий, движение New Age, стряпающее коктейли из всех культов, либеральный агностицизм, некоторые богословские учения внутри христианства…Автор противопоставляет концепциям релятивизма богатый арсенал аргументов и идей. Наиболее крупные и общие возражения отсылают к механизмам динамики культур: утверждается «потенциальная универсальность» всякой культуры как таковой – универсальность, в силу которой культуры, входя в контакты и диалог между собою, с неизбежностью вовлекаются в единый объединительный процесс. В этом процессе они, а также и связанные с ними религии, играют разные роли, отнюдь не выступая как равноценные и эквивалентные, и весь процесс в целом ориентирован к христианству и Христу: «Все религии в своем пределе устремлены ко Христу» (60). На этой общей платформе строится полемика со многими современными явлениями религиозного релятивизма. Автор критикует практику межрелигиозных молений, отвергает идеи отказа от христианского миссионерства как религиозного «империализма» и «колониализма», отстаивает необходимость и ценность обращения как духовного акта вхождения в христианство. Критикуется и богословие пресвитерианца Дж.Хика и П.Книттера, бывшего католического священника, являющее яркий пример того, что выше названо было «постхристианством внутри христианства»: здесь полностью отбрасывается подавляющая часть христианского вероучения, до Богосыновства Иисуса Христа включительно. Довольно обстоятельная полемика ведется с теориями, утверждающими этические и иные преимущества политеизма перед монотеизмом в мире современного мультикультурализма.
Проблемы отношений христианства с научной мыслью обсуждаются постоянно в современных дискуссиях, и потому автор им уделяет более беглое внимание. Рассматриваются, прежде всего, две темы: критика притязаний теории эволюции на роль общефилософского учения и выяснение корней происшедшего разрыва «изначального единства веры и просвещения». Основные причины разрыва автор видит в том курсе, каким пошло развитие европейской философии Нового Времени. Главные его вехи связаны с именами Декарта, Спинозы, Канта, затем – Гегеля и Маркса, и далее – с позитивистской наукой, в составе которой эволюционная теория выделяется как занявшая особое место, ставшая – неоправданно, согласно автору – «основой для просвещенного понимания всего мира». В начальной же стадии разрыва особо выделяется Кант. Именно он, по автору, главный отрицательный герой всего процесса: его трактовка религии и веры – особенно, на страницах «Религии в границах чистого разума» – открыла широкий путь всем дальнейшим «деконструкциям» христианства, и «пока мы не можем переступить через границы человеческого познания, установленные Кантом, вера будет влачить жалкое состояние» (100). Здесь русский читатель не без удивления слышит очень знакомый мотив: такие же инвективы в адрес Канта не раз звучали в русской религиозной философии, и приведенная цитата сразу же заставляет вспомнить Флоренского, который клеймил кенигсбергского мудреца как «столп злобы богопротивныя»…
Так постепенно круг охваченных актуальных тем достигает полноты. Ясно, что в этот круг, объединяемый апологетическими заданиями книги, должна входить также и тема толерантности. С ней связана одна заметная линия в современных нападках на христианство: утверждается, что защищать абсолютную истинность христианства значит проявлять нетерпимость к другим религиям, стремиться к их подавлению. Однако опора на принцип инклюзивности позволяет автору без труда отвести подобные обвинения. Усматривая во всех религиях зачатки, потенции, ведущие к христианству, этот принцип явно способствует толерантному отношению к ним, практическим подтверждением чего может служить вышеописанный принцип культурного континуитета. Но автор указывает, что в христианстве имеются и другие, еще более глубокие основания для толерантности, коренящиеся в самих первопринципах его, в краеугольном положении «Бог есть любовь» (1 Ин 4,8). Истина христианства ожидает от христиан не просто терпимости, а любви к ближнему. «Истина и любовь идентичны. Это положение, если взять его во всей полноте, представляет собой высшую гарантию толерантности» (171).
Итак, перед нами – цельный опыт современной апологетики, искусством мастера сложившийся из «собранья пестрых глав», что возникали в разное время. Нет ни малейшего сомнения в том, что появление этого опыта в России послужит согласию и сближению христиан Запада и Востока: ибо духом согласия проникнута вся книга. Задача апологетики, оправдания своей веры в новой сегодняшней реальности, ставится здесь как задача, стоящая перед всем христианством, и решается почти всецело на базе общехристианского наследия. При этом, в рамках общей апологии христианства, у автора возникает своего рода «малая апология» – защита христианского эллинизма, изначального, органичного и необходимого присутствия греческой мысли уже и в Ветхозаветных корнях христианства, а затем в генезисе и корпусе христианского вероучения. Аргументация книги последовательно опирается на патристику, не только классическую, но и византийскую (что редкость у католических авторов), отсылает к «Жизни во Христе» св. Николая Кавасилы, к «фундаментальным решениям древних Соборов». В оценке творчества греческих Отцов автор прямо совпадает с Флоровским, говоря о «переплавке в свете Евангелия» античной мысли. Наконец, можно заметить, что, описывая знаменитое видение св. Бенедикта (избранного им вскоре своим святым патроном), автор трактует его в парадигме синергии, пусть не упоминая ее. Мы убеждаемся наглядно: на всей обширной и плодотворной почве патристики и святоотеческого Предания позиции сегодняшнего Римского Понтифика встречаются с позициями православия. Здесь стоит вспомнить его предшественника, Папу Иоанна Павла II: у почившего Понтифика была также своя почва встречи с православием, только несколько другая. Православное миросозерцание, духовный склад стоят, как мы знаем, на двух камнях, являют собою синтез патристики и аскетики, подвижнической традиции. Последний Папа был глубоким ценителем именно православной аскезы, исихазма, и сам его облик, стиль общения при личных встречах оставляли впечатление подлинной аскетичности, пребывания в стихии подвига. В этом смысле, два Первоиерарха как бы взаимно дополнительны; и мы можем выразить надежду, что близость позиций в столь важной сфере как святоотеческое Предание и его роль в Церкви принесет благие плоды в междуцерковных отношениях.
… В мифологии древних кельтов встречается герой, носящий имя Защитник Врат. Это – надежный и храбрый воин, которому доверяют отстаивать врата, ведущие к поселению и храму. Чтение книги кардинала Ратцингера вызывает этот образ в уме. В книге немало проводимых искусно интеллектуальных построений. Но за ними всегда ясно ощутимо единое движущее начало: истовая ревность о вере, забота о защите ее устоев. Русского читателя ждет новая встреча с Защитником Врат христианской веры. Это отрадно, она поможет и нам в хранении и защите истины православия.
Начиная со второй половины ХХ в., междисциплинарные исследования пользуются неослабевающей популярностью. При этом, большое внимание привлекается не только к их практическому осуществлению, но также и к их теоретической природе, несущей в себе новый род и способ научного познания. Однако, как вначале, так и впоследствии, вся эта область и сам феномен междисциплинарности de facto связывались почти исключительно с естественными науками, хотя явно такого ограничения никто не отстаивал. Обстоятельство это не случайно. У него есть свои причины, лежащие в том, что междисциплинарные проблемы и сама тема междисциплинарности ставятся и понимаются по — разному в естественных и гуманитарных науках. Здесь — одна из тех сфер, где есть основания проводить старинное различение Naturwissenschaften — Geistwissenschaften, различение между «науками о природе» и «науками о духе».
В естественных науках междисциплинарный подход прост и эффективен. Нередки случаи, когда некоторое важное для науки и/или практики явление или группа или целая область явлений не поддаются описанию и объяснению средствами какой-либо одной дисциплины. Тогда привлекается некоторая другая дисциплина или ряд дисциплин, средствами которых оказывается возможным описать те свойства и стороны предмета, что оставались за рамками научного анализа. Итогом же междисциплинарного проекта должно служить достаточно всестороннее теоретическое описание предмета: достаточное, прежде всего, для практических приложений, но также, желательно, и для того, чтобы считаться «теорией» предмета, включающей его в орбиту научного знания. При удачно построенном сочетании дисциплинарных дискурсов, подобная междисциплинарная теория может в дальнейшем применяться к другим явлениям и проблемам и даже стать со временем новой самостоятельной дисциплиной: это типичный путь их формирования в современном естествознании — дисциплины, возникшие «на стыке наук».
Но в сфере гуманитарных наук иная методологическая и эпистемологическая ситуация. Бесспорно, здесь также возникают основания для междисциплинарных исследований, для взаимодействия и сочетания различных дисциплинарных дискурсов; однако плоды этого сочетания должны теперь удовлетворять другим, более глубоким условиям. Естественнонаучные междисциплинарные исследования руководятся единственным критерием эффективности: сочетание дискурсов должно породить некоторый «формализм», т. е. аппарат, технологию описания избранного предмета, и этот формализм должен эффективно служить намеченным рабочим целям. Более ничего не требуется, и потому принципы и основания, на которых осуществляется сочетание дискурсов, как правило, не рефлексируются и даже не эксплицируются. Меж тем, в области гуманитарного знания формальное, внешнее соединение рабочих средств, аппарата различных дискурсов будет рассматриваться лишь как эклектика, не имеющая действительной формы научного знания. От научного знания здесь требуется внутреннее единство, концептуальное, эпистемологическое и методологическое. И это означает, что сочетание, сопряжение дискурсов, осуществляемое в междисциплинарном исследовании, должно здесь осуществляться другим, не столь простым и формальным способом: для сочетаемых дискурсов должна создаваться общая эпистемологическая парадигма, в основе их сочетания должно лежать определенное единое понимание способа познания и предмета познания.
Этот вывод ведет и дальше. В гуманитарной сфере взаимодействие и сочетание дисциплинарных дискурсов не только осуществляется иначе, чем в сфере естественнонаучной, но оно и преследует несколько иные цели. Да, мотивации, побудительные причины такого взаимодействия и сочетания могут быть аналогичны тем, что действуют в естественнонаучных междисциплинарных исследованиях: появление новых предметов изучения и новых научных парадигм, кризис старых теорий и т. п. Однако реализация искомого сочетания здесь предполагает не просто формирование новой области исследований, где работа будет вестись на междисциплинарной основе, но и пересмотр заново самих оснований сочетаемых дискурсов. Предполагается, что во взаимодействии дискурсов изменяются когнитивная парадигма и методологическая конфигурация, изменяется внутренняя структура пространства познания. Можно говорить о таких изменениях как о «переплавке», перенося на взаимодействие дискурсов эпистемологическую метафору плавильного тигля Гумбольдта. Изучение происходящего в этом тигле и составляет главную задачу междисциплинарных исследований в гуманитарной сфере (хотя, вообще говоря, здесь остаются возможны и междисциплинарные исследования естественнонаучного типа, ставящие лишь задачи дескрипции некоторой области явлений). Исследования же, в которых сочетаемые дискурсы испытывают подобные изменения, принято называть не просто междисциплинарными, но транс — дисциплинарными. Далее, существуют также исследования и отвечающие им методологии, в которых рассматривается все поле гуманитарного знания, все сообщество гуманитарных дискурсов; они называются пан — дисциплинарными. Особую же роль выполняют те исследования или те методологии, в которых соединяются оба эти качества, и транс- и пан — дисциплинарность. В них переплавляются эпистемологические основания всей гуманитарной сферы, и в этой переплавке рождается в точности то, что именуется эпистемой.
Итак, в центре внимания оказываются те характеристики научной ситуации, которые связаны с понятием эпистемы. Наглядный пример этого дает творчество Фуко. С первой же знаменитой книги, «Слова и вещи», дискурс Фуко глубоко и последовательно междисциплинарен, но при этом понятие междисциплинарности практически не используется в нем и не применяется к нему. Эпистемологические ситуации, изучаемые здесь, сложнее и глубже простых междисциплинарных сочетаний, и потому ключевым концептом здесь выступает отнюдь не междисциплинарность, а именно эпистема. И мы заключаем, в результате, что в гуманитарной сфере междисциплинарная проблематика переводится в иной формат и рассматривается в иной перспективе: прежде всего, как проблематика изучения эпистем и внутри — эпистемных отношений и процессов.
Именно эту проблематику мы и будем далее обсуждать. Ее современное состояние определяется, в главном, одним крупным обстоятельством, которое ряд авторов и я, в том числе, именуют «эпистемный вакуум». Единой эпистемы, которая определяла бы внутреннюю структуру пространства познания всех гуманитарных дискурсов, в настоящее время нет. Последней такую роль выполняла структуралистская эпистема, но в результате радикальной критики со стороны постструктуралистской и постмодернистской мысли (а также и внутреннего кризиса) она довольно давно уже ушла со сцены. Трудно не согласиться, что эпистемный вакуум — негативная и нежелательная черта научной ситуации. Эпистема конкретно и сжато воплощает в себе единство знания, суммируя элементы эвристики и логистики, концептуального и эпистемологического основоустройства, общие для всего комплекса гуманитарных дискурсов; тем самым, она представляет собой определенный уровень организации всего ансамбля гуманитарного знания. Отсутствие этого уровня несет разобщенность различных секторов гуманитарного знания и порождает эвристическую дезориентацию, лишает возможности понимания многих видов явлений. Затрудняется также выбор актуальных направлений и оптимальных стратегий научного развития. В свете этого, изучение условий и предпосылок, возможных подходов и путей создания новой эпистемы, несомненно, является сейчас одной из центральных проблем гуманитарной науки. Однако эпистема — самый крупномасштабный элемент в системе знания, и как правило, появление новой эпистемы — плод сложных процессов, требующих немалого времени.
Анализ современной научной ситуации позволяет предполагать, что один из наиболее перспективных путей к новой эпистеме — это путь со стороны антропологии. Основания к такому предположению дает новейшее развитие антропологических идей. Классическая европейская антропология, нераздельно связанная с классической метафизикой, вместе с нею прошла длительный кризис и оказалась оставлена. Какой-либо другой общепринятой концепции человека, однако, не появилось; и можно сказать, что в настоящее время, наряду с эпистемным вакуумом, имеет место и вакуум антропологический: отсутствие базовой антропологической теории или модели. Антропологическая мысль обращается к поиску новой неклассической антропологии, и этот поиск развертывается в самом широком диапазоне. Радикальная антропологическая рефлексия направляется на само понимание антропологии как таковой, стремится к кардинальному переосмыслению оснований и статуса антропологии, ее роли и места в системе знания. И в происходящем переосмыслении возникает и все более укрепляется идея о том, что антропология должна быть понята как методология: а именно, как общая базовая методология для всего ансамбля гуманитарных дискурсов, или же ядро новой эпистемы гуманитарного знания.
За этой идеей стоит прямолинейная, если угодно, наивная логика, которая стремится увидеть в понятии и термине «антропология» его самый прямой и первичный смысл. В европейской мысли понимание антропологии имеет огромную историю; концепт «антропология» трактовался множеством способов, подразделялся на множество видов и форм. Но в этом многообразии трактовок имелась явная доминирующая тенденция: практически все они следовали в русле участнения и сужения предмета и подхода. Как правило, они ограничивали поле рассмотрения феномена Человек, оставляя за рамками те или другие его измерения, стороны, и выбирали какой-либо свой частный способ говорить о нем. Можно сказать, что антропология всегда воплощалась как некоторая частная антропология, и даже когда «философская антропология» специально ставила целью общее рассмотрение человека как такового, на свет появлялась только очередная частная антропология, притом весьма бедная — антропология говорящая исключительно об общих вещах. Негативный итог всей этой линии, находящий ее «поверхностной и философски сомнительной», наделенной «недостаточным онтологическим фундаментом», отчетливо сформулировал Хайдеггер, к чьим оценкам я вполне присоединяюсь. Есть, таким образом, основания решить, что сегодняшний поиск должен отказаться от этой линии и традиции «частных антропологий» или, по меньшей мере, счесть всю ее глубоко недостаточной.
В качестве же альтернативы к ней естественно попытаться понять антропологию противоположным образом, избегая всякого участнения и стараясь сохранить в концепте максимальное содержание. Тогда это и будет антропология в самом прямом и буквальном смысле: «все, что говорится» или «все, что можно сказать» о человеке, — речь о человеке во всей ее совокупности, во всех ее сущих видах и формах, эксплицитных и имплицитных. Как таковая, она объемлет всю сферу гуманитарного знания, весь комплекс наук о человеке и гуманитарных наук (ибо всякий гуманитарный дискурс, по самому определению, несет явное или неявное антропологическое содержание). Но простая «сумма всего сказанного» о человеке или, иначе говоря, «объемлющий дискурс» для всех наук о человеке сам по себе не является научным знанием и не доставляет какого-либо понимания человека. Для извлечения смысла из такой суммы, она должна обладать определенной организацией и ей необходим собственный метод. Понимание человека, заключенное в собрании дискурсов о человеке, не эксплицируется простым объемлющим дискурсом, оно эксплицируется лишь с помощью мета — дискурса.
Так мы приходим к заявленной идее. «Наивная» трактовка антропологии как речи (логоса) о человеке альтернативна традиционным трактовкам антропологии в европейской мысли и является самой широкой, объемлющей из всех возможных; это не «учение о человеке», ибо «учение» — лишь школьное, суженное прочтение логоса. Однако в своем последовательном проведении, она необходимо выводит к пониманию антропологии как общей методологии всего ансамбля гуманитарных наук или, в иных терминах, как ядра эпистемы гуманитарного знания. По отношению к конкретным антропологическим и гуманитарным дискурсам, такая антропология есть мета — дискурс. Подобный ее статус можно передать посредством известного понятия Кьеркегора: антропология как эпистема и мета — дискурс есть потенцирование всей суммы конкретного антропологического знания, эксплицитного и имплицитного. Законно сказать также, что по отношению к совокупности конкретных антропологических и гуманитарных дисциплин, антропология в предлагаемом ее понимании есть наука наук о человеке.
В этом разделе мы представим конкретную реализацию описанного антропологического проекта, которая намечается на базе нашей синергийной антропологии. Согласно ведущей идее проекта, весь комплекс гуманитарных дискурсов должен быть переведен, преобразован в единую антропологически фундированную эпистему; и в нашем случае, ядром этой эпистемы должна послужить синергийная антропология. Исполнение этого крупномасштабного задания естественно разделяется на две основные стадии:
1) рассматривая каждый гуманитарный дискурс как крипто — антропологический дискурс, мы должны произвести его антропологическую расшифровку — выявление его антропологических содержаний и выражение их на некотором универсальном языке;
2) расшифрованный, переведенный в эксплицитно антропологизированную форму дискурс необходимо заново концептуализовать, переосмысливая его в антропологической перспективе и на некоторой единой методологической и эпистемологической основе, общей для всех рассматриваемых дискурсов. При этом, разумеется, новая концептуализация дискурса (которую естественно называть его антропологизацией) должна быть, во всяком случае, не менее функциональной и продуктивной, чем прежняя форма дискурса.
Отсюда можно извлечь, каким условиям должна удовлетворять антропология, дабы выполнять функцию ядра эпистемы гуманитарного знания. В первую очередь, в ней необходим универсальный язык для описания антропологической реальности во всем диапазоне ее, во всех областях. Затем, данное описание должно быть не эмпирической, но понимающей дескрипцией, оно должно раскрывать смысловое строение антропологической реальности, связи ее явлений и динамику ее процессов. Можно свести эти условия в единую формулу: антропология должна доставлять полноту и универсальность понимающей антропологической дескрипции. Рассмотрим, каким образом достигается выполнение этих условий в синергийной антропологии.
За недостатком времени, не будем давать даже краткого описания синергийной антропологии; затронем лишь те аспекты, что связаны с нашей методологической темой. Синергийная антропология — радикально неклассическая антропология. Отказываясь от фундаментальных классических концептов субъекта, сущности человека и субстанции, она рассматривает человека как энергийное образование: подвижную конфигурацию разнородных и разнонаправленных энергий, принадлежащих всем уровням организации человеческого существа, телесному, психическому и интеллектуальному. Однако корректного концепта «человеческой энергии» не существует в науке, и в качестве базового понятия и термина антропологической дескрипции здесь принимается понятие «антропологического проявления». «Проявления» коррелятивны «энергиям» (в частности, они так же отличны от «актов», включая в себя и недо — осуществленные зачатки актов, внутренние движения, помыслы…), классифицируются аналогично им и обладают такою же универсальностью, характеризуя любые области антропологической реальности.
Что касается методологического и концептуального аппарата, то вместо сущности человека, производящим принципом концептуализации антропологической реальности становится конституция (конституирование) человека в размыкании себя. Как принимает синергийная антропология, человек конституируется, формирует структуры своей личности и идентичности в предельных антропологических проявлениях, в которых он делает себя открытым, размыкает себя к Другому. Устанавливается, что парадигма антропологического размыкания в предельном опыте актуализуется всего лишь трояко: как размыкание в бытии — к Другому, обладающему иным онтологическим статусом; размыкание в сущем — к Другому, хотя и внеположному горизонту опыта и сознания человека, но также принадлежащему здешнему образу бытия; виртуальное размыкание — выход в антропологическую виртуальную реальность. В каждом из этих видов размыкания актуализуется определенный тип, или парадигма конституции человека; и этим трем типам конституции сопоставляются три базовые антропологические формации, вкупе и представляющие собою «существо Человек»: Человек Онтологический — Человек Онтический — Человек Виртуальный.
На базе описанного аппарата можно уже наметить определенную схему осуществления методологического проекта. Подавляющей частью, это осуществление должно проводиться по — разному для разных дискурсов, ибо зависит от конкретных свойств их строения и их предмета; но все же возможно выделить определенные универсальные элементы. Стадия антропологической расшифровки носит характер своеобразного перевода: избранный дискурс надо соотнести с рабочим языком синергийной антропологии — языком антропологических проявлений. Для этой цели необходимо рассмотреть предметную сферу данного дискурса, изучаемую им феноменальную область, и определить, какие антропологические проявления осуществляются в феноменах этой сферы. Выделенная таким путем область антропологических проявлений есть антропологизация предметной сферы дискурса.
Далее, охарактеризовав природу и свойства этих проявлений, следует переходить ко второй, главной стадии трансформации дискурса — к антропологизации его основоустройства, концептуального и методологического аппарата. На этой стадии необходимо включить выделенную область антропологических проявлений в орбиту синергийной антропологии, осуществив ее аналитическую дескрипцию на базе аппарата последней. Ключевой этап такого включения составляет операция, которую мы называем антропологической диагностикой: она заключается в распознании того, «какой человек», какие антропологические формации порождают изучаемые антропологические проявления. В синергийной антропологии базовые антропоформации определяются тремя видами (топиками) предельных антропологических проявлений, в которых конституируются Онтологический, Онтический и Виртуальный Человек. Соответственно, для антроподиагностики требуется установить связь — зависимость антропологических проявлений изучаемого дискурса от предельных проявлений из какой-либо топики. Такая связь заведомо существует, ибо любые антропологические проявления принадлежат человеку, наделенному некоторой конституцией, а конституция формируется только в предельных проявлениях. Однако практические способы установления этой связи отнюдь не универсальны, напротив, для их отыскания требуется глубоко войти в содержание и строение дискурса.
Сама связь — зависимость для разных дискурсов тоже чрезвычайно различна. Здесь существенно то, что в разных видах антропологических проявлений конституция человека, его принадлежность к той или иной антропоформации отражается в очень разной мере. В нашей трактовке, конституция человека — преимущественно персонологическое понятие: она относится к цельному человеческому существу, но главные ее элементы — это структуры личности и идентичности. Поэтому существуют широкие виды, классы универсальных антропологических проявлений — таких, что могут равно принадлежать носителю любой парадигмы конституции, представителю любой антропоформации. Таковы, прежде всего, биологические, физические проявления; в значительной мере, также универсальными надо признать проявления человека в языковых практиках, речевых актах. Дискурсы и дисциплины, предметное поле которых ограничено только такими проявлениями, изучают лишь те феномены и процессы, в которых никак не отражается конституция человека и наличие разных антропоформаций; можно сказать, что они изучают только до — личностные уровни антропологической реальности. Для этих дискурсов не требуется антропологической (топической) диагностики и новой концептуализации на базе топического аппарата синергийной антропологии; их включение в строимую эпистему может ограничиться общим согласованием — сопряжением их основоустройства с основоустройством синергийной антропологии.
Напротив, в большинстве гуманитарных дисциплин — в исторических, социальных, когнитивных науках — отвечающие им антропологические проявления теснейше связаны с конституцией человека и топическим строением человека. Здесь намеченная нами методика релевантна и, как показал уже опыт, реалистична. Стоит сказать, что почти во всех этих дисциплинах в последние десятилетия происходил процесс своеобразного переоткрытия их антропологического содержания, укорененности их в антропологической реальности. Этому содержанию придавалась все большая значимость, и в целом ряде случаев это приводило к попыткам реформирования дисциплин, к созданию новых теорий и подходов, стремящихся показать явно и подчеркнуть антропологический смысл описываемых явлений. Особенно ярко этот процесс выражен был в истории: можно сказать, пожалуй, что уже около столетия в развитии исторической науки преобладает тенденция к антропологизации дискурса, одним из первых воплощений которой явилась деятельность французской Школы «Анналов». В настоящий период эта тенденция активно проявляется в социальной и политической философии, где усилия сфокусированы на исследовании интерфейса антропологического и социального, на том, чтобы выстроить новую конфигурацию этого интерфейса, дающую приоритет антропологическому уровню. Она же заметно заявляет о себе и в экономической науке, в науке о праве. Вкупе же это все показывает, что наша программа антропологизации отнюдь не эксцентрична и не революционна; напротив, она соответствует ведущим современным тенденциям развития гуманитарного знания. Отдельно стоит отметить ее близость к концепции «практик себя», которую развивал Фуко в последние годы жизни и, к сожалению, не завершил. В нашем контексте, эту концепцию можно тоже рассматривать как проект антропологически фундированной эпистемы для гуманитарного знания, причем в обоих случаях новая дескрипция гуманитарной сферы строится на языке антропологических практик. Но базовые классы практик, равно как и весь аппарат дескрипции весьма различны.
Следуя богатой традиции, одним из первых предметов для антропологизации мы избрали историю: исторический процесс — пускай лишь бегло, в крупном — был представлен как процесс последовательной смены антропоформаций, как «история человека». Следствием такой антропологизации явились новые возможности анализа исторической ситуации и динамики, за счет применения антропологических сценариев и моделей, развитых в синергийной антропологии. В настоящее время программа осуществляется сразу в нескольких областях. В теории права ведутся успешные разработки по внедрению идей и аппарата синергийной антропологии в юридический дискурс; в них выдвигается концепция «энергийного правового человека» как альтернатива классической модели субъекта права и намечается формулировка постклассической парадигмы юридических наук. В сфере социальных наук средствами синергийной антропологии проделано широкое исследование антропологических трендов и развита концептуализация интерфейса антропологического и социального, описывающая, как он порождается ансамблем всех своих трендов. Этим создается основа для дальнейшей антропологизации данной сферы. Существуют также и другие примеры. И в целом, достаточно уже ясно, что синергийная антропология способна служить в качестве трансдисциплинарной методологии, выстраивающей новую эпистему для сообщества гуманитарных дискурсов.
Заканчивая, я бы хотел подчеркнуть значительность и масштаб исподволь назревающих и обсуждаемых нами здесь событий и перемен в науке. Мы разбираем, на первый взгляд, сухие и малозначущие методологические вопросы. Проблемы организации и структуры знания — это не звучит интригующе, да и в научной ситуации мы не сумеем сегодня указать особо громких событий или ярких открытий или крупных новых направлений. Однако эпистемный вакуум — это своего рода чрезвычайная, форс — мажорная ситуация в научном познании, а рождение новой эпистемы — снова вспомним Фуко! — это крупнейшая перемена, когда меняться могут не только границы дискурсов, но и сам их состав, когда одни дисциплины, давние и традиционные, исчезают, другие совсем новые зарождаются — и в результате оказывается иным весь облик знания, а следом — облик общества и человека. Весьма возможно поэтому, что наша нынешняя ситуация — это затишье перед бурей. Будем готовы к тому, что в недальнем будущем все сообщество привычных нам дисциплин могут ждать кардинальные перемены.
Этот небольшой и неакадемический текст, без цитат и ссылок, можно рассматривать как предварительные заметки для размышления: запись некоторых наблюдений и гипотез, возникших при сравнительном изучении структур опыта в широком спектре мировых традиций духовной практики. Каждая из таких традиций – явление удивительное и уникальное, несущее в себе некую свою тайну: тайну, как человеческому существу достигать самопревосхождения. Но при этой всеобщей уникальности, когда весь класс явлений словно оказывается состоящим из одних исключений, суфизм упорно обращал на себя внимание еще какой-то своей особенной выделенностью и уникальностью, представлялся как бы исключением из исключений. В одних отношениях в нем виделось некое несравненное, как нигде более, богатство, в других – напротив, непостижимое отсутствие таких вещей, что в других традициях были едва не главной заботой. В этих впечатлениях было необходимо разобраться. Конечно, полное исследование проблем, которые тут встают, – дело настоящих специалистов, экспертов, а не той общей компаративистики, которою ограничивалась почва моего анализа. Но в ожидании суда экспертов, и в качестве материалов к нему, я попытался сгруппировать некоторые факты, проследить некоторые связи. При этом, концептуальной базой для излагаемых соображений служила общая трактовка феноменов духовной практики, предложенная мною в книге «О старом и новом» (СПБ., 2000).
Итак, суфизм – древняя школа духовной практики, которая, подобно православному исихазму, имеет в своей основе дисциплину непрестанной молитвы. В данном случае, эта дисциплина именуется «зикр» и представляет собой непрерывную рецитацию краткой коранической или культовой формулы. Как во всякой духовной практике, здесь есть мистический Путь, посредством некоторой холистической (интеллектуально-психо-физической) активности последовательно возводящий адепта к искомому духовному состоянию – высшей цели практики, которая, вообще говоря, является уже не эмпирической, а мета-эмпирической (предельной, граничной по отношению к горизонту эмпирического бытия) и именуется нами «транс-цель» или «телос». Однако уже здесь начинаются специфические отличия. Строение Пути суфия нельзя представить с полной отчетливостью, ибо известно множество его вариантов, переплетающихся и состоящих в неясных взаимоотношениях. Ни в чем нет единства: ни в схеме этапов или ступеней Пути, ни в методе прохождения этих этапов, ни в тексте зикра. Различные течения внутри суфизма отличаются между собой кардинально: в одних молитва является коллективной и громкой, в других уединенной и безмолвной и т.п. Но можно все же увидеть за этой пестротой определенную общую картину: как мы показываем в книге «О старом и новом», суфийская традиция может мыслиться как сочетание или наложение двух тенденций, двух линий, одна из которых соответствует классическому типу строгой, систематичной духовной дисциплины, тогда как другая отличается во многом противоположными свойствами. Мы именуем эти линии «высокой» и «низкой».
Содержание «высокой» линии включает все основные элементы парадигмы духовной практики. Суфийский путь структурирован на ступени – «стоянки» (макамат); он открывается борьбой с низшими силами и слоями психики, обращенными к плоти и чувственному миру, преданными эгоистическим вожделениям; затем с помощью техник концентрации и молитвы он совершает «очищение сердца», формирует в человеке устойчивый духовный центр – духовное сердце (калб); и наконец продвигается к высшим духовным состояниям (фана и бака), для которых характерны экстаз, световые созерцания и всецелое растворение в Боге. Но и в этой универсальной структуре можно заметить некоторые характерные отличия. Духовная практика как таковая всегда включает в себя формирование некоторого средоточия, фокуса, единого управляющего центра человеческого существа, в котором соединяются начала интеллектуальное и эмоциональное, «ум» и «сердце». И очень важен характер этого соединения, синтеза. В эллинской мистике и философии верховная роль решительно отводилась уму, в неоплатонизме сам Путь представал как путь ума, интеллектуальный процесс (что задало образец, парадигму для всего классического европейского философствования, признавшего ум монопольным носителем трансцендирующего начала в человеке). Православие и исихазм скорее рассматривали два начала как равноценные; они стремились к их равновесию и гармонизации, и в исихастской практике посредством знаменитого процесса «сведения ума в сердце» формировалось единое «умосердце». Но «калб» – именно сердце, а не ум. Ислам и суфизм со всею определенностью утверждают примат сердца, ставят сердце выше ума, причем онтологически выше: как греческая и западная мысль приписывают онтологическую выделенность уму, так ислам утверждает, что прерогатива связи с Божественным дана сердцу и только сердцу.
С этим перекликается и другая особенность, относящаяся к дискурсу высших духовных состояний. Разумеется, ни в одной из практик человека не дается детального дискурсивного описания этих состояний, предельно приближенных к антропологической границе; но все же не только в исихазме, но и в дальневосточных традициях, где мысль избегает концептуального языка и силлогистической организации, мы найдем вполне информативную речь о высших духовных состояниях, с прецизионным наблюдением внутренней реальности, точными характеристиками соматических и психических эффектов. Совсем иное – речь о высших духовных состояниях у суфиев. Она поражает богатством, поэтической красотой – и почти совершенным отсутствием точной, недвусмысленной информации. В описаниях немало конкретного, однако это конкретное столь тесно переплетено с запутанной и цветистой символико-аллегорической речью, что однозначная интерпретация невозможна. В итоге, ответы на ключевые вопросы об онтологическом статусе телоса суфийской практики, о природе перцептивных и прочих трансформаций, сопровождающих приближение к телосу, остаются тоже неоднозначны и смутны, предположительны.
Черты подобного рода еще более сгущены в тех опытных феноменах суфизма, которые мы характеризуем как «низкую линию» последнего. Укажем основные из таких феноменов. 1) Распространенной формой суфийского ритуала служит «радение», т.е. коллективный сеанс достижения массового психического возбуждения и экстатического транса. 2) Для вхождения в транс разработан богатый спектр психосоматических приемов, перцептивных воздействий: используются вокал, музыка, танец, смены ритма и частоты дыхания, положения тела. Часто важная роль принадлежит кинестезии: практикуются раскачивания, прыжки, а особенно, специфический танец, направленный к нагнетанию возбуждения, со втягивающим и полонящим ритмом («танец вертящихся дервишей» в братствах мевлеви). Иногда применимы искусственные стимуляторы (кофе, алкоголь) и наркотики. 3) В отдельных популярных ветвях суфизма рецитируемым текстом служит не молитва, но бессмысленное звукосочетание. В основных же формах молитвенный текст обессмысливается в ходе рецитации, которая концентрируется не на смысле, а на физическом акте повторения, предельно наращивая его скорость и интенсивность и за счет этого генерируя психическое возбуждение. 4) Вхождение суфия в экстатический транс нередко сопровождается проявлениями исступления, бешенства и неистовства: конвульсиями, воплями, раздиранием одежд и нанесением себе ран.
Научная оценка перечисленных явлений не представляет труда: весь их репертуар хорошо знаком в психоанализе и смежных направлениях современной психологии. Здесь перед нами – психомоторные сцепления, перцептивные атаки, гипнотизирующие и кодирующие (в том числе, с подпороговым кодированием) приемы. У всей этой техники имеется общий знаменатель, который и дал нам основание объединить ее под титулом «низкой линии»: все подобные элементы носят характер воздействий на сознание и поведение со стороны низших, а не высших функций и уровней организации человека: из сфер соматики и нейрофизиологии, подсознания и бессознательного. И мы заключаем, что в данной линии суфийскую практику составляют, по преимуществу, техники работы с паттернами бессознательного.
Далее надо подчеркнуть принципиальное обстоятельство: описанное разделение на две линии проводится лишь в научном анализе, оно отнюдь не является признанным и проводимым самой традицией в ее жизни. В реальном историческом существовании суфизма, в корпусе его текстов обе тенденции нераздельно слиты, образуя сращенное, нерасчленимое целое. Это делается возможным за счет вышеуказанных особенностей первой, «высокой» линии. В других традициях духовная практика обычно включает в себя особый развитый аппарат критического анализа духовного опыта, его квалификации и проверки. Главная цель такого анализа – отличить и отделить опыт подлинный (т.е. отвечающий действительному продвижению к мета-эмпирическому телосу практики) от поддельного, лишь имитирующего облик подлинного. Феномены поддельного опыта существуют во всех духовных практиках; в исихазме их именуют «прелестью», (греч.). Суть их составляет утрата ориентированности к телосу, которая приводит к подмене «Внеположного Истока», конституирующего динамику мета-антропологического восхождения; и от подлинных ступеней-энергоформ духовной практики они отличаются иной энергетикой (как наглядное отражение этого, можно упомянуть, что, по исихастским свидетельствам, световым созерцаниям в подлинном Богообщении присущ «небесный» или «сапфирный» колорит, тогда как явлениям прелести – колорит нижней, красной части видимого спектра). Питающие энергии ложных явлений имеют иной исток, чем истинные ступени практики, и как правило, этот исток можно идентифицировать как бессознательное.
Мы получаем, таким образом, определенные выводы о структуре и типологии суфийской мистики. Как неразличающее слияние «высокой» и «низкой» линий», суфизм, в отличие от других духовных практик, фактически не имеет в своем составе сферы проверки, критериологии опыта, которая, отделяя «высокое» от «низкого», несла бы функцию самоконтроля, самоочищения духовной практики, блюдения ее границ. Наличие этой сферы вносит в практику самый заметный элемент строгого, трезвого, неусыпного внимания; одно из центральных понятий в исихазме – «трезвение». Но в суфизме основная и постоянная метафора для высших духовных состояний – вино, опьянение, «опьяненность Богом». Взамен же сферы трезвения – другое отличие! – здесь необычайно развито эстетизированное, художественное видение духовного опыта; словесно-образное, метафорическое, риторическое богатство суфийской и исламской речи удивительно, непревзойденно. При этом, вследствие догматического запрета на изображение человека, господствующим является декоративно-орнаментальный стиль, вытесняющий нравственно-экзистенциальные измерения дискурса, не говоря уже об аналитических. Суфийское сознание пребывает в художественном – и, по преимуществу, декоративно-художественном – элементе, совершая изощренную эстетическую проработку опыта, но отказываясь от испытания и квалификации возникающих духовных явлений по их истоку, – а с тем, и от отделения, отбрасывания того, что в других практиках было бы отброшено как ложный опыт. В итоге, духовный процесс носит здесь смешанный характер: в нем подлинные энергоформы духовной практики как восхождения к инобытию, трансцендирования человека, не отделены от паттернов бессознательного.
Отсюда мы подходим и к иным, более злободневным выводам. Ибо что же такое паттерны, или «фигуры» бессознательного? В обобщенном, широком смысле, Лакан называл их область – областью безумия. Безумие развивалось вместе с человечеством (и пожалуй, успешней). Еще до появления ислама, паттерны бессознательного обнаруживались и описывались древними аскетами-исихастами как «страсти», и устранение, искоренение их выдвигалось как важнейшая задача начальных этапов практики. В ту эпоху все главные страсти сводились к списку всего из восьми; но сегодня эта старинная осьмирица диакона Евагрия заведомо недостаточна. Ныне паттерны бессознательного, со всеми производными от них, – огромная, разнообразнейшая сфера. Психоанализ выделил большой ряд их видов, механизмов: неврозы, психозы, мании, фобии и т.д., и многие из этих видов, в свою очередь, имеют широкую сферу крайне различных проявлений. С ними тесно связана, например, художественная деятельность: эта связь резко усилилась, начиная с эпохи модернизма, и многие современные направления не только имплицитно, на уровне практики, но и эксплицитно, на уровне платформы, ставят себя под эгиду бессознательного.
Однако современная реальность заставляет особо выделить другую связь: с паттернами бессознательного может быть связана не только художественная, но и, увы, криминально-террористическая деятельность. Сюда относятся маньяки, так любимые сегодняшними СМИ и кино; но, к сожалению, далеко не только маньяки. Обширной сферой паттернов бессознательного, все более заметной на социальной сцене, привлекающей внимание и в науке, и в искусстве, стали сегодня радикальные и экстремальные антропологические практики. Главные из них – практики трансгрессии, преступания норм, законов и всех остальных границ человеческого сообщества. Эти практики могут включать состояния одержимости – в частности, одержимости ненавистью, экстаз разрушения, уничтожения, самоуничтожения (как доказывал еще Фрейд, с паттернами бессознательного ассоциируется влечение к смерти). В истории, в социальной действительности подобные проявления способны приводить к особенно жестоким последствиям, когда осуществляющее их сознание каким-либо образом обретает религиозную санкцию, подкрепляющий религиозный стимул – иными словами, когда реализация паттерна представляется как деяние богоугодное, приближающее к Богу, «святое». Феномен смыкания трансгрессивных паттернов бессознательного с религиозным сознанием, когда религиозное сознание поддерживает и оправдывает реализацию таких паттернов, причисляя их к своей сфере, законно называть узурпацией харизмы.
Можно с уверенностью утверждать, что подобные феномены смыкания религиозного сознания с агрессивными и трансгрессивными импульсами, питаемыми из бессознательного, представляют собой один из главных психологических и антропологических механизмов, стоящих за всею обширной сферой явлений насилия на религиозной почве, призывов к таким явлениям, оправдывающих их идеологий и т.п.. В религиозных конфликтах и войнах, в фундаменталистских движениях, в очагах и вспышках религиозного агрессивного фанатизма, наконец, в современных явлениях религиозно мотивируемого терроризма – всюду мы без труда обнаружим этот механизм. Всюду в этих явлениях насилие, ярость, бешенство, одержимость ненавистью и злобой, рождаясь и заряжаясь из темных бездн бессознательного, получают санкцию религиозного сознания, берутся им под свою эгиду, освящаются им – узурпируют его харизму. Этот союз религиозного и бессознательного – противоестественный союз, могущий возникнуть лишь на базе тяжких деформаций, аномалий религиозной сферы: ибо, как мы разъясняем в этой книге (см. текст «Практика себя»), «бессознательное – парадигматический коррелат сатаны». И тем не менее, вопреки своей противоестественности, союз воспроизводится вновь и вновь, принимает широкие масштабы. Как же и отчего он складывается?
При ближайшем рассмотрении, противоестественное оказывается, увы, – не скажем, естественным, но возникающим с легкостью, с большим вероятием. За феноменом узурпации харизмы лежит общая, классическая особенность паттернов бессознательного: их вкрадчивость, делающая их появление незаметным, а распознание трудным. Этот «предикат вкрадчивости» – прямое следствие самой природы паттернов: индуцируясь бессознательным, они, тем самым, появляются не по воле и не под контролем сознания, а вне этого контроля, незаметно. Незаметность же значит не что иное как неотличимость от фона – от обычных и типичных явлений той сферы антропологической реальности, в которую паттерны вкрадываются; иными словами, в своих начальных стадиях эти паттерны формируются по законам мимикрии, имитации. И если речь идет о сфере духовной практики, то в ней, стало быть, паттерны бессознательного возникают под обликом энергоформ – ступеней восхождения к Инобытию. Однако мимикрия – свойство только начальных стадий; развиваясь и входя в силу, паттерн обнаруживает свою истинную природу – и хотя эта природа диаметрально далека от духовной Лествицы, но паттерн уже достиг власти над человеком (доминантности в его энергийном образе), и человек остается его рабом.
В ином положении – суфизм (и, в известной мере, вся сфера мусульманской религиозности). Возвращаясь к нему, мы заключаем, что за счет специфических особенностей его дискурса и его органона, он представляет собой наиболее благоприятную почву для смыкания сфер религиозного и бессознательного – а тем самым и для феноменов узурпации харизмы, для религиозной санкции на насилие. Шейх-суфий, являющийся лидером террористической группы, – образцовая, эталонная иллюстрация феномена узурпации харизмы.
Подчеркнем, однако, что покуда все сказанное нами оставалось сугубо в сфере антропологического и религиоведческого анализа, на уровне «принципиальных соображений»; фигура шейха лишь умозрительна, и я очень надеюсь, что таковых нет в жизни. Если же мы хотим продвинуться к практическим выводам, необходимо учесть еще очень немало факторов. Прежде всего, необходимо изучить ключевой феномен узурпации харизмы, который пока мы всего лишь бегло определили. Для этого необходимо обособить из всего спектра паттернов бессознательного именно агрессивные и трансгрессивные, связанные с насилием, и рассмотреть их гораздо пристальней; затем надо столь же пристально проанализировать их появление в сфере духовных практик в роли прокрадывающихся явлений «прелести». При этом, общее рассмотрение необходимо затем специализировать на случай суфийской практики. И здесь, кстати, мы увидим, что критическая рефлексия опыта, конечно, не полностью отсутствует в суфизме. С самого начала мы подчеркнули его пестрый, мозаичный характер, и в этом мозаичном целом найдутся всякие элементы – хотя выделенная нами черта все же явно отвечает ведущей тенденции.
Еще один фактор, который надо учесть, – иного рода. Подмеченный нами механизм – заведомо не единственный, каким могут порождаться явления насилия на религиозной почве. Существует и куда более очевидный, лежащий на поверхности механизм: разумеется, это – простая эксплуатация религии в политических целях, производящая редукцию и профанацию религиозного, его низведение в политику и политиканство, к чисто эмпирическим целям (чаще всего – но отнюдь не обязательно – националистическим). Поэтому, обращаясь к конкретной реальности, необходимо учитывать оба априори возможных объяснения. Но стоит заметить, что простой механизм отнюдь не исключает и не вытесняет того, что описан нами, – напротив, он старается его поддерживать. «Мистический» механизм, предполагающий ослепленную, фанатичную убежденность, несет огромную энергию, и потому политиканы нуждаются в узурпации харизмы, в «мистиках» (и, натурально, пытаются манипулировать ими). Прагматики-циники и фанатики-«мистики» – два типа, которые по преимуществу образуют среду религиозного экстремизма, среду, где вызревает и осуществляется насилие на религиозной почве. Разумеется, на эмпирическом уровне, это – элементарное, давно известное наблюдение; однако наше рассуждение приоткрывает генезис и внутреннюю структуру второго, более сложного из этих типов.
Не будучи ни исламоведом, ни социологом, я воздержусь от дальнейших выводов, но выскажу некоторые рабочие гипотезы. Ситуация в мире заставляет, увы, считать весьма актуальной задачу понять и реконструировать внутренний мир, тип сознания, стоящий за современными явлениями исламского терроризма и в особенности, терроризма суицидального. Все описания, все попытки анализа этих явлений признают как очевидность, что в картине их мотиваций присутствует, а часто и преобладает, религиозный аспект. И будет, бесспорно, весьма примитивным и ошибочным сводить этот аспект лишь к грубому суеверию, ожиданию загробной награды в виде чувственных утех. Духовный мир ислама необходимо видеть и учитывать гораздо глубже.
Необходимо учитывать тонкую специфику суфийского и исламского сознания: специфику, выражающуюся в крайнем умалении аналитического, критического подхода к явлениям духовного опыта – в пользу неограниченной власти эстетического подхода. Не это ли умаление влечет ту странную и опасную размытость традиции, при которой одни ее служители искренне заверяют, что ислам не имеет ничего общего с терроризмом, меж тем как другие, столь же законные духовные лица выступают вождями террористических групп? И не кроется ли в корнях сегодняшних тупиков радикального ислама – извечная трагедия эстетизма – в новом и неожиданном облике?
Я не имею чести принадлежать к монашеству, а лишь дерзаю писать о нем, как ученый. Это возможно потому, что в определенной мере приобщение к исихастской традиции совершается и в миру (об этом мы еще скажем дальше), а знание о ней достигло уже и науки, и сегодня мы можем говорить об исихазме, в том числе, и в рамках научного анализа.
Гораздо ближе сюда подходит другое известное слово: в европейской культуре подобный опыт издавна называют мистическим, а всю область его практического получения и теоретического изучения именуют мистикою. Но в Православии к подлинному опыту Богообщения, исихастскому опыту, и эту терминологию редко применяют, как бы сторонятся ее. Дело в том, что устремленность к иной реальности широчайше присуща человеку, она живет во всех религиях и культурах, проявляется во множестве самых разных форм. Все они покрываются словом «мистика», но в громадном большинстве они крайне далеки от исихазма и Православия. В частности, и на Западе преобладают такие формы, которые глубоко отличны от православной духовности.
В духовном опыте можно выделить три ступеньки. Первая – чисто субъективный опыт, который остается лишь, как сегодня выражаются, «фактом биографии» человека. Человек ощутил (или ему показалось, что он ощутил) нечто - но этот факт важен, содержателен только для него одного. Для остальных его опыт не представляет ценности, потому что его нельзя сообщить другим, в нем смешаны впечатления и переживания разной природы, разной ценности, глубокая суть в нем не отделена, не очищена от всего иллюзорного, случайного, привнесенного. Но существует и такой опыт, который может быть выражен, сообщен, может представлять интерес и ценность для других. Если, однако, при этом общезначимости достигает только его выражение, но не получение – такой опыт, хотя уже и не будет чисто субъективным, но еще по-прежнему останется индивидуальным. Ведь в данном случае духовный путь человек проходит сугубо индивидуально, процесс его духовной жизни, даже глубокие мистические состояния, все равно остаются лишь его жизнью и состояниями. Это вторая ступень, и она типична для большинства мистических течений.
И, наконец, есть третья ступень духовного опыта, самая сложная и высокоразвитая. Конечно, и в этом случае опыт переживается индивидуальным человеком, духовный опыт по самой сути своей - глубоко личная вещь. Но теперь он на всех этапах, с начала и до конца, соотносится со сверх-индивидуальным опытом, таким который вырабатывается и хранится усилиями целого духовного сообщества; из фондов этого сверх-индивидуального опыта он питается, с их помощью он строится, проверяется, толкуется... Такой опыт в Православии называется церковным и соборным. И именно эти качества опыта Православие ставит во главу угла.
Здесь возникает теснейший союз двух явлений. С одной стороны, есть индивидуальный процесс духовного восхождения, который можно назвать духовной практикой. С другой, оказывается, что эта практика может жить исключительно внутри традиции. А традиция – это уже не индивидуальная вещь. К ней принадлежит огромное количество людей во многих поколениях, традиция отбирает опыт, суммирует его и передает по определенным правилам. Таким образом, исихаст существует в традиции и только в традиции, а сама традиция – в Церкви.
Вообще, церковный, соборный опыт отличается большим набором своих специфических особенностей. Этот опыт, как мы сказали, куда сложнее и многогранней субъективного и индивидуального. Конечно, мистическая жизнь индивидуальна по самому процессу ее протекания, человек всегда обращается к Богу из глубин своей собственной личности и дает ответ за себя. Библия от начала до конца пронизана мыслью предстояния человека лицом к лицу с Господом. Но каким образом подвижнику, сконцентрированному на своем внутреннем мире, не впасть в субъективизм и индивидуализм? В этом-то и состоит искусство соборного опыта Церкви, искусство исихазма.
Согласно выработанным правилам человек должен организовать тонкий, глубинный опыт Богообщения – следить за тем, что происходит в его душе, развивать механизмы самоконтроля и т. д. Наконец, самое главное – как этот духовный опыт углублять далее, как восходить к Богу. Именно в этом и только в этом – восхождении к Богу – цель духовного опыта, который и построен по принципу лестницы (тут часто говорят по-старинному, лествицы) и имеет свои ступени.
На высших ступенях этого восхождения человек достигает действительного соприкосновения с Божественным бытием, и на вершине - вхождения в Него. А вот это вхождение или, лучше сказать, обожение человека уже не описывается словами нашего мира… Апостолу Павлу открывались величайшие тайны Божии, но, сравнивая даже самую святую жизнь здесь с жизнью там, он написал: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1Кор. 13:12).
Однако между начальными ступенями очищения и высшими, где Небо начинает жить внутри тебя, подвижник должен пройти все ступени духовной лествицы. Это нелегкий, но захватывающий и благодарный духовный труд, и продолжается он всю жизнь. При этом спасение – парадокс – в конечном счете зависит не столько от самого этого труда монаха, сколько от милости и любви Божией: оно всегда - благодатный дар.
Важно подчеркнуть, что опыт, о котором мы говорим, никак не рецепт достижения Царствия Небесного, а только лишь систематизация тех усилий, которые требуются со стороны человека. Спасение же, как ни парадоксально, дается вовсе не за эти усилия, как бы человек ни молился и ни трудился. Можно, пожалуй, это передать через различие православного и западного пониманий греческого слова «ойкономиа» - буквально, домоустройство, уклад, распорядок. На Западе это слово стало экономией, экономикой, а на Востоке так и осталось - «икономией». Так вот, отношения человека с Богом - личные отношения, и Православие скажет, что в них - «икономия любви», уклад личного бытия, движимого любовью. Но икономия - не экономика, и никакой «гарантированной оплаты» в этих отношениях нет! А что есть? Есть - Божественная энергия, нисходящая благодать, в которой милосердие и любовь Бога, и есть встречное движение к Нему человеческих энергий. Эта немыслимая встреча столь разных энергий называется в Православии еще одним греческим словом: синергия, то есть со-работничество Бога и человека.
Однако такое признание совсем не приравнивает эти традиции друг к другу и уж совсем никак не умаляет уникальности духовной традиции христианства. А уникальность в том, что ее путь, и только он один, лежит ко Христу. Это означает самое коренное различие высшей цели, искомого духовного и антропологического итога всей практики, всего способа духовной жизни. Дальневосточные практики развиваются в лоне имперсональных религий Космоса, и во всех них духовное продвижение устремлено к полному отказу от собственной личности и идентичности, к растворению в безличном Абсолюте, Великой Пустоте, Ничто. Духовная жизнь христианина – равно в монастыре и в миру – направлена на то, чтобы в итоге предстать лицом к лицу с Богом, войти в «личное бытие-общение», как именует бытие Божие православное богословие. И больше того, это различие «финальных пунктов» налагает печать и на весь ведущий к ним путь - так что, взглянув внимательней, мы увидим коренные расхождения и на всех этапах духовного процесса.
Притом, здесь неверно и говорить «к чему»: надо говорить «к Кому». Ведь в христианской жизни человек восходит к Живому Богу, к Личности. И Бог в духовном процессе тоже меняет Свое отношение к человеку - а точнее сказать, не «меняет», а открывает Себя человеку. Субъект-объектный язык не может передать этих изменений. Он говорит о двух неизменяющихся инстанциях или субстанциях, которые статично противостоят друг другу. Например, я сижу и рассматриваю стоящий напротив шкаф: это и есть чистейший пример субъект-объектного отношения, и это абсолютно не соответствует духовному процессу - процессу личного общения.
Поэтому дело не в объективности. Вопрос надо поставить иначе: уверен ли монах в истинности своих духовных ощущений? Преподобный Исаак Сирин – великий учитель монашества – сформулировал это так: «На каждом шаге ты должен проверять – ты на пути, или ты сбился с пути». «На каждом шаге» означает в каждом духовном акте. Человек совершает такие акты ежесекундно – это движения сознания. И подвижник их всякий раз проверяет.
Отношения между человеком и Богом – это тайна. Безусловно, есть общие положения, которые Церковь формулирует, но они не носят характер "уголовно-процессуального кодекса", который по категориям и статьям расписывал бы, кто будет спасен, а кто нет. Здесь вновь надо повторить парадокс христианской жизни: какие бы подвиги ни совершал человек, все равно в конечном итоге его спасение - дело Божией благодати. Есть люди, которые всю жизнь проводили в пустынях, в непрестанном молитвенном труде, а есть евангельский разбойник, который покаялся за несколько минут до смерти... Но и подвижники, и благоразумный разбойник находятся рядом с Богом. Монашество, исихазм – это всего лишь один из путей к спасению.
Далее. Могут ли приобщиться к традиции исихазма миряне? Об отношении аскетической монашеской традиции и мирской жизни сама традиция много и заботливо думала. В те периоды, когда традиция переживала периоды расцвета, изнутри нее возникал импульс передачи накопленных духовных ценностей православному человечеству. В основном это совершалось старцами, которые передавали свой духовный опыт приходившим к ним людям. В лице старцев традиция как бы выделяла из своей среды служителей, которые помогали окружающему миру воспринять начатки исихастской жизни, исихастского Богоотношения. И, как известно из истории, такое «передаточное служение» бывало чрезвычайно успешным.
Однако на самом деле внутренняя реальность и духовный процесс все-таки раскрываются в исихастских святоотеческих трудах, только иными средствами, в ином стиле - не через детальные описания переживаний, а через скупые, лаконичные, лишенные эмоций рассказы о внешних проявлениях монашеской жизни.
Все дело в отборе - описываются лишь те внешние проявления, которые, выражаясь современным языком, являются знаковыми. Вместо того, чтобы прямым слогом описывать душевную стихию, в которой много перепутано и чисто субъективное смешано с духовно значимым, сказания о подвижниках дают "алфавит", "каталог" знаковых проявлений жизни в подвиге. За каждым кратким рассказом (они и называются «апофтегмы», краткие поучения) стоит определенная черта внутренней жизни, какая-то из особенностей внутреннего устроения подвижника. Это критерии, "тесты", по которым любому человеку, а не только монаху, можно проверять свое внутреннее устроение. Причем, могут меняться времена, язык, жизнь, но эти тесты остаются актуальными для любого человека любой эпохи. Нужно только уметь их читать. Вот, скажем, из самого простого:
Что же это за битва? Едва лишь вступив на духовное поприще, подвижник сразу же обнаруживает, что есть определенные явления или состояния сознания, служащие серьезным препятствием к духовному восхождению. В сознании образуются некие циклические процессы, когда человек целиком поглощен каким-то одним навязчивым стремлением, и это стремление, постоянно воспроизводясь, подчиняет его себе. По современному жаргонному выражению, человек зацикливается на чем-то, на какой-то мысли, чувстве и т. д. И тем самым, не может заниматься той духовной работой, которая нужна для исихастской аскезы.
Такие зацикливающие человека состояния в аскетике и называются страстями, а их устранение, искоренение - "невидимой бранью", которая развита была с большою детальностью и глубиной. Что же касается научной психологии, то она весьма поздно открыла для себя подобные процессы, а общую систематическую теорию их представил только психоанализ в начале 20 в., разглядев в них феномены, порождаемые из бессознательного. Вполне справедливо будет сказать, что классической аскетике 4-7 вв. принадлежит историческое первенство как в открытии этих циклических явлений, так и в развитии методов и приемов их устранения.
И в заключение надо подчеркнуть: совсем иные в аскетике и цели ее «терапии». Невидимая брань возвращает человека не мирской стихии, а лествице духовной - возвращает на путь ко Христу, к единому на потребу. Согласимся: разница радикальна.
Досточтимейшие коллеги! Сегодня нет ни малейшей необходимости доказывать кардинальную роль феноменов информации и коммуникации в современном обществе. Сам выбор темы нашего форума — одно из многих свидетельств этой роли, и, как все мы знаем, современное общество определяется в своем типе, своей природе как «информационное» или «коммуникационное» общество, явившееся на смену индустриальному и постиндустриальному. Соответственно, коммуникация как акт и процесс передачи информации есть сегодня главнейший и ключевой социальный механизм, и механизм решительно безальтернативный. Больше того, как убедительно рассуждал Никлас Луман, коммуникацию следует считать первопринципом общества, она полагает общество и социальный порядок, она первичней нежели само общество. Многие из самых влиятельных философов современности, начиная с Витгенштейна, такие как Хабермас, Апель и др., часто и с полным основанием именуются «философами коммуникации», в их трактовке реальность предстает как «коммуникативная реальность», а познание как таковое осуществляется лишь из перспективы участия в коммуникации. Таким образом, коммуникация — господствующая и всеохватывающая стихия, если угодно, сама материя социального существования; и разумеется, она обладает богатым многообразием форм, видов, технологий, которое, к тому же, постоянно расширяется и растет. В новейшее время в этом многообразии активнее всего развиваются и получают преобладание медийные и виртуальные формы и технологии коммуникации. За счет их бурного роста и всепроникающего внедрения, коммуникативная насыщенность социальной жизни, всего существования современного человека достигает предела.
Процесс интенсивного развития сферы коммуникации и повышения ее роли в жизни человека и общества принято рассматривать как несомненное достижение современной цивилизации, показатель ее прогресса и успеха. И действительно, его положительные стороны, открываемые им новые возможности бесспорны и очевидны. Однако существуют, тем не менее, и другие стороны, и более точным будет сказать, что данный процесс глубоко амбивалентен: приносимые им приобретения сочетаются с существенными утратами. Сегодня уже прочно замечено, что современный прогресс коммуникации одновременно представляет собою регресс общения. И наиболее значительный регресс и ущерб для общения несут с собой именно новейшие и самые прогрессивные коммуникативные технологии, медийные и виртуальные. Медийные коммуникации порождают симулякры — такие коммуницируемые содержания, что представляют собой знаки особого рода — означающие, за которыми нет никакого означаемого, но которые тем не менее воспринимаются и воздействуют, создавая у адресатов коммуникации мнимую и фальшивую картину реальности. При этом, размножение симулякров нарастает еще быстрее и сильнее нежели само развитие массмедиа, так что мир потребителей медийной коммуникации оказывается охвачен тотальным превращением его в мир симулякров. Помимо того, надо учесть и еще одно, хорошо известное: медийные коммуникации — это безличные формы коммуникации, в которых сообщения, получаемые человеком, в конечной сути своей выражают лишь свою медийность, медийную природу, — что и зафиксировал знаменитый афоризм Маклюэна: Media is the message. В ходе таких коммуникаций, как и в подлинном общении, человек изменяется, но только изменяется он к своему превращению в медийный конструкт, то есть не к углублению, а обмелению, редукции своей человечности, своей личностно- экзистенциальной стихии. Уместно тут вспомнить и давнее предостережение Марины Цветаевой: Брось, девушка! Родишь читателя газет! Что же касается виртуальных технологий коммуникации, таких как общение в Интернете и социальных сетях, то происходящая здесь виртуализация общения сегодня уже немало анализировалась и критиковалась. Этот род коммуникаций обнаруживает сходные качества. Хотя виртуальная коммуникация, вообще говоря, не является безличной, а представляет собой все же человеческое взаимообщение, способное развиваться и углубляться, однако, по самой природе виртуального, это общение всегда лишено каких-либо существенных предикатов актуального общения, оно принципиально не может достигать насыщенной полноты подлинного общения во всех его измерениях.
Оно лишено обязательности и ответственности, которые несет встреча лицом к лицу, и человек в нем заведомо не может проявлять и реализовывать себя во всей своей цельности. Что особенно важно, в нем отсутствует фактор человеческого лица, которое и является откровением цельного человека. Хотя и способное заинтересовывать, задевать, зацеплять, оно всегда поверхностно, необязательно и частично; и поскольку оно не насыщает духовно-душевных потребностей человека, то человек, как правило, начинает испытывать фрустрацию. Чтобы преодолеть ее, он множит свои виртуальные контакты, увеличивает длительность виртуального общения — но это все бесплодно.
Резюмировать все эти черты новейших видов коммуникации можно наглядно- схематически. Сравнительно с обычным человеческим общением в эмпирической реальности, эти коммуникации выстраивают целое многообразие новых форм; и это многообразие можно представлять упорядоченным, как некую иерархию, нисходящую вниз, ко все более обездушенным, поверхностным и частичным формам. Это — иерархия по убыванию экзистенциально-личностной, духовно-душевной насыщенности общения. В конце такой иерархии будет, очевидно, чисто формализованное общение, какое осуществляется меж компьютерными системами и передается термином «общение протоколов». Итак, в новейших коммуникациях, медийных и виртуальных, человеку предлагается иерархия форм общения, нисходящая от полномерного личностного общения — к общению протоколов. С укреплением своего господства, эти новые виды коммуникаций несут кризис человеческого общения.
Но главная задача моего малого доклада — не воспроизвести лишний раз критику этих форм общения, сегодня звучащую достаточно часто, но указать, напомнить, что существуют и другие миры общения, где актуализуются совсем иные, противоположные потенции человека. Эти миры связаны с феноменом личного общения, каким оно осуществляется в духовной жизни. Их можно обнаружить во многих и разнообразных проявлениях и контекстах, но наиболее ярко и полно они представлены в духовной практике. Здесь мы их кратко и рассмотрим, на примере православного исихазма (которому будет посвящена открывающаяся сегодня конференция). Эта практика, зарождавшаяся в древнем монашеском отшельничестве, прежде рассматривалась, да нередко рассматривается и сегодня как пример крайней асоциальности, радикального выхода из общества и общения. Но в связи с нашей темой, я бы позволил себе сказать, пускай и несколько заостряя, что исихазм представляет собой не что иное как школу высших форм личного общения. Как в сфере современных коммуникаций мы нашли иерархию форм общения, нисходящую вниз, к предельно обедненному общению как общению протоколов, обмену битами информации — так в исихастской практике мы находим тоже иерархию форм общения, однако совсем других: иерархию все обогащающихся форм, восходящую вверх, к вершине, которую занимает абсолютная полнота общения, данная как общение онтологическое, совершенный обмен бытием, или взаимообращение бытия между совершенными Личностями-Ипостасями, что именуется перихорисис.
Опишем эту восходящую иерархию немного подробней. Исихастская практика уже и начинается с создания особой формы общения — общения в антропологической ячейке- диаде послушник — старец. Это — асимметричное общение, как и большинство форм восходящей иерархии: в них одна из сторон путем общения питает личностный рост другой. В диаде послушник — старец общение достигает такой глубины, что старцу делается открыт, прозрачен внутренний мир послушника, а послушник испытывает трансформацию своего мира, вступая на путь, ведущий к бытийному претворению.
Дальнейший путь практики построен в ступенчатой парадигме, это — знаменитая исихастская Лествица, ступени которой восходят к соединению человека с Богом.
Восхождение совершается, прежде всего, посредством молитвы, то есть общения с Богом, и каждой из ступеней Лествицы соответствует определенная форма молитвенного Богообщения. Можно сказать поэтому, что общение составляет одно из имманентных измерений практики, и в этом измерении исихастская Лествица представляется как восходящая иерархия форм общения. Что это за формы? Природа их коренится в теснейшей связи общения и личности. По христианскому учению, понятие личности относится к Богу, личность как таковая есть Божественная Ипостась; и восхождение человека к соединению с Богом есть, тем самым, не что иное как его приобщение к Личности-Ипостаси, становление человека личностью.
Поэтому ступени восхождения — это ступени строительства личности человека, и строительство это совершается в общении и путем общения. Однако общение — не только способ строительства личности, но и более того, способ самого ее существования и бытия.
В православном богословии Божественное бытие передается формулой «личное бытие- общение», общение выступает здесь как дефиниция личности, причем очевидно, что в горизонте Божественного бытия реализуется не какая-либо из частных форм общения, присущих бытию эмпирическому, но общение совершенное, само общение как таковое в своей абсолютной полноте. Эта вершина всех форм общения, как сказано выше, носит название перихорисис, обход по кругу, и мыслится как совершенный взаимообмен бытием между Личностями-Ипостасями, вневременное обращение бытия, образующее Триединую Личность Бога. И формы общения, созидаемые на ступенях практики, постепенно углубляясь, вовлекая в себя всего цельного человека и переустраивая его, восходят к этой полноте онтологического, бытийного общения — хотя и не могут всецело ее достичь, оставаясь в эмпирическом бытии.
Эта беглая, упрощенная схема форм общения небесполезна для ориентации в реальности наших дней. Универсум общения представился нам в виде двух взаимно противоположных иерархий, которые обе имеют своим основанием обычные практики общения в обыденной жизни. Новые технологии коммуникаций, продвигающиеся к тотальному господству в мире, создают нисходящую иерархию все более обедненных, редуцированных форм общения, ведущих к его полной виртуализации и превращению в машинное «общение протоколов». Помимо обеднения общения, их господство несет и реальные риски, опасности и угрозы существованию человека. Эти опасности сегодня также общеизвестны: к примеру, глубокий, длительный уход в виртуальную реальность затрудняет отношения человека с актуальной реальностью, ухудшает его способность контроля и управления собой и окружающей ситуацией, повышает риски техногенных катастроф; развивающиеся постчеловеческие тренды строят проекты устранения человека, замены его неким «Постчеловеком» в виде киборга или генетического мутанта; и т. д. Напротив, в духовной практике, в восхождении к личному бытию-общению созидается восходящая иерархия форм, в которых общение достигает все большей глубины и насыщенности, так что в нем происходит обогащение личности, генерация более тонких, дифференцированных и высокоорганизованных структур личности и идентичности человека. Вершина этой иерархии, недостижимая в здешнем бытии, — онтологическое тождество общения, личности и бытия, что и есть личное бытие-общение, Триединая Божественная Личность. Ведущие же к вершине высшие формы общения в наиболее чистом виде культивируются в аскетической практике, но их можно также найти и в более широкой сфере, в мире религиозного опыта и близких, примыкающих к нему антропологических практик. Стоит, в частности, вспомнить, что особая развитость личного общения, его необычайная напряженность и глубина традиционно считались отличительным свойством русского менталитета, русской среды — свойством, что всегда поражало людей Запада. Поэтому в русской культуре, особенно, в русской классике и, в первую очередь, у Достоевского, можно почерпнуть многое о высших формах общения.
Из этой картины можно извлечь и практические выводы. Сегодняшнее торжество нисходящей иерархии несет угрозы и риски для человека, несет антропологический кризис; и, как легко согласиться, эта антропологическая ситуация нуждается в оздоровлении, коррекции. Как подсказывает наша схема, средством такой коррекции может служить новое обращение к формам общения, принадлежащим к восходящей иерархии и потому укрепляющим и обогащающим личностные начала и структуры в человеке. В сегодняшней ситуации личное общение, сохраняющее всю возможную полномерность межчеловеческого общения, приобретает новое значение: оно выступает как антропологическая ценность и ресурс для борьбы с антропологическим кризисом. Но, вместе с тем, возврат к этим формам не должен иметь целью реставрацию, отказ от новейших форм и технологий коммуникации. Сегодня такой отказ уже попросту невозможен: при всех опасных сторонах этих технологий, они адекватны миру современной цивилизации и сплошь и рядом незаменимы. Поэтому нужной стратегией является скорее не вытеснение их, а именно определенная коррекция, которая достигалась бы их сочетанием с высшими формами, полноценными личностно, экзистенциально и духовно. Попытку такого сочетания можно видеть в формирующейся в наши дни постсекулярной парадигме, которая ставит целью выстраивание диалогического партнерства религиозного и секулярного сознания. В очередной раз в истории, спасительный путь для человека и общества оказывается в отыскании гармонического баланса старого и нового.
И всё же это первое впечатление неверно. Нельзя и незачем отрицать органическую принадлежность фигуры св. Силуана, его духовного типа русскому народному православию, народной – если хотите, то и простонародной – религиозности. Но тут надо вспомнить один из старых мотивов духовной литературы: о том, что на путях духовного восхождения ученость и образованность – отнюдь не главное, дух имеет особые свои средства возмещать их отсутствие и потому случалось не раз, что простецы, не ведающие внешних наук, стяжали великую благодать и достигали высочайших вершин духовного опыта. Преп. Силуан – из сих простецов. Начнем его читать внимательней, глубже – и мы найдем в его безыскусных записях богатый и очень своеобычный опыт, включающий в себя все классические составляющие исихастской аскезы, и в том числе – ее высшие ступени. Больше того, мы обнаружим, что, на поверку, высшие духовные состояния, посещения благодати Божией, занимают самое большое место в опыте Силуана! и об этих посещениях, об их опыте, их значении он говорит часто, говорит немало и содержательно. Наряду с другими видами благодатных проявлений, мы обнаружим и опыт преображения, речь о котором тоже достаточно богата, хотя, как уже сказано, сам термин практически не употребляется.
Так для нас постепенно раскрывается своеобразное положение опыта Старца Силуана в исихастской традиции. При явных отличиях этого опыта от классических образцов поздневизантийского исихазма, в нем заведомо нет существенных отступлений от традиции. Однако при этом, хотя безусловная верность основаниям традиции налицо, но, в силу своеобразия духовных даров старца, на этих основаниях возникает глубоко индивидуальный, неповторимый опыт, возникает – решимся это сказать – собственный оригинальный извод исихастской духовности. Toutes proportions gardées, можно вспомнить здесь преп. Симеона Нового Богослова, опыт которого также отмечен этими двумя чертами: верностью основам традиции и в то же время, ярчайшим своеобразием, созданием собственного уникального извода традиции.
Таков и есть тип духовности преп. Силуана: высокий духовный опыт в смиренном обличье неискушенного опыта новоначальных.
Св. Силуан практически не пользуется словом «преображение», даже когда говорит о Священном Событии на Фаворе. Зато сквозною нитью в его писаниях проходит речь о «всецелом изменении», которое свершается с человеком при обретении благодати Святого Духа. Очевидно, что преображение также принадлежит к событиям благодатного изменения; но столь же очевидно, мы не должны считать, что в учении Старца и собственном его опыте, опыт благодатных изменений всегда можно рассматривать как именно опыт преображения. По самому смыслу, опыт преображения отсылает к евангельскому прообразу, он должен быть неким образом связан с Событием на Фаворе, Преображением Христа – и, стало быть, внимание наше должно обращаться на те события благодатного изменения человека, что несут в себе подобную связь. Как говорит история православной духовности, эта связь может носить как прямой характер, когда подвизающийся удостаивается видения преображенного Христа, так равно и не столь прямой, когда она заключается в благодатных явлениях и созерцаниях несозданного Божественного Света. Опыт исихастской традиции содержит немало свидетельств о духовных событиях как того, так и другого рода; и в опыте преп. Силуана мы также найдем оба эти рода событий. В них, как мы будем считать, и заключается тот опыт преображения, который был дан Старцу.
Хотя ни разу, нигде Старец не делает явных утверждений о сходстве и общности собственного опыта, собственного духовного пути с таковыми у преп. Серафима, нет никаких сомнений в том, что он усматривал подобную общность, и она немало значила для него. Мы же, со своей стороны, можем лишь признать безусловное наличие этой общности, равно как ее существенность и глубину.
Наука Умного Делания указывает со всею определенностью, какие именно продвижения, какие ступени должны далее проходиться на пути духовного восхождения. Духовный путь Старца следовал, разумеется, этой науке; но его подвиг теперь включал еще особое делание, данное ему от Господа: Держать ум свой во аде и не отчаиваться. (Будем его называть для краткости «Правилом» Силуана). И в силу этого, зрелый, поздний духовный опыт Старца, будучи опытом высших ступеней исихастского подвига – бесстрастия, преображения и под. – вместе с тем, получает свою особенную окраску, налагаемую его Правилом.
Нет сомнения, что преп. Силуан с равной силой отстаивает и утверждает безусловную необходимость хранения и первой, и второй заповеди Христа; больше того, как мы уже замечали, цитируя Софрония, все содержание исихастского подвига, включая и Праксис и Феорию, он видел именно в хранении этих заповедей. О заповеди любви Божией (любви к Богу) он неустанно говорит на всем протяжении своего пути; о заповеди любви к ближнему, к «брату», он говорит особенно усиленно в поздний период, когда вполне сложились соборные стороны его духовного опыта. Этот дискурс заповедей у Силуана своеобразен: в нем вновь проявляется столь характерное для Старца сочетание или переплетение «начальных» и «высших» элементов аскезы. Обычно тема заповедей выступает в аскетике в ряду тем именно о начальных элементах; хранение заповедей рассматривается как некая прагматика религиозной жизни, исполнение обязательных простых правил. Однако у Старца, как можно заметить, обе заповеди являются в совершенно ином качестве! И та, и другая суть заповеди духовной любви, и с каждою связана, тем самым, своя стихия духовного опыта. По неотъемлемому свойству такого опыта, в нем можно и должно возрастать, в нем есть ступени восхождения – и в силу этого, как опыт первой заповеди, опыт любви к Богу, так и опыт второй заповеди, опыт любви к брату, может достигать полноты, вершины, где он становится подлинно мистическим опытом: опытом ощутимо стяженной благодати, опытом Преображения. На этих-то вершинах «мистики любви к Богу» и «мистики любви к брату» и пребывает опыт Старца.
Классическая европейская культура Нового Времени немало потрудилась над тем, чтобы создать образ христианства как мрачной религии, религии страха и подавления человека, религии, культивирующей страдание во всех его формах – болезни, скорби, умерщвления плоти. И нельзя сказать, чтобы подобный образ был полностью и совершенно лишен оснований. Прежде всего, христианство решительно утверждает не только неизбежность, имманентность страдания (как одного из главных стигматов падшей природы твари), но и теснейшую его связь с прохождением христианского пути ко спасению. Кульминация земной жизни Христа – Крестный Путь страдания, и приобщение христианина ко Христу означает и приобщение к Его страданиям, так что страдание неотъемлемо внедрено в икономию спасения. «Нет скорбей – нет спасения», – говорил преп. Серафим Саровский, а о. Александр Ельчанинов, известный духовный писатель и пастырь русской эмиграции, написал: «Если со Христом, то и со страданиями».
Эти общие положения проявляются во множестве конкретных следствий. Страх Божий – действительно, одна из ведущих установок христианского сознания; формула «умерщвление плоти» широко употребляется в христианской аскезе; а покаянные труды в православии включают в себя жесточайшее самообличение, самоосуждение, острые переживания своей греховности и вины пред Богом и ближними. Важную роль в аскетическом опыте играют слезы, «плач духовный» – настолько важную, что, скажем, в древнесирийской традиции сам термин «монах» в буквальном смысле означал «плачущий». Уже одна знаменитая картина «темницы кающихся» в Пятом Слове «Лествицы» достаточна, чтобы говорить всерьез о культе страдания в православной аскезе.
И все же вывод о таком культе был бы поспешным и неверным. Стойким мотивом в аскетике проходят и предостережения против чрезмерного, непосильного поста, против самоистязаний, вообще – против культивации страдания как такового, как самоцели; звучат наставления о строгой необходимости подчинять все самоиспытания духовным
задачам подвига. Следующее вскоре за описанием темницы Слово Седьмое носит название «О радостотворном плаче», и стоящий здесь эпитет-оксюморон весьма важен и характерен. Св. Иоанн в этом Слове говорит: «Плач и печаль имеют внутри себя заключенные радость и веселие, подобно меду в восковой ячейке» (7,49). Действительная структура сознания оказывается здесь не однородно-страдательной, а двойственной, двуполярной, и наряду с полюсом страдания в ней присутствует также полюс радости и веселия, ликования и любви. Притом, именно этот второй полюс получает в конечном итоге первенство. Лествичник пишет: «Слезы об исходе души рождают страх; а когда страх породит небоязненность, тогда воссиявает радость; когда же достается в удел нескончаемая радость, тогда выходит цвет святой любви» (7,56). «Радуйтесь и веселитесь!» – сказано христианам уже в Нагорной Проповеди (Мф 5,12), и у Лествичника, как и во всей исихастской аскезе, веселие о Господе – стойкий лейтмотив. Напротив, уныние – смертный грех, его одоление – Тринадцатая ступень Лествицы, и «ничто не уготовляет так монаху венцов как борьба с унынием» (13,12).
При всей лаконичности, даже скупости, эти указания преп. Иоанна точны и глубоки. В них, на поверку, намечается цельная линия христианского отношения к страданию и скорби. Ключевое понятие тут – «претворение», изменение самой природы и сути человеческого страдания. Уже и в Новом Завете, оно, хотя и не присутствует явно, как термин, но служит основою отношения к скорбям и страданиям (ср., напр.: «Печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь... но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости» (Ин 16, 20-21); «Печаль ради Бога производит... покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть» (2 Кор 7,10) и др.). В аскетическом дискурсе, а за ним и во всей сфере христианского душепопечения, христианской психологии, принцип претворения последовательно выступает центральной рабочей установкой христианской культуры чувств. Одно из первых упоминаний этого принципа мы встретим уже и в «Лествице», «Божие заступление есть обновление души, подавленной печалию, и оно чудным образом претворяет болезненные слезы в неболезненные» (7,55). Попытаемся дать самое краткое описание этого благодатного претворения.
Прежде всего, аскетическая антропология обрисовывает и настойчиво подчеркивает ту двойственную, амбивалентную структуру феномена страдания, в рамках которой совершается претворение. Есть два облика страдания, и претворение – это переход от одного из них к другому. Облик первый – это страдание в его сырой эмпирической реальности, как боль телесная и душевная, невыносимые ощущения, нарушение и
невозможность нормальной жизни, утрата тех или иных необходимых слагаемых существования. От этого облика идут прямые выходы, следствия к самым разным губительным, негативным явлениям: к опустошенности, ожесточению, озлоблению, к отчаянию, к искажению видения мира, нарушению связей с ближними. Возникает опасность изоляции, замыкания в своем страдании, отсюда – деформации сознания и личности, а в конечном итоге – их разрушения.
Другой же облик во многом противоположен. Как издавна описывалось в духовной литературе, страдание может оказаться духовной возможностью, послужить побудительным толчком, материалом, ареной для духовного углубления страждущего человека. В его опыте есть духовно поучительные, душеполезные элементы, оно может быть одухотворенным и промыслительным, т.е. направляющим человека по пути духовного восхождения. «Когда человек находит в себе силы согласиться на испытание, посылаемое Богом, он делает этим огромный шаг вперед в своей духовной жизни... Страдания имеют положительную силу и смысл... Они заставляют человека открыть глаза на себя и мир, обращают его к Богу», – пишет уже упомянутый нами о. Александр Ельчанинов1. А у известного христианского апологета минувшего века, Клайва Льюиса можно найти такой афоризм: «Страдание – мегафон Бога». Особенно, пожалуй, часто говорится о душеполезности болезней; так, Ельчанинов пишет: «Болезнь – не несчастье, а поучение и Божие посещение... Болезнь – школа смирения... самое благоприятное время для возвращения в свое сердце, к Богу»2.
Однако, хотя рассуждения о благотворности страдания в христианской литературе весьма обильны и нередко пространны, но очень часто подобные поучения и наставления (в том числе, и у Ельчанинова) оставляют в тени важнейшее обстоятельство: эта благотворность рождается и осуществляется лишь при определенных условиях, которые вовсе нельзя считать выполненными всегда и автоматически. Напротив, если страдание предоставлено самому себе, отдано обычному течению мирской жизни – оно тогда пребудет в своем обычном эмпирическом облике, который отнюдь не открывает для человека никаких духовных перспектив, но лишь обезображивает тело и душу, является лишь несчастием и сугубым злом. Страдание промыслительное и духоносное – это не данность, а задание, это высшая ступень страдания, тот его облик, который не возникает сам собой, а может лишь созидаться путем преодоления и претворения другого облика, губительного и опустошающего страдания. Именно об этом претворении говорит Лествичник и другие исихастские учители, и именно в нем заключается существо
1 Священник Александр Ельчанинов. Записи. М., 1996. С. 23, 94.
- в чем содержание и суть претворения страдания из губительной силы в духовно благотворное явление? иными словами, что именно должно произойти со страданием?
- как осуществляется претворение? Ответ на первый вопрос достаточно очевиден: он определяется тем, что все стороны,
все явления в жизни христианина обретают свой смысл, когда ставятся в связь с фундаментальным смыслопорождающим отношением: отношением христианина ко Христу. Отношение к Богу конститутивно для человека, из этого отношения формируются его личность и идентичность. Соответственно, опыт страдания также будет созидательным, а не разрушительным для личности человека, если в этом опыте открывается и реально переживается связь с искупительным страданием Христа, приобщение к этому страданию; или, иными словами, если этот опыт вводится в христоцентрическую перспективу. Если страждущий христианин доподлинно сумел достичь восприятия и переживания своего опыта в этой перспективе, как опыта, имеющего родство и единство со страданием Христовым, тогда этот опыт углубляется и трансформируется, «жало страдания» теряет силу – и так совершается искомое претворение страдания.
Но следует попытаться увидеть ближе, конкретней, что же это реально значит, «введение в христоцентрическую перспективу», переживание собственного страдания в свете страданий Спасителя. Чем отличаются, что особое несут в себе искупительные страдания Христа? Решающее слагаемое в них – то, что они животворимы и одухотворяемы жертвенною любовью, что опыт их в качестве главного элемента включает в себя опыт любви. Отсюда мы можем заключить, что введение опыта страдания в христоцентрическую перспективу означает, прежде всего, рождение и укрепление в сознании страждущего опорного экзистенциального отношения, Страдание – Любовь. Если переживание страдания тем или иным путем сопрягается, сливается воедино с любовью, то опыт страдания, сумевший вместить в себя и опыт любви, несет в себе и приобщение Христовым страданиям. И в этом смысле, подобный опыт – христоцентричен, соответствует христоцентрической перспективе.
Здесь мы уже постепенно переходим ко второму вопросу. Если претворенное, одухотворенное страдание – это страдание, проникнутое и насыщенное любовью, – как можно достичь этой проникнутости? На это едва ли возможен простой и краткий ответ; сейчас мы лишь попробуем обозначить некоторые вехи. Прежде всего, очевидно, что здесь заведомо нет и не может быть формальных правил, инструкции, общего рецепта.
Подвизаясь в претворении страдания, страждущий христианин выходит за пределы своего индивидуального мира, расширяя свой опыт сверх-индивидуальными, интерсубъективными восприятиями, на которых зиждется опыт любви. Эти восприятия принадлежат сфере личного общения, и как таковые, они уникальны и непредсказуемы, непрограммируемы. Опыт любви никогда не может иметь ни регламентированного наперед хода, ни гарантированного успешного исхода, ибо они, эти ход и исход, зависят от внутренней реальности данного, единичного страждущего человека, от всей его неповторимой ситуации.
Отсюда ясна и другая важная особенность. Претворение страдания в страдание промыслительное и духоносное не может вменяться страждущему как обязанность, точно так же как в подвиге достижение его вершины, обожения, не может вменяться в обязанность подвижнику. Эта параллель с подвигом содержательна и может быть продолжена. Страждущий стремится к претворению страдания как подвижник к обожению; однако стремление и того и другого осуществляется в такой стихии, где заведомо невозможно продвижение, расчисленно и предопределенно достигающее намеченной цели. В претворении страдания, благодаря наличию опыта любви, также происходит размыкание человека, и в нем также необходимо присутствие и действие благодати (хотя формы ее присутствия и пути ее стяжания страждущим требуют отдельного тщательного раскрытия). И наконец, как прохождение подвижником ступеней Лествицы нуждается в определенном участии аскетического сообщества, так и в претворении страдания очень существенно участие и содействие ближних, существенна помощь со-страдания. Христианское сострадание – это общение любви, в котором совершается совместное вхождение со страждущим в икономию любви Христовой, что есть и икономия Его страданий и жертвы. Это совместное вхождение и восхождение, черпающее путеводную поддержку в опыте мучеников и святых, – та высшая форма, которую принимает общение любви, когда участники общения соединены принадлежностью к Церкви. Особым его отличием является опять-таки нерегламентируемость, не-нормативность, а точнее – сверх-нормативность человеческого участия и сострадания, которую они обретают благодаря приобщению к искупительной любви Христа. В священном событии Искупления, которое распространяется на всех, на каждого независимо от его свойств и деяний, дан образец и одновременно источник христианской любви, благодатной и принципиально сверх-нормативной, не ограничивающей себя никакими барьерами. У нас в России, в истории русского христианства, мы видим замечательнейший пример такой любви в служении русских старцев. Мы знаем, какою поразительно чуткой и действенной была помощь старцев в
людских страданиях, насколько реально она продвигала человека к претворению своего страдания.
Раскрывающаяся здесь совместная, соборная икономия православного отношения к страданию очень важна. Можно вспомнить в этой связи, что в двадцатом столетии – не в последнюю очередь, в силу его страшных событий и катастроф – проблема страдания стала одною из центральных проблем как религиозной, так и философской мысли. Она продумывалась и решалась с очень разных позиций, но безусловно преобладающим был взгляд, для которого страдание выступало как проблема изолированного сознания и одинокого, предоставленного самому себе человека. Весьма влиятельный, глубоко разработанный пример такой трактовки страдания представил, в частности, европейский экзистенциализм. Однако описанный нами взгляд православной традиции принципиально отличен: здесь феномен человеческого страдания связуется с жизнью церковного Тела и вводится в универсум любви Христовой. Он приобретает новые, соборные измерения христианского сострадания и за счет них, с их помощью испытывает претворение. И претворенное страдание, переживаемое как участие в страданиях Христа, становится очищающей и созидательной силой в жизни христианина.
Рубеж в жизни и творчестве Паламы - начало полемики с монахом-философом Варлаамом Калабрийцем, что прибыл в Константинополь из Южной Италии около 1330. Первый период полемики (1337) имел ту же тему, что и «Аподиктические трактаты», - критика католического богословия. Варлаам предложил свой способ критики: ссылаясь на апофатическое богословие псевдо-Дионисия, он не только отвергал католические доктрины как недоказуемые, но утверждал и вообще полную недостижимость достоверности в Богопознании. Точная реконструкция его позиций и в этой, и в других темах полемики не проделана, хотя очевидны его тенденции к рационализму, агностицизму и релятивизму, а также полная авторитетность для него языческой философии; но позиции Паламы хорошо изучены. Они идут вразрез с Варлаамом: признавая невозможность достоверного Богопознания путем отвлеченных силлогизмов, Палама утверждает его возможность на ином пути - в опыте благодатного Богообщения, в котором сами разум и мысль человека переустраиваются силою благодати. Так уже в начальный период споров выступают определяющие черты богословия Паламы: опытные критерии богословского дискурса, отказ от отвлеченно-рассудочного рассмотрения проблем и перевод их в горизонт опытного Богообщения, т.е. аскетики и (мета-)антропологии. Эти черты четко отделяют мысль Паламы от дискурса античной философии, так что его резкие отрицания авторитета языческих философов далеко не носят априорно-догматического характера.
На первом этапе, Палама и Варлаам обмениваются рядом посланий, причем посредником между ними служит друг Паламы Григорий Акиндин, занимающий примирительную позицию; основные тексты Паламы - «Первое письмо Варлааму» и два письма Акиндину. Но вскоре Варлаам перешел к прямой критике исихазма, грубой и резкой, причем, помимо трактатов, составил и обвинение, поданное патриарху и синоду. Споры входят в новую фазу. По просьбам исихастов, Палама берется за опровержение активных, все множащихся обличений. Два момента в исихастской практике всего более подверглись нападкам: соматика подвига и световые созерцания на высших ступенях духовного процесса. Практика афонского исихазма XIV в. была уже четко выстроена как холистический антропологический процесс, в котором множество всех энергий человека последовательно преобразуется в определенные конфигурации, такие, что вся их серия восходит к особому синергийному устроению - соединенности человеческих энергий с Божественной энергией, благодатью. Исихастский метод решал при этом двоякую задачу: восхождения по иерархии энергийных форм и «стражи», хранения форм достигнутых (ибо, в отличие от сущностных форм, энергийные существуют лишь в динамике, требуют непрестанного воспроизводства заново). И опыт показывал, что устойчивыми ступенями восхождения оказываются именно синтетичные энергийные структуры - образуемые не из одних умственных или душевных и т.п. энергий, но сочетающие в себе разные типы. Уже «синайский исихазм» V-IX вв. открыл главную из таких структур - «сведение ума в сердце», т.е. сплетение интеллектуальных и аффективных энергий в единый динамический каркас; афонский исихазм XIII-XIV вв. нашел, что духовному процессу содействует присоединение к этому каркасу также энергий соматических - завершив, т.о., опытное открытие холистической природы духовной практики. Вовлечение соматики в духовный процесс было многообразно (как в восточных школах), включая контроль дыхания и подбор позиций молитвенного делания; но к специфике исихазма всегда принадлежала подчиненная, чисто функциональная роль всей соматики и «технологии», утверждение невозможности достичь целей подвига любым операционным путем. Варлаам же, во-первых, очень преувеличил место соматики в исихазме (дав исихастам прозвище омфалопсихов - «пуподушников», считающих будто душа помещена в пупе, - лишь потому, что в одной из поз молитвы взгляд направлялся в область пупа), а во-вторых, полностью отрицал, что телесность в любом аспекте может быть причастна к духовной жизни и познанию Бога (вполне совпадая здесь и с неоплатонической, и с будущей новоевропейской мыслью). Что же до световых созерцаний, то подвижники полагали их Боговидением - видением самого Бога как несотворенного Божественного Света, того, что созерцали ученики Христа при Его преображении на Фаворе; тем самым, созерцания были достижением цели подвига, обожением. Но Варлаам, по той же агностической логике, отрицал всякую возможность Боговидения и, соответственно, объявлял видения исихастов - естественным, физическим светом, а их толкования своего опыта - догматическим заблуждением, ересью.
Палама начинает защиту исихазма во «Втором письме к Варлааму» (1337); затем, прибыв в Фессалоники, многократно встречается и беседует с Варлаамом, который, однако, нимало не меняет ни сути, ни тона своих нападок (его высокомерие, агрессивную резкость много отмечают источники). Лишь после этого Палама приступает к своим защитным трактатам, ставшим его главным трудом и крупнейшей вехой православного богословия. Первая «Триада в защиту священнобезмолвствующих» (1338) строится как 3 ответа на 3 вопроса некоего монаха об антиисихастских позициях Варлаама (который, однако, не упоминается): 1) о духовной значимости светских наук и философии, 2) о связи ума с телом, 3) о Фаворском Свете и его созерцании. В трактате I.1 Палама резко противопоставляет отношение христианской мысли к ветхозаветной традиции и к языческой философии, утверждая единство с первой и разрыв со второй. Трактат I.2 - краткая, но внятная экспозиция и апология исихастского холизма в антропологии, очерчивающая системный и энергийный подход к человеку: для Паламы человек есть, говоря современно, многоуровневая иерархическая система со множеством «сцеплений и расцеплений», прямых и обратных связей (ср.: «наша душа - единая многоспособная сила, которая пользуется телом как орудием", I.2,3), причем все многоединство человеческого существа должен зорко контролировать, собирать и устремлять к Богу ум - как управитель, «епископ». В I.3 утверждается Божественный характер Света Преображения и Света созерцаний, посылаемых св. праведникам, и развивается подробно концепция «духовных чувств», сверхприродных способностей восприятия, что открываются в духовном опыте и дают возможность созерцаний, отождествляемых Паламой с обожением человека; на базе этой концепции, апофатизм объявляется отнюдь не единственным и не высшим способом Богопознания.
С появлением Триады Варлаам лишь еще усилил обвинения и нападки; кроме того, многие рассуждения трактатов требовали развития - и в 1339 Палама пишет Вторую Триаду, где наконец обличает открыто Варлаама и его «ложь и клевету». По тематической структуре, обе Триады параллельны: трактаты в II углубляют и довершают соответствующие трактаты в I. В II.1 мысль Паламы окончательно конституируется в антиплатоническом русле: критикуя всю языческую философию как «бесполезную крайнюю плоть лукавых учений» (II.1,6), он в случае Платона более конкретен, прямо указывая «дурное» и «злоучительное» в его «болтовне» (II.1,20,22). II.2 («О молитве») указывает важное следствие энергийной антропологии, необходимость непрестанной молитвы, и дополняет эту антропологию общей установкой: устремление к Богу должно нести не умерщвление, но трансформацию всех способностей человека, их «преложение с дурного на доброе». Наконец, в II.3, самом обширном трактате, развивается богословие Света: данный в I.3 разбор исихастских созерцаний «снизу», со стороны антропологии, дополняется их рассмотрением со стороны учения о Боге. Свое богословие Божественного Света и обожения Палама опирает здесь на идеи Григория Нисского, Максима Исповедника, псевдо-Ареопагита, хотя сложная проблематика, связанная с различением в Боге неприобщаемой Сверхсущностной Сущности и «доступной и явленой» силы (славы, сияния), остается далеко не исчерпанной.
В 1339-40 спор, углубляясь, близится к кульминации. Палама составил сжатое изложение исихастской позиции, которое, будучи одобрено и подписано главами афонских обителей, под именем «Святогорского Томоса» стало соборной декларацией исихазма. Варлаам же в очередном трактате обвинил Паламу в ереси; и вновь по двоякой причине, парируя обвинение и развивая свое учение, Палама пишет Третью Триаду. Меньшая по объему, она важна тем, что придает зрелую форму богословской позиции Паламы: именно здесь эта позиция предстает наконец как богословие энергий, формируется концепт Божественной энергии и ставятся проблемы соотношения Сущности, Ипостасей и Энергии. Затем Варлаам добивается созыва собора для рассмотрения его обвинений; однако Собор, собравшийся в Константинополе 10 июня 1341, осуждает не Паламу, а Варлаама, и тот вскоре покидает Византию. Но сразу после Собора против Паламы выступил Акиндин, критика которого, в отличие от Варлаама, касалась не исихастской практики, но лишь богословия энергий. Новый собор, в августе 1341, выносит осуждение Акиндину.
В главной сути, исихастские споры были завершены: исихастская аскеза получила богословское обоснование и принятие Церковью. Но, в силу внешних обстоятельств, они шли еще долго. 1341-47 - годы войны за власть между Иоанном Кантакузином, с которым Палама был близок, и правительством Анны Савойской; и, хотя Палама в стороне от политики и лоялен к правительству, политиканствующий патриарх Иоанн Калека преследует его (большую часть периода 1343-47 Палама - под домашним арестом и поддерживает Акиндина). В ответ на 7 «Антирритик» ("возражений") Акиндина, Палама составляет 7 трактатов «Против Акиндина", но и в этих, и в других поздних текстах он лишь подкрепляет и уточняет учение «Триад"; крупного значения не имеет и прочая богословская литература споров, весьма обильная (господствуют в ней паламитские сочинения; и духовенство, и миряне в большинстве всегда были на стороне Паламы). В 1347, с победой Кантакузина, Палама, выйдя из заключения, поставляется епископом Фессалоникийским, но из-за длящегося восстания зилотов, занимает свою кафедру лишь в 1350. С 1347 с антипаламитскими сочинениями начинает выступать ученый-гуманист, историк Никифор Григора (1293-1361), и летом 1351 новый, самый представительный Собор вновь разбирает учение Паламы Антипаламиты терпят поражение, и Собор принимает осн. тезисы богословия энергий в виде догматических определений. Собор 1351 - финал исихастских споров; после него антипаламиты начинают преследоваться, а исихастское учение торжествует по всей Империи и вскоре становится общеправославным.
Дальнейшая судьба паламизма не менее сложна. Противники его всегда оставались в Византии; и, хотя изначально так не было, постепенно антипаламитские позиции стали типичны для гуманистических и прокатолических кругов. Как развитие православного вероучения, отсутствующее в догматике католичества, богословие энергий стало также предметом католической критики, часто остро-непримиримой; но в последний период типичней стала широкая примирительная трактовка. В православном же мире в послевизантийскую эпоху учение Паламы было основательно забыто. В последние десятилетия, однако, изучение наследия Паламы и эпохи исихастских споров испытало бурный подъем, причины которого - в осознании многих весьма современных и актуальных аспектов и потенций исихазма. В развитии исследований различаются два русла: академические штудии западных ученых и труды православных богословов, в которых творчество Паламы становится базой нового продвижения православной мысли.
Триады в защиту священнобезмолвствующих. Пер., послесл., комм. В.Вениаминова [В.В.Бибихина]. М.1995. Беседы (омилии). Пер.архим.Амвросия (Погодина).Ч.1-3.М.1993. Святогорский Томос. Пер.Т.А.Миллер // Альфа и Омега. Уч.Записки Об-ва для распространения Священного Писания в России. 1995. Вып.3(6).С.69-76. 1962-92. Прот. Иоанн Мейендорф. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение. Изд.2, испр., доп. СПб.1997.
Предметом нашего научного собрания является одно из ценнейших сокровищ Православия – традиция исихастского подвижничества. Разумеется, подобный выбор предмета далеко не случаен. В течение уже нескольких десятилетий православное богословие, другие церковные науки, а также и целый ряд наук светских все активнее развивают исследования исихазма и придают ему все более важное значение. Будучи строгой и трудной школой духовного опыта, исихазм никогда не становился массовым, широким явлением; но несмотря на это, ему принадлежит в Православии нисколько не периферийная роль. Сегодня уже стало признанной истиной, что исихазм представляет собой ядро и стержень православной духовности, и в его опыте осуществляется в полном и чистом виде именно то отношение человека к Богу, какое утверждается вероучением Православной Церкви.
Современные исследования исихастской традиции действительно демонстрируют подобную широту; но в прежние эпохи она отнюдь не имела места. Вплоть до недавнего времени как знание, так и изучение этой традиции носило весьма отрывочный характер; из всего мира Традиции основательно изучались только отдельные островки – некоторые ведущие фигуры (как то Антоний Великий, Евагрий, Симеон Новый Богослов), отдельные темы (как то древнейшее монашество в его генезисе и устроении, Невидимая Брань, оппозиция исихазм – гуманизм) и т.п. К тому же, изучение шло, по преимуществу, в рамках истории, в меньшей степени – богословия, и иногда, совсем минимально, психологии (как, скажем, при рассмотрении аскетической борьбы со страстями). Целые материки из мира Традиции продолжали при этом оставаться в тени. Исследования исихазма прошли сложный путь, тесно связанный с историей Православия и межконфессиональных отношений, с развитием богословия и византинистики. Этот путь в значительной мере определил и современную панораму исихастских штудий. Чтобы понять и оценить эту панораму, увидеть задачи и перспективы сегодняшних работ в области исихазма, мы должны поэтому обозреть пройденные этапы.
Необходимо, прежде всего, различать три разные инстанции или среды, в которых происходило осмысление и изучение исихазма. Эти три среды образуют как бы систему концентрически расширяющихся сфер, в каждой из которых работа совершалась по-своему. Первая и наиболее узкая сфера – сама аскетическая традиция, в которой, по мере ее становления и формирования, несомненно, происходил и процесс самосознания, самоосмысления, рефлексии на самое себя. Следующая сфера – изучение исихастской традиции в Православии и наконец третья – исихастские штудии в инославном христианстве и светской науке. Мы последовательно рассмотрим их.
Итак, как развивалось самоосмысление Традиции или, иными словами, внутри-исихастское постижение исихазма? Безусловно, задачи рефлексии, как и вообще интеллектуальные задачи, в процессе формирования Традиции заведомо не стояли на первом плане и, более того, не играли самостоятельной роли. Процесс был целиком подчинен единому духовному заданию, которое состояло в выстраивании Лествицы восхождения к Обожению, т.е. в вырабатывании, добывании определенного рода опыта, антропологического и мета-антропологического. Но исполнение этого сугубо опытного задания (как то разъяснялось, в частности, в моих трудах) имело своей основной и важнейшей частью создание своего рода полной путевой инструкции для духовного пути – создание обширного и весьма непростого свода правил, указывающих, как правильно устраивать исихастский опыт, как его проверять, толковать, хранить и передавать. Этот полный практико-теоретический канон исихастского опыта именуется Органоном, и точнее, поскольку речь идет об органоне, создаваемом самою Традицией, в ее внутреннем пространстве – Внутренним Органоном. Совершенно очевидно, что создание Внутреннего Органона не может не включать в себя также и определенные задания самоосознания и самоосмысления аскетической традиции.
Современная реконструкция исихастского Внутреннего Органона, данная в моей книге «К феноменологии аскезы», представляет структуру этого органона в виде пяти крупных разделов; и два из них имеют задания именно такого рода. Разделы эти носят названия «Квалификация опыта» и «Герменевтика опыта». Ради краткости упрощая и обобщая, можно сказать, что задания этих разделов сводятся к ответам на следующие главные вопросы:
Соборными трудами участников Традиции, эти вопросы получили отчетливый, основательный ответ, и его главные положения мы кратко напомним.
Исихастский подвиг, как видит его сама Традиция, есть, прежде всего, определенный духовный и антропологический процесс, антропологическая и мета-антропологическая стратегия, ключевую особенность которой составляет ее ступенчатый и восходящий характер. Эта первая квалификация исихастского Пути выражается знаменитым понятием Духовной или же Райской Лествицы, по названию классического трактата преп. Иоанна Синайского. Итак, исихастский подвиг и путь есть Лествица. Далее, продвигаясь к более углубленным характеристикам, мы находим, что для Традиции ее опыт есть, несомненно, опыт Богообщения, особого рода диалога Бога и человека. Это тем более несомненно, что суть и основа исихазма – молитва, а она, как сказано опять-таки у преп. Иоанна Лествичника, «есть общение» («Лествица», 28,1). И наконец, исихастский опыт есть опыт Обожения. В первую очередь, Обожение – это искомое Богообщения, молитвенного делания и всей жизни в Боге; это мета-антропологический и метаэмпирический финал духовного восходящего процесса. Но это не простой финал, а смысловой итог, смысловая сумма всего процесса; и это значит, что Обожение одновременно выражает также и природу, внутреннее содержание всего исихастского пути. Этими тремя главными дефинициями исихастского подвига мы сейчас ограничимся.
Переходя ко второму вопросу, мы должны отметить, что Традиция, хотя и всегда противопоставляла себя языческой философии и другим чисто интеллектуальным руслам духовной жизни, однако внимательно и глубоко входила в вопросы о роли и месте, о характере деятельности разума в духовном процессе. Это привело к важным наблюдениям, выводам и даже открытиям. Прежде всего, из опыта был сделан вывод о том, что в исихастской практике формируется некоторый особый способ организации и работы сознания, в философской терминологии – особый модус сознания. Задачей исихастского сознания, как понимали уже отцы-пустынники, является зоркий контроль за внутреннею реальностью подвижника, умение точно видеть эту реальность и следить за нею во всех ее изменениях, в ее движении, очищая и защищая ее от элементов, чуждых духовному процессу, от помех и посторонних вторжений; как мы скажем сегодня, задача сознания сразу виделась как мониторинг духовного процесса. Однако отнюдь не сразу найдено было, какой же модус сознания способен осуществлять такой мониторинг. Сначала предполагалось, что данная работа – обычная деятельность познания, как оно понималось в античной, а затем и классической европейской метафизике: деятельность анализирующего, рассуждающего и различающего разума. Для этого модуса сознания центральным и главным понятием служит - различение, рассуждение, рассудительность; и в текстах раннего исихазма, начиная с корпуса, приписываемого св. Антонию, мы найдем много высказываний о том, что главное свойство разума подвижника – рассудительность. В «Собеседованиях» св. Иоанна Кассиана ей даже посвящено целиком Второе Собеседование. Однако постепенно, с накоплением опыта, уясняется, что обычный познающий разум не справляется с заданиями мониторинга, и разум подвижника должен обладать еще некоторыми другими свойствами: такими, которые, вопреки неудержимой подвижности, текучести состояний сознания, обеспечивали бы его стойкую фокусировку и концентрацию на внутреннем предмете. Эти свойства были найдены, идентифицированы, описаны – и стали новыми специальными категориями, характеризующими аскетический разум. Главнейшая из таких категорий – трезвение (), которое со временем даже стало одним из общих названий всей исихастской дисциплины, так что, к примеру, «Добротолюбие», как греческое, так и славянское, при своем появлении в конце 18 в. имело подзаголовок «Главы священного трезвения». Как определяющая характеристика исихастского разума в его работе, трезвение стало центральной категорией исихастской теории сознания, а сам исихастский разум может быть определен как сознание в модусе трезвения. Отчетливое и детальное описание этого модуса было достигнуто Традицией в эпоху Синайского исихазма (прибл. 6-10 вв.), и в качестве основного текста здесь может быть указан трактат преп. Исихия Синаита «О трезвении и добродетели». Как я показывал, исихастская теория сознания в модусе трезвения весьма родственна теории интенциональности в феноменологии Гуссерля, и можно с полным основанием утверждать, что Синайским исихазмом совершено было открытие интенциональности.
Добытое определение передает, однако, еще не все главные особенности исихастского разума. Духовный процесс – последовательная трансформация всего собрания человеческих энергий, включая и активность разума; так что с восхождением по ступеням Духовной Лествицы образ деятельности разума меняется. На высших ступенях подвиг достигает синергии, и в происходящих изменениях все заметнее сказывается преображающее действие Божественной энергии, благодати. Очищенный благодатью ум не просто приобретает новые свойства, но в целом переводится в новую форму активности, невозможную для него прежде. Вместе с другими особенностями высших ступеней подвига – прежде всего, созерцанием нетварного Света Преображения – данная форма делается предметом особого внимания Традиции в лучший период ее зрелости и расцвета – период Исихастского Возрождения 14 в. В центральном тексте всего этого периода, «Триадах» св. Григория Паламы, святитель говорит, что «молитвою очищенный ум» возвышается до особой роли «Ума-Епископа», когда он становится единым управляющим центром для всего человеческого существа – таким центром, который способен «полагать законы каждой силе души и каждому из членов тела» и который полагает, разумеется, те законы, что отвечают восхождению к Обожению. Здесь совершается, таким образом, открытие еще нового образа деятельности сознания, который я называю «парадигмой Ума-Епископа». Этот образ или модус близко соотносится с исследованиями сознания в современной психологии и философии (в частности, с концепцией «психологических систем», развивавшейся Л.С. Выготским) и представляет весьма большой интерес для изучения диапазона возможностей человеческого сознания.
Наконец, к работе самопознания и самоосмысления Традиции – к тому, что можно называть внутри-исихастским изучением исихазма, – принадлежит, безусловно, и решение в рамках Традиции герменевтических проблем, связанных с истолкованием ее опыта. Исихазм создал собственную очень своеобразную герменевтику, специфика которой – в ее прямой привязке к Духовной Лествице: для самой Традиции, истолкование любого образца исихастского опыта означает не что иное как его отнесение либо к определенной ступени Лествицы, либо же к феноменам ложного опыта, «прелести». Сейчас мы не будем обсуждать принципы этой герменевтики, отсылая к их подробному описанию в нашей книге «К феноменологии аскезы». Что же до периода, когда она развивалась, то созданию и совершенствованию герменевтики исихастского опыта Традиция уделяла внимание всегда, и ценные вклады в эту герменевтику вносились во все эпохи, от древних пустынников и до нашего современника игумена Софрония (Сахарова).
Описанные результаты осмысления исихазма в его собственном Внутреннем Органоне стали основой для познания исихазма за пределами Традиции, в более широкой богословской, научной и культурной среде. Неизбежным образом, исихастские штудии, осуществлявшиеся в этой среде, опирались на то, что прежде них открыла о себе сама Традиция; и можно сказать, пожалуй, что все наиболее существенные факты и выводы об исихастской практике, о природе и свойствах исихастского опыта были первоначально получены самими исихастами. Созданный Традицией Органон давал отчетливый облик определенного духовного и антропологического явления. Главнейшие, ключевые черты этого явления выражались тремя новыми концептами: Райская Лествица – Трезвение – Ум-Епископ, – из коих первый определял общую структуру исихастской практики и ее мета-антропологическую природу, второй описывал специфический модус деятельности сознания в подвиге, а третий выражал особые свойства и способности благодатно преображаемого разума. Однако Внутренний Органон создавался Традицией для внутренних целей исихастского сообщества, исключительно как пособие и подспорье в прохождении подвига. Соответственно, он формулировался на внутреннем же, рабочем языке Традиции, и его открытия выражались с использованием особого словаря и слога, которые отсылали к специфическому контексту, специфической логике аскетического сознания и понимание которых для человека вне Традиции было немало затруднено.
Отсюда становится ясно, как ставятся и что включают в себя задачи изучения исихазма за пределами Традиции. Идет ли речь о православном, инославном или же светском сообществе, но для понимания и осмысления исихазма всегда требуется, прежде всего, работа вхождения в мир Традиции: работа, в результате которой возникает умение воспринимать опыт Традиции и ее язык, а плоды самоосмысления Традиции, элементы ее Внутреннего Органона делаются достоянием соответствующего сообщества, пополняя фонд его знаний. (Конечно, по принципу «со стороны виднее», не исключено, вообще говоря, и то, что внешним взглядом будут усмотрены также некоторые факты, некоторые черты, не зафиксированные и не отрефлектированные самою Традицией.) Далее на этой основе развиваются исследования, которые априори могут ставить перед собой задачи двоякого рода: во-первых, задачи изучения исихастской практики и традиции как объектов познания в рамках различных дисциплин – богословия, истории, антропологии, психологии и т.д.; во-вторых, задачи интерпретации и оценки феномена исихазма с общих культурных позиций соответствующего сообщества – православного, инославного или же секуляризованного.
В Православии положение исихастской традиции и отношение к ней прошли через многие этапы и резкие перемены. Мы, разумеется, не будем сейчас прослеживать все перипетии этого сложного пути, однако обозначим его главные вехи. В целом, следует заметить и подчеркнуть существенное смысловое единство всего пути: на последних, современных этапах вновь возвращается то же самое понимание роли и места исихазма в Православии, которое присутствовало в истоках, при зарождении Традиции. Тогда, при становлении христианской аскезы, церковное сознание видело в опыте подвижников новую, очередную форму подлинного общения и соединения со Христом, пришедшую следом за предыдущими формами (каковыми были опыт апостолов, а затем опыт мучеников) и тождественную этим формам по своему духовному существу. Пустыня, где подвизались аскеты, была, как известно, духовным средоточием, духовной столицей раннего христианства, и необходимейшим противовесом тем мирским опасностям, которым подвергалось христианство как Империя.
В дальнейшем, имперский и институционализированный полюс в жизни православного общества нередко заслонял значение исихазма, оттеснял его далеко вглубь. В византийскую эпоху таким периодом относительного ухода исихазма со сцены ученые считают, например, 10-12 вв., в российской истории – 17-18 вв. Но неизменно за этими периодами наступал новый подъем, активное оживление Традиции, когда ее роль внутреннего центра, духовного ядра в жизни Православия выступала вновь ярко и несомненно. В церковном сознании возобновлялась работа по осмыслению Традиции, созданию цельной рецепции исихазма, и в этой работе совершалось восстановление единства и непрерывности, самотождественности православного разума. Из этих периодов подъема особое значение приобрели два. Эпоха Исихастских споров 14 в. представила зрелое осмысление исихастского опыта, выдвинула исихастскую традицию в центр не только религиозной, но также культурной и даже государственной жизни Византии и с полным основанием получила название Исихастского Возрождения. В создание православной рецепции исихазма Исихастское Возрождение 14 в. внесло самый фундаментальный вклад. Аскетическое искусство Умного Делания получило здесь базу догматического богословия в трудах святителя Григория Паламы и соборное одобрение в Томосе Константинопольского Поместного Собора 1351 г. На новом зрелом этапе исихазма вновь было подтверждено и закреплено ключевое свойство православного учения – единство патристики и аскетики, утверждавшееся уже преп. Максимом Исповедником. Исихастское Возрождение явно несло в себе также и дальнейшие разнообразные потенции – прежде всего, потенции гармонического соединения духовной и культурной традиций и формирования на этой базе новой культурной парадигмы, которая могла бы явиться жизнеспособной и творческой альтернативой Западноевропейскому Ренессансу с его внецерковным, секуляризованным гуманизмом. Однако в силу крушения Византии этим потенциям не было суждено реализоваться.
После тяжелого упадка, наставшего с турецким завоеванием, очередным важнейшим этапом развития исихазма и его осмысления в Православии стало Филокалическое Возрождение, что родилось в Греции в последние десятилетия 18 в. и затем распространилось на весь мир Православия. Весьма интересно сопоставить два возрождения. Как в Греции, так и в России питающие истоки Филокалического Возрождения лежали в народной религиозности, в среде низшего духовенства и монашества. В отличие от Византии, процесс протекал в культурно расколотом обществе, где образованные слои, а отчасти и церковная иерархия давно восприняли сильные влияния инославия или секулярной культуры Запада. Коливадское движение, из которого выросло Филокалическое Возрождение, было тягой к восстановлению подлинно православных духовных начал, духовного строя и уклада – прежде всего, в самой ближайшей, непосредственной религиозной жизни: в церковной обрядности, молитве, богослужении. Но его зачинатели и лидеры хорошо сознавали, что такое восстановление не может происходить на одной только церковно-бытовой поверхности: оно будет полноценным лишь тогда, когда будет укоренено в истинной глубине духовного опыта Православия. И очень скоро отсюда был сделан вывод: путь к искомому восстановлению – только через обращение к исихазму, как самому надежному, достоверному ядру православного опыта.
Новое обращение к духовной традиции произошло, как известно, путем создания «Филокалии», фундаментального многотомного свода исихастских текстов, собранных из всей истории исихазма, от Антония Великого до Григория Паламы. Всю силу эффекта от появления книги было невозможно предвидеть; оно стало одним из главных событий в истории Православия за последние столетия. В предшествующий период упадка исихазм оказался очень заметно позабыт, вытеснен, маргинализован в православном сознании; и появление «Добротолюбия» стало тем рубежом, с которого вновь и уже необратимо начало утверждаться исконное понимание его стержневой роли в православной духовности. Возникли условия для самого существенного расширения сферы прямого влияния и воздействия исихазма. Книга стала сильнейшим проводником этого влияния, выйдя далеко за пределы собственно исихастской среды и получив распространение в самых широких кругах православного общества. Всюду в этих кругах она принималась в качестве авторитетнейшего духовного руководства, учебника христианской жизни и путеводителя ко Христу.
Разумеется, это книжное воздействие соединялось и с воздействием самих участников Традиции, живых примеров. Это живое воздействие также усиливалось; как бывало всегда, в периоды своего подъема Традиция обнаруживала тенденцию к выходу в мир, к передаче установок и навыков исихастской жизни окружающему православному обществу. В России эта тенденция породила новое и важное духовное явление – знаменитое русское старчество. В отличие от бывшего изначально древнего старчества, когда старец, т.е. искушенный подвижник, служил духовным руководителем начинающим, новоначальным подвижникам, в русском старчестве искушенные подвижники-исихасты входили в общение со множеством простых мирян, любовью проницая в их души, прозревая их чувства, их нужды и служа им духовными наставлениями. Очень быстро это явление достигло значительных масштабов. Старцы Оптиной Пустыни пользовались любовью и служили духовным авторитетом едва ли не для всего русского общества; и можно сказать, пожалуй, что, наряду с самим «Добротолюбием», русское старчество входит в число главных и центральных явлений эпохи Филокалического Возрождения в православном мире. Параллельно в России с середины 19 в. начинает также развиваться изучение исихазма в рамках церковной науки. Ко времени большевистского переворота достигнуты уже были заметные успехи в исторических исследованиях, в собирании и изучении рукописей; но в целом, здесь еще явственно оставалась печать того, что о. Георгий Флоровский назвал «западным пленением» русского богословия.
Мы можем считать, что эпоха Филокалического Возрождения длится и вплоть до наших дней. Но в ходе нее происходило определенное развитие, в котором можно выделить два крупных этапа: на первом из них значительно сказывалась роль культурной расколотости и русского, и других православных обществ, тогда как на следующем этапе эта роль начала преодолеваться. Мы отмечали низовые, народные истоки Филокалического Возрождения; и долгое время его процессы оставались сосредоточены по преимуществу в народной среде, не слишком затрагивая образованные слои и творческие сообщества – что, в частности, выражалось и в продолжении «западного пленения». Как я не раз подчеркивал, даже Религиозно-Философское возрождение в России было разобщено с Исихастским Возрождением и лишь мало-помалу продвигалось к сближению с ним, к тому же избрав ошибочный путь для этого: как известно, русские философы стали активными сторонниками имяславия, которое сама Традиция никогда не признавала своим истинным, верным выражением. Но поздней все же наступил и такой этап, когда православная мысль, стоящая полностью на уровне современного богословского и философского знания, поставила в центр своей работы углубленное изучение и продумывание исихазма. Это важное продвижение – заслуга тех богословов русской эмиграции, которые не принадлежали к поколению дореволюционных деятелей Религиозно-Философского возрождения и, учтя их опыт, сумели преодолеть те особенности, что отделяли модернистскую и синкретическую культуру Серебряного Века от церковного русла.
Становление нового – и на сегодня последнего – этапа в православном изучении исихазма происходило постепенно, начиная с 30-х годов минувшего века. В качестве главных вех этого становления можно выделить три работы богословов русской диаспоры:
1) Иером. Василий (Кривошеин). Аскетическое и богословское учение св. Григория Паламы (1936);
2) В.Н.Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви (1944);
3) Прот. Иоанн Мейендорф. Введение в изучение св. Григория Паламы (1959).
К ним следует присоединить и первое издание главного труда самого святителя Григория Паламы, «Триады в защиту священнобезмолвствующих», выпущенное также Мейендорфом в 1959 г. В первой из названных работ раскрывалась неразрывная связь богословия Божественных энергий и всей богословской мысли Паламы с исихастским опытом и с целокупной аскетическою традицией Православия. Далее, книга Лосского выстраивала догматическую и историческую перспективу, в которой вся основная проблематика православного вероучения последовательно трактовалась на фундаменте богословия энергий и богословия Личности. Наконец, капитальная монография Мейендорфа представила не только блестящую богословско-философскую реконструкцию всего учения Паламы, но также и глубокую историческую реконструкцию его биографии и его эпохи, тем создавая базу для общей современной концепции исихазма и паламизма. К позициям, что были развиты в этих работах, тесно примыкали и проводившиеся в те же годы исследования по патристике, по истории и теологии православной культуры о. Георгия Флоровского. Здесь была выдвинута знаменитая концепция «неопатристического синтеза», раскрывающая православный принцип верности святоотеческому Преданию как принцип творчества, принцип постижения своего времени и его задач в свете святоотеческих установок. Формулируя общие эпистемологические принципы православной мысли, эта концепция давала одновременно возможность интегрировать новый нарождающийся этап этой мысли в единое и непрерывное русло живого Предания.
Исследования названного круга авторов вкупе составили весьма основательный комплекс, который стал фундаментом нового направления православной мысли. Развиваясь и разрастаясь, это направление постепенно сделалось общеправославным; больше того, выдвинутые им проблемы стали полем работы и многих представителей католического и протестантского богословия. Сегодня на Западе данное направление называют обычно «неопаламизмом» и «неопатристикой», однако эти названия, хотя и широко употребляемые, довольно неадекватны по существу. Здесь вовсе не предлагается никакого нового паламизма или тем паче новой патристики, не производится их редакции, ревизии, модификации… Здесь лишь осуществляется заново, в иных исторических и идейных условиях, на новом научном языке, трансляция исихастского опыта – мистико-аскетического опыта православной духовной традиции, аутентичного и самотождественного, независимо от эпохи. Позиция Православия не отрицает определенной новизны в этой трансляции, как она осуществляется новым направлением; но суть новизны – в другом. В итоге углубленного обращения к исихазму отчетливей и точней увиделись строение и сам облик православного вероучения и миросозерцания; и в основе их выявилось нерасторжимое тройственное единство:
где заключительный элемент может рассматриваться как связующее звено между двумя первыми.
Сегодня данное направление продолжает успешно развиваться. Плоды его составили уже большую литературу, куда, вслед за основоположным комплексом трудов русских авторов, входят, главным образом, работы греческих богословов, а также, в меньшем числе, богословов Румынии, югославских стран, Болгарии. Выразим надежду, что в ближайшем будущем здесь снова появится и вклад русского Православия: основанием к тому служит активно идущее в России, после краха атеистического режима, возрождение богословской науки.
В свете всех этих факторов, поистине заслуживает удивления, сколь ценный и значительный вклад внесла в изучение исихазма западная наука. Удивления и, конечно, благодарности. Целые длительные периоды знание исихазма на Западе было более основательным, чем в Православии, а научное издание источников вплоть до недавнего времени осуществлялось почти исключительно западными учеными. Первостепенное значение для научного познания православной аскезы имела деятельность болландистов, аббата Миня. Почти в любой теме, касающейся аскетической традиции, существует первичный научный фонд – публикации памятников, исторические, агиографические штудии и т.д. – частично, а то и целиком заложенный западной научной школой. Однако в той мере, в какой западные исследования не носили чисто публикаторского, исторического или нейтрально-описательного характера, а включали собственную богословскую позицию и оценку – принципиальные вероучительные и духовные расхождения, разумеется, налагали на них свою печать. В целом, исихазм как монашеское и аскетическое явление воспринимался на Западе с большей терпимостью; наиболее резкой, пристрастной критике, а часто и тотальному отрицанию подвергалось богословие Паламы, учение о нетварных Божественных энергиях. Один из важных примеров подобной критики доставляют обширные и авторитетные в католичестве исследования кардинала Мартина Жюжи в первой пол. 20 в. Причины негативного отношения очевидны и вполне весомы. Католическое вероучение покоится на томистской основе; но томизм, в свою очередь, покоясь на учении Аристотеля, взял у последнего его эссенциализм, примат сущностных, субстанциальных и нормативных начал, еще усилил этот примат и почти не воспринял аристотелевский энергетизм (как замечал Хайдеггер, в этом сыграли роль и языковые обстоятельства, замена греческой латинским actus). Поэтому ортодоксальный томизм действительно воплощает такое видение реальности, которое глубоко расходится с энергийным видением Православия, ярко выраженным в исихазме и богословски закрепляемом в паламизме. Что же до августинианского русла, отличного от томизма и всегда также влиятельного в католической мысли, то с ним у исихазма имелись издавна свои разногласия: как было упомянуто выше, в этом русле въявь отвергается концепция синергии. Поскольку же к данному руслу целиком примыкала мысль Лютера, то эти разногласия по преемственности перешли и в лютеранское богословие; и к прежним расхождениям православного энергетизма и синергизма с католичеством добавились расхождения с протестантством.
Описанные черты оставались определяющими в западной рецепции исихазма на протяжении весьма длительного периода; и соответственно, в течение всего этого периода исследования Традиции в Православии и инославии являли собой два глубоко разобщенных и нередко конфронтирующих русла. Однако новый этап православного изучения исихазма, начавшийся в середине 20 в., сумел достичь перелома также и в этом отношении. Зачинатели этого этапа были русские эмигранты, чья деятельность протекала на Западе, в окружении его научной среды; и это сыграло свою роль в улучшении взаимопонимания. Из названных выше трех основоположных текстов этапа, книги Лосского и Мейендорфа были написаны по-французски и использовали весь арсенал методов и понятий европейской науки. Обе они – в особенности, труд о. Иоанна Мейендорфа – получили громкий резонанс в западной научной и религиозной среде. Их освещение исихазма, а равно и смежных богословских и научных проблем признано было убедительным; и под их влиянием, западная рецепция начала постепенно изменяться. Многие давние предубеждения и предрассудки, многие искаженные представления и ошибочные мнения об исихазме наконец были устранены. Хотя принципиальные различия конфессиональных позиций не могли, разумеется, исчезнуть, однако сложилась ситуация плодотворного богословского диалога. Сохраняя необходимую осторожность, можно уже, однако, говорить о некоторой конвергенции в исследовательских позициях и рецепциях, о формировании, в известной мере, консенсуса во всем межконфессиональном научном сообществе. Круг проблем исихазма и богословия энергий, всех связанных с ними догматических вопросов стал общим полем творческой христианской мысли всех конфессий: стоит лишь указать, что за последние годы в эту работу внесли ценный вклад труды богословов лютеранской церкви Финляндии и церкви апостола Фомы на Малабарском берегу Индии.
В настоящее время исихастские штудии, вкупе с исследованиями богословия энергий, – одна из самых успешно и активно развивающихся проблемных областей для христианского умозрения. Крупных, признанных исследователей в этой области за последние десятилетия выдвинули все страны Православия и все христианские конфессии. Выделяя лишь главные и наиболее авторитетные имена, помимо уже упомянутых основоположников нового этапа, еп. Василия (Кривошеина), В.Н. Лосского, оо. Георгия Флоровского и Иоанна Мейендорфа, мы будем обязаны назвать россиян игумена Софрония (Сахарова), архим. Киприана (Керна), М. Лот-Бородину, Г.М. Прохорова, греческих богословов митроп. Иоанна Зезюласа и митроп. Иерофея Влахоса, П. Христу, Г. Манцаридиса, И. Романидеса, Хр. Яннараса, А.-Э. Тахиаоса, митроп. Амфилохия Радовича, митроп. Иринея Буловича, еп. Афанасия Евтича из Югославии, оо. Думитру Станилоаэ и Иоанникия Балана из Румынии, представителей западного Православия еп. Каллиста (Уэра) и О. Клемана. Аналогично, в сообществе инославных исследователей нельзя не назвать оо. Иринея Осэра, Фому Шпидлика, Герхарда Подскальского, Б. Шульце и Ф. фон Лилиенфельд, А. де Алле, Ж. Лизона, А. Риго. Многие из перечисленного ученого собрания здравствуют и продолжают трудиться ныне. Вопреки превратностям церковной политики, продолжает сохраняться и атмосфера открытого межконфессионального диалога и сотрудничества. Безусловно, важнейшим успехом в этой сфере является деятельность католической общины монастыря Бозе в Италии, установившей традицию ежегодных международных конференций по православной духовности и, в первую очередь, по исихастской традиции. Сегодня эта традиция насчитывает уже 13 встреч; труды их всех изданы и составили вкупе ценнейшую, представительную коллекцию современных исихастских штудий. Из намечаемых проектов стоит отметить специальный выпуск католического журнала «Символ», посвященный исихазму и подготавливаемый православными учеными.
Наряду с продолжающейся разработкой традиционных тем, таких как древнее монашество и анахоретство, исихазм и гуманизм и проч., в настоящий период в исихастских исследованиях назревает и очередное обновление проблематики. Можно заметить закономерность: с течением времени, ведущие и преобладающие темы постепенно перемещаются от древности к современности. Если до нового этапа в центре исследовательского внимания находился преимущественно период древнего монашества, проблемы, связанные с творениями Евагрия, Макария/Симеона, Симеона Нового Богослова, то новый этап, как мы видели, сконцентрировал почти все усилия на эпохе Исихастских споров и Исихастского Возрождения 14 в. Теперь же явственно обозначается преобладающий интерес к позднейшим этапам исихастской традиции и прежде всего, к феномену Филокалического Возрождения, к деятельности преподобных Никодима Святогорца и Паисия Величковского. Здесь возникает целый ряд новых интересных проблем, поскольку Филокалическое Возрождение как культурный феномен обладает крайне своеобразной природой: оно росло снизу, из народной религиозности, чуждаясь вестернизованной культуры просвещенных слоев – но в то же время, само требовало большой и разнообразной филологической работы и развивало тонкую книжную культуру. Его органическим продолжением служит новогреческий исихазм 20 в. – явление, включающее немало значительных фигур, новых учителей Традиции, и убедительно доказывающее, что великая традиция жива и жизнеспособна до сего дня. Этот сегодняшний исихазм также ждет еще своего изучения.
Еще более значительный сдвиг проблематики связан с общим антропологическим поворотом, который сейчас совершается во всей сфере гуманитарной мысли. Уже Мейендорф писал, что в православном богословии должно с неизбежностью происходить более активное обращение к антропологической проблематике и процесс переосмысления многих традиционных богословских проблем как проблем антропологических (так наз. «антропологизация богословия»). Это замечание о. Иоанна, сделанное еще в 70-х гг., оказалось верным и проницательным. В полном согласии с ним, в сфере исихастских штудий наблюдается определенная переориентация к изучению антропологии исихазма. Все более широкий, активный интерес привлекают психологические аспекты исихастской аскезы: накопленный Традицией богатый фонд опытных фактов и наблюдений, связанных с деятельностью сознания, психической и эмоциональной сферы, фонд методов и приемов работы с сознанием человека, сопоставляется и вводится в творческое взаимодействие с современной научной психологией и психотерапией. Аналогичный процесс начинается и по отношению к соматике исихастского подвига. На более общем, систематическом уровне попытка цельной реконструкции антропологии исихазма предпринята мною в книге «К феноменологии аскезы» Однако логика антропологизации ведет и дальше. Принципы и понятия аскетической антропологии обнаруживают большую общность, большой эвристический потенциал; и на их основе оказываются возможны научные обобщения, ведущие в перспективе к цельной антропологической модели. Созданием такой модели на базе антропологических интуиций исихазма занимается новое современное направление, получившее название синергийной антропологии.
И наконец, помимо всех отдельных проблем, перед православными исследователями исихазма всегда остается общее задание, которое сформулировал впервые о. Иоанн Мейендорф в своей знаменитой книге. В ее заключении он писал: «Мы обнаруживаем в общем объеме мысли Григория Паламы конструктивный ответ на вызов, брошенный христианству Новым временем». Как явствует из этих слов, перед исследователями наследия Паламы, исследователями исихазма встает задача: реально предъявить этот конструктивный ответ, конкретно и убедительно раскрыв его. И это, в конечном счете, – главная задача, которая сегодня стоит перед православными исследователями древней и великой исихастской традиции.
Добрый день! Я очень рад говорить о Джойсе в столь обширной аудитории. Хотя это обстоятельство будит у меня и сомнения — Джойс автор не площадной, автор для индивидуального пользования и камерного восприятия. Воспринимать его в массово-коллективном порядке довольно трудно. Тем не менее попытаемся.
Что ж это за задание, из которого перед нами выступает Джойс вообще, Джойс в целом? Как ни странно, все горы написанной о Джойсе литературы почти не задаются таким вопросом, и мои рассуждения об этом будут на добрую долю импровизацией. Я подумал о краткой формуле, которая обняла бы все это джойсовское задание — задание, что он стремился выполнить не только в “Улиссе”, но и в том, что предшествовало этому великому роману, и в том, что последовало за ним. И мне показалось, что мы можем не мудрствуя лукаво найти у самого Джойса такую формулу, которая возникла у него на самых ранних этапах, задолго до “Улисса”, и впоследствии пребывала с ним до конца как его постоянное задание.
1.
Мне показалось, что именно такой формулой для Джойса может служить название одного очень раннего этюда, который он написал, — “Портрет художника.” Присутствующие, должно быть, слышали про ранний роман Джойса, который предшествует “Улиссу” — “Портрет художника в юности.” Но еще прежде этого романа Джойс написал несколько страничек, которые носили название “Портрет художника.” Как я попытаюсь показать, этот этюд, вместе с его названием, и задали Джойсу, по существу, всю его программу на будущее. Формула, как часто в жизни бывает, явилась счастливою случайностью. Джойс даже не сам придумал ее. У него был трудный период писательского становления. Сначала он написал удачливо, с разгону, несколько первых прозаических вещей, еще не очень задумываясь, чем и как он желает быть как самостоятельный, никого не повторяющий автор. Но затем уяснилось, что задачи самостоятельного творчества никуда не ушли — после этих удачных опытов прозы, заслуживших в Дублине похвалы, еще все-таки предстоит себя найти. Последовали трудные поиски — он не знал ни как писать, ни о чем писать. И потому обратился к младшему брату Станиславу, постоянному литературному собеседнику — де, брат, не знаю о чем писать и как писать. Дай мне какие-нибудь темы. Какие закажешь, на те я и буду сочинять. — И тот ему дал несколько тем, как задают темы школьного сочинения. Одним из заглавий в этом списке Станни стояло — “Портрет художника.” Джойс выбрал из всех вариантов брата именно этот, и написал залпом за один день, 7 января 1904 года, около десятка страниц. Получился странный, смутно написанный текст, в котором и были заключены все ключи Джойса, каким мы его знаем, Джойса — классика нашего столетия. Как постепенно выступало в ходе творческой жизни классика, предложенная его братом формула была очень емкой. Она уже несла в себе все узлы, все нити, которые потом Джойс будет распутывать всю жизнь.
Итак, портрет. Произведение искусства. Речь, совершенно ясным образом, идет о создании некоторой художественной формы, формы художественного предмета. Ставится эстетическая задача написания портрета.
Портрет — жанр, всецело связанный с человеком, обращенный к человеку и своим содержанием и назначением. В нем, в его исполнении, встречаются, сопрягаются между собой художественные, эстетические проблемы и проблемы человека, проблемы личности. Портрет обращен к личности. Он необязательно в плоской, фигуративной манере изображает некую-то конкретную личность, но в любом случае, по самому жанру он связан с задачами или загадками личности. Что значит представить личность как художественный предмет, как предмет портретируемый? Занимаясь портретом, необходимо, во-первых, выбрать определенные структуры художественного предмета, художественной формы; во-вторых же, надо учесть что в качестве предмета избирается человек, личность. И, стало быть, исполнить портрет означает найти и формы личности, формы антропологические: найти, в чем, как оформляется, выражается, конституируется личность. Этот другой вид формы тоже входит в задачу “портрета”. И, наконец, речь у нас идет о портрете художника. Что-то привносится и этим — что?
2.
Итак, заявка, десяток темных страничек...
В них, как это часто с Джойсом бывало, заключена своя, отчасти юмористическая, отчасти глубокая творческая история. Написав этот десятистраничный этюд, Джойс принес его в литературный журнал весьма передовых, модернистских позиций, который издавался его дублинскими знакомыми, и вручил текст редактору. Уильям Маги, редактор опытный, один из крупнейших деятелей ирландского литературного движения той поры, человек по ирландским (да и по общеевропейским) меркам сам достаточно глубокий и нетривиальный (писал он под псевдонимом Джон Эглинтон и, под этим именем стал потом одним из героев “Улисса” — Джойс весьма издевательски вывел его в ряде эпизодов...), прочел полученный текст и сказал, что он ровно ничего не понимает. И как редактор, чувствующий ответственность перед читателем, попросту не имеет права поместить в своем журнале текст, в котором ничего не может понять. Джойс выслушал это суждение, и, ни единого слова не промолвив, вынул из рук редактора свои странички — сунул их в карман — удалился. В дальнейшем текст этот не печатался и увидел свет только после смерти Джойса.
Очень характерная история — характерная для той меры понимания, которую Джойс встречал на протяжении всей жизни. Уже здесь скрыто многое, в этих десяти страничках, действительно, написанных в своем роде не менее темно, чем финальный джойсовский текст, знаменитые “Поминки по Финнегану”. Здесь еще множество юношеской претенциозности, темноты нарочитой, для которой серьезных оснований у молодого автора пока не было. Многие неясности и темноты оправдываются лишь в свете всего того, что Джойс сумел написать вслед за этим, позже. Тогда же, в начале, любой редактор вполне мог счесть это всего лишь непомерной претензией юнца, метящего в гении. И однако, задним числом мы видим, что в этих юношеских страничках уже была выражена та задача, которую выше я сформулировал на более современном языке. Какими-то обрывочными, темными фразами здесь утверждается и высказывается именно это, что задача творчества – дать портрет художника, который понимать надо как портрет деятельности, находящей и устанавливающей идентичность структур человека и структур идеальных, структур художества.
Личности присуще, прежде всего, качество уникальности. Все мы себя осознаем явившимися однажды и в сугубо единственном экземпляре. Мы ощущаем свою человеческую единственность. Это относится к самому существу Личности. И, стало быть, задача портрета — это уловить: ухватить и передать элемент личной единственности каждого портретируемого. В чем, где эта тайная уникальность, как она раскрывается ?
Первая интуиция Джойса заключалась в открытии неких эстетических форм, в которые мы должны все это перевести. Путь к уникальности кроется в явлении ритма. Джойс был очень музыкальный человек, он жил в аудиостихии. Поэтому для него портрет лишь по названию, по внешнему словарю нечто из визуального ряда. В действительности он, в первую очередь, имел в виду ряд звуковой, ряд аудиовосприятия; хотя, как говорят современная психология и современная антропология все эти модальности или системы репрезентации взаимнопереводимы, и потому вполне допустимо говорить о портрете в аудио-терминах, как и наоборот. Джойсу, в частности, было всегда удобно говорить о портрете в музыкальных терминах. Там есть темы, мотивы, ритмы. И вот в ритмах можно найти, можно уловить эту уникальность: какой-то особый, индивидуирующий ритм, некий изгиб линии. Джойс опирался здесь на идеи классической английской эстетики эпохи Хогарта и Шекспира, когда возникло специальное учение о линии красоты. Джойс взял это учение и дополнил его представлением о линии красоты, как о линии уникальности. Должен быть найден уникальный изгиб линии — и он, будучи взят и понят как парадигма, как архетип, как то, что по-английски называется pattern, структурная единица, — некоторым образом из себя породит уникальную личность. Главная задача — найти, уловить этот уникальный изгиб, уникальный ритм. Он-то и будет нужным индивидуирующим началом.
Вот такую задачу поставил уже этот небольшой темный текст Джойса-юноши. И дальше очень цепко, очень неотступно Джойс начал исполнять это задание. Первый его роман как раз и был весьма прямолинейной попыткой подобного исполнения. Хотя текст наброска остался неопубликован, никто не знал, что поставлено такое задание (а кто и прочел, едва ли вычитал бы там его), тем не менее, для себя Джойс знал, что задание таково. И первый его роман был ничем иным как поиском этого индивидуирующего ритма, некоторого индивидуального изгиба, который, по джойсовской идее, существует в каждом из нас, в каждой личности. Каким-то образом он должен быть найден, уловлен художником и вытащен наружу в акте художественного выражения, претворен в художественную форму.
3.
Итак, “Портрет художника в юности”, первый роман Джойса, есть одновременно и первое практическое исполнение поставленного задания. (Элементы этого можно найти и в пассажах “Дублинцев”, но их мы сегодня оставим в стороне). Здесь Джойс реально предъявил нам нечто в качестве индивидуального, индивидуирующего изгиба или ритма, который и заключает в себе уникальность личности, избранной для портретирования. То бишь, в данном случае — личности его самого как юного, становящегося художника. Что ж это за изгиб?
Вероятно, многие из вас читали этот ранний роман. В отличие от дальнейших работ, это достаточно легкий текст. Нам он смотрится обыкновенным романом ХIХ века. На вид там нет ничего особенно трудного или особенно глубокого; это то, что называется романом воспитания, романом становления молодого человека. Такой не слишком модернистский писатель как Максим Горький основывал длинную литературную серию под названием “История молодого человека девятнадцатого столетия”. На общий взгляд, роман Джойса вполне ложится в эту простенькую трактовку европейской классики ХIХ века. Однако для автора (а следом за ним и для нас) видно, что в этом с виду обычном романе воспитания скрыто нечто другое: исполнение совершенно индивидуального джойсовского задания — найти и передать в эстетической форме уникальный изгиб личности художника. И когда мы уже знаем, как это читать, мы видим, что этот изгиб там действительно предъявлен. Хотя ничего особо таинственного, интересного, все оказывается довольно просто. Изгиб оказывается выражен в духовном переломе изображенного в данном романе художника. Его уникальным изгибом оказывается испытанная и описываемая в романе духовная катастрофа, (кризис, перелом, катарсис... – в точности сейчас нет нужды) в результате которой он из пылкого, истово верующего католика становится столь же пылким художником. Индивидуализирующий изгиб таится в этом переломе – перерождении, имплицирующем трансформацию религиозного субстрата личности в субстрат эстетический. И этот изгиб продемонстрирован явно и наглядно.
Продемонстрирован уже в оглавлении романа. Роман очень просто устроен — пять глав, выстроенных сюжетно, следующих друг за другом по временному порядку. Но если знать все, что за этим стоит, выясняется, что в этой элементарной структуре уже и заложен пресловутый уникальный изгиб. Как построен “Портрет художника в юности”? Вначале идет экспозиция: в двух главах доставляется исходный материал личности. Затем, в главе третьей, эта личность художника представляется как личность религиозная. Потом следует глава четвертая, в которой происходит крах, крушение, перелом: совершающийся момент истины. И в пятой главе перед нами уже происшедшая трансформация в ее итогах — перед нами личность религиозная, претворенная в личность художественную. Очевидно, что все описанное рисует именно некую специфическую жизненную линию в ее критическом повороте, изгибе; и в нем-то Джойсу виделась тайна личности. Таким и бывает индивидуирующий ритм, и в данном случае, это ритм трансформации из религиозной стихии в эстетическую. У Джойса все это очень конкретно и очень богато расписано, так что художник(хотя и в юности) вполне убедительно демонстрирует нам: религиозный мир можно идентичным образом, практически без утрат, перевести в мир художника, в мир эстетический. При этом догматические положения христианства становятся основоположениями эстетики. В главе третьей юному воспитаннику иезуитских учебных заведений читаются проповеди с изложением католической веры, он размышляет над этими сюжетами. А в главе пятой все эти же структуры уже предстают перед нами как эстетические. То, что было религия, стало искусство.
Это и было конкретным примером уникального изгиба, который поймал Джойс. Задание, казалось бы, было выполнено. Но оно его не удовлетворило.
4.
Почему Джойса не устроило, казалось бы, вполне исполненное творческое задание? А по массе причин оно его не устроило.
Опыт “художника в юности” должен был продолжаться. Как мы знаем, в “Улиссе” по-прежнему фигурирует юный художник. Так было по исходному замыслу. Однако этот материал, связанный с героем-художником (которому автор дал имя “Стивен Дедал”, нагруженное многими смыслами), Джойс заведомо не считал исчерпывающим. Он считал, что это продолжающаяся тема, что она еще за ним, и она действительно продолжалась. Но его новый опыт был опытом другого рода. Его нельзя было реализовать в этой же линии — линии Стивена Дедала. Поэтому портрет начал расщепляться.
Сначала это был самый простейший род расщепления, как в лингвистике выражаются, расщепление в диахронии: на художника-в-юности, того же, прежнего Стивена Дедала и на художника-в-зрелые- годы, каковым Джойс стал. Возникает расщепление на двух главных героев, Стивена и Блума. И портрет теперь следует исполнять как-то совсем иначе, уже в силу этого парного расщепления. Что это за портрет? Где должен быть тот уникальный изгиб личности, в чьей личности — личностей стало две...
Однако задача “портрета” оставалась, и расщепленность служила для нее лишь внешней помехой. В действительности, для Джойса речь шла все о том же выполнении портрета художника, и оба героя в совокупности должны были составить один портрет. Но как теперь продвигаться к такому портрету? Где здесь личность ? Как находить ее уникальный изгиб? У Джойса начались поиски. Старый рецепт гласил: “смотри в одну личность — конкретно же, в личность собственную, в свой опыт — и улови, где лежит печать глубинного, индивидуального, в чем говорит специфика личности, ее пути и судьбы.” Он осуществился в “Портрете”, но больше уже не проходил, ввиду простейшего расщепления в диахронии — расщепления на юного героя и зрелого героя, которые в совокупности, все-таки, составляли одно лицо. Одного художника. Было непонятным, что такое расщепленный портрет. И неизбежно начались поиски иного способа исполнения, который мог бы выразить эту расщепленность.
Джойс начал поиски в сфере языка, в сфере слова, стиля. Достаточно быстро ему стало ясно, что сам факт расщепленности, требует не одного стиля, но стилистических испытаний, требует разного письма. Есть письмо Стивена и есть письмо Блума. Но и Стивен и Блум — это один художник, и портрет — один. Поэтому игра единства и множества, развертывающаяся на протяжении всего “Улисса”, принадлежит к самой сути вещи. Она выполняется в серии самых разнообразных экспериментов с письмом, стилем, структурами художественной формы, и она есть для Джойса далеко не игра, а тяжелый и напряженный поиск: как дать портрет расщепленной личности художника. Если продолжить эту терминологию, должна быть другая фактура. Фактура литературного портрета это фактура письма. Джойсу стало ясно, что требуется совсем иное письмо. Решение это складывается и начинает воплощаться в середине романа, “Улисс” — это роман великого перехода, когда в конце мы оказываемся совершенно не с тем, с чем начинали — с другими идеями, другим художественным миром, стилем, другим настроением... Созревшее решение говорит, что портрет расщепленного, по необходимости расщепляющегося, художника, можно писать только в фактуре сменяющегося письма. Должны быть разные голоса. Расщепленный художник, как мы привыкли выражаться сегодня, уже художник не монологический. В исполнении расщепленного литературного портрета с необходимостью возникает элемент полифоничности, многоголосия, элемент, по Бахтину, разных речевых жанров, которые каким-то образом взаимодействуют, сплетаются друг с другом, переговариваются, перекликаются.
Очень рано об этом сказал молодой друг, который появился у Джойса, впоследствии сам знаменитый писатель, Сэмюэл Беккет. Он заметил, что текст Джойса не следует читать в обычном, привычном для нас смысле, текст этот для того, чтобы смотреть и слушать. И это был очень точно сформулированный рецепт. Нужно зорко смотреть в текст и находить, как идут в нем эти разные стилистические и речевые голоса, из которых складывается новый вид портрета. И нужно чутко вслушиваться в слова, улавливая как трансформируется слово, как изменяется синтаксис. Нужно смотреть, как в сознании мелькают и переходят одна в другую мотивы и ассоциации, смысловые нити. Специально для этой цели нужно развивать технику пристального слежения за текстом. Это и означает “смотреть и слушать”. С таким тщанием, такой пристальностью, каких совершенно не требовал классический роман — в том числе и предыдущий роман Джойса.
5.
Портрет оказывается расщепляем самыми разными способами. Однажды начавшись, процесс оказывается цепным и неотвратимым. По нашим выводам, фактура портрета оказывается тем, что, сливая язык зрительный и звуковой, можно назвать вязью, плетением дискурсов, способов речи. Это и есть адекватный взгляд: текст “Улисса” — что это такое ? Это вязь, это ковровое плетение речевых нитей.
И отсюда естественно вернуться к другому сплетению. Как с самого начала мы говорили, замысел портрета художника есть замысел не чисто художественный: то, что он замышляет, есть вновь сплетение — или сращение, сочетание — двух видов структур и форм. Конечно, работа происходит в сфере искусства, его форм и структур; но в то же время, предмет внимания здесь всегда человек — формы, структуры его естества или его существования; и еще непременно — некоторый акт, что связывает первые и вторые, претворяет вторые в первые. То, что в культуре и для нее существует в качестве двух достаточно далеких и раздельных областей — с одной стороны, психология и опыт сознания человека, и, с другой стороны, художественная деятельность и художественный предмет, сфера искусства, — для Джойса существовало в кровной и неразрывной слитности, в связке, которую и осуществляет художник. Художник и есть сама эта деятельная и воплощенная связь; художественный акт есть акт творящий изоморфизм двух видов структур — структур человека и структур художества. Опыт Джойса революционен и новооткрывающ равно для той и для другой сферы — конечно, для искусства как такового (это обычно и подчеркивают), но в той же мере и для представлений о человеке. Будь то научные представления (ученые могли бы немало почерпнуть у него), или будь то представления личные, которые каждый как читатель может извлечь для углубления своего мировосприятия и своего собственного опыта себя. Об этой психологической и антропологической стороне, о том как Джойс расширяет наш опыт, мне бы хотелось поговорить подробнее.
6.
Джойс, как мы знаем, был полуслеп. Когда он говорит о картинах, это для него фигурально-абстрактный язык, картин он особенно не смотрел. Он жил в слуховой стихии. И настоящие ключи для расшифровки джойсовского письма — всегда через слушанье. Смотреть, впрочем, надо тоже, подключается все. Хотя Джойс и слеп, но смотреть на его текст надо необычайно зоркими глазами. Однако наибольшее число ключей к пониманию идет через слуховое восприятие. Текст Джойса обязательно проговаривать вслух. К сожалению, это относится почти исключительно к тексту оригинала. Сохранить такую же насыщенность именно слухового измерения текста в переводе — друзья мои, тут я должен, увы, развести руками — это практически невозможно. Проговаривать вслух мой текст — пользы гораздо меньше (хотя и тут она есть). Я бы вам, для кого Джойс более или менее не мимолетное занятие, все-таки советовал проговаривать вслух английские его страницы. Это очень поучительно. Даже не только “Улисса”, но и самый последний, почти уже невозможный для понимания роман “Поминки по Финнегану.” О нем Джойс очень серьезно уверял: нужно только несколько раз прочесть громко вслух каждое место — и непременно поймешь. Ну, понять все равно не поймешь, но сколько-то и что-то поймешь, во что-то включишься. Ты увидишь, что слуховая стихия в самом деле содержательна. В каких-то случаях, иногда, действительно достигнешь даже и понимания; и во всех случаях честное усилие что-то даст. Именно слуховая стихия. Филологи должны быть отчасти и лингвистами, потому что здесь уже разговор о языке. Ключевая наука в современной лингвистике, с которой начался весь современный этап языкознания, это фонология, наука о звукообразе, звуковом образе слова: ключи к языку – в его звучании, и главные структуры языка мы должны уметь улавливать именно слухом. И именно так Джойс работает со словом и с языком. Он был необычайно музыкален. Слух его был обострен и тонок, скажем прямо, аномально. Он слышал в слове столько обертонов, отсылов, отзвуков, сходств, ревербераций, реминисценций... — такое звуковое содержание, которое нам почти недоступно. Это одна из крупных чисто технических причин непонятности Джойса. Ему-то казалось, что стоит только произнести какое-нибудь его словцо — и конечно же, ты услышишь в нем то и это и еще многое. И он, в отличие от нас, действительно всё это слышал. Но здесь нет дихотомии — либо слышишь, либо не слышишь, нет априорного барьера. Попросту можно и нужно себя воспитывать. Это и есть культура. И культура ХХ века говорит, что воспитывать себя нужно не по линии “идейного содержания”, но по линии всех измерений естества и сознания, которые нам даны в дорогу, измерений нашего личностного мира. А в числе этих измерений, прежде всего, — пять модальностей восприятия, пять наших систем репрезентации. Человек должен уметь культивировать их. Я немного впустую эти гимны говорю, потому что современное молодое поколение и так гораздо больше и обостреннее живет в аудиостихии, нежели люди предыдущих поколений. Это происходит за счет важных и обедняющих утрат другого содержания культуры; но то, что важен тренинг восприятия, и, в частности, гораздо важней, чем это считалось раньше, аудио-восприятие — этого я могу уже не доказывать, это просто практика сегодняшней молодежи.
В культуре ХХ века Джойс был одним из тех, кто не только указывал важность обострения и расширения восприятий, но и действенно подводил, учил, толкал к ним. И “Улисс” — текст, который автором наделен такою функцией и способностью тренинга восприятий.
Разговор о Джойсе это всегда переходы — поговорил сколько-то об эстетических структурах, пора оглянуться и понять — это у Джойса непременно значит нечто о человеке. Поговорил сколько-то о человеке у Джойса, оглянись опять — ты обязательно сказал нечто и об искусстве, эстетике. И именно потому наша тема “портрет художника” лучше всего выражает Джойса, что в ней нераздельно спаяно и то, и другое. Каким же в итоге получался портрет художника? Если роман должен был показать, остается ли верным предшествующее решение, возникает ли в новой ситуации портрет на основе некоторого уникального изгиба личности, ее индивидуирующего ритма? Если все расщепляется, роман пишется разным письмом и есть лишь вязь разноречащих, но равноправных голосов-дискурсов — останется ли это индивидуирующее начало? Останется ли ключом к портрету то же самое — уникальность личности, схваченная и выраженная в неком структурном праэлементе?
“Улисс” — роман-испытание, роман-поиск: прежнее решение поставлено под вопрос. Притом важно, что в ранних эпизодах Джойс еще не сомневался в этом решении; и подвопросность, открытость назревают и появляются как еще одно расщепление, расщепление сознания самого художника — исполнителя портрета. К середине романа (хотя он и имел твердый план) уже сам автор не знает что он пишет, как напишется, как он исполнит свое задание. Задание предстает обоюдным, художник изменяется (исполняется) сам — в ходе исполнения портрета — и, в известном смысле, оказывается исполняем им.
Сквозь “Улисса” проходит, варьируясь и повторяясь, одна из формул античной мысли, обоюдная формула — действовать и претерпевать: самому действовать, но и оказываться предметом воздействия. Из этого состоит человеческое действо самореализации: мы должны побывать в обеих ролях; мы должны быть действующими, но равно и должны быть претерпевающими. Так вот, это и происходит в “Улиссе.” Автор здесь и действующий и претерпевающий.
В девятом эпизоде, “Сцилла и Харибда”, Стивен подстегивает себя, произнося в уме аристотелев, а позднее воспринятый Фомой Аквинским, девиз “действуй и испытывай воздействие”, не забывай ни того, ни другого. Именно в такой полновесной человеческой роли и оказывается здесь автор — художник, художник, что пишет портрет художника, автор “Улисса.” Он испытует реальность и оказывается испытуем ею. Что ж получается ?
Получается неутешительный вывод. Где-то во второй части романа — трудно сказать, где совершается это преломление, в точности мы не увидим этого момента — совершается перелом: когда мы находимся уже ближе к концу романа, мы определенно знаем, что решение свершилось — решение о портрете, о человеке, об искусстве. И это решение негативное. Прежняя интуиция не подтвердилась. Портрет не написать так, как Джойс думал его написать. Чаемого индивидуального изгиба не обнаруживается.
И нам сегодня, в свете всего опыта культуры ХХ века, согласиться с таким выводом легче легкого. Мы сразу кивнем, что так оно и гораздо естественней. Почему это нужно считать ритм несущим, заключающим в себе человеческую уникальность? Каким образом он может в себе заключать индивидуальность? На ритм сегодня мы смотрим совершенно иным образом — ритмы не индивидуирующее начало в реальности, но обезличивающее. Они несут в себе что-то всеобщее. В сегодняшних компьютерах есть элементарная программка — “биоритмы”, имеющая очень мало вариаций. Включишь ее, и можно посмотреть свои биоритмы. Какая в этом индивидуальность, где она? Ее нет. Ритмом ее не уловишь. Ритмы это начало универсализующее, не откроют они тайны уникальности. Сейчас нам это сказать очень просто, и мой пример кажется весьма плоским, лишним: чего в открытые ворота ломиться? Но, тем не менее, этот вывод и есть один из главных в “Улиссе” — таким путем, а, стало быть, и никаким иным тайны личности не раскрыть, иного же пути не дано (ибо мы ничего из личностного содержания не упустили, не оставили в стороне) — и, стало быть, позитивного решения просто нет. Личности нет здесь, и ее нет нигде. Человека нет. Это есть вывод в пользу антиантропологической антропологии и эстетики. В пользу модели разложения, которая все последние десятилетия доминирует в культуре.
Равным образом, и в художественной теории и практике, и в проблемах антропологии, мы развиваем и эксплуатируем негативные сценарии. Те, кто читали Мишеля Фуко, одного из крупнейших французских философов последних десятилетий, знают: там у него отчетливо изложено многое из того, что я излагаю вам на примере Джойса. Ибо в крупном у них (и далеко не только у них) речь об одном и том же: в своем опыте, в своем поиске искусство и культура ХХ века (так получается — нарочно этого никто не хотел) с известной необходимостью приходят к антиантропологическому сценарию. Мы приходим к моделям разложения. Именно это и реализуется в ходе “Улисса.” Можно добавить, что это своеобразно отражается в культурном процессе. Последние десятилетия европейской культуры носят нетворческий, откровенно эпигонский характер. Ничего кардинально нового не добавляется ни в искусстве, ни в науке (если не говорить о естествознании), зато большие идеи и открытия, что были сделаны прежде, измельчаются и тривиализуются. Природа человека сборна, и искусство должно представлять не цельный, как думалось ранее, образ человека, но должно давать дробную и разложенную действительность человека и мира – действительность, рассыпающуюся на множество абсолютно равноценных и равноправных аспектов, лишенную всякого единящего, центрирующего стержня и нерва. Для многих работающих в современной культуре этот вывод прозвучал индульгенцией. В рассыпающейся действительности легче работать ленивому и бездарному. В прежней модели требовалась гораздо большая доля честного труда, профессионализма, протирания штанов; нагляднее были критерии, выше планки. Сегодня можно создавать себе имя и место в культуре с гораздо более слабыми данными и с меньшим трудом. Грань между оригинальным вкладом и комбинированием уже сделанного другими никогда не была стерта до такой степени.
7.
Вывод тривиализовался. Но давайте взглянем свежими глазами — каково было тем, кто впервые это на своей шкуре открывал. Опыт отсутствующей, расползающейся природы человека Джойс открыл в процессе писания своего романа, совершенно этого не желая. И это был страшный опыт — в подлинном смысле слова, без риторического нажима. Это был опыт люциферический и трагический. В более объективных терминах, это то, что в философии называется предельным опытом. Чтобы открыть, что человека нет, требуется дойти до границ, до предела человека. И только тогда ты сможешь честно сказать: да, действительно нет. Потому что я дошел до предела человеческого опыта, и это то, что я могу сказать дойдя до предела. А не дойдя до предела, я бы не имел права сказать этого.
В процессе исполнения “Улисса” опыт художника самоопределяется к тому, чтобы стать предельным опытом — и становится таковым. Вслед за тем, став предельным, опыт самоопределяется к тому, чтобы оказаться опытом с негативным исходом. В предпоследнем эпизоде романа совершается разложение человека: человек обобщается, универсализуется и оказывается сборной конструкцией из кирпичиков. Это и есть та антропологическая реальность, к которой предельный опыт приводит как художника, автора, так и его читателя. То, что я говорил о тренинге восприятия, прямо относится к теме предельности. Мы входим, внедряемся в текст, в художественную реальность, на предельных способностях нашей перцепции — видео, аудио... Тактильная, вкусовая составляющие тоже причастны. Испытываются чувства, от них требуется предельное напряжение, чтобы воспринять в осмысленной полноте, всю темноту, всю вязкость и плотность плетения речевой фактуры, осуществить различение и идентификацию голосов-дискурсов. И когда мы в входим в эту дискурсивную вязь, идентифицируя все ее элементы, то на месте человека, на месте портрета, и обнаруживаем сборную конструкцию.
На протяжении романа можно детально проследить как в разных своих аспектах опыт приближается к предельности. Что такое предел письма? Он соответствует приближению к деконструкции сознания, когда опыт начинает граничить с опытом безумия. В “Улиссе” можно найти элементы этого. Предел языка и речи — когда язык разлагается и распадается, фраза уходит в бессвязность, слово уходит в распад, смешение и наложение слов из разных словарей, регистров, разных тональностей и стилей речи. Это — опыт разрушения логических, лингвистических структур и связей. И до этой предельности, как мы знаем, “Улисс” доходит тоже. Путь честно пройден до предела, и на пределе обнаружено — природа человека, портрет человека оказываются опытом разложения.
Но что такое разложение – чистая разложенность, множественность ? Знающие философию немедленно скажут, что чистая множественность есть не что иное, как ничто. Множественность, лишенная элемента цельности и единства, небытийна. В число признаков бытийствующего (присутствующего, являющегося, наличествующего) с непременностью входит элемент (предикат, как говорят философы) единства и цельности. Если этого нет, то нет реальности, нет бытийствования; и художественная ткань романа — это ткань ухода в ничто, во тьму.
Язык тьмы и света — еще один адекватный язык для бытия и небытия. Тема тьмы — одна из сквозных тем “Улисса”, которая проходит в романе, неуклонно нарастая и достигая полного господства — близясь к завершению, роман полностью уходит во тьму. В буквальную ночь, в фигуральную ночь, в несвязное бормотание. Все это и составляет негативное художественное решение. Опыт о человеке привел именно к такому исходу.
8.
Отсюда вытекает одна из самых характернейших особенностей джойсовского письма, которую специалисты по Джойсу называют иногда “стратегией ускользания.” Джойс ничего не утверждает окончательно. И, в том числе, самого себя. Нет никаких заветных тезисов, которые он бы пропагандировал и на которых настаивал безоговорочно. Он по внешности выдвигает тезисы, делаются определенные позитивные утверждения, защищаются идеи, принципы... Но если внимательнее вглядеться — тот же самый Джойс, в том же тексте их немедленно отменяет, подрывает, разрушает. Нет такой идеи или такой техники, которые только утверждались бы, но не подрывались. Явно или завуалировано Джойс всегда ставит под сомнение любое из собственных решений, любую из собственных позиций; вводит элементы, противоположные им, идущие вразрез с ними. Это напрямик соответствует ситуации перманентно-длящегося, подвешенного выбора; соответствует видению образа человеческого бытия как онтологического раздвоения, бифуркации. Мы ни на чем не можем остановиться. Мы ничего не можем утверждать, одновременно не отменяя и не подрывая. Это и есть стратегия ускользания Джойса. Чтобы не оставаться голословным, рассмотрим один пример.
Понятно (и много раз отмечалось), что джойсовы методики разложения, джойсово представление реальности человека и мира как набора — по его словам — “космических, физических и психических эквивалентов” обнаруживают явную близость к структурализму, к структуралистским моделям. Именно эти модели разлагают человека и его мир на кирпичики-первоэлементы, фундаментальные бинарные оппозиции... Именно в них антиантропологическая стратегия — человека как первичной цельности и единства, будь то исходного или финального, телеологического, здесь нет. Казалось бы, Джойса действительно можно видеть как предшественника структуралистов, который выдвинул структуралистскую модель человека задолго до научного структурализма, последовательно развил ее и провел. В своем роде, первый ортодоксальный структуралист. Так вот, сделать подобный вывод все же нельзя. Элементы структуралистской модели у Джойса есть, он сам видел их, сознательно их вводил — “Итака”, скажем, совершенно определенно структуралистский эпизод. Но тот же Джойс, непременно и неуклонно, ту же модель и подрывал и разрушал. Далеко не сразу мои коллеги, специалисты по Джойсу, разобрались, что не утверждает он структурализма. Он в той же мере и разрушает его. Чем он его разрушает ?
— Другой техникой, которая в современном искусстве также вполне известна: разрушает он его “сериальной стратегией,” которая отнюдь не то же, что структуралистская. Те из вас, кто знаком с современной музыкой, знают, что есть такой род музыкальных текстов, который строится особым, своеобразным путем из серий. Это тоже разложение на какие-то элементы и блоки, но это разложение не структуралистское, а идущее много дальше. Структурализм разлагает на значимые элементы, его типичные бинарные оппозиции — чет/нечет, небо/земля, смерть/жизнь.... Элементы этих оппозиций — элементы с самым насыщенным смысловым содержанием: это первоэлементы смысла, начала, сущности. То, что для античного миросозерцания было стихиями. В этом плане, структурализм вполне следует в общей линии европейской мысли, привыкшей сводить все к стихиям, или к атомам, или к началам... Что значит структуралистское разложение ? Это значит, что мы из какой-то системы фундаментальных знаков, смыслов черпаем первоэлементы, базовые знаки, и по этим знакам разлагаем реальность — человека, произведение искусства, что угодно.
Сериальное искусство никакой знаковой системы знать не желает. Ее нету. Берется совершенно любой элемент: звук, с которым не связывается никакого содержания, такт, хруст, случайное звукосочетание, все что угодно... Строятся приумножения, строятся серии — сколько-то таких произвольных, ничего не значащих (это принципиально!) единиц, сколько-то таких... Это тоже эстетическая стратегия. И по закону изоморфизма, закону “портрета художника”, это равным образом должна быть и антропологическая стратегия, какой-то за этим должен стоять образ человека. Можно видеть сериального человека — и это уже пострашнее структуралистского: человек, который разлагается не на смыслы, не на знаки, а просто на серии. Скажем, серии сериала “Санта-Барбара.” И больше ни на что. А поскольку серии этих сериалов нельзя считать никакими знаками никакой осмысленной знаковой системы, то это уже... финиш.
9.
Да, такая сериальная стратегия у Джойса есть тоже. Она подрывает структуралистскую. И обратно. Ни на чем остановки нет. В наиболее развернутом, полном виде этот круговорот подрываний и парад ускользаний представлен в последнем, финальном опыте портрета художника, в “Поминках по Финнегану.”
Там представлено сериальное разложение письма, языка: это сегодня установлено лингвистами с доподлинной научной отчетливостью. Полвека должно было пройти, чтобы принципы абсолютно непонятной, загадочной работы, которую Джойс производит в “Поминках” с языком, мы смогли бы наконец опознать как принципы сериального разложения. Сохраняя верность замыслу «портрет художника», роман исполняет двойственное задание, представляет определенную эстетику и определенную антропологию. Художественное задание связано, прежде всего, с языком; “Поминки” — роман о языке, о финале языка. Что ж до антропологической задачи, то, в дополнение к разложению человека, достигнутому уже в финале “Улисса”, последний роман предпринимает — и ставит на первый план — разложение истории; по полушутливой формуле самого автора, “Поминки” — “всемирная история.”
При этом, в разложении истории доминируют не сериальные, как в разложении языка, а структуралистские принципы; и однако вновь в соответствии с главными установками Джойса, между системами эстетических и антропологических структур — в данном случае, структур языка и структур истории — утверждается некоторое тождество. Природа его таинственна, но нечто о ней раскрывает мотив ночи и тьмы, настойчиво акцентируемый в “Поминках”: как мир языка, так и мир истории оба суть — мир ночи и тьмы. Таков последний джойсовский опыт портрета художника. Как видим, роман можно по праву счесть таким опытом. Здесь есть по-прежнему система эстетических форм (хотя это уже не столько формы, сколько продукты их разложения, или антиформы), есть система форм антропологических, форм истории в данном случае (это тоже скорее антиформы) и есть художественный акт, который утверждается как связь, как установление между ними тождества. Но это – такой портрет, который только сейчас, в свете непросто восстановленной нити творчества, мы можем назвать портретом и опознать как портрет. Это портрет, дошедший до абсолюта неузнаваемости, портрет в абстрактном жанре. Или, быть может, портрет тьмы.
10.
История в последнем романе представлена, как мы сказали, не столько сериально, сколько структуралистски. Это очень любопытная модель структуралистской истории. Джойс и здесь не может быть просто структуралистом, подрыв и ускользание непременны, и они крайне оригинально проявлены здесь. Модель истории в “Поминках” буквально не что иное как ... квадратура круга.
Всегда говорят, что в “Поминках по Финнегану” — циклическая круговая модель истории и что он ее позаимствовал у известного итальянского философа 18 века Джамбатисты Вико. Это история, которая развивается как повторяющиеся циклы, где конец совпадает с началом, и лишь событие перехода к следующему циклу отмечается ударом грома. Все это в самом деле реализуется в “Поминках по Финнегану.” И, как полагается у Джойса, отражается в художественных структурах: роман этот начинается серединой фразы, а недостающее начало этой фразы — конец романа. Текст, таким образом, замкнут в совершенное кольцо. Итак, история представлена по Вико, круговым образом, равно как и структура художественной формы. Но ничуть не менее явственно, история в “Поминках” реализуется как квадрат. Это роман, где всерьез проводится магия чисел; главное число здесь четверка, квадрат, и история здесь также подчинена парадигме квадрата. Ей управляют четыре злых старца, которые время от времени появляются, чтобы заявить не только о себе, но и о квадратной, четверной структуре истории. Они же четыре евангелиста, они же четыре стихии мироздания, античная тетрактида. Квадратность истории и мироздания проводится в романе настойчиво и прямолинейно, притом, что сам роман остается и круговым. Так что, в итоге, роман действительно есть квадратура круга; достаточно всерьез, в научно-структуралистском смысле, он — и круг, и квадрат. И это значит, что древнюю задачу квадратуры круга Джойс подает нам как проблему современной мысли, современной философии. В выстраиваемом контексте, квадратура круга — не что иное, как деконструкция. Круг, подрывающий, отменяющий квадрат и квадрат как отменяющий и подрывающий круг. Парадигма круга деконструирует парадигму квадрата и наоборот, за счет их одновременного присутствия и воплощения в одном явлении.
Здесь значима и сама жизнь художника, его судьба. Если философ должен свою жизнью осуществлять свое учение, то для художника последняя верность себе — жить так, как писал, жить по своему письму. И в пути Джойса, в самом его финале, можно увидеть одно по-джойсовски неподражаемое свидетельство этой верности. Лючия, дочь художника, была психически больна, безумна. Она присутствовала на похоронах отца; и, стоя над раскрытой могилой, куда только что опустили гроб, она вдруг громко произнесла: Что этот идиот там делает? Когда он вздумает вылезти оттуда? Она не сомневалась в том, что происходящее — только еще одно ускользание Джеймса Джойса.
Известные подходы к проблемам опыта крайне различны и неравноценны в своем отношении к сфере опыта духовного и мистического. Самым систематическим и строгим является органон опытной науки, экспериментально-теоретического естествознания. Он остается наиболее влиятельным и хотя меньше, чем прежде, но до сих пор иногда притязает на универсальность; сциентизм и позитивизм еще пытаются утвердить его как единственную норму и образец для организации человеческого опыта во всех сферах. Однако попытки эти несостоятельны; сегодня вполне ясна уже принципиальная неприложимость многих базисных понятий и допущений естественно-научного органона в обширных областях внутреннего опыта, деятельности разума и психики. Тем паче неприложимы они в сфере исихастского опыта. Но в нашем веке возникла и весьма основательная альтернатива позитивистскому (и отчасти кантианскому) естественно-научному органону. Предпринят был фундаментальный анализ опыта сознания, описаны структуры и парадигмы этого опыта и развит способ дескрипции реальности изнутри, из мира этого опыта, в его перспективе. Иными словами, создан был опытный органон философской феноменологии; и знание этого органона оказывается уже очень небесполезным при изучении органона исихастской традиции. Хотя речь идет о глубоко разных областях опыта, и представители чистой феноменологии подчеркивают, что их анализ никак не желает касаться религиозной и особенно мистической сферы, но тем не менее в отношении к сознанию и в работе с ним здесь обнаруживаются весьма поучительные соответствия. В оставшейся части я очень бегло укажу две важные области таких соответствий. Указания будут, за краткостью, крайне упрощены; действительный анализ требуется довольно тонкий и сложный, и я позволю себе отослать за ним к моей книге «К феноменологии аскезы» (М., 1998).
Проверка опыта включает немало различных критериев и процедур, однако для нас важна сейчас одна только главная черта: весь без исключения арсенал принципов и средств проверки предполагает отсылку к Традиции, к совокупному корпусу ее опыта за всю историю, включая и Священную Историю, данную в Св. Писании. Традиция выступает тут как особый и притом краеугольный концепт: всевременная целокупность истинного испытанного опыта всех участников. Она выступает как замкнутый и полный мир, Универсум исихастского опыта и органона, и всякий опыт в качестве испытания должен пройти помещение в этот мир, в его перспективу, в итоге чего будет отсечено все индивидуально-психологическое и случайное, все, не отвечающее чистому содержанию Духовного Процесса.
Непосредственный вывод из таких и подобных наблюдений прост: хотя исихастское сознание и феноменологическое сознание работают в разных опытных горизонтах, однако за счет общих принципов примата опыта и строгой проработки опыта, за счет общего внимания к технике контроля и технике фиксации содержаний сознания, они приобретают и ряд общих трансцендентальных структур.
Вывод более общий состоит в определенном единстве человеческого опыта: как мы видели, пограничный, предельный опыт, где культивируется превосхождение самой человеческой природы, может быть вовсе не оторванным и эксцентричным, маргинальным островком опыта, но высшей формой, органическим довершением и исполнением всего иерархического многоединства опыта человека.
И наконец еще один вывод заключается в созидаемом единстве человеческого разума: как и в пору патристики, христианская мысль может не изолировать себя от всего ищущего движения мировой мысли, но находить в нем язык и средства для своих целей, а этим самым – и просвещать его, выявлять в нем созвучные себе потенции и содействовать им. Как можно полагать, в таком диалоге и исполняется «неопатристический синтез», или лучше сказать – несякнущая жизнь православной мысли в живом Предании.
Проблема человека никогда не теряла важности для религиозного и философского сознания, однако отнюдь не всегда этому сознанию удавалось найти верный подход к проблеме. Долгое время в европейской мысли господствовали установки и направления, в которых образ человека дробился, заслонялся различными общими и отвлеченными понятиями, отодвигался на задний план и часто вообще терялся из вида. Все системы знания Нового Времени рассматривали человека и все происходящее с ним как область вторичных, производных явлений. Первичным, самым существенным считали исключительно большие и могущественные вещи – государства и нации, социальные институты, идеи и идеологии, законы истории и экономики... Предполагалось, что человек подчинен этим большим вещам не только внешне, но и внутренне, в самой природе, и его поведение, поступки, душевный и духовный мир – все косвенно или прямо определяется уровнями социальной, экономической, исторической реальности. Он был также вторичным и в другом смысле, структурном: его считали сборным, разложимым на те или иные первоэлементы, субстанции, сущности. И в силу этого, при всей искушенности религиозного и научно-философского мышления, происходящее с человеком как самостоятельной, по-своему живущей и изменяющейся цельностью ускользало от разума и оставалось непонятым.
Ситуация в сфере христианской мысли не была исключением, хотя и обладала значительными отличиями. Христово евангелие есть откровение о человеке, о его природе, судьбе и пути спасения, так что тема о человеке, казалось бы, неизбежно должна быть центральной в христианском вероучении. Однако исторически сложившийся облик вероучения не был таким: в его обширном составе учение о человеке стало всего лишь одним из второстепенных разделов, довольно бедным по содержанию. Причиной служило то, что Благой Вести присуще, по выражению о. Иоанна Мейендорфа, “открытое воззрение на человека”, не ограничивающее человека плоскостью эмпирического бытия, и главным в евангелии были не эмпирические сведения о человеке, а весть о самом способе его бытия, его бытийном призвании. Вследствие этого, в прямую форму речи об эмпирическом человеке облеклась лишь малая часть антропологического содержания христианства, тогда как наиболее существенная часть выразилась в иных формах, имплицитно. Главными из этих “крипто-антропологических” форм были догматика и аскетика. В догматическом дискурсе передаются, прежде всего, онтологические аспекты антропологии, раскрывающие бытийное существо феномена и ситуации человека, причем в тринитарном богословии утверждается христианская концепция бытия ( как бытия Пресвятой Троицы и “личного бытия-общения”), а в богословии христологическом устанавливаются отношения и связь человека с бытием. В практических же формах аскетики прямо продолжается и конкретизируется антропологическое содержание христологии: здесь раскрывается, каким образом человек реализует эти отношение и связь.
В итоге, восприятие христианской антропологии во всей ее полноте требовало умудренного церковного сознания, которое умело бы улавливать и прочитывать антропологию, кроющуюся под формами догматики и аскетики. Для обычного разума эти формы были недостаточно прозрачны. Притом, в историческом развитии христианства периоды творческого подъема, подобные эпохе патристики, сменялись долгими не столь плодотворными периодами, когда различные сферы христианской жизни утрачивали живое взаимное единство, а мысль становилась формально-нормативной, глухой к реальности, так что и само слово “догматический” приобрело негативное звучание. В целом, увы, с ходом истории неизвлеченность и непрочитанность, неартикулированность христианской антропологии увеличивались. В широком сознании нарастала неудовлетворенность отношением христианства к человеку, и это вносило немалый вклад в прогрессировавшие процессы отхода от Церкви и дехристианизации общества. Ситуация в России несла эти черты в полной мере. Ровно век назад, на Религиозно-Философских собраниях в Петербурге, с которых началось русское Религиозно-Философское возрождение, произошла дискуссия, ярко высветившая эту ситуацию. Валентин Тернавцев, один из лидеров религиозных поисков тех лет, с пафосом утверждал, что ни Вселенские Соборы, ни отцы Церкви не занимались антропологией, и в христианстве осталось нераскрытым, что есть человек. Ответные же реплики председателя Собраний, владыки Сергия (Страгородского), будущего патриарха, ясно показывают, что для человека церковного сознания такие мнения были странны и непонятны.
Как видно из нашего обсуждения, в обеих позициях была своя правота. Соборное учение и патристика, в Православии неразрывно связанная с аскетикой, безусловно, несли в себе глубокую антропологию; но со временем эта антропология становилась все более скрытой и зашифрованной для широкого сознания, она не воспринималась в культуре и жизни общества. Все более созревала потребность в том, чтобы эту зашифрованную речь о человеке вновь сделать явной. Потребность была насущной для всего христианства, проявляясь как в Православии, так и в инославии; и в результате, для христианской мысли последних десятилетий ведущей тенденцией стала так называемая “антропологизация богословия”. Она явилась непосредственной параллелью процессу активного обновления философской мысли, что проходил в Европе уже с конца 19 в., вобрав в себя идеи самых разных мыслителей – Кьеркегора и Маркса, Ницше, Фрейда, Бергсона, Вл. Соловьева. Суть этого процесса, выражаемую обычно формулой “преодоление метафизики”, можно передать упрощенно как отказ от построения монистических отвлеченных систем и поиск новых конкретных оснований для философского дискурса. Как видим, здесь не было специально антропологической направленности, но тем не менее выдвигаемые альтернативы отвлеченности неизбежно обращали философию к человеку, его деятельности и опыту. Одним из самых ярких примеров такого обращения к человеку служит экзистенциализм. Но даже течения постмодернистской и постструктуралистской мысли, декларирующие свой антиантропологизм, по сути, тоже представляют собой обращение к проблеме человека, антропологическую рефлексию, пускай эта рефлексия и приходит к негативным выводам об отсутствии в человеке начал цельности и идентичности и о “смерти человека”. Такой “негативный антропологизм”, берущий начало еще у Ницше, сегодня очень симптоматичен. Если прежде, как в пору Ренессанса, обращение мысли к человеку почти всегда выливалось в оптимистическую апологию человека, его возвышение, то для современной мысли, начиная уже с экзистенциализма, стало ясно, что пристальное обращение к человеку вполне может приводить к негативным выводам и оценкам. В современности происходит антропологический кризис, и в его атмосфере позиции негативного антропологизма обретают популярность и вес. Но, независимо от характера оценок, антропологический поворот мысли становится реальностью во всех областях. В крупных чертах, философская и религиозная мысль движутся в общем направлении к человеку, и в этом своем движении они нередко сближаются, оказывая взаимное влияние.
Отсюда мы получаем двоякий вывод. Во-первых, установка антропологизации, обращения к человеку не служит для православной мысли новым и особым заданием, но уже неявно присутствует в общем принципе связи с патристико-аскетическими истоками, составляя его имманентный антропологический аспект. Во-вторых, эта антропологизация должна конкретно осуществляться путем обращения к опыту православной аскезы, то есть традиции исихастского подвижничества. Здесь стоит вспомнить, что подобное обращение однажды сыграло решающую роль в жизни всего Православия: когда в Византии 14 в. творческое осмысление исихастской практики Умного Делания привело к победе над ересью Варлаама и Акиндина, созданию богословия энергий и важному углублению православной догматики. Что же касается России, то в ней сфера подвига всегда окружена была особым авторитетом. Она составляла признанное и почитаемое ядро русской духовности, но в то же время ее положение и роль в жизни нации имели одно существенное отличие от Византии. Если исихастская традиция в Византии в периоды своего подъема питала развитие богословского и философского разума, служила формирующим началом культуры, то в России этого отнюдь не было. Традиция оставалась здесь феноменом народной или, как выражаются культурологи, низовой религиозности, и неотрывное от нее богословие энергий пребывало в забвении. Тем более не происходило дальнейшего раскрытия богословского и антропологического содержания исихазма, хотя в средневековой Византии это раскрытие, разумеется, было далеким от полноты. Познание и разум питались из западных источников, оставляя в небрежении свои собственные – и так складывался столь пагубный для русской истории разрыв между Православием и культурой. И мы получаем отсюда еще вывод: современное продумывание исихастского опыта есть путь не только к необходимому обновлению православной антропологии, но также к преодолению давних внутренних конфликтов русской культуры. Вновь, как в эпоху исихастских споров, обращение к опыту аскезы может послужить ключом к возрождению православной мысли.
Сегодня поворот к исихазму – его углубленному исследованию, признанию его стержнем православной духовности – давно уже совершен православным богословием. При всей условности дат, первой вехой этого поворота можно считать знаменитый текст 1936 г. еп. Василия (Кривошеина), бывшего тогда афонским монахом: “Аскетическое и богословское учение святителя Григория Паламы” (кстати, в том же 1936 г. о. Георгий Флоровский на богословском съезде в Афинах выдвинул установку неопатристического синтеза). Здесь и в других трудах владыки Василия, помимо богатого конкретного содержания, формируется важная общая позиция: православное умозрение есть опытное познание, в структуре которого нераздельно соединяются три главные составляющие: патристика, исихазм и паламизм. Затем в трудах В.Н. Лосского дано было глубокое современное изложение паламитского богословия энергий, с новой оценкой его роли и места в Православии. Еще позднее о. Иоанн Мейендорф представил капитальную историческую и концептуальную реконструкцию византийского исихазма и богословия Паламы на общем фоне истории Церкви и христианского умозрения. Совместно с трудами о. Георгия Флоровского, все эти разработки, ныне уже классические, сложили фундамент нового этапа православного богословия, на котором исихастская традиция прочно вошла в ряд явлений первостепенного значения. Сегодня этот этап успешно продолжен работами православных ученых Греции и других стран. Однако изучение традиции пока двигалось, в основном, в русле привычной богословской и исторической проблематики. Внимание исследователей не концентрировалось на исихастской трактовке человека, и поворот к исихазму в их трудах еще не стал антропологическим поворотом.
Как ясно из всего сказанного, дальнейшее развитие необходимо ставит задачу систематической реконструкции исихастской антропологии. Но при всей органичности такой задачи, она требует от православной мысли новых путей. В первую очередь, возникает проблема метода. Чтобы постичь “умное художество” исихастов, мысль должна проникнуть в область мистико-аскетического опыта, суметь проследить его строение, найти язык и понятия для его описания и раскрыть его богословский и философский смысл. Но каким методом, в каком дискурсе все это можно осуществить? Исихастский опыт – опыт возведения всего человеческого существа к Богу, свершаемого благодатью через молитвенное Богообщение. Его главная часть – внутренний духовный процесс, для которого заведомо непригодна обычная научно-философская методология описания опыта. Эта методология, разработанная позитивизмом, соответствует внешнему регистрирующему наблюдению, какое производится в экспериментальных науках, и давно замечалось, что для такого подхода вся область религиозного опыта – сфера субъективного произвола и голословных непроверяемых заявлений. Проявления этого опыта невоспроизводимы, их интерпретация внешним наблюдателем не совпадает с самосвидетельствами носителей опыта, а суть и природу опыта попросту нельзя выразить на позитивистском языке. На другом полюсе стоит речь самой аскезы, представленная в богатой литературе исихастской традиции и, в первую очередь, в “Добротолюбии”. В отличие от позитивистской речи, она адекватна природе опыта, но это – внутренняя речь Традиции, во многом очень особая. Она принципиально ограничивает себя миром Традиции и специфическими целями подвига, мыслит себя как своего рода путевые указания для подвизающегося и потому выражается не на языке понятий, а на рабочем языке аскезы, в ее знаках, символах и рабочих терминах. В силу этого, она, как мы говорили, -- зашифрованная антропология, и мы видим сейчас, что для ее расшифровки нужно создание некоторой третьей позиции описания опыта, промежуточной между чисто внешней позицией экспериментальной науки и чисто внутренней позицией самих аскетических первоисточников.
Аналогичная потребность в “третьей позиции”, преодолевающей бинарную оппозицию чисто внешнего и чисто внутреннего, возникала во многих темах современной мысли, и как было найдено, в самой широкой гуманитарной сфере решением задачи служит позиция диалогического или, в терминах М.М. Бахтина, участного сознания. В нашем случае она означает, что научное сознание, сохраняя свои определяющие черты и цели, вместе с тем должно быть причастным к описываемому опыту, должно в той или иной мере его разделять и на него откликаться, меняя собственные установки в зависимости от постигаемого содержания. Эта установка диалога отнюдь не противоречит установкам самой аскезы: традиция исихазма никогда не утверждала себя закрытым эзотерическим знанием, но стремилась быть живым свидетельством и научением миру, как это в особенности проявлялось в русском исихазме и старчестве. Далее, если диалогическая, или участная позиция делает возможным вхождение в мир духовного опыта, то для самого описания структур исихастского сознания оказывается наиболее адекватным язык феноменологии: как выясняется, многие из этих структур и, прежде всего, входящая в Умное Делание дисциплина трезвения и внимания, родственны структурам сознания в феноменологическом интенциональном акте; а в целом исихастский опыт восхождения к обожению может быть охарактеризован как очень своеобразное обобщение интенционального акта, в котором аналогом интенционального объекта является инобытийная Божественная энергия, а интенция осуществляется не одним интеллектом, а всем человеческим существом.
В результате реконструкции, аскетическая наука о человеке предстает как динамическая и энергийная антропология: она рассматривает существование человека в подвиге как практику или процесс строго направленной аутотрансформации, которую человек производит над совокупностью, или конфигурацией всех своих энергий, духовных, душевных и телесных. Она изучает, классифицирует эти конфигурации и убеждается, что данный процесс представляет собой восхождение по знаменитой лествице подвига: выстраивание серии специальных конфигураций, которые возникают только в подвиге и образуют последовательный восходящий ряд, как бы ступени лестницы. Лестница идет от начальной ступени, покаяния, до финала, обожения, лежащего уже в горизонте Божественного бытия и определяемого отцами Церкви как соединение человека с Богом по энергии, но не по сущности. Важнейшими ступенями, известными еще с древности, служат борьба со страстями (невидимая брань), бесстрастие и исихия, давшая имя всей традиции, сведение ума в сердце, чистая молитва, перестающая нуждаться в темпоральной развертке, и созерцание Нетварного Света. В строении большинства ступеней основу образует сочетание двух факторов, непрестанной молитвы и внимания (трезвения). Непрестанная молитва – движитель всей духовной практики, возводящая энергия и сила антропологического процесса; но очень рано в аскезе было открыто, что обретаемое в молитве легко может быть утрачено и нуждается в охране, страже, которую и осуществляет внимание. Сопряжение молитвы со вниманием в нерасторжимую двоицу, диаду, есть ключ Умного Делания, открывающий путь к высшим ступеням лествицы, на коих являются уже знаки преображающего приближения к обожению.
По своему типу, чертам возникающая исихастская модель человека глубоко отличается от привычных науке антропологических концепций; но именно эти отличия сегодня делают ее ценной и актуальной. Отличие первое и главное – в динамической онтологии модели. Аскеза рассматривает существование человека как стихию свободы, в которой, наряду с обычными стратегиями, можно избрать путь подвига, являющий собой подлинную онтологическую альтернативу: здесь развертывается бытийная динамика обожения, ведущая к онтологической трансформации, претворению самого способа бытия человека (хотя эта свободная динамика энергийного восхождения – не детерминированный процесс, и как по воле, так и без воли человека она всегда может оборваться). В главном отличии уже заложены следующие. В полном согласии с догматикой Православия, стихия Богообщения мыслится в исихазме как энергийная икономия. Поэтому исихастская антропология – энергийна: она не рассуждает о составе человека, его сущностях и субстанциях, а практически работает с человеческими энергиями. Человек для нее – энергийное образование, совокупность разнородных импульсов, помыслов, волений, и она переустраивает эту совокупность неким уникальным, строго целенаправленным образом. Далее, исихастская антропология – предельная антропология, или же антропология предельного опыта: процесс, ведущий к изменению способа бытия человека, есть не просто антропологический, но мета-антропологический процесс, и в нем человек входит в область, где начинают меняться определяющие, конститутивные свойства, предикаты человеческого существования. Эту область естественно называть Антропологической Границей, а опыт, отвечающий пребыванию в ней, -- граничным, или предельным опытом. И наконец, стоит подчеркнуть опытную природу этой антропологии: она строится не на отвлеченных постулатах, а на данных практики, и хотя сохраняет связь с христианским вероучением и догматикой, но их понятия, как можно видеть на примере обожения, здесь также вбираются в опыт, обретают укорененность в опыте. Данная черта служит основой достоверности утверждений модели, хотя надо также учитывать, что утверждения мистико-аскетического опыта требуют особой методики истолкования.
Эта общая характеристика позволяет заметить, что исихастская антропология несет в себе мощный потенциал развития. Поскольку она рассматривает лишь процессы духовной практики, она не составляет еще целостной антропологической модели, однако открытый в ней энергийный предельный подход к человеку может быть естественно обобщен до такой модели. Многие из ее идей и понятий в сути своей не зависят от конкретного контекста аскетической практики, но имеют универсальный, общеантропологический смысл. Выявляя этот универсальный смысл, затем обобщая и расширяя получаемый концептуальный фонд, мы строим фундамент нового антропологического подхода – энергийной предельной антропологии. Прежде всего, можно выделить главный принцип такой антропологии. Духовная практика – стратегия человека, в которой он определяется своим Богоустремлением, отношением к Богу как Инобытию. Здесь можно видеть выражение общей логики: определить любой предмет значит описать его очертания, его границу, и аналогично в философии всякое сущее получает свое определение от иного себе, конституируется своим отношением к Иному. Применяя этот аргумент к человеку, взятому в измерении энергии, бытия-действия, мы получаем общий принцип конституирующей роли Антропологической Границы. Духовная практика – одна из стратегий человека, вводящих в эту область; принцип же заключается в том, что полное собрание подобных стратегий должно быть конституирующим для человека как такового: определением человека может служить полное собрание стратегий Антропологической Границы.
Таков первый шаг к общей модели человека. Очевидно, что основу модели должны составлять описание и анализ всех стратегий Границы. Это – междисциплинарная задача большого масштаба, однако не столь сложно выделить главные виды таких стратегий. Чтобы описать их, надо учесть, что граничные стратегии отличаются от обычных, не выводящих к Границе, прежде всего, своей энергетикой. Достижение Границы предполагает некие особые энергийные механизмы, как это ярко видно в аскезе: собственными энергиями человека нельзя достичь того, к чему устремляется подвиг, “превосхождения естества” и обожения. В восхождении к обожению, к онтологической границе человеческого существования совершающая сила принадлежит Божественной энергии, благодати, с которой человек лишь сообразует свои тварные энергии в синергии. По отношению к горизонту бытия человека Божественная энергия является внешней энергией – такой, что действует в этом горизонте, однако имеет свой исток вне, за пределами него; и именно действием этой “энергии Внеположного Истока” осуществляется достижение Антропологической Границы. Возникает необходимый вопрос: а только ли таким способом достигается Антропологическая Граница? существуют ли иные энергийные механизмы, также выводящие к границе горизонта человеческого существования, к предельному опыту? Вопрос этот равно умозрительный и практический. Для ответа мы обращаемся к реальной антропологической ситуации – и здесь оказываемся в области самой актуальной проблематики.
Глубокие кризисные процессы в обществе и культуре, идущие уже много десятилетий, сегодня выдвинули на первый план новое измерение кризиса, антропологическое. Мы уже упоминали об антропологическом кризисе в современном мире, и сейчас время сказать, что суть этого кризиса – в мощном всплеске определенных форм предельного опыта человека. Темы предельного опыта, границ человеческого существования сегодня в центре внимания не только философов и ученых, но и широкого массового сознания; однако, обсуждая их, говорят вовсе не об аскезе и обожении. Опыт, который в центре сегодняшних кризисных и катастрофических процессов, есть опыт патологии и трансгрессии, экстремальных психопрактик, псевдомистических сект, засасывающего погружения в виртуальную реальность, наркомании, психиатрических извращений, криминального поведения и наконец также терроризма. Весь этот огромный парк антропологических девиаций прочно относят к предельному опыту человека, связывая его с границей горизонта человеческого существования, с попытками ее достижения и преступания. Несомненно, такое отнесение обоснованно; но ясно, что сама граница человеческого существования здесь понимается иначе, нежели в духовной практике, -- или точнее, здесь идет речь о достижении иной границы. В понятие границы здесь не вкладывается уже онтологического смысла, ее достижение не предполагается трансформацией способа бытия человека. И отсюда выступает кардинальный антропологический факт: граница горизонта человеческого существования – не только онтологическая граница, означающая разрыв двух планов бытия и энергийно-синергийно (благодатно) преодолеваемая в подвиге. Помимо этой границы, человеческое существование окаймляют также области, где граница остается в пределах наличного (тварного) бытия, являясь тем самым границей не онтологической, а онтической, то есть разграничивающей лишь сущее, а не бытие.
Как мы заметили выше, достижение Антропологической Границы должно обеспечиваться особыми энергийными механизмами; и по этому признаку удается идентифицировать, что же за стратегии человека образуют его онтическую границу. Опыт подвига (впрочем, в полном согласии с научною логикой) говорит, что к Антропологической Границе может выводить действие внешней энергии, энергии Внеположного Истока. Внешним в подлинном онтологическом смысле является, по определению, Инобытие, и онтологически внешней энергией является единственно лишь Божественная энергия. Но коль скоро в составе Антропологической Границы существует и граница онтическая, то априори возможны и такие энергии, исток которых является внешним для сферы человеческого существования не онтологически, а только онтически; и как благодать выводит человека к его онтологической Границе, так эти энергии были бы способны выводить к Границе онтической. . Как обнаруживают психология и психоанализ, подобные энергии существуют, а их исток, хотя и внеположный для сферы человеческого существования, но остающийся в одном с нею онтологическом горизонте (“Здешний Внеположный Исток”), -- не что иное как бессознательное. Действуя как внеположный (хотя не инобытийный) энергетический исток, бессознательное порождает обширный спектр антропологических стратегий, динамических стереотипов, образов поведения человека, носящих характер маний, фобий, неврозов, психозов и т.п. Именно эти стратегии, питаемые энергиями бессознательного, охватывают подавляющую часть вышеописанного “парка антропологических девиаций”, проявлений антропологического кризиса.
Напротив, еще одна (и уже последняя) область Антропологической Границы стала предметом внимания лишь в наше время. Наряду с действием Божественной энергии и энергий бессознательного, существует еще один энергийный механизм, также выводящий человеческое существование к его границе. Этот механизм уже не может обеспечиваться энергиями какого-либо Внеположного Истока, поскольку таковой исток может быть, очевидно, либо Инобытийным, либо Здешним, и третьего не дано. Однако, как говорит современный опыт, существует сфера виртуальной реальности, и образующие ее явления также должны быть отнесены к Антропологической Границе, ибо все они обладают специфическим свойством недовоплощенности, неполной сформированности, отсутствия каких-либо существенных черт обычного, полноценного эмпирического явления. Иначе говоря, здесь принципом принадлежности Границе выступает недостаток формостроительной энергии. В итоге всего, у нас возникает общая картина, топика Антропологической Границы. Ее образуют три области, или ареала: ареал духовной практики, отвечающий онтологической Границе, а также отвечающие Границе онтической, ареал бессознательного и ареал виртуальности.
Описав строение Антропологической Границы, мы получаем достаточную исходную базу для развития энергийной предельной антропологии. В орбиту этой антропологии естественно включаются характерные явления современности: если ареал виртуальности описывает все расширяющуюся ныне виртуальную сферу, то с областью бессознательного прямо или косвенно связано подавляющее большинство сегодняшних кризисных и катастрофических процессов. И мы убеждаемся, что древний аскетический подход к человеку таит возможности осмысления современного кризиса человека. Будучи же подходом практическим, он может внести свой вклад и в преодоление кризиса.
Другой, более общий вывод заключается в созидаемом единстве современного разума. Мы видим, что христианская мысль может не изолировать себя от всего творческого движения мировой мысли, но черпать в нем язык и средства для своих целей – и тем просвещать это движение, находя в нем потенции, созвучные Благой Вести, и содействуя им. Именно так поступала мысль отцов Церкви, всегда остающаяся для Православия живым образцом.
Начиная с древних Ветхозаветных истоков иудеохристианской духовной традиции, характернейшей отличительной особенностью этой традиции служит покаяние. Это одно из очень немногих явлений, играющих ключевую роль одновременно в идейно-догматических, онтологических основаниях традиции и в ее эмпирической сфере, в области культа и практической религиозности. В первом аспекте, покаяние – критически важный элемент цельной парадигмы Богоотношения: как следствие онтологического события падения, человек обретает падшую природу, подверженную греху; впадая во грех, он утрачивает связь, разобщается с Богом; чрез покаяние в содеянном грехе он очищается от него и восстанавливает общение с Богом. Во втором аспекте, покаяние – критически важный элемент религиозной практики: специфическая духовно-душевная установка, требующая постоянного поддержания и создающая особую экзистенциально-эмоциональную атмосферу.
В Православии эти общие особенности получают существенное углубление и дополнение. Здесь покаяние прочно интегрировано в динамику обожения – антропологический процесс, захватывающий все уровни организации человеческого существа и направляющийся к осуществлению бытийного назначения человека. Обожение человека (cccccccdeificatio) – итог и цель этого процесса, и православное богословие трактует его как актуальную онтологическую трансформацию, суть которой – совершенное соединение всех энергий человека с Божественною энергией, благодатью. В рамках общеправославной церковной традиции издревле существует духовное ядро, в котором задача восхождения к обожению ставится в центр всего существования человека, и процесс восхождения выстраивается с максимальной строгостью и систематичностью. Таким ядром служит исихазм, мистико-аскетическая практика, развиваемая в Православии с первых веков монашества и до наших дней. В опыте исихастской аскезы указанный процесс осмысливается и предстает как особая антропологическая стратегия, альтернативная по отношению ко всей сфере обычных стратегий эмпирического существования человека, к “миру”. Подобные альтернативные стратегии возникают и в лоне других древних духовных традиций, прежде всего, восточных, и носят общее название “духовных практик”; классическими примерами их служат йога, дзен, даосизм, тибетский тантрический буддизм и др.
Меж духовными практиками существуют принципиальные различия, касающиеся, прежде всего, религиозных представлений о природе “высшего духовного состояния”, как обычно именуют финальную цель практики; но при всем том, присущие им общие структурные свойства позволяют говорить о существовании некоторой универсальной “парадигмы духовной практики”. Ключевая черта этой парадигмы в том, что она описывает ступенчатый процесс, направляющийся к онтологической трансформации, изменению самого способа бытия человека, и тем самым является не просто антропологической, но мета-антропологической стратегией. Этой главной чертой имплицируется богатый спектр других специфических отличий духовной практики. Не входя в их обсуждение, скажем лишь, что одним из них является наличие своеобразного “входного барьера”: необходимость особого начального усилия или акта, который обеспечивал бы вступление на путь практики, инициировал бы ее процесс. В разных практиках для этого начального этапа независимо возникает одно и то же название: Духовные Врата. В исихастской традиции этот термин – одно из древних имен для покаяния.
Итак, исихастское покаяние – начальный этап ступенчатого процесса восхождения к обожению, “райской лестницы”, как назван был сей процесс в его первом описании у св. Иоанна Синаита (7 в.). Его анализ следует начать с вопросов терминологии, ибо аскетический язык ярок и богат, однако далеко не отличается строгой четкостью. Описывая вступление на путь Практики, аскетический дискурс говорит о "вратах духовных", о покаянии, обращении, "премене ума", понимая последнюю формулу как кальку греческой cccccccc. Нет оснований рассматривать все эти термины как точные синонимы: семантика каждого из них довольно размыта, но всегда включает в себя некоторые значения и коннотации, не разделяемые соседними терминами. Мы попытаемся извлечь из этой размытости определенную пользу: сформулируем и закрепим за каждым из терминов такую интерпретацию, чтобы все понятия отчетливо отличались друг от друга, а вкупе охватывали бы весь объем свойств и представлений, ассоциируемых с начальным этапом духовной практики.
"Врата", или "духовные врата" — данный термин несет лишь чистый смысл вхождения, переходного рубежа, вступительного акта или события, никак не конкретизируя и не ограничивая его внутреннего содержания. Поэтому он наиболее пригоден в качестве общего, объемлющего термина, обозначающего начальный этап практики в его целом; и именно в таком смысле он и употребляется во многих традициях. Вместе с тем, его семантика вовсе не тривиальна: в ней нет ничего, говорящего о каком-либо внутреннем строении, но есть определенное указание на двойственное, двоякое отношение к внешней реальности. Предполагается, что, проходя чрез врата, попадают из некоторого места или пространства – в некоторое иное, наделенное другими свойствами или другим назначением. По разные стороны врат – разные миры или разные режимы, способы существования, так что прохождение врат – двойственный, обоюдонаправленный акт: в нем соединяются конец отношений с одним миром (акт ухода) и начало отношений с другим миром (акт входа).
Собственно же "врата" – двустороннее понятие, наделенное двояким отношением, к пред-вратному и к за-вратному мирам, и тесно связанное с понятиями "границы" (рубежа) и "перехода". За счет последнего, в него привносится момент события и динамики, имманентная связанность с движением (из мира пред-вратного в за-вратный).
Все отмеченные моменты следует эксплицировать и закрепить с помощью других имен начальной ступени; и набор имен вполне позволяет это сделать. Прежде всего, этот набор естественно соотносится с двусторонней природой "врат". Легко согласиться, что "Обращение" в своем содержании выражает, по преимуществу, отношение к пред-вратному миру, необходимый разрыв с ним и уход от него. Напротив, "Покаяние" уже явно выражает то отношение к себе и к действительности, что отвечает миру за-вратному. Человек кается лишь постольку, поскольку он усвоил взгляд, принял оценочные нормы этого иного мира; по нормам же пред-вратного мира, покаяние – занятие искусственное или болезненное и, во всяком случае, бессмысленное, ничего не дающее. Есть поэтому основания принять, что "Обращение" – начало, начальная фаза "Врат", в которой фокус, центр тяжести – изменение отношения к пред-вратному миру; "Покаяние" же – финальная фаза, смысл которой – вхождение и встраивание, интеграция в за-вратный мир, начало жизни в его режиме, по его правилам. Что же до термина "Метанойя", то в нем можно усматривать точный центр, средоточие и равновесие, отцентрированность всего концептуального содержания "Врат". Здесь событие характеризуется исключительно как "премена" – и эта "премена", как и сами "Врата", двояка, она соединяет в себе двойственное решение и установку ума: и "отвратиться-от", и "устремиться-к". В "Метанойе" объединяются, таким образом, и та "премена", что заключена в "Обращении", и та, что заключена в "Покаянии"; и, в итоге, концептуальное содержание всей начальной ступени, или же "Врат Духовных", представляется упорядоченной троичной структурой:
Обращение – один из центральных концептов, характеризующих духовную жизнь человека. Как самостоятельная идея или интуиция, еще не ставимая в связь с покаянием и духовной практикой, оно присутствует в европейском сознании, начиная с его мифологических истоков в античности. На этом этапе, идущем от орфиков и пифагорейцев к платонической и неоплатонической традиции, оно обычно фигурирует как синонимичное или почти синонимичное понятию возвращения. В качестве главных вех в истории античной идеи Обращения-возвращения необходимо назвать: “Одиссею” Гомера, где задан был архетип странствия-возвращения; знаменитый миф о Пещере в книге VII “Государства” Платона, где идея впервые интериоризируется и Обращение предстает как событие внутренней жизни, акт сознания (обращение от смутных отсветов неистинного бытия к свету бытия истинного); “Эннеады”, где идея обретает форму четкой философской парадигмы – парадигмы странствия души к Единому чрез сферы несовершенного бытия; и наконец, в качестве финала, формализация идеи у Прокла в триадической конструкции “пребывание – исхождение – возвращение”, предвосхищающей все будущие триады европейской философии.
Новая трактовка Обращения требует дальнейшего анализа. Следует выделить в ней моменты, выражающие онтологическое содержание акта: критически важно не столько "расслышать зов" (в интенции на обитающий во мне Первоимпульс мне достаточно естественно воспринять, расценить его как некий "зов"), сколько различить, опознать этот зов – как зов нездешний, не из горизонта наличного бытия и опыта: зов некоего истока, внеположного в полновесном онтологическом смысле. И столь же важно не просто "откликнуться", а откликнуться всецелым существом, безостаточно претворить себя в единый отклик зову Внеположного Истока. Или точней: "безостаточное претворение себя в единый отклик" есть уже нечто большее, чем исходное событие Духовной Практики, это – глобальное задание и процесс; событие же Обращения означает скорей – обращение к этому заданию, принятие его на себя во всей глобальности его. Итак, конституция Обращения должна исходить из структуры Зова – Отклика, учитывая указанную специфику их в нашем случае. Семантика русского термина как нельзя лучше соотносится с этой структурой. Зачин Обращения – воспринять мой Первоимпульс неприятия смерти как звучащий во мне зов, призыв – т.е. как обращение ко мне. Развитие же Обращения – "оборотиться на зов", в ответ на обращение – обернуться, обратиться к Зовущему, к Истоку зова: ответить на обращение-призыв – обращением-действием. В этом обращении-действии – суть и средоточие акта; каким же оно должно быть?
Ответ на этот вопрос может следовать по двум линиям. Во-первых, можно выдвинуть в центр понятия момент инверсии, который существенно поддерживается русской этимологией: Обращение – переход к обратному, и обратиться, совершить обращение значит придать всем своим энергиям (своему вниманию, активностям, интересам, помыслам...) некое "обратное направление", противоположное тому, какое они имели прежде. Если, далее, сопоставить существованию человека обычный образ или мифологему пути, странствия, то Обращение будет означать не что иное как "повернуть обратно", пуститься в обратный путь, начать возвращаться – и, т.о., у нас возникает понятие Обращения как Возвращения. Как видели мы выше, именно такой смысл имела парадигма Обращения в античности, и греческую эпистрофэ (cccccccccc, классическое понятие платонизма и неоплатонизма, выражающее эту парадигму, нередко, и вполне адекватно, переводили как Возвращение (а иногда и как “Обращение-Возвращение”). Напомним, что для античного сознания здесь имеется в виду "возвращение к себе", которое, в свою очередь, мыслится как возвращение души к той "себе", какою она предсуществовала при Едином. В итоге, содержание понятия может быть выражено цепью равенств: Обращение = Обращение-Возвращение = Возвращение к себе = Возвращение к своему Началу, Истоку = Восхождение к Единому. Отлично резюмируют эту концепцию Обращения сжатые слова Плотина: "Происшедшее от Первоединого Иное к нему же устремляется и обращается (ccccccccc)" (Enn. V.2,1). И стоит отметить еще одну грань этой концепции, тоже заложенную в этимологии русского "обращения": Обращение-Возвращение означает круговой, циклический путь, связано с циклической парадигмой – и это отвечает тому значению слова, в котором "обращение" – синоним "вращения" (ср.: "обращение Земли вокруг Солнца").
К специфике данной динамики относится то, что ступени процесса суть упорядоченно сменяющие друг друга типы (само)организации множества энергий человека и, таким образом, они должны пониматься не субстанциально, как некоторые "сущности" или статичные "состояния", но динамически, как "режимы деятельности". Учитывая еще, что начальным условием, предпосылкой формирования динамики является резкое расшатывание, разбалансирование обычного режима (осуществляемое, в особенности, сокрушением и плачем), мы заключаем, что динамика Духовной Практики имеет характерную синергетическую природу. Двумя (по крайней мере) определяющими структурными чертами – необходимость начального раскачивания, резкого и далекого отхода от стабильных режимов, и спонтанная генерация упорядоченной серии динамических структур, "энергоформ", – она прямо сближается с классическими процессами синергетики, такими как генерация структур хаоса; причем наиболее специфичные, драстические элементы Практики, как сокрушение и плач, опознаются как ключевые элементы синергетической динамики.
Обнаруженный синергетический аспект парадигмы Духовной Практики порождает свою особую и обширную проблематику. Не следует считать ее замкнутой в себе, включающей лишь специфические вопросы приложимости тех или других синергетических понятий, концепций к антропологическим стратегиям. Привлечение этих понятий могло бы пролить новый свет на многие существенные проблемы исследования явлений психики, религиозного и мистического опыта.
THE REPENTANCE IN THE EASTERN-ORTHODOX TRADITION AS AN ANTHROPOLOGICAL PHENOMENON
The repentance in the Eastern-Orthodox spiritual tradition and, in the first place, in the hesychast mystico-ascetical practice, is considered as an anthropological phenomenon and a thorough conceptual analysis of this phenomenon is presented. The analysis is based on the concepts of energetic anthropology developed by the author. Comparison to the treatment of Repentance in the Roman Catholic tradition and similar phenomena in Eastern spiritual practices is made. Profound new features of the phenomenon, such as the presence of elements of synergetical dynamics, are discovered.
Сочетаясь и дополняя друг друга, эти два одновременных и параллельных процесса в богословии двух конфессий не могли не привести к упомянутым отрадным переменам в западной рецепции исихазма. Именно тогда, в годы после II-го Ватиканского Собора, она обретает тот характер, те ценные свойства, которые хранит и поныне и которые коренятся в признании общехристианской значимости, духовной подлинности и силы исихастского опыта Богообщения. Конечно, исихастская практика отнюдь не стала частью западной духовной жизни или молитвенной дисциплины. Кардинальные различия духовных традиций, духовного склада, самой, так сказать, религиозной органики христианского Запада и Востока вовсе не уничтожились — но две традиции доказали свою способность к глубинному взаимопониманию и общению: такому общению, которое не остается на поверхности, ограничиваясь лишь нейтральными темами, безопасными общими местами, но бесстрашно входит и в область самого специфического, уникального — того, в чем общающиеся уже никак не совпадают. И при таком вхождении, совершаемом с доверием и бесстрашием, сила любви Христовой превозмогает различия, расхождения — и в глубине открываются родники единства.
Именно таково впечатление, оставляемое картиной исихастских исследований последних десятилетий. В самой заметной мере, установки предвзятости, конфронтации были преодолены, хотя сохранились также и характерные отличия конфессиональных подходов и точек зрения. (К примеру, для раннего исихазма, западные ученые всегда особенно заостряли и подчеркивали элементы близости отдельных крупных его фигур к еретическим течениям: Евагрия — к оригенизму, Макария/Симеона — к мессалианству. Для зрелого же византийского исихазма, Запад всегда сохранял критичное, осторожное — или даже настороженное — отношение к богословию св. Григория Паламы.) В любой из основных тем исихастских штудий, мы сегодня уже найдем не разобщенные по конфессиям русла исследований, но единый научный контекст и общее поле, на котором происходит активный профессиональный диалог и научные обсуждения ведутся в установке взаимной открытости, участности. Наглядной и яркой демонстрацией этого служат ежегодные конгрессы по православной духовности и, в первую очередь, по исихастской традиции в Греции и России, проводимые общиной католического Спасо-Преображенского монастыря в Бозе на севере Италии. Каждый сентябрь, вот уже 14 лет, здесь собирается межконфессиональное сообщество ученых со всей христианской ойкумены, и углубленное обсуждение всех вопросов исихастской аскезы происходит в атмосфере подлинного христианского единения.
В период раннего монашества и становления анахоретской аскезы — период, названный нами «исихазмом до исихазма», — зачинающийся исихазм развивается в лоне Церкви, еще единой догматически и сакраментально, но уже отчетливо разделяющейся на два ареала, Западный и Восточный, латинский и греческий, с заметно различным типом религиозности. Первые аскеты-пустынники рано становятся известны и почитаемы во всем христианском мире. Истоки западной рецепции исихазма — в сразу же возникающих попытках знакомить христиан на Западе с их опытом, путем латинских переводов ранней монашеской литературы. Круг этих sui generis протоисихастских памятников быстро становится не столь мал: в изобилии создаются апофтегмы, составляются первые жития подвижников, возникают «История монахов в Египте», «Лавсаик» и начинают появляться первые корпусы творений самих аскетов — Евагрия, Макария/Симеона, Иоанна Кассиана. Все это — еще в течение того же феноменального 4 в., золотого века раннехристианской духовности и письменности. В этот период западное и восточное русла формирующейся аскетической культуры — в живой связи, тесном взаимодействии. Принадлежащие Западу Иероним, Руфин Аквилейский — активные участники восточной традиции: Иеронимом составлены первые жития подвижников (Павла Фивейского, Илариона Газского), под именем Руфина вплоть до недавнего времени была известна «История монахов в Египте», которую он перевел, купно с рядом творений греческих Отцов. Житие Антония Великого, написанное Афанасием Великим, немедленно делается известным в латинском ареале, оказывая сильное влияние на становление латинской агиографии, в частности, на Сульпиция Севера. Иоанн Кассиан, один из основоположников исихастской аскезы, подвизается на юге Галлии и пишет по-латыни труды, вошедшие в число главных текстов раннего исихазма, служа проводником исихастской традиции на Западе. Можно указать немало подобных фактов живого переплетения двух русл; и все же со временем эти русла все заметней обособляются, конституируясь в два разных типа аскезы: на Западе происходит процесс дробления монашества на ордена, меж тем как на Востоке св. Максим Исповедник в 7 в. создает мощный синтез богословия и аскетики (аскетической антропологии), что станет будущим стержнем особого Восточно-христианского дискурса, православного способа постижения реальности; а «синайский исихазм» 7-10 вв. наделяет аскезу методом и органоном, претворяя ее в искусство и школу Умного Делания.
Похоже, что этот процесс существеннейшего внутреннего роста и созревания, в котором «исихазм до исихазма» становится исихазмом подлинным, высокоорганизованной «практикой себя», возводящей подвижника к синергии и благодатному обожению, — в своей сокровенной сути ускользает от глаз Запада. В следующие столетия — целый ряд столетий — разъединенность Запада и Востока, степень их взаимного незнания, непонимания, недоверия неуклонно растут, и мы находим в истории лишь редкие единичные события, которые вносили бы вклад в познание исихазма на Западе. Так, в 6 в. диаконы Пелагий и Иоанн делают полный латинский перевод Систематического Собрания апофтегм. В 827 г. император франков Людовик Благочестивый получает в дар от византийского императора Михаила II список «Ареопагитик», что стало для Запада крупной вехой, началом большой и сложной жизни идей псевдо-Дионисия в западном умозрении. В 12 в. в Венгрии (sic) выполняется латинский перевод «Сотниц о любви» преп. Максима Исповедника. В 14 в. монах-францисканец Анжело Кларено (ок.1255 — ок.1337) делает латинские переводы (со схолиями к ним) творений Иоанна Лествичника и Исаака Сирина. Существовали также латинские переводы отдельных текстов Евагрианы и Макарианы; в 9 в. появляются переводы отдельных слов Марка Подвижника и Исайи Газского. Можно, разумеется, добавить сюда и еще некоторые факты, но это не изменит принципиальной картины.
Стоит здесь указать наиболее заметные вехи этого процесса и наиболее крупные фигуры пионеров исихастского источниковедения и книгоиздания на Западе. Вслед за первыми болландистами, должен быть, несомненно, упомянут патролог и публикатор, доминиканец Ф.Комбефис (1605–1679), издавший в Париже в оригиналах сочинения Максима Исповедника (1675), Дмитрия Кидониса (1684, 1685) и целый ряд документов и текстов эпохи Исихастских споров, в том числе «Исповедание веры» св. Григория Паламы и Томос Собора 1351 г. (1672). Немецкий патролог Понтан (Якоб Шпанмуллер, 1542–1626) выпустил в 1604 г. в Ингольштадте целый ряд сочинений исихастских авторов в латинском переводе — труды Филофея Коккина, Иоанна Карпафийского, а также популярную на Руси «Диоптру» Филиппа Пустынника. Весьма продуктивна была активность грека-католика Льва Алляция (1588–1669). Издаваемые им в оригиналах византийские источники он сопровождал собственными текстами с критикою исихазма и православия, выступая как «католический полемист», по оценке о. Василия (Кривошеина). Будучи компетентным эллинистом, он издавал в Риме в 1652-59 гг. серию Graeciae Orthodoxae Scriptores, отдавая в ней предпочтение сторонникам унии с католичеством и антипаламитам: так, им были выпущены сочинения патриарха Иоанна XI Векка (сторонника Лионской унии) и «Ямбы против Паламы» Акиндина. Издал он также письма св. Нила Анкирского (в 1668 г.) и «Слово о трех образах молитвы», известное также как «Метод священной молитвы и внимания» и игравшее весьма важную роль во многих дискуссиях по поводу молитвенного метода исихастов. Далее, не могла не коснуться исихастской литературы и кипучая деятельность отцов-мористов, членов бенедиктинской конгрегации С.Мавра, создавших во Франции научно-издательскую школу еще большего размаха, нежели болландистский проект. Школа, действовавшая в период с середины 17 в. до Французской революции, прославилась научным уровнем своих публикаций, главную часть которых составляли образцовые издания латинских и греческих Отцов. Греческой аскетике мористы, к сожалению, уделяли мало внимания; но все же один из их лучших специалистов, патролог и палеограф Б. де Монфокон (1655–1741), издал в оригиналах, наряду с сочинениями греческих Отцов, также Синодик в Неделю православия и монашеские жития св. Кирилла Скифопольского. Существенным был и вклад французского иезуита Пьера Пуссена, выпустившего в свет в Тулузе в 1684 г. сборник аскетических сочинений, куда вошли малоизвестные и малораспространенные апофтегмы, тексты Макариевского корпуса и др., в том числе, и один из изводов послания Иоанна Пустынника, помещаемого в нашем выпуске. В статье о. Жозефа Парамеля, О.И., сопровождающей публикацию послания, читатель найдет самую высокую оценку этого сборника. Наконец, в 18 в. в научный оборот начинают вводиться источники на языках Восточных Церквей, в первую очередь, на древнесирийском. Для изучения исихазма этот шаг имел принципиальное значение: корпус сирийских источников включал, в частности, творения преподобных Ефрема Сирина и Исаака Сирина, без которых картина исихастской духовности была бы вопиюще неполной. Первым и капитальным продвижением в данном направлении была обширная деятельность членов знатного маронитского рода И.С.Ассемани (1687–1768) и С.Е.Ассемани (1707–1782), опытнейших кодикологов-ориенталистов и активных издателей. Незаменимым базовым пособием на долгое время стало выпущенное И.Ассемани первое описание сирийских рукописей (Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana. T. 1–3, Suppl. Roma, 1719–1759). Из их других публикаций наибольшую важность имеет выпуск всех известных тогда творений преп. Ефрема Сирина, как греческих (тт. 1–3, 1732–1746), так и сирийских (тт. 1–3, 1737–1746).
Создание источниковедческой базы продолжало успешно развиваться, постепенно обнаруживая тенденцию к масштабным проектам — осуществлению сводных собраний и издательских серий, стремящихся охватить в полноте тот или иной круг, либо тип источников. Нам нет необходимости подробно прослеживать этот процесс, кульминацией которого надо, несомненно, считать великое предприятие аббата Миня: 225 томов латинской патрологии (1844–1864) и 161 том греческой патрологии (1857–1966). Достаточно констатировать, что западною наукой был успешно заложен весьма основательный фундамент изучения исихазма (сделав, однако, оговорку, что успехи источниковедения не сопровождались равными успехами в исторических и богословских исследованиях: первые были совсем малочисленны, а вторые, кроме того, также неглубоки и чрезвычайно предвзяты в оценках). Отнюдь не остановившись на этом создании фундамента, усилия ученых продолжались не менее успешно и дальше. Академическая традиция Запада продолжает жить, и уже в последние годы были осуществлены новые масштабные проекты, не уступающие героическим предприятиям прошлого. Ограничиваясь лишь самым значительным, назовем здесь 16-томный проект Dictionnaire de Spiritualité ascetique et mystique (1937-95), 12 томов венского издания Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit (1976-96) и 6 томов Clavis Patrum Graecorum (1983-98). И уже активно идет очередное принципиальное продвижение, перевод источниковедческой базы в электронную форму.
Чтобы оценить значение всей описанной деятельности, надо помнить, что весьма долгое время, в течение всех ее начальных этапов, в пределах самого православного мира не происходило ничего подобного. Здесь не только отсутствовала научная база, но и сама аскетическая практика, аскетическая духовность и культура переживали повсюду глубокий упадок, который в Греции и на Балканах был вызван турецким завоеванием, а в России, ставшей единственной самостоятельной православной страной, порождался победой установок сакрализации и обрядоверия в церковной жизни, усиливался Расколом и закреплялся латинизацией, «западным пленением» (по известному выражению о. Георгия Флоровского) богословия и церковного сознания в целом. Лишь со второй половины 18 в. постепенно пробуждаются, восстанавливаются духовные силы, и православие обращается всерьез к своему аскетическому наследию. Первым важнейшим шагом на этом пути было, как известно, составление греческого и славянского «Добротолюбий», вышедших в свет, соответственно, в 1782 и 1793 гг. Характерно, что во всей широкой, кропотливой работе над этим составлением практически не использовались западные издания — такова была степень конфессиональной разобщенности. Однако — нет худа без добра — оторванность от западных достижений вынуждала к освоению собственных запасов рукописей и развитию собственных навыков работы с ними. Это самостоятельное развитие шло во многом иначе, чем на Западе, и в перспективе, познание исихазма выигрывало от возникавшей полицентричности.
Выпуск «Добротолюбий» положил начало Филокалическому Возрождению, глубоко органичному, спонтанному религиозному движению, которое затронуло постепенно все страны православия. Существом его было обращение к исихазму как верному и надежному источнику духовного руководства, наставления на путях христианской жизни. Стремясь лишь к «единому на потребу», оно не думало ставить перед собой никаких самостоятельных научных задач; но, вместе с тем, оно базировалось на самом широком и усердном освоении исихастской литературы и потому должно было развивать целый ряд умений и дисциплин, необходимых для этого освоения. При всей фундаментальности «Добротолюбия», оно оставалось лишь своего рода вратами, за которыми лежал мир исихастской истории и письменности. Подлинное приобщение к ценностям исихазма требовало познания этого мира, которое, в свою очередь, предполагало сочетание духовных установок аскезы и гуманитарной, прежде всего, филологической учености достаточно высокого уровня.
Такими путями складывалась православная наука об исихазме; однако решающие продвижения в ней были все же доставлены не успехами источниковедения или историко-филологических штудий, а принципиальной переоценкой самого смысла и значения исихазма. Как мы уже говорили, такая переоценка была достигнута православным богословием во второй половине 20 в. Перемены, происходящие в этот период в обоих ареалах христианства, Западном и Восточном, приводят вкупе к заметному росту богословского взаимопонимания, и на этой основе формируется единое научное пространство исихастских исследований.
Попробуем теперь разобраться в том, что лежит за этой внешней картиной истории исихастских штудий. Какие глубинные, внутренние факторы формировали эту картину, определяя собой рецепцию исихазма на Западе? — Как духовная практика, исихазм есть школа особого антропологического и мета-антропологического опыта: школа, где культивируется и транслируется опыт фундаментального отношения Человек — Бог в его реализации. Рецепция исихазма в православии выяснила и приняла, что исихазм — ядро и стержень православной духовности, и опыт его находится в полном соответствии с вероучением православной Церкви. Корни этого полного соответствия, согласия — в особой связи православного вероучения, православного типа религиозности со стихией опыта. С самих истоков, с эпохи начального становления Восточного Христианства, христианское сознание здесь видело цель, искомое христианской жизни, всего существования христианина, именно в обретении определенного опыта, уникального, единственно нужного: опыта христоцентрического способа жизни, возводящего человека к единению со Христом. Эта цель была, по сути, заявлена уже в выборе слова «православие» в качестве самоназвания Восточного Христианства: поскольку право-славие, ortho-doxia, значит не что иное как «правильное прославление» Бога, т. е. опять-таки опыт некоего верного отношения к Нему. (В отличие от этого, на Западе магистральною целью виделось скорее создание цельного вероучения и универсальной, «кафолической» церковной организации). Таким правильным опытом — если угодно, квинтэссенциально православным, православным par excellence — и признан был опыт исихастский.
Как следствие этого, в православии богословие Церкви и опыт исихастской практики, христоцентрического Богообщения мыслятся в обоюдной связи, взаимно определяют друг друга: опыт, в ряду прочих критериев, поверяет себя данными богословия и положениями вероучения; богословие же рассматривается как речь опыта, поведание того, что открыто было богословствующему на вершине его правильного опыта. Но в западном религиозном сознании подобный примат опыта отсутствует; оценку религиозных явлений это сознание совершает в большей мере на основании доктринальных положений и норм. И отсюда следует, что отношение к исихазму, рецепция исихазма на Западе коренится в соотношении богословских традиций, особенностей богословского видения христианского Запада и Востока.
Создание энергийного богословия явилось, как видим, необходимым и неизбежным плодом соединения двух важнейших составляющих православной традиции — греческой патристики с ее персонализмом и исихастской аскетики. Своим появлением это богословие ответило на самый насущный запрос православного сознания, удовлетворив давнюю нужду в богословской и догматической интерпретации древнего искусства духовного восхождения. Оно показало смысловую связь и духовное единство названных составляющих и само добавилось к ним, так что три элемента:
образовав тройственное единство, стали законченной основой восточнохристианского дискурса, цельного православного извода христианского Боговидения.
Однако здесь открывался и целый ряд новых крупных проблем. Энергийное богословие сразу же сопровождали и внутренние и внешние проблемы: первые включали в себя все вопросы догматического обоснования и анализа, внутренней законченности, непротиворечивости и т. п.; вторые же — проблемы его отношения к различным смежным дискурсам, богословским и философским. Проблемы внутренние изобиловали, поскольку разработка энергийного богословия далеко не была завершена; по окончании Исихастских Споров и после кончины Паламы она утеряла активность, а с падением Византии оборвалась целиком. Меж тем, в период полемики в адрес паламитских концепций высказан был широкий спектр возражений, не все из которых получили ответ. Если инвективы Варлаама отражали его непонимание исихазма и были вполне убедительно отвергнуты Паламой, то уже Акиндин, бывший ученик Паламы, знавший исихазм изнутри, в некоторых трудах развил довольно глубокую критическую аргументацию. Обширный корпус антипаламитских писаний поныне весьма плохо известен и изучен; а помимо того, критические вопросы по разным пунктам учения Паламы до сих пор возникают и независимо от этого корпуса. Поэтому, в отличие от классической патристики, богословие Паламы, в основе своей, безусловно, принятое и признанное Церковью, в определенных частях еще остается предметом принципиальных дискуссий, где сталкиваются pro и contra.
Мы не будем сейчас входить в эту внутреннюю проблематику. Значительно существенней для нашей темы проблемы внешние, главная часть которых двоякого рода: выяснение отношений энергийного богословия с западным богословием и с античной мыслью, где Аристотель и Плотин создали философию энергии, или же античный энергетизм, ставший классическою базой для всех будущих обращений к проблеме энергии. Но надо при этом помнить, что выше мы приняли решение сосредоточиться на позитивных и конструктивных достижениях западной рецепции исихазма, не останавливаясь на всей односторонне полемической, конфронтационной линии этой рецепции. В отношении к богословию нетварных Божественных энергий, эта линия долгое время была господствующей. Не входя в ее обсуждение, мы все же отметим, что неприятие энергийного богословия далеко не было порождено лишь общим состоянием межконфессиональных отношений; к нему имелись и веские причины в самом предмете, в базовых принципах богословских традиций.
Православная мысль издавна отличается тесной переплетенностью богословского и философского дискурсов, часто переходящей в нераздельную связь. В частности, и православный энергетизм как зрелый этап развития исихазма, включивший в себя концептуализацию исихастского опыта, нуждается в своем осмыслении в двояком контексте, богословском (или догматико-богословском) и философском. Для западной рецепции исихазма важны оба эти контекста. Главное содержание философской проблематики составляют две темы: соотношение православного энергетизма с античным энергетизмом Аристотеля и Плотина, а также с мыслью Ареопагитик, которая транскрибировала позиции античного энергетизма в христианском дискурсе. (Новая европейская философия, как заметил справедливо Хайдеггер, за счет перевода греческой ccccccc латинским actus, утеряла понятие энергии и не сумела достичь никакого принципиального продвижения в энергийной проблематике). И та, и другая тема до сих пор изучены недостаточно; в них нет еще окончательных выводов, как нет и общей платформы, единой позиции исследователей. Хотя произвол в суждениях и разноголосица мнений убавились за последние десятилетия, однако и ныне можно найти не только работы, сближающие мысль Паламы с аристотелизмом (хотя это, пожалуй, преобладающее воззрение), но также и работы, относящие эту мысль к руслу платонизма или неоплатонизма.
Между тем, важность вопроса о природе паламитского и исихастского энергетизма значительна, и это не только теоретическая, но, как увидим, и практическая — религиозная и антропологическая — важность. «Отношение энергийного богословия и античного энергетизма»: эта формула может звучать академично и отвлеченно, но от этого отношения весьма зависит, насколько судьба человека по православному учению является иной, нежели в античной языческой мистике. Православный энергетизм имеет заведомую связь с антропологией, поскольку он имеет прямую связь с исихазмом, антропологической практикой и школой антропологического опыта. Эта связь с исихазмом была решающей в его генезисе: положения энергийного богословия появились как результат интенсивного обсуждения и пристального продумывания исихастского опыта — прежде всего, высших ступеней Умного Делания, на которых человек путем стяжания благодати возводится к синергии и обретает начаток обожения, опытно переживаемый, по свидетельствам подвижников, как «отверзание чувств» и «созерцание Нетварного Света». В дальнейшем, однако, эта опытная, исихастская и антропологическая связь — sui generis «пуповина» православного энергетизма — оказалась отодвинута на второй план; будучи создан, православный энергетизм стал рассматриваться и изучаться почти исключительно в рамках учения о Боге. По многим причинам, это было неизбежно; сыграли роль и длительный упадок исихастской традиции, и общее отдаление от антропологии, «забвение человека», столь характерное для богословского дискурса последних столетий. Но в современную эпоху богословская мысль, напротив, усиленно обращается к антропологической теме, ставя ее в центр, и для характеристики богословской ситуации стали популярны формулы «антропологический поворот» и «антропологизация богословия». Давая этим формулам свою трактовку, православное богословие также участвует в общей тенденции; и соответственно, проблема антропологической связи, антропологических аспектов и импликаций энергийного богословия приобретает новую актуальность.
Поставленный вопрос о философском контексте энергийного богословия, на первый взгляд, не несет антропологического содержания; но мы увидим, что он выводит, в действительности, к весьма глубокой антропологической проблематике. Заметим, прежде всего, что хотя энергийное богословие православия обычно именуется «богословием нетварных Божественных энергий», но определенная часть его проблематики требует рассмотрения также и тварных, человеческих энергий. Это — именно та часть, с которой и начиналось его создание: анализ высших стадий исихастского опыта. Анализируя опыт, который исихасты называли «созерцанием Нетварного Света», Палама и его сторонники пришли к выводу, что в этом опыте человек достигает соединения с Богом в Его нетварных энергиях. Главный акцент этого вывода лежал в сфере учения о Боге: проблема истолкования исихастского опыта привела к необходимости поставить в центр понятие Божественной энергии, раньше лишь очень мало встречавшееся в богословии. Но, наряду с этим, здесь был и антропологический аспект, поскольку с Божественной энергией, благодатью Святого Духа, соединялись тварные человеческие энергии. При этом, такое соединение достигалось лишь на высших ступенях духовного восхождения, т. е. в итоге духовно-антропологического процесса, в котором подвижник последовательно преобразовывал, трансформировал всё множество своих энергий. Соединение, т. о., имеет некоторые антропологические предпосылки, и встает проблема их выяснения. В начале процесса тварные человеческие энергии не способны к соединению, в конце — они такую способность приобретают. Каковы же те особые свойства антропологических энергий, которые достигаются в духовной практике и являются необходимыми для соединения с Божественною энергией? — Разумеется, это не эмпирический, а философский и богословский вопрос, и поиск ответа на него входит в нашу задачу.
Итак, для установления философского контекста энергийного богословия нужно рассматривать как нетварные Божественные, так и тварные человеческие энергии, с особым вниманием к трансформации, которую последние проходят в духовной практике. Непосредственная проблема состоит в том, чтобы выяснить соотношение этих базовых реалий энергийного богословия с понятиями и положениями античной философии энергии. Ключевой элемент всякой концепции энергии — отношение энергии и сущности. Отчетливая, законченная конструкция этого отношения представлена в основном тексте зрелого античного энергетизма, Трактате II.5 Плотиновых «Эннеад». В неоплатонической трактовке, энергия и сущность — два взаимосвязанных и онтологически равносильных принципа: они предполагают друг друга и между ними действует нерушимая икономия взаимной принадлежности и взаимного равновесия. Всякая энергия осуществляет актуализацию определенной сущности, как и обратно, всякая сущность актуализуется в определенной энергии (энергиях); иными словами, всякая энергия сущностна — всякая сущность энергийна. В этой сжатой формуле — суть античного энергетизма, и нам нужно выяснить, согласуется ли с нею трактовка Божественных и человеческих энергий в энергийном богословии.
Итак, на вершинах мистико-аскетического опыта, в приближении к обожению, происходит соединение тварных человеческих энергий с Божественной энергией, которое не сопровождается соединением по сущности. Заметим, однако, что в рамках неоплатонического энергетизма, утверждающего взаимную принадлежность энергии и сущности, такое асимметричное соединение, ограниченное лишь энергией, заведомо невозможно! Действительно, если бы каждая из двух соединяющихся энергий несла в себе соответствующую сущность и актуализовала ее, то соединение энергий с необходимостью влекло бы и соединение сущностей. Поэтому следует заключить, что хотя бы одна из этих энергий не обладает неоплатонической симметрической, обоюдной связью с сущностью. Выше, однако, мы уже выяснили, что для Божественной энергии имеет место именно такая обоюдная связь. Суммируя эти аргументы, мы получаем вывод: если тварная человеческая энергия достигает соединения с нетварной Божественной энергией — что происходит, по православному учению, в исихастском опыте созерцания Фаворского Света, в синергии и обожении, — она более не может служить актуализации тварной человеческой сущности. Тем самым, она освобождается от связи с ней и, обретая автономию от сущности, становится энергией некоего иного, нового рода: деэссенциализованной энергией, не соответствующей понятию энергии у Плотина.
Задача полностью эксплицировать философские позиции православного энергетизма осталась нашему времени. Знаменательно, что эта задача обращает к проблеме тварных энергий в исихастской практике — антропологической проблеме, выступающей как актуальная богословская проблема. Исследования исихазма оказываются тем полем, на котором осуществляется антропологический поворот богословской мысли, — поворот, признанный ключевой задачей христианского богословия наших дней. И здесь опыт древней подвижнической традиции вновь и по-новому выступает как общехристианское достояние.
Эта молитвенная практика включает в себя не только произнесение молитвы как таковое, но и достаточно сложно построенный аппарат молитвенного опыта, включающий в себя прежде всего хранение молитвы. Во время молитвы ум должен функционировать в совершенно определенном режиме, который не держится сам собой. Это известно каждому, имеющему хоть малый опыт. Не только с Иисусовой молитвой, но и с любой молитвенной практикой теснейше связан такой фактор сознания, как концентрация внимания. Молитва должна сопрягаться с определенной дисциплиной внимания. Задача внимания – как бы обвести молитвенное действие защитной стеной, создать особое молитвенное пространство и охранять его от вторжений, от внешних помех. И когда молитва ограждена надлежащей стражей внимания, с человеком делаются возможны очень специальные явления; он входит в особый непрерывный процесс, который духовная литература описывает в терминах восхождения.
Здесь существенны все мельчайшие детали. И то, что текст молитвы имеет именно такую длину, и то, что он включает в себя именно такие слова. Краткость Иисусовой молитвы сочетается с невероятной полнотой содержания, включающего в себя в сжатой форме все богословие, все христианское вероучение. И путем непрестанного повторения этой молитвенной формулы, при страже внимания совершается уникальная аккумуляция и фокусировка энергии, достигающая такой степени, когда начинаются качественные превращения, или, как физики скажут, “фазовые переходы”, в молитвенном процессе. Духовное восхождение как раз и обеспечивается соединением этой найденной в традиции уникальной молитвенной формулы и очень развитого аппарата внимания, который охраняет молитвенный процесс, создавая особое молитвенное пространство, замкнутое для эмпирических помех, отвлечений – и за счет этого размыкающееся, открывающееся навстречу иному бытию, Богу. По слову преподобного Филофея Синаита (IX век), “внимание и молитва, вместе соединяясь, образуют подобие огненной колесницы Илии, возносящей человека к Богу”. И “огненная колесница” здесь – очень многозначительная метафора.
Что же до религиозного и аскетического опыта, то религиозный опыт как таковой актуален всегда: религиозное измерение в человеке существует и не денется никуда, покуда человек есть человек. И как опыт о человеке сегодня он более актуален, чем прежде. Опыт же аскетический выделяется еще особой сосредоточенностью на человеке, он весь строится как развитие некоего активного подхода к антропологической реальности. Здесь перед нами пример отчетливо поставленной и очень цепко, методично решаемой задачи о человеке. Благодаря этой отчетливой отрефлектированности и методической строгости, древняя школа исихастской аскезы – с виду предельно узкий, частный подход к человеку – несет в себе на поверку цельный взгляд на человека, цельную антропологическую модель. Модель эта основана на иных общих интуициях, иных понятиях, чем классическая европейская модель, она строится в ином дискурсе и потому сегодня представляет собой новый и неосвоенный ресурс европейского сознания в его усилиях разгадать происходящее с человеком. Узость оказывается широтой, древность – современностью. И в нашей беседе нам надо увидеть, как это достигается. Я кратко опишу исихастскую модель – и мы попытаемся затем уловить связи, выстроить мостик между этой моделью и проблемами нынешней антропологической и культурной ситуации.
Уже самый первый трактат, где описывается исихастская аскеза, носит название “Лествица”. Это означает, что опыт выстраивается как строгая последовательность ступеней, возводящих человека к определенной духовной цели. Иоанн Лествичник выделяет тридцать ступеней. Это число никогда не считалось заданным строго и однозначно – но, вместе с тем, существует набор важнейших структурных составляющих духовного опыта, которые непременны, неотменимы.
Вначале основное внимание, основная энергия подвижника обращаются на отношения с мирской стихией, которую он решился оставить, но которая не оставляет его. Затем встает центральная, ключевая задача – задача восхождения.
Дело в том, что восхождение человека по ступеням духовной Лествицы должно вести к совершенно особому устроению всех устремлений и помышлений, всех энергий человека: к такому устроению, которого человек не может достичь только “своими средствами”, теми, что он распоряжается. В силу этого, такой внутренний подъем представляет собой совершенно особую деятельность, отличную от всего, что делается в обычном человеческом существовании, – иначе говоря, альтернативную антропологическую стратегию. Об этой деятельности и повествует подробно аскетическая “Лествица”; здесь описываются возникающие в данной духовной практике способы устроения всех человеческих импульсов, помыслов, эмоций. Благодаря этим способам осуществляется трансформация всего существа человека, однако взятого не в своем субстанциальном составе, своих косных материях, а в своей энергийной стихии. Практика работает с энергиями человека.
Всякая эмоция, всякий помысл – это не субстанциальная, а энергийная величина. Духовная практика видит человека как совокупность всех его разнообразных энергий или, выразимся наукообразно, как проекцию человека в энергийное измерение: человеку сопоставляется некий его «энергийный образ». С ним-то и совершается переустройство.
Понятно, что человеческие энергии можно различать, выделяя среди них чисто физические, эмоционально-душевные, интеллектуальные и т. п. Но энергии могут различаться и по цели, к которой они направлены, – мы можем их мыслить в качестве векторов, приписывать им некоторые направления (конечно, не в физическом пространстве, вообще говоря). То есть человек как совокупность энергий – это некий “ежик”, энергии которого топорщатся во все стороны. Энергии рассеяны, их направленность определяется смутным, разноречивым миром, который “обстоит” нас: ежик – в тумане. И вот аскеза с этой разнонаправленной, невнятной совокупностью энергий начинает систематически работать.
Есть и еще один, третий, способ существования, когда все энергии человека устремлены к Богу, соединены с Его энергиями. Достичь такого существования – в этом и состоит цель аскетической практики. Исаак Сирин определяет такое устроение энергий как сверхъестественное. И ясно почему.
Как нельзя самому себя вытащить из болота за волосы, так нельзя и достичь Богоустремленного устроения энергий собственными силами и средствами, за счет лишь своих внутренних энергий. Человек сам по себе не может изменить свою природу, он способен только осуществлять ее, о чем разумно говорит гуманистическая традиция. Гуманизм настаивает на том, что цель человека – полностью раскрыться, полностью реализовать себя. Аскеза утверждает иные, альтернативные цели. Здесь нет гуманистского восторга перед наличной природой человека – но, однако, нет и стремления ее проклясть и отбросить, отсечь или умертвить, в пользу некоего чисто духовного начала. Такие стремления в эпоху конца античности были весьма присущи гностическим и иным сектам, и ранняя Церковь активно боролась с ними. Девиз аскезы – “превосхождение естества”: нужно не просто раскрыть человеческую природу, но пойти дальше – не согласившись с ней, трансформировать ее. И добиться этого лишь своими, естественными средствами человек не может; тут требуется другой источник энергии. Без собственных энергий человек, конечно, тоже ничего не достигнет, но их одних недостаточно, они не могут сообщить человеку силу восхождения по духовной вертикали.
Тут существенно одно философское различение, к которому мы прямиком подошли. Философия различает бытие и сущее, онтологическое и онтическое. Когда мы говорим об онтологическом восхождении, мы имеем в виду изменение самого способа (образа, горизонта) бытия человека. И оно действительно неосуществимо изнутри. Разумеется, есть обширный диапазон изменений вполне радикальных, но остающихся в рамках здешнего горизонта бытия. Такие изменения называются в философии онтическими. Есть область онтологического, относящегося к бытию, и область онтического, относящегося к сущему. И подъемная – онтологическая – сила может принадлежать только иному, нездешнему плану бытия. Православие оперирует именно этой логикой: оно говорит о том, что подъемную силу дают человеку божественные энергии. В иных терминах задача обретения онтологической подъемной силы обозначается как стяжание благодати.
Благодать – это божественная энергия, стяжание благодати – соединение человеческих энергий с божественными. Благодать не может не обладать абсолютно иными свойствами, о ней нельзя говорить тем же позитивистски-описательным языком, в том же дискурсе, в каком мы говорим о наших собственных, человеческих энергиях. Но это не значит, что мы вообще ничего не можем сказать о благодати. Аскетическая традиция существует. Мы не можем строить априорные философские конструкции на этот счет, но есть материал самого аскетического опыта, который замечательно выражен и описан с очень высокой степенью артикулированности. Язык его описания необычен, но разработан чрезвычайно точно. Если научиться его понимать – а для этого надо перейти от чисто внешней позиции к “участной”, позиции общения в опыте – о стяжании благодати можно узнать многое.
Достичь стяжания благодати – главная задача аскезы. Далее же идут высшие ступени, то есть те, на которых действие благодати становится преобладающим. Аскетический опыт признает, что действие благодати, еще скупое и сокровенное, необходимо и на низших его ступенях. Но чем дальше, чем выше, тем действие благодати становится все более ощутимым. И постепенно благодать начинает все явственнее преобладать над действием естественного, “только человеческого” энергийного репертуара. Начинается подлинная трансформация человеческого существа. В финале, на высших ступенях Лествицы, исихастская аскеза приводит к тому, что православная традиция обозначает словом “обожение”, теозис, и квалифицирует как совершенное соединение человека с Богом в Его энергиях.
Что означает такое соединение? Оно означает, что все собственные энергии человека сообразуются, соработничают с божественной, нетварной энергией; это определяется известным православным понятием синергии. Опыт пребывания на высших ступенях Лествицы исихасты утверждали как опыт “созерцания Света Фаворского”. Такая позиция закреплена была в богословии Григория Паламы и в решениях церковных соборов – и тем удостоверялось, что аскетический опыт есть действительно опыт обожения, приобщающий к тому полному единению божественного и человеческого, которое явлено в личности Христа. Преображение на горе Фаворе – евангельское священное событие, в котором исихазм видит связь, соединение специфически аскетического пути с общецерковным, общехристианским.
Описав таким образом аскетическую практику, мы уже подошли и к обобщающему разговору о ее антропологическом значении. Мы описали эту практику как некую стратегию, которая выводит человека из границ эмпирического способа существования, из границ наличного бытия. Точнее сказать, выводит его к границе, за которой кончается собственно человеческое существование. В философии общий способ определения предмета заключается в том, чтобы очертить его границу. Соответственно, философски оправдано, чтобы способ человеческого существования получал определение от своей границы, которую мы назовем антропологической границей.
Духовная практика исихазма выводит, таким образом, к антропологической границе. Но это не единственный путь. Есть и другие способы достичь этой границы. И первый уровень обобщения состоит в том, чтобы посмотреть на исихазм как на одну из известных человечеству духовных практик. Все эти практики могут характеризоваться какими-то общими чертами, позволяющими определить их как стратегии, ведущие к антропологической границе.
Если мы возьмем, например, тибетский буддизм, то вновь увидим некоторую методически выстроенную практику, которая тоже работает с человеческими энергиями, тоже переустраивает энергийный образ и мир человека и тоже устремлена в этом переустройстве к пределам, к границе человеческого существа. Но в то же время, различия между христианством и буддизмом радикальны. Финальная духовная цель в буддизме диаметрально противоположна христианской – но при этом данная цель тоже относится к области антропологической границы. И мы заключаем, что существует некий комплекс явлений, которые могут быть очень различны между собой, но при этом все принадлежат антропологической границе.
Отсюда далее возникает вопрос: а какова вся в целом область таких явлений? Ответ дал бы возможность полностью описать отношения человека со своей границей. Это – следующий уровень обобщения. Духовные практики ведут к антропологической границе. Но только ли они? И тут мы замечаем, что наряду с духовными практиками человек может оказаться на границе и в целом ряде других ситуаций, в результате целого ряда других стратегий. Вообще в современной философии одна из самых модных и разрабатываемых тем – это именно тема о предельном опыте, о предельных ситуациях. Но эти предельные ситуации, как правило, отнюдь не те же, что достигаются в опыте аскезы. Обычно речь идет совсем о другом. Скажем, некоторые предельные практики проектировал и отчасти осуществлял Арто: в рамках театрального искусства он жаждал решить гораздо более общую задачу, антропологическую. Антропология «театра жестокости» также испытует пределы человека, его границу – но это не аскетическая антропология.
Становится ясно, что на антропологической границе можно найти какие-то различные области. Естественно встает вопрос: а как граница выглядит вся, целиком? Такой подход близок к научной методологии и парадигме психоанализа. К явлениям в сознании психоанализ любит подходить “картографически”, он составляет топику, говорит о территории, о карте; и понятно, что в той логике, в которой мы сейчас разговариваем, подобный подход оправдан и плодотворен.
Мы видим, что антропологическая граница вырисовывается у нас как нечто, обладающее развитой топикой. Есть одна область, куда попадают через духовные практики, есть другая область, куда попадают, допустим, через перформанс, и есть область, тоже явно предельная для человеческого существования, куда ведет безумие. Слово “безумие” я употребляю в широком, лакановском смысле. Лакан говорил о безумии с той же степенью обобщенности, с которой мы говорим о духовных практиках. Он утверждал, что человеческое бытие нельзя осознать вне безумия, тоже понимая безумие как некую область границы. Это подход вполне философский и корректный: с основанием утверждают, что безумие есть граница человеческого способа существования и определить человека – это значит разобраться в его отношениях с безумием. Но, как правило, зачарованные безумием не хотят замечать, что человеческое бытие точно так же нельзя понять вне обожения! Граница человека не только там, где безумие, но и там, где Бог.
Звучит просто – но опыт истории говорит, что человеку отчего-то ужасно трудно видеть в себе и то и другое, признавать в их правах, в истинной их природе обе топики своей границы. С каждой из топик связан тип сознания, убежденного и утверждающего, что Человек весь исчерпывается одной данной топикой, и другого человека не может быть потому что не может быть никогда. Не столь давно, выступая как беззаветный рыцарь безумия, Мишель Фуко показал нам всем, как долго христианская Европа не понимала безумия, в упор не желала видеть его и относилась к нему с вопиющей бесчеловечностью. Но на другой стороне нас встречает зашоренный и ослепленный взгляд Фрейда и фрейдизма на религиозное сознание, их категорический отказ понять и признать, что духовная практика – занятие здоровых, а не больных, и вне территории безумия лежит иная, с иными законами земля Человека. Нас встречает идеологическое и тоталитаристское, глубоко ненаучное стремление аннексировать и религиозного, и вообще всего Человека в сферу своей науки, отождествить «человека психоанализа» с Человеком как таковым – и мы меланхолически констатируем, что слепота и тоталитарность, сменяя лишь формы, остаются стойкими свойствами просвещенного сознания...
Человек сложен, “удобопременчив” (старинный аскетический термин). Он может выбирать как стратегии, ведущие в область безумия, так и стратегии, ведущие в область обожения. Вдобавок он может запросто перескочить из одной стратегии в другую, даже не заметив этого. Может полагать, что стремится к Богу, и в то же время скатываться в безумие. Ситуация, очень запутанная в теории и очень опасная в жизни – но ценно, что мы нашли, по крайней мере, некий угол зрения и некий язык, что позволяет говорить о проблеме в целом.
Мы видим, что можно нарисовать некую карту антропологической границы, и на ней будет область безумия и будет область обожения или духовной практики. И мы получим реальную возможность говорить об их взаимоотношениях, о том, как не спутать одно с другим, какие существуют, как я называю, гибридные стратегии, гибридные практики, основанные именно на смешении, на подмене... Мы опять попадаем в необычайно актуальную современную проблематику. Известно, что существует устойчивая тенденция современного сознания к волевому, форсированному достижению антропологической границы, к достижению предельного опыта, расширенного сознания, измененных состояний сознания и т.д. В тяге к таким состояниям, как правило, и смешиваются мотивы. Человек ведь не хочет безумия. Он желает попасть в другую область антропологической границы – скорее всего, туда, где обожение. Но, чтобы достичь этого, он выстраивает некие волевые, форсированные стратегии – использует, например, наркотики – и в итоге оказывается в сфере безумия. И дело не в наркотиках даже. Специфика духовной практики – в отсутствии всякой расчисленной стратегии или техники, следование которой с гарантией приводило бы к цели. Цель такова, что гарантии ее достижения попросту не принадлежат человеку. И потому любая цель, которую ставят и гарантируют обеспечить бесчисленные нынешние психотехники и психоаттракционы, заведомо не может быть целью истинной духовной практики – мета-антропологической целью.
Со всем этим нужно разбираться. И прояснению этого способствует отчетливая картография антропологической границы, которую необходимо разрабатывать, чтобы идентифицировать виды стратегий, установить различия между ними и хоть как-то содействовать распутыванию всех тех противоречивых узлов, всех тех гибридных энергийных образований, которые выстраивает современная культура и еще больше – массовая культура.
Мы видим, что сегодня отношения с собственной границей, как никогда раньше, выступают для человека на первый план. Прежде человек достаточно уютно существовал внутри своего горизонта, но сегодня это, по-видимому, уже не так. Возможно, дает о себе знать грань эпох, грань тысячелетий, но отношения с границей становятся в порядок дня уже не как маргинальная тема существования, но как основополагающая. Поэтому, вспомнив о всегдашнем способе определения предмета – определить значит очертить границу, – можно сказать, что современный человек есть ансамбль стратегий, ведущих к антропологической границе, или же совокупность отношений со своей границей. Напоминаю, мы говорим о человеке в его энергийном аспекте, поэтому сама граница понимается нами не материально и не пространственно, а как то, к чему выводят определенные режимы деятельности, определенные способы устроения всех энергий, то есть мы ее понимаем энергийно и деятельностно.
Сегодня с определенностью можно сказать, например, что виртуальная реальность – это тоже граничная реальность. Здесь тоже обрывается область нормального, обычного эмпирического существования. Это не полномерная, не вполне достроенная реальность, она не обладает всей совокупностью признаков, или, говоря философски, предикатов человеческого существования. Но она существует, виртуальный опыт – часть сегодняшнего опыта, притом часть, которая расширяется так быстро и так разнообразно, что мы не в силах за ней уследить. Виртуальный опыт – тоже опыт границы.
Тем самым, на антропологической границе мы заметили уже третью область. Понятно, что сам способ бытия здесь тоже не меняется, человек не приобретает никаких признаков бытия божественного, то есть в настоящем, онтологическом, полновесном смысле – иного по отношению к бытию человека. Такого в виртуальном опыте не происходит. Мы скорей не приобретаем что-то, а чего-то не добираем, имея здесь неполный набор признаков человеческого существования.
Имеются аргументы в пользу того, что других независимых видов граничных процессов уже нет, и таким образом, рассмотрев духовные практики, область безумия, виртуальный опыт, мы, может быть, грубо, общо, но описываем границу человека уже целиком. И видим, что только в опыте духовной практики человек выходит на настоящую, в подлинном смысле онтологическую границу.
Если же говорить не о питании и влиянии, а об истинном следовании путем аскезы, то здесь необходимо взглянуть на суть этого пути. Аскеза – это “практика себя”, есть такой современный антропологический термин. Это предельно творческий подход, но прежде всего – к собственной внутренней реальности. Ты что-то с ней делаешь, очень продуманно, очень творчески, но с ней. И выражается это в трансформации ее же. Соответственно, это не эстетическая деятельность, хотя и художество: одно из самоназваний аскезы – умное художество. И артистизм здесь не то что показан – необходим. Однако сфера, в которой он реализуется, – не внешняя, но внутренняя человеческая реальность.
В каком-то смысле ближе всего к этому актерское искусство. Оно тоже есть внутреннее вылепливание себя. Но целевые установки другие. И потому издревле существовала антитеза между церковью и актерством. Именно актерское, театральное искусство, лицедейство рассматривалось как прямо противоположное, даже враждебное аскетическому, церковному пути. Причина понятна: ты занимаешься той же работой, вылепливаешь какие-то, в терминах нашего разговора, энергийные образы – однако совсем не те, что ведут по Лествице духовного восхождения! Помимо того, сомнение вызывало и воплощение, разыгрывание иных, чужих личностей, надевание чужих да еще сменяющихся масок – здесь, как опасались, расточается уникальность собственной личности и судьбы, утрачивается собственная духовная идентичность. В большой мере, эти сомнения и опасения – тенденции архаичного религиозного сознания, тяготеющего к языческой парадигме сакрализации. Действительные отношения театра и с христианством, и с духовными практиками тоньше и сложнее. Возьмем, к примеру, актерскую систему Михаила Чехова: он сумел соединить актерство с духовной практикой определенного – антропософского – типа. Но это Михаил Чехов, гениальный актер. И синтез достигнут им был далеко не сразу. Сперва он научился быть вполне актером, потом он научился быть вполне антропософом, а потом он научился соединять то и другое. Обычному человеку каждой из этих задач хватило бы на целую жизнь.
Что же касается феномена искусства вообще, то человек в нем вполне может рассматриваться в традиционном святоотеческом ракурсе, как некий фокус, где сходятся все возможности, все стратегии. Человек – энергийный и деятельный центр, из которого могут исходить стратегии духовного возрастания, стратегии безумия, стратегии виртуальные... И специфическая ценность искусства в том, что оно способно представить человека именно в качестве такой универсальной связки, уникальной точки мироздания, которая чревата, беременна, насыщена всеми возможностями – возможностями обожения, безумия, ухода в какие-то виртуальные миры... Уловить и явить эту полномерность человека – и тем самым хранить и воспроизводить ее, – на мой взгляд, специфическая задача искусства. Ни наука, ни религия этим не занимаются, у них задачи другие.
И если переходить уже к большей конкретике эстетического выражения, то в таком синтетическом подходе к человеку язык кино обладает, я думаю, наибольшими возможностями, поскольку кино синтетично par excellence. И, просто исходя из личного опыта, могу сказать, что, когда я пытаюсь размышлять не о какой-то частной антропологической проблематике, а именно о сочетании всего, всех возможностей в человеке, я часто ловлю себя на том, что мне хочется сделать фильм, что это сочетание лучше всего передаваемо именно так. Ведь человек как совокупность энергий, стратегий – “животное сценарное”, несущее в себе зародыши не просто разных сценариев, а сценариев, лежащих в разных измерениях бытия. И здесь есть опять-таки близость к аскетике, которая построена на том ощущении, которое передает максима Макария Великого, одного из первых аскетов IV века: “как Бог свободен, так свободен и ты”. Диапазон свободы – от неба до ада. И в изображении такого вот предельного диапазона кино наделено максимальными возможностями.
Должен сказать, что мой интерес к кино абсолютно не связан с темой “христианство и кино”, религиозной темой в кинематографе и т.п. (К сожалению, именно в этих темах кино всего слабей и малоинтересней.) Для меня существен способ видения, который здесь достигается. Я бы рискнул сказать, что аскетическое и кинематографическое видение человека имеют несколько важных общих черт: они оба динамичны (дают человека в движении и изменении, как деятельностно-энергийное образование) и холистичны (дают человека как цельную, едва ли расчленимую совокупность всех его помыслов, эмоций, перцепций). Такой синтетический подход, во-первых, современен, а во-вторых, имеет особую ценность для антрополога. Мне было всегда понятно: антропологическая задача, как скажут математики, неаддитивна: задачу о целом не разложить на отдельные, не столь трудные задачи о частях целого. Можно по очереди описать все аспекты человеческого существования – интеллектуальные задачи, сферу перцепций, затем сферу эмоций и так далее. Но до сути мы так не дойдем. Синтетичный подход необходим, потому что есть какая-то суть, которая идет поперек всех этих измерений и открывается лишь тогда, когда каким-то образом одновременно учитывается и фиксируется и то, и это – все в человеке. И, мне кажется, ухватывать суть, идущую поперек всех этих отдельных аспектов и измерений, дано именно кинематографу с его средствами выражения; это задача того специфически кинематографического мышления, которое я в такой живой и великолепной практической демонстрации нахожу у Эйзенштейна. Когда я его читаю, я вижу это синтетическое видение и синтетическое киномышление в действии.
Вот и сейчас ваш диктофон стоит на томе его автобиографических заметок. Эйзенштейн – один из моих постоянных интеллектуальных спутников. В высшей степени чуждый для меня человеческий тип, достаточно антипатичный, но я ценю его в качестве даже не оппонента, а собеседника, с которым, как ни странно, в большинстве случаев соглашаюсь. И не просто соглашаюсь, а соглашаюсь с энтузиазмом! Это великолепный ум, чрезвычайно мне близкий как по ключевым темам размышлений, так и по путям решения этих тем. Заметим, прежде всего, что пресловутые Большие Темы Эйзенштейна – Экстаз и Пафос – понимались им именно как темы о предельных феноменах, представляющих собой к тому же некоторые (в моих терминах) типы энергийного устроения человека. И в видении человека, утверждающем ключевую роль экстаза и пафоса, мне приятно опознать прообраз подхода, реконструирующего топику Антропологической Границы, – и, пожалуй, даже прообраз моей “энергийной предельной модели человека”. Далее, разногласия с умным собеседником еще плодотворней совпадений. “Экстаз”, по массе причин, входить в которые тут не место, сомнителен как адекватный базовый концепт для изучения предельных феноменов (недаром его теории у мэтра так, кажется, и не вышло). По отношению же к духовной практике исихазма он – заведомо и резко иное, не совпадающее с ее искомым. “На Елисейских полях экстаза мы встретились”, – пишет где-то Эйзенштейн. Мы же с ним на этих полях разошлись.
Итак, Эйзенштейн (и надо добавить, еще и Джойс – важная и нас соединяющая фигура!) пытается развить гибкий, системно-динамический, холистически-синтетический, энергийный взгляд на человека. Как человек кино, а не абстрактный философ Эйзенштейн обладает особой, кинематографической постановкой ума, что направлена на осмысление антропологической реальности в целом: как движется и что собой представляет то многомерное целое, которое есть действующий человек – человек в действии, включая его разум, его эмоции, перцепции, а также, несомненно, и соматику, тело. Все это сложное целое, над которым я размышляю как антрополог, Эйзенштейн видит необычайно продуктивно и эффективно. И все, что он говорит о том, как человек действует, чувствует, думает, воспринимает, – всегда, без дураков, ясно, эффективно и, как правило, на 99 процентов совпадает с тем, как вижу это я. Что не исключает диаметральных расхождений в самом общем.
Вот в этой книжке его мемуаров самый большой раздел озаглавлен “Светлой памяти маркиза”, то бишь де Сада. И вся анатомия присущего Эйзенштейну садистического типа личности здесь деконструирована. Ясность видения антропологической реальности не изменяет Эйзенштейну и тогда, когда его взор обращается на себя самого. Помните, у Пушкина: “...и с отвращением читая жизнь мою...” и так далее. Вот эта острота видения себя у Эйзенштейна вполне достигает пушкинской. Только у Пушкина отношение к вскрываемой ауто-реальности – в ключе “отвращения”, что есть, разумеется, вариант христианской установки покаяния. У Эйзенштейна же нас с первых страниц встречает вызывающая и похабная декларация удовлетворения, сублимации, с позволения сказать, своего садизма. Достаточно допустимо назвать и эти первичные побуждения, что бурлили в его личности (побуждения насилия, садизма, жестокости), и его отрефлектированное отношение к ним сатанической установкой. Только надо добавить и учесть, что он в сатану не верил. Это значимый момент для наших оценок. Без этой веры его реализации своих импульсов в своем искусстве все же получают иную направленность и перспективу, они не служат утверждению несуществующей антибожественной фигуры, противостоящей Богу.
В аскетическом опыте, например, "бесы" – одно из первейших понятий, и разговор о низших ступенях аскезы почти целиком относится к демонологии. Разумеется, это некая реальность. Вопрос – какая? В философской постановке, такой вопрос снова приводит нас к теме Антропологической Границы; и мы видим, что вариантов ответа отнюдь не много. Ясно, что род этой бесовской реальности – не тот же что у обычных эмпирических явлений, иначе говоря, эта реальность мета-эмпирична. Но, вместе с тем, она не может иметь статуса подлинного Инобытия: это и было бы манихейской онтологией, утверждающей, наряду с Божественным бытием, некий противостоящий горизонт анти-Божественного бытия. Не допуская такого бытийного горизонта, христианское учение о бытии равным образом не допускает и никакого третьего рода бытия, помимо Божественного и тварного. И, стало быть, та реальность, с которой имеет дело аскетическая демонология, является мета-эмпирической, но при этом не онтологически инаковой эмпирическому бытию. Тем самым, инаковость этой реальности по отношению к горизонту существования человека – лишь онтическая, а не онтологическая, то есть, в наших терминах, она отделена от этого горизонта онтической антропологической границей. Описанная же выше топика границы говорит нам, что онтическая граница – это "область безумия", область процессов, индуцируемых из бессознательного. Опыт человека есть опыт его сознания; и сфера бессознательного, будучи per definitionem вне досягаемости сознания, лежит, тем самым, и за пределами опыта: ergo, это и есть та же самая онтически мета-эмпирическая область бесов и демонов аскетического опыта. При этом, бессознательное, оказываясь конституирующим принципом феноменов аскетической демонологии, выступает как своего рода парадигматический коррелат сатаны. Это важный вывод, и именно он составляет смысл известного афоризма Лакана: «Истинная формула атеизма – это не "Бог умер". Истинная формула атеизма – "Бог бессознателен"».
Как видим, мы оказываемся в близком соседстве с весьма известной современной наукой. Область явлений и процессов, связанных с бессознательным, признана областью психоанализа, который стал в ХХ в. едва ли не главенствующей наукой о человеке и который трактует эти явления как мании, фобии, неврозы и прочие аномалии психики. Но было бы непростительной – и ненаучной! – поспешностью решить, что психоанализ и представляет собой готовую теорию феноменов аскетического опыта, и нам остается лишь подвести эти феномены под те или другие психоаналитические категории (хотя для этого – заметим в скобках – «есть тьма охотников»). Мы лишь констатируем, что аскетический дискурс, когда он говорит об определенных низших ступенях пути подвига (именно, ступенях борьбы со страстями, «Невидимой Брани») и дискурс психоаналитический относятся к одной и той же сфере реальности – сфере бессознательного, или же «онтического метаэмпирического». И отсюда еще решительно не следует, что второй дискурс дает корректное осмысление первого, что их можно рассматривать как, соответственно, означаемое и означающее. Не следует, прежде всего, потому что психоанализ далеко не являет собой некую «общую научную теорию» сферы бессознательного. Это экспериментальная наука, изучившая некоторые виды явлений и процессов в этой сфере, пока лишь частично сумевшая их концептуализовать и отнюдь не притязающая на то, что ей известны все виды таких процессов и все хотя бы важнейшие их закономерности. Затем, существует и целый ряд очевидных отличий двух сфер – в частности, связанных с тем, что пути подвига присущи свои специфические мотивации, как равно и специфические приемы, борьбы со страстями (о некоторых из них мне приходилось писать в книге «К феноменологии аскезы»). Поэтому, вместо готовых суждений, нужно поставить и рассмотреть вопрос: как соотносятся феномены аскетического опыта с процессами, изученными в психоанализе? Данный вопрос – часть обширного проблемного поля, отвечающего отношениям аскетического и психоаналитического дискурсов. Исследование этого поля должно, прежде всего, признать, что каждый из сопоставляемых дискурсов имеет под собой весьма основательную базу, как опытную, так и концептуальную. И в свете этого, можно предполагать, что, если отношения двух дискурсов не будут строиться в застарелых стереотипах взаимоотрицания и идеологической войны, то между ними станут возможны плодотворное общение и обмен.
И чтобы закончить об Эйзенштейне: для меня существенно, что в его последний, предсмертный период бурлившие в нем стихии оказываются уже в известной мере духовно переработаны. Я никогда не изучал специально ни его биографию, ни теорию. Эйзенштейн в чем-то настолько мне близок, а в чем-то настолько далек, что подход академический – не для меня. Так что, повторяю, в чисто биографическом плане могу ошибаться, но, по моему чувству, по восприятию, в этот последний период он был “на связи” с Пушкиным. Пушкин для него становился все более значимым. А сближение с Пушкиным – это и есть приближение к совсем другому, духовно проработанному отношению к собственной внутренней реальности. Выход к Пушкину – это уже выход к словам “и с отвращением читая жизнь мою”. И, как мне представляется, Эйзенштейн все же двигался в этом направлении. Для меня это важно.
Это можно связать и с общехристианским воззрением на историческую реальность, ее фактуру. Христианство с самого начала видело историческую ткань событий таким образом, что весь смысл заключен в конце, в финале – и из этой точки финала, в обратной перспективе (тут полная параллель пространственной обратной перспективе в иконе), – совершается наделение смыслом всего хода явлений. Соответственно, финал пути обретает особенную смысловую насыщенность. Христианский дискурс – не дискурс судьбы, но единственное место, где о судьбе можно говорить, – это как раз финал.
У Довлатова есть где-то анекдот о том, как никто из его знакомых не добрался дальше девятой страницы романа Томаса Манна «Иосиф и его братья». А кто из наших знакомых одолел знаменитого «Улисса» Джойса - этот многомерный, аукающийся ассоциациями, ироничный и совершенно нечитабельный роман? Сергей Хоружий, физик и математик, богослов и философ, не только дочитал «Улисса» до конца, но и перевел роман на русский. Вместе с тем постоянным занятием его всегда оставалась философия и - в русской традиции неотделимое от нее - богословие, размышления о духовных практиках, аскетике, мистике православия. Идейной, духовной истории России посвящена и новая, только что вышедшая его книга - «Опыты из русской духовной традиции». О том, как сегодня складываются судьбы мысли русской и западной, что беспокоит касту любомудров, людей, больше всего на свете любящих думать - наша беседа.
И из всего имеем краткое резюме: если выделять главное в философской ситуации России, это без сомнения – системная (пока не идеологическая) ресоветизация и отсутствие творческого движения.
Заметим: самые характерные явления наших дней, определяющие их облик, занимающие полосы СМИ, – антропологической природы. Вот самая острая проблема – терроризм; но его новейшая и опаснейшая форма, терроризм самоубийц, как некий род самоубийства, есть антропологическое явление – экстремальная практика из обширного разряда практик трансгрессии (преступания норм), которые ныне так популярны. Почти столь же остра проблема наркотиков: она означает, что современный человек в массовом масштабе практикует все и любые средства трансформации сознания, вплоть до разрушающих личность и смертельных. Еще глубже заходят генетические и гендерные эксперименты: они вторгаются не только уже в структуры сознания и идентичности, но и в генетическую программу, в сам код человека, базовые механизмы продолжения рода, – причем ведутся без единого плана, без знания последствий. И наконец, виртуальные практики: их уже множество, и если взять их все вкупе, в них возникает совершенно особый «виртуальный человек», у которого все отношения с реальностью свои, другие.
Это насущная задача мысли, к ней сходятся и теоретические проблемы перехода к новой эпистеме, новой философии, и практические нужды понимания важнейших современных явлений. Для меня она – в центре всей моей работы последних лет. Надо было найти новые понятия, новый язык для описания человека – и нетрудно было заметить, что ценные ресурсы для этого имеются в духовных практиках, что с древности создавались в лоне мировых религий. Здесь не приписывали человеку никаких сущностей, а вели тонкую работу с тем, что у него есть заведомо: с его энергиями. Притом, для европейской мысли, себя выражающей в понятиях, разные практики эвристически неравноценны: дальневосточные традиции (йога, дзен и др.) артикулируются в культуре внепонятийного мышления, и для нас они могут служить, в основном, лишь для сравнения или наводящих интуиций. Но есть и пример духовной практики в пределах европейской христианской традиции и мыслительной культуры: это исихазм, традиция православного подвижничества. И этим определилось, что мои антропологические поиски базировались на исихастском подходе к человеку, на тщательном изучении исихазма. Эта традиция играла огромную роль в России, так что выход к новой антропологии здесь ищется на путях русской и православной мысли.
Рефлексия исихастского опыта, его обобщение дали возможность наметить общие очертания искомой модели человека, не предполагающей у него сущности, но описывающей его как систему энергий. Сегодня, дорабатывая модель, я одновременно пытаюсь извлекать из нее первые выводы, касающиеся самых жгучих проблем. Возникает интерпретация новых антропологических явлений как практик, порождаемых тотальной тягой современного человека к пределу, границе своего горизонта существования. На этом пути можно анализировать, сравнивать эти явления. Возникает и возможность проследить динамику изменений, выявить их тенденции, выделить вероятные сценарии.
Тенденции оказываются негативны, сценарии тревожны. Человек не понимает себя, не справляется с собой, и антропологическая ситуация тяготеет к сценариям гибели: так, сценарий воцарения виртуального человека развивается в мягкую гибель по типу эвтанасии. Впрочем, и сценарии гибели глубочайше амбивалентны! Угасание культур знает явления закатной ясности, зрелой мысли, высокого взлета философствования: классический пример – неоплатонизм. Смерть человека знает то, что дано было испытать Анне К.: когда свеча вспыхнет более ярким, чем когда-нибудь светом и осветит все, что прежде было во мраке. И как христианин я знаю, что участь всякого из нас, и всего рода нашего, может стать участью благоразумного разбойника.
При всем том, мы можем закончить не в грустном тоне: есть положительное исключение. Яркое, творческое время сейчас – в театре, где изобилие и режиссерских, и актерских отнюдь не однодневных талантов. Театр Пресняковых и Курочкина, Гинкаса и Мирзоева, Маковецкого и Суханова – истинное утешение. Выскажу антропологическую догадку: человеку театра не столь страшен тот распад идентичности, что стоит за всеми явлениями кризиса. Этот человек изначально многолик, он делом своим научен справляться с проблемами идентичности; и в нынешнем человеческом матерьяле он для себя находит творческие возможности. Протеический человек театра показывает мне, что можно дышать и в сероводороде. Я благодарен ему за это.
Синергийная антропология складывалась под влиянием двух противоположных факторов, древности и современности: опыта древних духовных школ и традиций и сегодняшних, злободневных запросов ситуации человека. Отслеживание этих запросов, анализ новейших антропологических явлений и трендов всегда остается одной из ее центральных задач. Спектр этих явлений и трендов неуклонно расширяется, отличаясь пестротой и разнообразием: в него входят виртуальные практики (в свою очередь, всё большего числа видов), генные технологии, гендерные революции и трансформации (в том числе, и чисто антропологического характера, как новые техники репродукции), психоделические практики (тренд не столь уже новый, но по-прежнему важный, особенно в молодежных субкультурах), практики трансгрессии, экстремальные эксперименты с телесностью человека в новейшем «трансавангардном» искусстве и т. д. и т. п. При этом, характерной чертой ситуации служит появление всё более радикальных, «странных» антропологических феноменов и тенденций, уходящих всё дальше от привычного образа человека и классических представлений о его природе. Нельзя уже отрицать, что существо «Человек» испытывает сильные изменения, которые затрагивают самую его природу — и затрагивают так глубоко, что является необходимость в пересмотре и переосмыслении самого понятия «человеческой природы».
Но нельзя и сказать, увы, что науке сегодня уже удалось понять представленную картину, раскрыть суть протекающих изменений. Не только ситуация в целом, но и многие отдельные из перечисленных явлений и процессов не получили еще основательной концептуализации. Картина содержит в себе множество проблем. Ясно, однако, следующее: для общего понимания ситуации человека и ее перспектив развития особенно важно выделить и проанализировать те «крайние точки», к которым направляются ведущие антропологические тренды. Вообще говоря, такие определяющие точки, «топосы» или «телосы» развития ситуации, могут быть и еще не выявлены, не ясны — это зависит от степени выраженности и оформленности трендов. Однако в сегодняшней антропологической ситуации существует, по крайней мере, одна подобная точка, выделившаяся отчетливо и бесспорно. Сразу несколько линий в главных сферах антропологических изменений — сферах генотехнологий и виртуальных практик — уже с определенностью обозначили, к какому пункту они направляются. Относительно расходясь в конкретных представлениях об этом финале антропологического развития, они, тем не менее, дают ему одно и то же имя: Постчеловек.
В этом тексте я попытаюсь, прежде всего, очертить научный контекст темы Постчеловека, включив ее в определенное русло, которое мы будем называть трансформативной антропологией. Затем мы очень бегло опишем, как выглядят на сегодня сам Постчеловек и ведущие к нему подступы, антропотехнологические стратегии. Обратившись к анализу Постчеловека в рамках синергийной антропологии, мы обозначим его проблемное поле и кратко затронем некоторые из основных вопросов, которые уже вызывал данный концептуальный персонаж. Самые существенные из этих вопросов связаны с острою и вполне практической необходимостью иметь обоснованные критерии для оценки различных этических, эпистемологических и иных аспектов создания и существования Постчеловека. Поскольку это существование пока лишь мыслимо, такие критерии могут иметь реальное значение для определения не только его будущих свойств, но и самой целесообразности продвижения к нему. Как мы увидим, принципы синергийной антропологии позволяют выдвинуть некоторые такие критерии. Подчеркнем также, что в силу рамок объема, наше рассмотрение носит самый сжатый характер, не входя в глубину проблем.
Самою ранней, зачаточной формой представлений о кардинальном изменении Человека следует считать представления о загробной жизни — как кажется, врожденные Человеку, смутно присутствующие у него уже и в начальных фазах первобытного сознания. После физической смерти человека ждет некоторая радикально иная форма существования; причем сам он ни в коей мере не создает ее, наличие ее и характер не зависят от человека. В истоке русла трансформативной антропологии — фаза, когда существуют представления о трансформации Человека, однако не существует каких-либо трансформативных практик. Но почти одновременно, также на стадии глубокой архаики, такие практики возникают. Прежде всего, зарождаются представления о том, что загробная участь может быть разной, и существуют определенные действия человека, посредством которых он может на эту участь влиять. Классическая форма, в которую отлились эти представления, — культовая, или мистериальная религия: участие в определенном культе, существенное ядро которого дано свыше, обеспечивает человеку «блаженство» за гробом. Такое участие, или культовая практика, для сознания самого общника культа есть, несомненно, и трансформативная практика: он мыслит свое существование как цельность, объемлющую и здешнюю, и загробную жизнь, и культовая практика, меняющая природу последней — меняющая природу смерти — меняет и природу существования в целом. В научном смысле, однако, культовая практика как таковая не есть, вообще говоря, трансформативная практика, поскольку она не совершает трансформации человеческого существа, предполагая лишь определенные акты верующего сознания.
Каждая духовная практика входит в двоякий контекст, религиозный и антропологический. Ее органон включает религиозные предпосылки, принимая основоположения соответствующей религии: они, в частности, тематизируют трансцензус Человека, идентифицируя цель практики, то «высшее духовное состояние» или «телос», к которому направляется духовно-антропологический процесс. Так, исихазм, духовная практика православия, принимает догматы христианства и интегрируется в бытие православной Церкви; и именно в свете догматов трансцензус Человека и телос исихастской практики здесь определяется как теозис, обожение, заключающееся в совершенном соединении всех энергий человеческого существа с энергиями иного образа бытия (Божественными энергиями). С другой стороны, духовная практика развертывается в наличной антропологической реальности, которая связана фундаментальными предикатами способа существования человека, конечностью и смертностью; на эмпирическом уровне, их источником и гарантом служит генетическая программа Человека, генокод. Онтологический трансцензус предполагает преодоление их; однако, покуда генокод остается незыблемым элементом конституции Человека, он исключает такое преодоление — тем самым, выступая как эффективный контрфактор духовной практики, полагающий границу ее возможностей. Как констатирует органон духовной практики, полнота осуществления телоса не достигается в эмпирическом существовании. Она предполагается обретаемой в посмертной участи — так что апелляция к загробной участи человека остается входящей в конституцию духовной практики, хотя и в качестве внешнего, завершающего элемента. Однако в пределах реального опыта практики уже открываются подступы к телосу, начатки радикальной трансформации человеческого существа, в том числе, и в его телесной основе. Как согласно свидетельствует опыт многих практик, в первую очередь трансформируется сфера перцепций — формируются новые восприятия, которые в исихазме с древности именуются «умными чувствами». Существенно, что эти опытные свидетельства вплотную приближаются к тем интуициям целостного изменения-преображения Человека (преображенной телесности, «духовного тела», «тела славы»), что также присутствуют в большинстве высокоорганизованных религиозных традиций, но выражаются уже во вне- или сверх-опытном дискурсе.
В европейской культуре тема о трансформациях Человека развивается почти исключительно в русле секуляризованного сознания. Она не была близка духу Западного христианства, которое, в частности, не выработало собственной духовной практики (можно упомянуть здесь, что традиционно сближаемая с исихазмом система Духовных Упражнений Лойолы в аспекте трансформативности скорее принадлежит, не расходясь со своим именем, парадигме «духовных упражнений»). Сразу же очевидны два коренных отличия, которые обретает тема в этом русле. В структуре религиозных трансформативных практик и верований налицо сочетание, сопряжение собственной активности человека и действия внешних, божественных сил. В разных практиках можно видеть очень разные варианты этого сочетания, от полной пассивности человека в архаических верованиях до исихастской «синергии», отводящей человеку роль свободного, полноценного «соработника» Бога; в качестве общей тенденции, можно заметить, что с ходом истории значение человеческой активности неуклонно возрастает. В секулярной же культуре остается исключительно человеческий фактор. Наряду с этим — второе отличие — исчезает, разумеется, и всякий отсыл к загробной участи человека.
Оживление начинается тогда, когда технократическое мышление усиливается и крепнет настолько, что вбирает в свою орбиту и человека, начиная включать его в свои проекты рационального усовершенствования всего сущего на благо общества и прогресса. Но опять-таки, в антропологической части эти проекты долгое время остаются лишь умозрительны. Они не выдвигают каких-либо трансформативных практик, и оживление сводится лишь к тому, что трансформации Человека делаются темой уже не редких утопий, а довольно многочисленных опусов родившегося смежного жанра, «научной фантастики», science-fiction. Почти у всех классиков этого жанра, начиная с Уэллса, — у А.Беляева, С.Лема, Стругацких, Брэдбери и др. — на видном месте антропологические идеи, проекты, и верно будет сказать, что фантастика 20 в., разбудив и активизировав антропологическое воображение, стала одним из немаловажных факторов постепенного антропологического поворота европейской мысли.
При этом, она несла и явный трансформативный потенциал. Идеи ее подавались нередко так, чтобы вызвать мысль о возможности проведения их в жизнь, — и тогда она смыкалась в своем воздействии с прямыми призывами к антропологическому активизму, проектами трансформативных практик. Ибо таковые тоже наконец начали появляться. Их первым предвестием стал знаменитый Федоровский проект «общего дела»: хотя, по замыслу, «общее дело», глобальные работы по воскрешению всех усопших, мыслилось религиозной, христианской практикой, однако по главному своему содержанию и существу оно скорей было практикой секулярной, технократической культуры. При всем своем полном и вопиющем разрыве с любой реальностью, этот проект оказал сильное и широкое воздействие на русскую мысль — прежде всего, по причинам историческим: оттого что вскоре пришел весьма особый период для русской культуры — революционные и пореволюционные двадцатые годы. Степень раскованности, развязанности антропологической мысли в этот период беспрецедентна. Представители дисциплинированного, профессионального философско-гуманитарного мышления в большинстве были не с новым режимом и потому эмигрировали или почти умолкли; новая идеология еще не вбивалась тоталитарными средствами; а происшедшие головокружительные перемены побуждали мыслить космическими масштабами, рисовать еще более грандиозные сдвиги. Проектно-утопическое мышление выходит на авансцену. Оно являет собой самую пеструю картину, где богато представлены также и всевозможные идеи «реформы человека», «изменения природы человека», «евгенического выращивания человека», «перестройки тела» и т. д. и т. п.
Компьютерные технологии входят в антропологию, осуществляя кардинальное расширение интерфейса «мозг — машина» (ИММ). Когда ИММ захватывает некоторую критическую долю активностей и способностей человека — есть основание говорить, что человек превращается в гибрид человека и машины, т. е. Киборга (термин, введенный еще в 1960 г. и обозначающий всякий гибрид человеческого тела, включая мозг, и искусственных механизмов). Итак, Киборг — первый вид Постчеловека, и к его появлению ведут стратегии, развивающие все формы соединения и сращения человека с компьютерной техникой. Далее, генотехнологии входят в антропологию, продвигаясь к возможности практического манипулирования генетической программой, геномом человека. Когда генетические изменения превышают некоторую критическую долю генетического материала человека — есть основание говорить, что человек превращается в иное, отличное от человека живое существо. У этих существ нет сегодня единого общепринятого имени; мы будем использовать достаточно адекватный термин Мутанты. Таким образом, Мутант — второй вид Постчеловека, к появлению которого ведут определенные стратегии развития генотехнологий. Эти же стратегии ведут к возможности еще одного экзотического существа — Клона, т. е. точной генетической копии иного человеческого организма. Клон — генетически нормальное человеческое существо и, тем самым, не Мутант, однако, имея характер «копии, а не оригинала», он обретает ряд глубоких антропологических отличий, в силу которых также может рассматриваться как Постчеловек. — Итак, Киборг, Мутант, Клон — три версии Постчеловека, к каждой из которых ведут определенные антропо-технологические практики, сегодня уже активно развиваемые (хотя и не достигшие финальных плодов), но вызывающие при этом столь же активные возражения и сомнения. Кратко опишем их.
В отличие от утопий и фантастики, трансгуманистические тренды довольно продуманы на техническом уровне и даже пытаются достичь философского обоснования в редукционистских моделях сознания, развиваемых так наз. «когнитивной наукой» (cognitive science). Среди них выделяются, однако, достаточно серьезные разработки влиятельного американского философа Д.Деннета, тяготеющие к бихевиоризму, но избегающие его крайностей за счет опоры на концептуальную базу феноменологии и аналитической философии.
Расшифровка генома человека стала решающей предпосылкой того, что генотехнологии вошли в разряд трансформативных практик, ведущих к Постчеловеку. Сегодня в быстро меняющейся сфере антропогенетических исследований — большое разнообразие возможных стратегий, линий развития и малая ясность относительно тех конечных пунктов, куда ведут эти линии; ввиду этого, мы предпочитаем говорить о Мутантах во множественном числе. Тем не менее, в крупном панорама отчетлива. Как и на пути к Киборгу, выделяются определенные ступени развития технологий, которые являются одновременно и ступенями продвижения к Мутантам. Для краткости, мы их сведем всего к двум стадиям, которые часто называют стадиями, соответственно, негативной, или терапевтической, и позитивной, или улучшающей, евгеники.
На первой, начальной стадии работа с генетическим материалом человека носит исключительно характер получения информации и принятия мер защиты (прежде всего, от наследственных заболеваний и генетических дефектов, типа синдрома Дауна). Соответственно, хотя и здесь уже производятся генетические модификации, практики негативной евгеники относятся к медицине, являясь не трансформативными, а коррекционными практиками. Но применяемые в них технологии получения информации — предимплантационная диагностика и «скрининг», генетическое тестирование, — могут использоваться и для других целей, принадлежащих уже к следующей стадии. Здесь рабочее поле необозримо: на поверку, «позитивная» евгеника определяется лишь «негативным» способом, включая в себя любые генетические изменения, трансформации, манипуляции, которые не сводятся к терапии. Но сегодня и в этой области обсуждаются, большей частью, умеренные стратегии, направленные лишь на «улучшение» наличного набора свойств и признаков человека — памяти, интеллектуальных и сенсорных способностей, физических возможностей, внешних данных и т. п. Среди таких «улучшающих» стратегий дальше всего заходят стратегии создания «детей по заказу», в которых отбираются эмбрионы с заранее проконтролированным и оптимальным набором всех наследственных качеств. Однако и «спроектированный» или «сконструированный» ребенок, если он отвечает всем видовым параметрам Человека, — отнюдь не Мутант.
Рамки статьи дают нам возможность лишь бегло обозначить главные линии позиций синергийной антропологии в проблеме Постчеловека. Трактовка проблемы с этих позиций поднимает целый спектр вопросов. Следует, прежде всего, дать, хотя бы в общих чертах, дескрипцию обсуждаемых антропологических трендов, антропотехнологических практик, на базе синергийной антропологии, ее концептуального аппарата. Эта дескрипция, в свою очередь, даст возможность проанализировать антропологические трансформации, составляющие путь к Постчеловеку, выяснив, как они сказываются на главных аспектах человеческого существа и его существования: на конституции человека, структурах идентичности, на выборе ведущих и примыкающих антропологических практик и т. д. Иначе говоря, должна появиться (синергийная) герменевтика сферы продвижения к Постчеловеку. И только на базе этой герменевтики явится наконец возможность понять антропологические перспективы и последствия трендов и практик, ведущих к Постчеловеку, — а отсюда, и сформулировать критерии их оценки. Такова программа — но сейчас мы представим лишь отдельные соображения в ее рамках.
Из всех описанных выше практик, ведущих к Постчеловеку, всего единственный вид имеет непосредственно ясное антропологическое содержание: а именно — выход в киберпространство, «виртуальная киборгизация». Это — виртуальная практика; согласно синергийной антропологии, она представляет один из типов предельных антропологических проявлений, входит в Виртуальную топику антропологической границы и, если оказывается доминирующей, ведет к эвтанасии Человека. Но Виртуальный человек, каким он описывается в синергийной антропологии, — еще не Киборг. Практики «актуальной киборгизации» — иного рода, в них человек расширяет ИММ, вживляя в тело и мозг машинные элементы, производя нейросоматическое сращивание себя с машиной. При всей выразительности этой картины, ее антропологическая интерпретация еще не ясна. Вживление машинных, артефактных элементов может нести разное антропологическое содержание: если в сердце поставить шунт, оно пребудет человеческим сердцем, а его хозяин — вполне человеком; если же, скажем, на место одного из полушарий мозга поставить будильник, при этом обеспечив жизнедеятельность с помощью чудодейственных нанотехнологий, — хозяин мозга будет уже Постчеловеком. Поэтому, чтобы понять антропологический смысл киборгизации, следует полностью отделить технологические аспекты как иррелевантные. Очевидно, что аналогичный вывод можно сделать и для антропологического анализа другой линии, генотехнологической, ведущей к Мутантам.
Итак, герменевтика постчеловеческих трендов должна рассматривать не технологию, а сугубо — антропологию, ставя лишь такие вопросы: Что происходит с сознанием и с целостной человеческой личностью? Что происходит со сферой эмоций, с эстетическими восприятиями? со сферой общения, с социальными измерениями существования? и т. д. При этом, для синергийной антропологии, где Человек тематизируется как «сущее, трояко размыкающее себя», вопросом ключевым будет: Что происходит с парадигмой антропологического размыкания? Здесь эта парадигма — определяющий элемент конституции Человека, и потому ответ на данный вопрос имеет особое значение: им решается, находимся ли мы еще «на территории Человека» — и, тем самым, он представляет собой антропологический критерий, позволяющий разделить ареалы Человека и Постчеловека.
Сдерживающий характер этих указаний не означает, однако, негативного отношения ни к развитию технологий, будь то компьютерных, генных или иных, ни к их применению в трансформативных антропологических практиках. Здешнее бытие темпорально, процессуально, и пребывающий в нем эмпирический человек не был неизменным никогда, и никогда не будет, покуда жив. Определенная часть его изменений носит характер ауто-трансформаций, трансформативных практик. Как мы видели, они сопутствуют Человеку на всем протяжении его истории и с древности включают в себя духовные практики — практики холистические и максималистские, стремящиеся к онтологическому трансцензусу. Наряду с этим, Человек, также с древности, окружает себя сферой орудий и технологий как органическим продолжением, экстериоризацией и экстраполяцией активности своих собственных органов. И является почти неизбежным, чтобы в ходе развития трансформативных практик, они соприкасались с орудийно-технологической сферой и привлекали бы ее средства для своих целей. Спросим: и духовные практики? — Априори, вопрос открыт. Важно здесь лишь одно: должное соподчинение сфер, при котором сфера технологий сохраняет свою изначальную служебную роль, роль средств, и не узурпирует прерогатив целеполагания, антропологически ей не принадлежащих и не положенных. Такая позиция — прямое применение принципа, который еще греческие Отцы Церкви выразили в форме оппозиции пользование — злоупотребление (chresis — parachresis): в тварном мире ничто не является дурным само по себе, всё годно к пользованию, но и доступно злоупотреблению.
…А между тем, независимо от исхода матча, Человека неотвратимо ждут радикальные изменения. Если он сумеет осмыслить заново свою «человечность», точно определив, чему в ней надлежит быть строго хранимым, а чему — меняться и обновляться, — эти изменения еще могут стать не крахом Человека, а его обновлением. А парк новых технологий — стать частью ресурсов обновления.
Поясним цели и задания настоящего текста: ибо они не одноплановы. Наша непосредственная и конкретная цель заключалась в анализе феномена покаяния — одного из классических феноменов религиозной психологии, представленного, в первую очередь, в иудеохристианской традиции, но имеющего аналоги и в ряде других религиозных миров. В качестве эмпирического поля анализа мы избираем покаянную дисциплину в мистико-аскетической традиции Восточного христианства, т. е. исихазме, предполагая также привлечение других традиций для сравнения и истолкования выводов. И, примечательным образом. такая конкретизация эмпирического горизонта вынуждает нас к постановке более общих и глубоких вопросов. Ибо в исихазме — не только в нем, но в нем с особой отчетливостью — покаяние не является обособленным, отдельно стоящим феноменом, но органически включено, интегрировано в некоторое неразрывное единство — в процесс Духовной Практики, как его ступень или же этап (а именно, вступительный, начальный этап, вследствие чего оно с древности носит здесь название Духовных Врат). Поэтому его содержание и смысл могут быть раскрыты и поняты лишь в связи с этим процессом, в его контексте — и, стало быть, на основе некой его концепции.
Так возникает предшествующая и более общая задача: мы должны представить некоторую концепцию исихастской духовной практики. Но это, в свою очередь, ведет к еще более общему вопросу: о понимании, трактовке самого феномена Духовной Практики в его сущности. Признаем, что данный вопрос уводит уже далеко от исходной конкретной цели; но мы не имеем возможности отослать к какому-либо известному, общепринятому определению Духовной Практики как антропологического и религиозного феномена: такие определения отсутствуют. Как мы увидим, проблема определения Духовной Практики может найти постановку и разрешение в горизонте метапсихологии — а именно, на основе некоторой метапсихологической модели, рисующей цельную топику процессов и практик сознания, антропологических стратегий, затрагивающих «Антропологическую Границу» (см. ниже). В рамках этой модели, Духовная Практика представится, в определенном смысле, как противоположность, альтернатива процессам, идентифицируемым и изучаемым в психоанализе как проявления Бессознательного (неврозы, психозы, комплексы и т. п.): эти «фигуры Бессознательного» и структуры, генерируемые в Духовных Практиках, будут занимать противолежащие области топики Границы, пребывающие между собой в отношении «нарушенной зеркальной симметрии».
«Человеческое бытие нельзя понять вне безумия» — говорит Жак Лакан. «Человеческое бытие нельзя понять вне обожения» — говорит Православие. Как связаны между собой эти два тезиса? На первый взгляд, они диаметрально противоположны; однако на взгляд философа они оказываются глубоко родственны. Оба они для постижения человеческого бытия отсылают к некоторым феноменам, что лежат за гранью, за горизонтом обычного человеческого существования и опыта и являются для этого горизонта предельными, граничными феноменами. Как мы будем говорить, они отсылают к Антропологической Границе: границе самого рода и способа существования человека, области тех явлений, в которых начинают меняться сами определяющие признаки, предикаты этого рода и способа (хотя характер Границы в двух указанных областях не один и тот же: лишь для обожения она является в точном смысле онтологической). Философ заметит также, что подход к пониманию человеческого бытия, заключенный в обоих тезисах, оправдан и даже традиционен, отвечая обычной методике определения путем отличения: определить вещь, явление значит указать его границы или же указать иное ему, указать те вещи, явления, от которых определяемое отлично. Точно так, например, в физике мы лишь тогда идентифицировали область обычных, макроскопических явлений как классическую физику, когда познали ее границу, открыв область квантовых явлений.
Но, отсылая к Антропологической Границе, обе установки видят ее совершенно по-разному. Кроме «граничности», что общего может быть у безумия с обожением? Перед нами два альтернативных понимания Границы, и притом оба они отнюдь не являются голословными догматическими утверждениями или постулатами. Тезис Лакана удостоверяется всею практикой психоанализа, и точно так же тезис Православия закрепляется в исихазме цельной системой духовной практики. Имея прочную опытную основу, ни тот, ни другой тезис о Границе не может быть попросту отброшен, и мы приходим к мысли, что, видимо, сам концепт Границы непрост, существует некая топика Границы, и в ее рамках должны найти себе место и Граница-как-безумие (испытуемая и познаваемая в опыте патологий психики), и Граница-как-обожение (испытуемая и познаваемая в опыте духовной практики). Поэтому, ставя задачу концептуализации духовной практики как процесса на Антропологической Границе, мы должны учитывать этот широкий контекст полной топики Границы: учитывать наличие иной, альтернативной парадигмы граничных процессов. Этот широкий взгляд окажется плодотворным, а для некоторых явлений, входящих в так наз. «Гибридную топику» (см. ниже) — необходимым.
Повторяющееся не-достижение исполнения, «удовлетворения» Первоимпульса порождает не только те эффекты (типа фрустраций), что фиксирует психоанализ на примерах влечений. Достаточно очевидно — и сотни раз раскрывалось, подчеркивалось в философии, психологии, искусстве — что опыт смерти — единственный заведомо данный, неизбежный для каждого род опыта, онтологически значимого, сталкивающего с самим человеческим бытием как цельностью. Как демонстрирует экзистенциальная аналитика, феномен смерти и опыт смерти занимают уникальное место в ситуации человека, будучи прямо связаны с самим его бытийным, онтологическим статусом: в них — главное, основополагающее выражение и проявление фундаментального предиката конечности, которым определяется горизонт наличного бытия. Сознание — его разумные, высшие активности — фиксирует эту уникальную роль, и потому в нем, наряду с тенденциями к вытеснению опыта смерти, образуются и тенденции противоположного рода, к углубленной, осмысливающей проработке этого опыта. Но важно сразу заметить, что эти тенденции могут находить и находят свое выражение в двух разных руслах.
Напротив, на другом пути сознание ставит в центр и принимается отыскивать смысл — не смерти, а неприятия смерти. Оно выстраивает здесь иную логику, которая, пожалуй, более зорко прочитывает ситуацию человека. Смерть сама по себе — очевидна, естественна, природна: земля еси и в землю отыдеши — это более чем понятно! — но острый вопрос вызывает вот это живущее, гнездящееся во мне неприятие смерти. Философствующая парадигма духовных упражнений третирует его, в ней неприятие смерти само подвергается неприятию: оно — из сферы неразумного, «дикого» в человеке, и человеку надлежит отбросить, либо выдрессировать его. Но это философское решение оказывается, на поверку, слишком поспешным, оно упускает из вида одну существенную альтернативу. Когда сознание решает — решается, дерзает, рискует! — принять собственное неприятие смерти всерьез, концептуальная картина делается уже не двойственной: Человек — и его Смерть, но тройственной, треугольной: Человек — его (неотвратимая) Смерть — его (неискоренимое) Неприятие смерти. Узел проблемы смерти (смертности) человека перемещается: сознание видит его не столько в самой смерти как таковой, сколько в собственном неприятии смерти. Оно исходит из конфликтной, фрустрирующей ситуации сочетания имманентного и неискоренимого Первоимпульса — с фактом не-достигания объекта и цели, неудовлетворения этого Первоимпульса; и данная ситуация толкает его поставить сам Первоимпульс в фокус и под вопрос. Раз Первоимпульс не исполняется — зачем тогда он во мне и откуда он? вправду ли он коренится лишь в неразумном, в «дикой части нашего существа» (Платон)? и по своей сути он — только изначально обреченная безуспешность, имманентно заложенная в моей природе — моя неудача? может ли он хотя бы вообще, «в принципе» исполниться? — Все эти вопросы означают, что сознание осуществляет интенцию (интенциональное отношение) на Первоимпульс, делает Первоимпульс интенциональным предметом. Разумеется, это — специфичный, существенно недоочерченный, неполно данный предмет, как мы уже замечали; и такая интенция не может стать законченным интенциональным актом в гуссерлианском смысле. Но она и не остается бесплодной.
Прежде всего, ставя Первоимпульс в фокус сознания, сознание может продвинуться — хотя и не до полноты, как указывалось, — в конституции его объекта и цели. Уясняется, что исполнение Первоимпульса, или «преодоление смерти», не может отождествляться с простым устранением, отсутствием смерти, т. е. бесконечным удлинением биологического существования, неопределенно тянущимся продолжением его в тех же наличных формах. То, что заведомо входит в искомое, требуемое Первоимпульсом, есть не столько отсутствие смерти, сколько изменение природы смерти, преодоление конца-уничтожения, аннигиляции личности; и это изменение общим образом представляется как некоторый конец-превращение, конец-трансформация. Мы заведомо не можем полностью эксплицировать содержание подобной трансформации — уже по одному тому что такая задача предполагает решение весьма кардинальных проблем определения самоидентичности личности и критериев сохранения самоидентичности — проблем, которые поныне остаются смутными, равно для философии и для психологии. Однако род трансформации, ее бытийная сущность очевидны и несомненны: «изменение природы смерти» есть не что иное как изменение самих фундаментальных предикатов горизонта наличного бытия, подлинная онтологическая трансформация. Отсюда с необходимостью следует дальнейший вывод: актуальное исполнение Первоимульса возможно и достижимо лишь в том случае, если сам Первоимпульс не подчинен этим предикатам, если он является не просто спонтанным, независимым от воли и разума моего сознания, но происходит «извне», имеет исток свой вне горизонта сознания, мира субъектного опыта: является импульсом некоего Внеположного Истока, «иной природы». Если это действительно так — тогда следование импульсу такого истока, такой природы, устремление к ним и соединение с ними априори способны привести к актуальному изменению моей природы, «изменению природы смерти».
Возникает, т. о., новый важный концепт, и следует охарактеризовать его с возможной отчетливостью. Нельзя говорить, что мы достигаем усмотрения Внеположного Истока в интенциональном акте, либо полагаем Внеположный Исток логическим заключением. По самому определению, «внеположное» горизонту сознания и опыта нельзя ни «положить», ни «усмотреть». В итоге моей «интенции на Первоимпульс» я усматриваю отнюдь не сам Внеположный Исток, но лишь следующие относящиеся к нему положения: ) я не могу усмотреть, локализовать, идентифицировать исток Первоимпульса нигде в горизонте моего сознания, и в этом смысле, он есть «внеположный исток»; ) исполнение Первоимпульса возможно лишь в единственном случае, если его исток обладает актуальной онтологической внеположностью: ибо, чтобы «изменить природу смерти», необходимо «изменить природу жизни», точнее, достичь онтологической трансформации; и для этого, в свою очередь, необходимо действие онтологически иной, принадлежащей онтологически внеположному истоку энергии; ) я не могу ни усмотреть, ни доказать, что внеположность истока Первоимпульса есть, действительно, онтологическая внеположность; но не могу ни усмотреть, ни доказать также и обратного.
Чтобы понять, какие выводы делает мое сознание из этих данных, нужно сначала зафиксировать еще один важный результат, приносимый интенцией на Первоимпульс. Мы можем увидеть, какова вообще роль сознания в исполнении Первоимпульса, вне зависимости от статуса истока последнего. Первоимпульс действует в моем сознании (сфера которого объемлет психику, волю, разум); стало быть, исполнение его может осуществляться лишь через посредство сознания. Сознание — единственный непосредственный агент Первоимпульса. Но исполнение Первоимпульса — онтологическая трансформация; стало быть, оно означает, что сознание становится агентом онтологической трансформации, глобальной трансформации наличного бытия как такового: будучи движимо, питаемо Первоимпульсом, оно должно трансформироваться само и проводить, осуществлять стратегию этой глобальной трансформации, что заведомо является также глобальной, всепоглощающею активностью. Иными словами, исполнение Первоимпульса как онтологическая трансформация мыслимо лишь при всецелой ориентации сознания на Первоимпульс и всецелой отдаче сознания его исполнению.
Ясно отсюда, что в обычном эмпирическом существовании, без принятия сознанием этой весьма особой глобальной стратегии, исполнение Первоимпульса заведомо невозможно; однако в случае ее принятия утверждать такую невозможность уже нельзя. И ясен также ответ на исходный вопрос: какую позицию занять сознанию по отношению к Внеположному Истоку. В любом случае, условием исполнения Первоимпульса является всецелая отдача сознания этому исполнению; и если еще одним условием исполнения служит онтологическая внеположность истока Первоимпульса — значит, «всецелая отдача» предполагает еще и отношение к Первоимпульсу как импульсу онтологически внеположного истока: вся развертываемая сознанием стратегия должна принимать, что исток Первоимпульса — онтологически внеположный исток.
Из прочих выводов, что может доставить интенция на Первоимпульс, отметим еще всего один. Импульс, направляющийся к онтологической трансформации, должен различать, идентифицировать фундаментальные предикаты наличного бытия и проявления их; и это означает, что он должен действовать, прежде всего, на высшие активности сознания, на разум. Тем самым, он должен являться артикулированным: внятным разуму, говорящим ему; и это можно передать заключением, что Первоимпульс должен носить характер зова, или призыва Внеположного Истока. Подобная терминология общения оказывается не просто удобной, но внутренне адекватной рассматриваемым явлениям.
Итак, Первоимпульс неприятия смерти должен быть зовом Внеположного Истока. Это — его необходимое свойство, но, разумеется, оно еще нисколько не обеспечивает исполнения Первоимпульса. Продвижение к исполнению может происходить лишь тогда, если зов услышан, воспринят — и вызвал согласный отклик — и стало совершаться то, к чему призывает зов. Но Зов призывает даже не просто к необычному, но к абсолютно исключительному: к «онтологической трансформации». Если сознание услышало и приняло Зов — как зов Внеположного (онтологически!) Истока, такой призыв — уже не бессмыслица, не абсурдная невозможность; но даже с этим условием следование призыву зова — особая, единственная в своем роде задача. Прежде всего, такое следование должно быть глобальным, всецелым не только для сознания: воспринимаясь, в первую очередь, разумом человека, Зов обращен, однако, к человеку как таковому, во всей цельности его природы и существа. Соответственно, и следование Зову касается всего человеческого существа. Это существо иерархически структурировано, включает многие уровни активности, организации и состава — и каждый из этих уровней имеет, вообще говоря, претвориться в иное, пройти некое свое изменение — так что задача оказывается включающей множество задач. Поэтому следование Зову, в свою очередь, структурируется, представляется как некоторый процесс, вовлекающий всего человека — иначе говоря, как некоторая всеохватная холистическая стратегия существования. Направляясь к трансформации наличного образа бытия, такая стратегия несовместима с обычным, «природным» порядком существования человека, в котором воспроизводится этот образ бытия, а Первоимпульс не идентифицируется и не принимается как зов Внеположного Истока. Всецелое следование Зову — альтернатива, «контрпрограмма» природному порядку существования, строимая, как на краеугольном камне, на Первоимпульсе неприятия смерти.
Итак, начав с интенции на Первоимпульс, с поставления его в центр сознания, мы отнюдь не приходим к выводу о его «диких», антиразумных корнях (вопреки парадигме духовных упражнений) и об априорной недостижимости его исполнения. Но, равным образом, мы не приходим и к выводу о достижимости исполнения. Наши усмотрения — иного рода: мы открываем возможность некой специальной стратегии или парадигмы человеческого существования, которая радикально отлична от «обычной» (т. е. не принимающей Первоимпульс неприятия смерти как зов Внеположного Истока) парадигмы существования и которая выстраивается, продвигаясь «в направлении» исполнения Первоимпульса. Нельзя утверждать, что в этой стратегии исполнение недостижимо — и нельзя утверждать, что оно в ней будет достигнуто: иначе говоря, это есть антропологическая стратегия с принципиально открытым исходом. Назовем ее парадигмой или стратегией Духовной Практики.
Это определение Духовной Практики на основе ее онтологического истока, дедуктивное и философское, дополняет эмпирическое определение, которое мы сформулировали в предыдущей статье, обобщая черты конкретных духовных традиций. Хотя порождающая роль Первоимпульса в этих традициях может оказываться и глубоко скрытой, не столь трудно убедиться, что обе дефиниции, описывая определенный тип холистических процессов, ориентированных к Антропологической Границе, охватывают одну и ту же сферу явлений, определяют, в существенном, ту же антропологическую стратегию. (Отметим, в частности, что оба подхода, независимо и на базе разных доводов, заключают о примате аудио-модальности, необходимости «отверзания слуха» в начале процесса.) В новом подходе, прослеживая генезис Духовной Практики в бытийной ситуации человека, в его смертности, мы более выпукло представляем ее зарождение и начало. Проведенный анализ ясно показывает, что зачином процесса Духовной Практики необходимо является резкий рубеж, отделяющий от «обычной» стратегии существования и полагающий начало новой, радикально иной стратегии. В нашем описании, этот ключевой начальный этап — зачин, или «врата» Практики — имеет, в свою очередь, двойное строение, складывается из двух фаз: расслышать Зов (путем интенции на Первоимпульс опознать Первоимпульс как зов Внеположного Истока) — откликнуться Зову (решиться обратить все энергии, все активности навстречу Зову, на согласное сотрудничество с ним). Эта двуединая парадигма духовной жизни, известная с древности, носит название Обращения. К ее анализу мы вернемся в следующем разделе.
Проследив истоки феномена Духовной Практики, мы попутно сформулировали некоторый дискурс и набор понятий, которые приспособлены для описания подобных феноменов, т. е. прежде всего, различных антропологических стратегий и практик, причастных к Границе. На этой основе можно попытаться восстановить и более широкий антропологический контекст, или картину всего поля таких стратегий и практик — поля, которое можно назвать «энергийной топикой Границы». К мысли о такой возможности уже подводили отмечавшиеся элементы общности возникающего дискурса Духовной Практики с понятиями психоанализа. Но главный и ключевой элемент общности может быть выявлен лишь сейчас, после введения концепции Внеположного Истока, энергии которого действуют в сознании, проявляясь как Первоимпульс неприятия смерти. Характер этого действия мы уточнили как «зов», и сейчас это уточнение оказывается весьма важным. Мы не знаем, что такое «сознание», однако, вслед за большинством описаний его деятельности, мы можем принять, что в этой деятельности сознание обнаруживает иерархическую структуру, оно организовано по вертикали — в том смысле, что в нем отчетливо различаются «верхние» и «нижние» уровни. Эти уровни, как и в целом сознание, должны пониматься не субстанциально, а энергийно, как определенные типы активностей; и, разумеется, важно указать, чем различаются эти типы, какие именно характеристики сознания изменяются при переходе от «верхних» уровней к «нижним».
Прежде всего, можно связать этот переход с изменением степени артикулированности, информационной и коммуникационной емкости активностей сознания: кажется естественным полагать, что «высшие» уровни должны обладать более совершенной и полной артикуляцией (в частности, к высшим должны относиться языковые активности, а из них выше прочих — дискурсивная речь); тогда как «низшие» уровни отвечают смутным, недовыраженным, «виртуальным» активностям. Более пристальный взгляд ведет к уточнениям, заставляя видеть принцип или «параметр» иерархичности сознания в несколько ином. Мы замечаем, что в сфере субнормальных, аномальных, неполноценных активностей и типов деятельности сознания, каковые оправданно считать «низшими», отнюдь не редки активности высоко артикулированные. Поскольку «Бессознательное структурировано как язык», такая артикуляция типична для активностей, индуцируемых из Бессознательного; многие патологии психики, как то параноический бред, являют логическую выстроенность сознания, и т. п. Напротив, в сфере «недоартикулированного» присутствуют, скажем, творческие интуиции, которые явно неестественно причислять к «низшим» активностям. Подобные наблюдения ведут к тому, чтобы выделить в качестве принципа иерархичности сознания — критерий топологического единства. Патологии, явления, индуцируемые из Бессознательного, и т. п., с необходимостью нарушают единство сознания, выстраивая специфические миры, не допускающие полноценной интеграции в глобальную цельность сознания и реальности. То качество или характеристика сознания, что нарушается здесь, точней всего обозначить математическим (топологическим) термином односвязность. Это — топологический аспект единства и цельности, или же глобальной самосогласованности сознания: сознание (напомним, всегда понимаемое энергийно, а не субстанциально!) должно представляться как «односвязное многообразие», такое, из любой точки которого можно достичь в любую. В оптическом дискурсе этому соответствует прозрачность.
Получаемый итог может быть представлен следующим образом.
В целом, предложенная картография Границы наталкивает на то, чтобы развить некоторый компаративистский подход, где проводилось бы сравнительное рассмотрение определенного спектра психологических проблем, соответственно, в парадигме психоанализа и в парадигме духовной практики. Основным принципом этого подхода должен служить учет конститутивной роли Внеположного Истока во всех предельных феноменах человеческого существования. В частности, существенное поле сопоставления дают интерсубъективные проблемы — прежде всего, сравнение базовых форм интерсубъективности: трансфера в психоанализе и духовного отцовства или учительства в духовных практиках.
По типу своей структуры, Духовная Практика — ступенчатая парадигма. Вследствие этого, всякая концепция такой практики имплицирует, вообще говоря, некоторую определенную трактовку, определенный подход для каждой отдельной ступени в составе практики. Поэтому является новый цикл задач: исходя из общей концепции, требуется заново проанализировать если не все, то хотя бы каждую из основных ступеней. Естественно начать с начала; и в данном тексте мы рассмотрим отправную ступень.
Первыми здесь возникают вопросы терминологии. С чего начинается путь духовной практики? Даже ограничив рассмотрение конкретной традицией, практикой исихастской аскезы, мы не находим в этом вопросе полной ясности. Говорят о «вратах духовных», о покаянии, обращении, «премене ума», понимая последнюю формулу как кальку греческой cccccccc. Нет оснований рассматривать все эти термины как точные синонимы: семантика каждого из них довольно размыта, но всегда включает в себя некоторые значения и коннотации, не разделяемые соседними терминами. Мы попытаемся извлечь из этой размытости определенную пользу: сформулируем и закрепим за каждым из терминов такую интерпретацию, чтобы все понятия отчетливо отличались друг от друга, а вкупе охватывали бы весь объем свойств и представлений, ассоциируемых с начальным этапом духовной практики.
«Врата», или «духовные врата» — данный термин несет лишь чистый смысл вхождения, переходного рубежа, вступительного акта или события, никак не конкретизируя и не ограничивая его внутреннего содержания. Поэтому он наиболее пригоден в качестве общего, объемлющего термина, обозначающего начальный этап практики в его целом; и именно в таком смысле он и употребляется во многих традициях. Вместе с тем, его семантика вовсе не тривиальна: в ней нет ничего, говорящего о каком-либо внутреннем строении, но есть определенное указание на двойственное, двоякое отношение к внешней реальности. Предполагается, что, проходя чрез врата, попадают из некоторого места или пространства — в некоторое иное, наделенное другими свойствами или другим назначением. По разные стороны врат — разные миры или разные режимы, способы существования, так что прохождение врат — двойственный, обоюдонаправленный акт: в нем соединяются конец отношений с одним миром (акт ухода) и начало отношений с другим миром (акт входа). Собственно же «врата» — двустороннее понятие, наделенное двояким отношением, к пред-вратному и к за-вратному мирам, и тесно связанное с понятиями «границы» (рубежа) и «перехода». За счет последнего, в него привносится момент события и динамики, имманентная связанность с движением (из мира пред-вратного в за-вратный).
В Обращении исконно видят событие решающей, критической важности в духовной жизни. Это понятно и оправданно: здесь принимается бытийственное решение, кладется почин альтернативной антропологической стратегии, цельной контрпрограммы обычному существованию человека. Стержень и суть этой новой стратегии — бытийная самореализация человека в решении проблемы смерти (подобно парадигме духовных упражнений) — однако в решении, что строится через развертывание отношений не со смертью как таковой (в отличие от парадигмы духовных упражнений), а с Первоимпульсом неприятия смерти, опознаваемым как зов Внеположного Истока. Эта тонкая логика очень ярко выступает в той решающей и кульминационной роли, какая придается в христианстве — и особенно в православии — Пасхальному событию, победе Христа над смертью. Говоря «Если не воскрес Христос, то тщетна вера наша», мы ставим себя на карту Воскресения и Первоимпульса неприятия смерти — на карту в двойном смысле: ставим также себя в топографию, в топику Воскресения и Первоимпульса.
Исходное описание Обращения (см. выше) определяет его как двуединый акт сознания: «расслышать Зов — откликнуться Зову». Уточняя, следует подчеркнуть моменты, выражающие онтологическое содержание акта: критически важно не столько «расслышать зов» (в интенции на обитающий во мне Первоимпульс мне достаточно естественно воспринять, расценить его как некий «зов»), сколько различить, опознать этот зов — как зов нездешний, не из горизонта наличного бытия и опыта: зов некоего истока, внеположного в полновесном онтологическом смысле. И столь же важно не просто «откликнуться», а откликнуться всецелым существом, безостаточно претворить себя в единый отклик зову Внеположного Истока. Или точней: «безостаточное претворение себя в единый отклик» есть уже нечто большее, чем исходное событие Духовной Практики, это — глобальное задание и процесс; событие же Обращения означает скорей — обращение к этому заданию, принятие его на себя во всей глобальности его. Итак, конституция Обращения должна исходить из структуры Зова — Отклика, учитывая указанную специфику их в нашем случае. Семантика русского термина как нельзя лучше соотносится с этой структурой. Зачин Обращения — воспринять мой Первоимпульс неприятия смерти как звучащий во мне зов, призыв — т. е. как обращение ко мне. Развитие же Обращения — «оборотиться на зов», в ответ на обращение — обернуться, обратиться к Зовущему, к Истоку зова: ответить на обращение-призыв — обращением-действием. В этом обращении-действии — суть и средоточие акта; каким же оно должно быть?
Ответ на этот вопрос может следовать по двум линиям. Во-первых, можно выдвинуть в центр понятия момент инверсии, который существенно поддерживается русской этимологией: Обращение — переход к обратному, и обратиться, совершить обращение значит придать всем своим энергиям (своему вниманию, активностям, интересам, помыслам…) некое «обратное направление», противоположное тому, какое они имели прежде. Если, далее, сопоставить существованию человека обычный образ или мифологему пути, странствия, то Обращение будет означать не что иное как «повернуть обратно», пуститься в обратный путь, начать возвращаться — и, т. о., у нас возникает понятие Обращения как Возвращения. Именно такой смысл имеет парадигма Обращения в античности, и греческую эпистрофэ (ccccccccc), классическое понятие платонизма и неоплатонизма, выражающее эту парадигму, было бы наиболее адекватно перевести как Обращение-Возвращение. Напомним, что для античного сознания здесь имеется в виду «возвращение к себе», которое, в свою очередь, мыслится как возвращение души к той «себе», какою она предсуществовала при Едином. В итоге, содержание понятия может быть выражено цепью равенств: Обращение = Обращение-Возвращение = Возвращение к себе = Возвращение к своему Началу, Истоку = Восхождение к Единому. Отлично резюмируют эту концепцию Обращения сжатые слова Плотина: «Происшедшее от Первоединого Иное к нему же устремляется и обращается (ccccccccc)» (Enn. V. 2, 1). И стоит отметить еще одну грань этой концепции, тоже заложенную в этимологии русского «обращения»: Обращение-Возвращение означает круговой, циклический путь, связано с циклической парадигмой — и это отвечает тому значению слова, в котором «обращение» — синоним «вращения» (ср.: «обращение Земли вокруг Солнца»).
К специфике данной динамики относится то, что ступени процесса суть упорядоченно сменяющие друг друга типы (само)организации множества энергий человека и, таким образом, они должны пониматься не субстанциально, как некоторые «сущности» или статичные «состояния», но динамически, как «режимы деятельности». Учитывая еще, что начальным условием, предпосылкой формирования динамики является резкое расшатывание, разбалансирование обычного режима (осуществляемое, в особенности, сокрушением и плачем), мы заключаем, что динамика Духовной Практики имеет характерную синергетическую природу. Двумя (по крайней мере) определяющими структурными чертами — необходимость начального раскачивания, резкого и далекого отхода от стабильных режимов, и спонтанная генерация упорядоченной серии динамических структур, «энергоформ», — она прямо сближается с классическими процессами синергетики, такими как генерация структур хаоса; причем наиболее специфичные, драстические элементы Практики, как сокрушение и плач, опознаются как ключевые элементы синергетической динамики.
Обнаруженный синергетический аспект парадигмы Духовной Практики порождает свою особую и обширную проблематику. Не следует считать ее замкнутой в себе, включающей лишь специфические вопросы приложимости тех или других синергетических понятий, концепций к антропологическим стратегиям. Привлечение этих понятий могло бы пролить новый свет на многие существенные проблемы исследования явлений психики, религиозного и мистического опыта. Укажем лишь одну тему. Синергетические паттерны, элементы динамики спонтанной генерации, индуцируемые, соответственно, Внеположным Супра- и Суб-Истоком, в силу различной природы этих истоков, также должны быть различны. Если такие различия будут выявлены, они могут найти немедленное приложение в давней и весьма темной проблеме дефиниции и типологии экстатических состояний. Очевидным образом, на этом пути мы получаем конкретные критерии, что отличают явления и процессы Гибридной топики от аутентичных духовных практик.
С Византийской эпохи во всем ареале восточного христианства культура изначально впитала глубокое исихастское влияние. В дальнейшем традиция, переживая упадок, утеряла культуротворческий потенциал; культура же, в свою очередь, вестернизовалась и утеряла связь с традицией. Однако с XIX столетия наметился обратный поворот, тенденции к новому сближению, которые отчетливо прослеживаются, например, в феномене культурного влияния Оптиной Пустыни. Эти тенденции осмыслила и существенно поддержала богословская мысль русской эмиграции, и сегодня они сохраняют шансы дальнейшего развития.
С середины 90-х гг. этой проблематикой под моим руководством занимались Лаборатория синергийной антропологии Института человека РАН и Научная школа, входившая в федеральную программу ведущих научных школ. Затем в начале 2005 г. был создан Институт синергийной антропологии (ИСА), имеющий статус автономной некоммерческой организации. Работа ИСА лишь начинает развертываться, но уже действует открытый научный семинар, ведется сайт. Читаются и курсы лекций, ибо задачи ИСА носят не только научный, но и педагогический характер. На началах партнерства с Высшей школой экономики мы знакомим студентов и преподавателей этого вуза с идеями нашего направления и привлекаем их к нашей проблематике.
Оригинал:
[1]
Ситуация философской мысли в России и Сербии имеет важные общие черты. Наши страны – это страны древней православной культуры, и это с необходимостью сказывается на том, как развивается у нас философия и какие задачи она ставит. Мы безусловно принадлежим к большой традиции европейской философии – мы используем ее язык, ее культуру концептуального мышления, вовлекаемся в ее проблематику и участвуем в творческом исследовании этой проблематики. Но в то же время мы имеем свой опыт, духовный, культурный, исторический, отличный от западного опыта, и в нашей философской работе мы должны дать также и его выражение, осознание и осмысление. Об этой общей для нас необходимости твердо держаться собственного духовного наследия, хранить свои традиции и устои писал русский мыслитель Алексей Хомяков, основатель славянофильства, известный и любимый в Сербии, – писал в одном из последних своих трудов, который прямо был обращен к сербам: «Для нас вы, сербы, земные братья по роду и духовные братья по Христу. Будьте же верны Православию и едины в просвещении духовном! Первое и неоценимое счастье ваше, сербы, – это единство ваше в Православии, то есть в высшем знании и высшей истине… Этим лучшим из всех благ более всех должны вы дорожить и охранять его как зеницу ока. Славянин вполне славянином без Православия быть не может»
[2].
Хомяков здесь подчеркивает наши особые корни и особые задачи, и это необходимо было тогда, в те годы, когда православный мир, и в особенности, его просвещенные и правящие слои, почти утерял собственную традицию, собственный умственный и духовный уклад, целиком восприняв западные образцы. Но наша православная и славянская особливость нисколько не отменяет нашей включенности в широкую общность европейского культурного универсума. В силу этой включенности, мы неизбежно разделяем и трудности европейской мысли, переживаемые ею кризисы. И сегодня – именно кризисное время для философии. В этой лекции я дам весьма сжатую характеристику современного кризиса европейского философствования, по необходимости упрощая многое, но стараясь избегать искажений. Мы обозрим общую картину: то, что обычно называли немецкой формулой geistige Situation der Zeit, духовная ситуация эпохи, – и убедимся, что основные пути, какими прежде шла философия, ныне пройдены до конца, так что насущной задачей мысли стали поиски обновления. Затем мы столь же сжато рассмотрим пути развития русской философии и ее современное состояние. И самое главное – в заключение мы увидим, что специфические черты православной мысли сегодня способны внести конструктивный вклад в происходящие поиски новых начал и путей для философии.
I. Geistige Situation der Zeit: Необходимость философского обновления
Последнее большое задание, которое ставила перед собой европейская философия как целое, выражалось формулой Ницше: Преодоление метафизики. Überwindung der Metaphysik. В работе этого преодоления, шедшей в последние десятилетия девятнадцатого века и в начале двадцатого, европейская мысль проявила мощную творческую волю и удивительное единство. Все крупные мыслители эпохи, принадлежащие к разным школам, национальным культурам, религиозным ориентациям – Ницше, Владимир Соловьев, Бергсон, Гуссерль, Рассел и еще многие – согласно заняли критическую позицию по отношению ко всей традиции классической метафизики, которая господствовала несколько веков после Ренессанса, сложила собой фундамент новоевропейского разума и выдвинула множество великих имен. Критика развивалась со всех сторон, охватывала все аспекты традиции, а ее аргументы делались все более глобальными и категоричными. Несомненно, задача критики прежнего философского способа была выполнена с полным успехом; но глубина и радикальность развернувшегося процесса превзошла все намерения его зачинателей. Начавшийся пересмотр оснований вышел далеко за пределы обычной парадигмы смены этапов европейского философского процесса. Двадцатый век оказался для философии странным веком, когда она как будто решила подтвердить своим опытом знаменитый анархический тезис Бакунина: Страсть к разрушению есть страсть творческая. На протяжении всего этого века шла активная творческая работа, во множестве возникали новые теории, подходы, концепции – и все это яркое творчество в ретроспективе представляется нам как последовательный процесс нарастающего саморазрушения. В популярном сегодня постмодернистском стиле, главные стадии этого процесса можно представить в виде серии кончин или же изгнаний.
Изгнание Платона: отбрасывание онтологии платонизма – онтологии Умопостигаемого Мира, который Ницше назвал «бутафорией иного бытия». Эта фаза кризиса была, в основном, завершена к концу 19 в. К этому времени заметное присутствие платонизирующей метафизики в европейской мысли почти ограничивалось русскою религиозной философией, к которой вскоре присоединилась также философия Уайтхеда. К русской религиозной философии мы еще вернемся поздней; ее парадоксальная конституция соединяла в себе архаические и авангардные элементы.
Изгнание Декарта: отбрасывание Декартовой конструкции эпистемологического субъекта. В последние десятилетия пресловутая «смерть субъекта» обсуждалась самым активным образом, и мы не будем останавливаться на ней. Она происходила, главным образом, в начале 20 столетия, явившись результатом критического анализа почти всего ряда крупных мыслителей, названных нами выше. Декартов субъект получил фатальные удары еще до Первой мировой войны, и дальнейший период был уже скорей осознанием и осмыслением фактически уже состоявшейся его кончины.
Изгнание Канта: отбрасывание Кантова этического субъекта. Важно отметить, что эта «смерть этического субъекта» логически прямо связана со смертью эпистемологического субъекта и в значительной мере имплицируется ею. Тем не менее, она совершилась заметно позднее и притом по другим, независимым причинам. В отличие от первой смерти, ее главные причины не были теоретическими. Этический субъект скончался после длинной цепи массовых убийств, в итоге Второй мировой войны и опыта нацистского и советского тоталитаризма. Со всем основанием и совершенно корректно, этот опыт был истолкован как полное банкротство классической этики. Знаменитый вопрос: Как возможна теология после Освенцима? является этическим вопросом не менее чем теологическим. В нем – окончательная, хотя и не вполне явная декларация смерти этического субъекта.
Изгнание Аристотеля – князя философов, отца европейской философии – последний и решающий шаг, этап окончательного саморазрушения классического способа философствования. Этот шаг включал сразу несколько моментов, и я сейчас укажу лишь два главных. Прежде всего, происходил последовательный отказ от эссенциалистского дискурса – дискурса, где доминирующим принципом служит сущность и ее многочисленные дериваты и корреляты. Затем отсюда вытекал и структурный распад философского дискурса, поскольку вся система его организации всегда строилась на отношениях базовых концептов дискурса, именующих ключевые элементы феноменальной и ноуменальной реальности и потому неизбежно имеющих эссенциальную природу.
Аргументация, которая двигала весь этот мощный негативный процесс, была весьма основательна. Она включала в себя как теоретические, так и практические аргументы, которые все согласно показывали, что критикуемые особенности классического философского способа были не более чем неоправданными постулатами и искусственными конструкциями, которые входили в противоречие с реальностью человеческого бытия и существования, социальной, исторической и антропологической практики. Но, в отличие от обычного процесса смены философских этапов или формаций, за критикой теперь не стояли какие-либо идущие на смену принципы и установки нового философского строительства. Негативный процесс небывалой радикальности привел философию в любопытное ранее незнакомое состояние – состояние постмодерна. Его можно охарактеризовать как состояние своего рода обморока, либо паралича философского разума – или, может быть, более адекватно, предельного кенозиса, если использовать богословское понятие. Кенозиса – т.е. полной самоотдачи, саморасточения, самоистощания, отказа от всего своего и от себя, отказа, готового идти до конца, если угодно, до самоаннигиляции. Основные черты этого постмодернистского кенозиса сегодня отлично известны всем; опять-таки я кратко назову только главные из них. Это –
1) отказ от онтологии, отрицание и ликвидация проблемы бытия;
2) отказ от всякой ценностной или этической иерархии, снятие вообще всех и любых иерархических отношений и принятие системы отношений тотального уравнивания. В физическом мире это аналогично предельному возрастанию энтропии, что, как известно, означает тепловую смерть мира. Соответственно, мы можем метафорически характеризовать это свойство как «тепловую смерть» концептуального мира или же философского дискурса. Вместе со всеми предпочтениями, здесь исчезает и предпочтение жизни – смерти. И хотя обратного лозунга явно не выдвигается, но de facto в постмодернистской мысли на ее поздних стадиях мы можем определенно заметить, что эта мысль отдает предпочтение смерти перед жизнью. Во всяком случае, она считает смерть тотально побеждающим началом, утверждая наступление смерти всех основополагающих реалий существования – от смерти субъекта и смерти человека (объявленной еще в 1966 г. в знаменитом финале «Слов и вещей» Фуко) – до смерти истории, текста и т.д. и т.п.
3) Last but not least: отказ от собственной идентичности и признание собственного отсутствия в качестве самостоятельной и несводимой сферы самореализации Разума. Это означает следующее: философия принимает, что она не обладает собственной автономной природой, но целиком доминируется и детерминируется той или другой внешней, внефилософской сферой сознания и существования, индивидуального или социального. Наиболее популярное решение видит в качестве такой управляющей сферы – Рынок и принимает, что философское сознание детерминируется рыночным сознанием и рыночными интересами, т.е. интересами продажи философского продукта на рынке идей, арт-рынке, рынке масскультуры и прочих рынках. В другом, близком варианте философия принимает на себя роль обслуживающего дискурса по отношению к прикладным, практическим сферам жизни социума: практикам власти, практикам идеологии, художественным практикам и т.п.
Подобную общую картину философской ситуации мы можем найти у каждого из наиболее проницательных и авторитетных сегодняшних философов, каковы, скажем, Нанси, Агамбен, Ваттимо, Слотердайк. Вывод же из нее очевиден: перед философией стоит задача выхода из обморока, задача философского обновления. Разумеется, это обновление не должно быть реставрацией. Критика отброшенного была в подавляющей части справедлива, и пытаться вернуть это отброшенное к жизни было бы глупо и безнадежно. Но в то же время обновление не может не быть преодолением Состояния Постмодерна. Оно должно быть выходом к философии, не стоящей на тотально релятивистских и нигилистических, танатоцентричных и энтропийных началах и установках. Можно здесь вспомнить, как в начале этапа Преодоления Метафизики молодой Вл.Соловьев выдвигал задачу отыскания «положительных начал» для философского дискурса – и можно сказать, что сейчас перед философией вновь стоит эта задача Владимира Соловьева. Но теперь задача ставится уже в постметафизическую эпоху, и искомые начала должны быть неклассическими и не метафизическими.
II. Русская философия: Пройденный путь и современное состояние
Главные вопросы, на которые мы хотели бы наметить ответ, таковы: Каково отношение русской философии ко всему описанному процессу? Возможно ли для нее конструктивное участие в поисках философского обновления? Для ответа необходимо проследить интересующее нас отношение исторически.
Когда процесс начинался, для русской философии было время ее расцвета – время знаменитого Русского Религиозно-философского возрождения. Это было, действительно, блестящее философское явление. Сегодня его главные идеи, главные персонажи известны всем, и у меня нет необходимости их называть и описывать. Для нас важно, что это явление весьма близко примыкало к работе преодоления метафизики, но в то же время оно было частью другого контекста и другого процесса – процесса развития Восточнохристианского дискурса, т.е. аутентичного выражения православного сознания, с его особой историей, особым складом и опытом. По отношению к европейскому философскому процессу, тут были свои отличия, но было и активное творческое взаимодействие. При сохранении своей самостоятельности и оригинальности, русская мысль была в большой мере интегрирована в общий философский процесс, вносила в него заметный вклад – и тут, несомненно, осуществлялся ценный диалог, в котором сочетались Восточнохристианский духовный опыт, дискурс классической метафизики и усилия преодоления метафизики.
Как известно, Религиозно-философское возрождение в России было оборвано большевистской революцией 1917 г. Однако значительная часть представителей религиозной мысли, как философской, так и богословской, оказалась в эмиграции, и развитие этой мысли продолжалось. Важно, что это развитие лишь в начальный период, в двадцатые годы минувшего века, было простым продолжением предшествующего периода, философии Серебряного Века. В дальнейшем, начиная с середины тридцатых годов, постепенно формируется новый этап развития, который уже характеризуется существенно новыми чертами. В новом поколении эмигрантской мысли возникло критическое отношение к философским теориям Религиозно-философского возрождения, к самому типу и строю его дискурса. Мысль Серебряного Века воспринималась скептически как слишком синкретическая, смешивающая по произволу философский и богословский дискурс, а главное, лишенная достаточной верности почве духовного опыта Православия. В известной мере, можно сказать, что философия Серебряного Века не удовлетворяла именно тем, что она еще в слишком сильной степени оставалась в плену классической метафизики. Складывавшийся новый этап обладал двумя главными отличиями: 1) в нем происходила смена дисциплинарного дискурса: переход из философии в богословие; 2) мысль становилась чистым и аутентичным выражением Восточнохристианского дискурса – его строя, его принципов и заданий, опираясь на его исторические основы, освоенные гораздо более полно и тщательно. Связь с классической метафизикой здесь уже практически полностью отсутствовала. Базой для возникавших богословских концепций служило святоотеческое предание и поздневизантийская мысль, в первую очередь, творчество св. Григория Паламы. Здесь впервые формировалась адекватная трактовка Восточнохристианского дискурса как синтеза патристики и аскетики, и потому привлекалось внимание к проблемам исследования исихастской традиции, научная интерпретация которой была тогда еще в совершенно зачаточном состоянии.
Можно вспомнить, что один из первых важнейших текстов нового этапа вышел в свет здесь, в Белграде, в 1937 г.: это была знаменитый сегодня труд о. Георгия Флоровского «Пути русского богословия». Сам же этап, или же новое направление православной мысли, когда оно окончательно сложилось уже в 60-е годы, получило название «неопатристики и неопаламизма». Главными создателями его, наряду с Флоровским, стали Вл.Н.Лосский, иеромонах, а затем епископ и архиепископ Василий (Кривошеин), и о. Иоанн Мейендорф.
Однако отход от философии в русле русской религиозной мысли не мог, конечно, быть полным и окончательным. Дальнейшее развитие нового этапа (в основном, проходившее уже в России, когда религиозная мысль там получила снова свободу) с органической неизбежностью возвращало к философским вопросам. Путь возвращения к философии был связан с проблемами изучения исихазма, которые приобрели особую важность с осознанием и признанием ключевой и конститутивной роли аскетики в составе Восточнохристианского дискурса. Здесь выяснилось, что опыт глубокого обращения к богословской сфере был крайне полезным для философии! Именно за счет этого обращения, впервые были отчетливо раскрыты определяющие свойства Восточнохристианского дискурса: присущие ему примат аутентичного духовного опыта и примат принципов личности и общения.
Эти основополагающие свойства стали необходимыми ориентирами при решении проблем философского исследования исихастской практики. Философский дискурс, который возникал в ходе этого исследования, с самого начала имел неклассическую природу. Он пристально следовал за содержаниями аскетического опыта – и потому, подобно дискурсу самих аскетических первоисточных текстов, говорил лишь о всевозможных проявлениях человека, не нуждаясь в эссенциалистских концептах. Философия совершала здесь феноменологический и антропологический поворот. Принципы и понятия проделанной феноменологической реконструкции исихастской практики оказались чрезвычайно перспективными для антропологии. Дальнейшее обобщение их выводило к цельному неклассическому подходу к феномену Человека. Этот подход, развиваемый в моих книгах, получил название синергийной антропологии, от византийского богословского понятия синергии, которое оказалось играющим самую фундаментальную роль для антропологии. По всем своим принципам, синергийная антропология есть философия, лежащая целиком вне сферы классической метафизики; но равным образом, она совершенно не соответствует и Состоянию Постмодерна. Развиваемый здесь род феноменологической дескрипции основан на неклассических, но вместе с тем положительных началах.
В итоге, мы приближаемся к ответам на поставленные вопросы. Мы видим, что путь развития русской философии за последний век был очень своеобразен. Он оказался совершенно отличным от философского процесса на Западе – как в силу отрицательных обстоятельств, связанных с подавлением философского творчества в советский период, так и в силу положительных обстоятельств, порождаемых его связью с Восточнохристианским дискурсом. Но в то же время, этот путь как в начале, так и в конце самым тесным образом связан с центральными проблемами этого философского процесса – задачами преодоления метафизики в начале, а в наши дни – с поисками обновления и выхода из Состояния Постмодерна. Последние разработки, осуществляемые в русле синергийной антропологии, могут рассматриваться как конструктивный вклад в поиски философского обновления, ибо здесь налицо конкретный пример постметафизического, неклассического, неаристотелианского философствования. Имея самостоятельную природу, корни которой – в корнях Восточнохристианского дискурса, духовном опыте Православия и исихазма, современная русская философия вместе с тем разделяет со всей европейской мыслью стоящие перед ней ключевые проблемы преодоления кризиса. В развертывающихся поисках решения этих проблем сегодня снова воссоздается единство европейского разума.
РОД ИЛИ НЕДОРОД? Заметки к онтологии виртуальности
Преамбула
Виртуалистика любит парадоксальные выражения, и будет вполне уместно, если мы охарактеризуем сложившуюся в ней ситуацию как устойчивое неравновесие. С одной стороны, представления о виртуальной реальности — виртуальных событиях, объектах, состояниях психики — давно и прочно распространились во многих и очень разных областях знания, как теоретического, так и прикладного. Они нашли применения и связи с конкретным опытом, внедрились в сферы новейших технологий, прошли даже иногда практическую проверку — так что, кажется, не имеют ничего общего со столь разросшимся ныне миром вымыслов и фантомов, поверий и псевдопонятий масскультуры. Однако, с другой стороны, все наличные материалы свидетельствуют, что эти представления о виртуальной реальности все время упорно остаются лишь именно представлениями или интуициями, доброй долей лежащими в сфере сырого и недодуманного, противоречивого и туманного. Дистанция, отделяющая «представления» от научных понятий и философских концептов, пребывает непреодоленной и весьма значительной. Между богатством приложений, широтой популярности — и теоретической скудостью, шаткостью, необеспеченностью создается ощутимый контраст.
В настоящих заметках мы бы хотели, по мере сил, содействовать изживанию этих нежеланных особенностей ситуации. Мы попытаемся наметить философский контекст и онтологический каркас, в рамках которых было бы возможно полноценное философское продумывание виртуальности. Мы обнаружим и опишем определенную онтологическую структуру, в состав Которой органически включаются виртуальные события. Благодаря этому, виртуальная реальность получает определенный онтологический статус, и открывается путь к корректной постановке многочисленных философских проблем, рождаемых или затрагиваемых виртуалистикой.
Не столь трудно выделить общую основу, набор главнейших элементов и определяющих свойств, которые присущи представлениям о виртуальности во всех сферах их бытования. Наиболее формализованы эти представления в теоретической физике, и потому, пожалуй, именно здесь искомые свойства выступают нагляднее всего. С этой же сферой связан и генезис всей темы, ибо идея виртуальности появляется впервые в контексте оснований классической механики. Законы движения были выражены посредством вариационных принципов, последние же включали в себя «виртуальные движения» (перемещения, пути, кривые…). Эти условные «движения» описывались теми же величинами, что реальные механические движения, однако не учитывали реальных действующих сил и потому, разумеется, не могли осуществляться в действительности. Подобно этому, «виртуальный фотон» в квантовой электродинамике — объект, наделенный всеми теми же характеристиками, что и реальный, «физический» фотон, однако не удовлетворяющий некоторым существенным условиям и ограничениям на эти характеристики: конкретно, его энергия не обязательно, является положительной, а его масса не обязательно является нулевой. Аналогично определяется и любая «виртуальная частица». «Виртуальная траектория» — траектория, по которой могла бы двигаться виртуальная частица; т. е. она также наделена всеми характеристиками «физической» траектории, однако освобождена от части свойств и условий, определяющих последнюю (вполне идентично «виртуальному движению» в классике) и т. д. На другом полюсе, психологическая виртуальная реальность есть особого рода образ реальности, тем или другим путем формируемый в сознании: в отличие от обычных образов, продуктов сознания и воображения, он выступает как действительная среда определенной деятельности человека — иными словами, человек воспринимает себя как пребывающий в данной реальности, и как таковой действует — так что эта реальность обладает характеристиками обычной эмпирической реальности, однако, разумеется, лишена части ее основных предикатов.
Из этих примеров (число которых нетрудно было бы увеличить) выступают первые необходимые нам признаки. Виртуальная реальность, виртуальные явления характеризуются всегда неким частичным или недовоплощенным существованием, характеризуются недостатком, отсутствием тех или иных сущностных черт явлений обычной эмпирической реальности. Им присуще неполное, умаленное наличествование, не достигающее устойчивого и пребывающего, самоподдерживающегося наличия и присутствия. И эти особенности весьма значимы для нашей задачи философского анализа виртуальной сферы. Как мы немедленно убедимся, они налагают ограничения на возможные пути и средства этого анализа; они говорят о том, какая философия может и какая не может служить для его осуществления.
Основополагающую роль для европейской философской традиции сыграла созданная Аристотелем концептуальная и категориальная база философского дискурса, трактовка базовых философских категорий. Для нашей темы мы выделим, прежде всего, один из видов этих базовых категорий. Это — обширный род, или ряд сущностных, или эссенциалъных категорий: сама сущность (ουσία, essentia, Wesen); различные понятия, что выступают эквивалентными, либо аналогичными сущности в каких-либо аспектах или контекстах; многочисленные понятия, конкретизирующие сущность, как то: виды сущностей, частные, отдельные сущности и т. д. Сюда, к примеру, принадлежат энтелехия, идея, форма, эйдос, «чтойность», субстанция, материя и проч. Преобладающим типом философского построения, дискурса в европейской философии всегда служило такое построение, где некоторые из сущностных категорий избираются в качестве первоначал, или ведущих принципов дискурса, тогда как остальные понятия определяются по их отношению к первоначалам, получая свое смысловое содержание от них, через их посредство. Образцом и первопримером подобного построения является сама метафизика Аристотеля, а в целом, указанный тип именуется, как известно, эссенциалистской философией, или же эссенциализмом. Здесь предполагается, очевидно, что в наличной реальности, во всяком ее акте, событии, явлении, в существовании как таковом, совершается актуализация определенных эссенциальных начал и, в первую очередь, самой сущности. В силу своей обязательной связи с эссенциальными началами, событие и явление предстают как завершенные и самодовлеющие смысловые цельности. Возникновение их обставлено различными видами причин; они заключают в себе определенную сущность, реализуют определенную форму и цель, или же «цель-конец», телос; и они характеризуются полнотой наличествования, пребывающим и устойчивым присутствием.
Совершенно ясно, что подобные представления о реальности и событии не соответствуют реальности виртуальной. В виртуальном событии, каким оно описано выше, никакая сущность и никакой телос не достигают, вообще говоря, совершенной актуализации, и стабильное, пребывающее присутствие и наличие, как мы видели, ему отнюдь не присущи. И это значит, что для любого классического философского дискурса, где доминируют эссенциальные начала, — «дискурса сущности» — вся сфера виртуальности неотличима от чистого несуществования: является невидимою. Виртуальная реальность — неаристотелева реальность. Данное обстоятельство составляет одну из веских причин «устойчивого неравновесия» виртуалистики и одну из серьезных трудностей для устранения этого неравновесия.
Итак, философское продумывание виртуалистики требует выхода за пределы эссенциального философствования, дискурса сущности. Оно возможно лишь в такой философии, которая устраняла бы тотальное господство начал сущности, формы, причины, цели и обладала бы принципиально иными концепциями возникновения, события и явления: более обобщенными и менее жесткими, освобожденными от эссенциального телеологизма и детерминизма и не предполагающими устойчивого наличествования. Но можно ли указать подобную философию? — Бесспорно, европейская метафизика никак не заключается целиком в описанных нами рамках глобального эссенциализма. В составе того же, от Аристотеля идущего, фонда базовых метафизических понятий необходимо присутствуют и такие категории, что по смыслу отнюдь не являются эссенциальными. Этот род категорий удобно выделить признаком, относящимся к грамматике философского дискурса, правилам связывания и согласования понятий. Сущностные понятия выступают в дискурсе в качестве субъектов, или «подлежащих», или «имен» — они наделяются атрибутами, предикатами и т. п., а в аспекте онтологическом, в своем отношении к бытию, они и в настоящем смысле, не фигурально, суть именно — имена: каждое из них есть «некоторое бытие», обозначение и наречение бытия в каком-то его определенном облике, аспекте: что и есть некое имя бытия. И очевидно, что, наряду с такими понятиями, философское построение необходимо включает и другие — категории действия, деятельности, которые в грамматическом аспекте выступают в качестве предикатов, или «сказуемых», или «глаголов», а в онтологическом — указывают, что делается, совершается с бытием, дают бытию не именную, а глагольную (деятельностную) характеристику. Этот род, или ряд не-сущностных и неименных, «глагольных» понятий также достаточно обширен: к нему надо отнести действие, акт, деятельность, движение, энергию, затем и существование, existentia, которую Аквинат небезосновательно противопоставляет essentia, затем и родственное existentia понятие haecceitas, «этости» Дунса Скота, и наконец, целый круг понятий аффективного характера, как воля, влечение, желание… — и ясно, что ряд еще можно продолжать.
Разумеется, простое присутствие таких понятий в философском дискурсе ничуть не значит, что это — неэссенциалистский дискурс. Любое из них допускает включение, интеграцию в такой дискурс, т. е. эссенциалистскую интерпретацию: к примеру, движение, начиная с аристотелевой физики, типично и традиционно трактуется в энтелехийном смысле — как направляющееся к определенной завершенности, цели, телосу, продуцирующее актуализацию определенной сущности. Но в то же время, в силу не-эссенциалистской природы этих понятий, все они сами по себе, внутренне, отнюдь не связаны с эссенциализмом, допускают также и не-эссенциалистские трактовки и, в частности, если какое-либо из них будет избрано центральным понятием, положено в основу дискурса, — данный дискурс не будет носить эссенциалистского характера. Тем самым, возрастание философской роли и веса таких понятий заключает в себе тенденции к снижению жесткости, тотальности эссенциализма создает предпосылки к выходу за его пределы. И сравнительно с античной, в первую очередь, аристотелевской философией, метафизика христианской эпохи, в целом, как раз и демонстрирует подобное возрастание, весьма отчетливо выраженное в классической новоевропейской философии.
Полезно проследить вкратце, как и в силу каких факторов это происходит. При общей тенденции к сближению и воссоединению с античной мыслью, которой отмечен весь путь западноевропейской философии, начиная с ее отделения от патристики, в ней почти всюду сохранялось, однако, главное и коренное отличие, онтологическое. В противоположность греческой онтологии единого бытия, мысль христианской эпохи изначально усвоила и, в целом, всегда сохраняла в своей основе христианскую онтологию бытийного расщепления. И совершенно понятно, что эта онтологическая модель, описывающая два горизонта бытия, разделенные, но и связанные, один из которых зависим от другого и к нему устремлен, — несет в себе гораздо большие задатки, большую предрасположенность к неэссенциальному дискурсу. Отбросив патриотическую пару понятий Творец — тварь, метафизика Нового Времени выражала свою онтологию понятиями, более близкими к античности, такими как Бог и Мир, трактуя первое из этих понятий как абсолютную сущность. Оба понятия вполне умещались в рамки аристотелева дискурса, и однако philosophia prima далеко уже не была аристотелевским эссенциализмом, ибо оба в себя вобрали глубоко новое содержание. Не вдаваясь в детали, отметим главное: как следствие онтологического расщепления-разрыва, Мир приобретает фундаментальное качество бесконечности (многоликой и вездесущей, являющейся как бесконечность мира, бесконечная множественность миров, бесконечность вещей, их связей…), а абсолютная сущность как таковая, ad intra, становится постижима и характеризуема лишь апофатическим способом. Складывается христианизированная версия — или скорей, пучок, спектр версий — античной онтологии, онтологии аристотелевской сущности или платоновско-неоплатонического Единого (в чем сыграл крупную инициирующую роль псевдо-Ареопагит). Но что, однако, важно для нас — эта достаточно кардинальная трансформация онтологии, как и языка, удерживает, тем не менее, эссенциалистский характер философского дискурса. Невзирая на то, что в самой европейской мысли выработка ее позиций воспринималась как глубокое расхождение с Аристотелем и протекала (в сравнении, особенно, с аристотелизмом схоластики) под знаком его преодоления и отхода от него, — возникавшие позиции были лишь новой, христианизированной версией, или спектром версий эссенциализма. Из многих доводов и обстоятельств, что показывают это, укажем наиболее общий факт: преобладающей частью, эти построения и опыты новоевропейской метафизики объемлются руслом так называемого панентеизма. Здесь предполагают, что все вещи и явления, и Мир как целое, наделены, прежде всего, сущностью, и базовая онтология бытийного расщепления получает сущностную трактовку через краеугольный концепт «мир в Боге», в каком-либо из его многих вариантов. В итоге, философский дискурс оказывается по-прежнему управляем сущностью и сущностными началами — хотя и сущность, и мир, и вещи мира уже толкуются далеко не по Аристотелю.
Так выглядит, с птичьего полета, занимающий нас аспект европейской метафизики. В орбиту нашего беглого рассуждения входят практически все ее ведущие направления и учения — Кузанский и Декарт, Спиноза и Лейбниц, классический немецкий идеализм… Анти-эссенциалистские тенденции и возможности, находимые во всем этом обширном русле, усиливаются и углубляются, сравнительно с античной мыслью, однако порождают, как правило, только иные, более либеральные, виды и вариации эссенциалистского дискурса, не столь тотальные, не столь сковывающие реальность сплошною сетью закономерности, как эталонный аристотелев эссенциализм. Надо, конечно, иметь в виду, что наша характеристика эссенциализма была, в некой мере, условной методологической конструкцией (притом, беглой и огрубленной); истинная философская позиция всегда несет в себе потенции иного себе, и реальные учения не укладываются в сконструированные «измы». Но и с учетом этого очевидно, что виртуальные явления, виртуальная реальность не могут получить адекватного описания в данном русле, и нам необходимо обратиться к наиболее радикальным преодолениям эссенциализма — к существующим или новым опытам, что напрямик избирают базироваться на каких-либо из рассмотренных неэссенциальных понятий. В качестве истока и определяющего принципа философского дискурса, эти понятия очень неравноценны. К примеру, движение, как мы видели, имеет в философии прочную эссенциалистскую интерпретацию и, соответственно, малые возможности для развития неэссенциалистского дискурса (хотя, заметим, в неклассической физике его понимание отнюдь не столь эссенциалистично). Деятельность, действие, акт и т. п. имеют более выраженные неэссенциалистские коннотации и уже бывали используемы в попытках ухода от эссенциалистского философствования. И все же их степень удаления от эссенциализма оказывается недостаточной для нас: они слишком тесно связаны с наличным бытием, всегда описывая актуализацию каких-либо его содержаний. Другие факторы мешают взять основоположным принципом такие понятия как воля, влечение, желание…: будучи явными, а порою и резкими альтернативами эссенциализму, они в то же время смешаны с психологическим содержанием, нуждаются в очищении и даже с ним остаются довольно проблематичны в сфере онтологии. — Итак, подобные соображения, а также и многие другие, в которые не будем входить сейчас, приводят к решению рассмотреть в качестве истока и определяющего принципа неэссенциалистского философского дискурса — энергию. Как мы убедимся, в рамках возникающего дискурса виртуальность оказывается естественной и необходимой.
1. Энергия как измерение бытия
Вглядываясь в понятийный строй классического аристотелева дискурса, мы обнаруживаем, что в этом дискурсе «событие» — точнее, «то, что отвечает событию», ибо самой категории события здесь не вводится — представляется трехэлементной структурой, упорядоченной триадой начал:
Δύναμνς — Ενέργεια — Εντελέχεια
Каждое из трех начал имеет целый спектр значений; укажем важнейшие для нас:
Δύναμνς — возможность, потенциальность, потенция;
Ενέργεια — энергия, деятельность, действие, акт, актуализация, осуществление;
Εντελέχεια — энтелехия, действительность, актуализованность, осуществленность.
Расположение начал нисколько не произвольно: вся триада есть оптически упорядоченное целое, которое описывает, как Возможность посредством Энергии претворяется или оформляется в Энтелехию. Это целое представляет собою, очевидно, произвольный элемент происходящего в реальности, произвольное «происшедшее» или (как мы и сказали) «событие», данное в его оптическом строении. Тем самым, триада обладает порождающей, производящей способностью: она несет в себе цельное ядро или «атом» философского описания реальности, и может служить как базисная структура, которая из себя развертывает это описание.
Однако эта триада — весьма вариативная, «протеическая» онтическая конструкция: она наделена чрезвычайной гибкостью, способна иметь многие истолкования и порождать философские построения многоразличного характера. Ее внутренняя логика, система ее смысловых взаимосвязей как структурированного онто-логического предмета не является определенной неким единственным и однозначным образом, ибо входящие в нее начала, равно как их отношения, допускают весьма различные трактовки. Но в силу порождающей функции триады в философском дискурсе, каждое ее определенное онто-логическое прочтение имплицирует особый философский подход, особый способ и русло философствования.
Главным же источником различных прочтений оказывается центральное звено триады, энергия. Как известно, термин Первоначально был произведен Аристотелем от выражения έργω είναι:: быть в деле, в действии, «задействоваться». Согласно этой этимологии, в исходном, наиболее общем представлении «энергия» должна мыслиться ближе всего к «действию», как некий доступный ресурс действования, действенность и т. п. Стагирит же с самого начала связал и предельно сблизил энергию с осуществлением, приняв, что энергия — «существование Вещи… в смысле осуществления» (Мет. 1048 а 31) — разумеется, осуществления некоторой сущности. Тем самым, он изначально и прочно придал своему понятию эссенциалистскую трактовку, в которой, по удачной формуле Хайдеггера, энергия раскрывается как «себя-в-творении-и-конце-имение»: «конец» а также и «творение» вместо «действия», здесь явно выражают и закрепляют связь с телосом, энтелехией, сущностью. Однако сам по себе, введенный термин не обязывает к такой трактовке, он может пониматься и попросту как «себя-в-действии-имение». Итак, непременная связь энергии с сущностными началами, энтелехийность энергии — дополнительное предположение Аристотеля; но оно не только не произвольно, но прямо и тесно связано с характером онтологии, с парменидовской и общегреческой онтологией единого бытия. Можно было бы показать, что энтелехийность энергии, по сути, является одною из полноценных дефиниций такой онтологии.
Выход за пределы этих онтологических представлений означает и выход к иным представлениям об энергии. Один из многих уроков, какие несет в себе история концепта «энергия», заключается в том, что введенное Стагиритом понятие оказалось несравненно шире и тех видов, в каких он его вводил, и того понимания, какое он развил для него. Понятие обнаружило редкостную, почти уникальную способность играть ведущую роль в самых различных онто-логиках и логиках «природы». С разделением и отдалением «метафизики» и «физики», пришедшим в Новое Время, едва ли не полностью разделились и трактовки энергии, присущие этим сферам, причем философская история энергии сложилась заметно более бледной и скудной. В современной научной мысли происходит, по существу, утверждение и закрепление энергии в качестве ключевого концепта, вполне совершившееся уже в дисциплинах физического цикла и все более распространяющееся в науках о человеке. Исподволь, совсем по-иному и более имплицитно, переоткрытие-переосмысление энергии, ведущее к возрастанию ее места и веса, происходит и в современной философии. Наша тема — один из моментов в этом процессе; а избранный нами путь, обращение к аристотелевой триаде, отвечает классическому философскому способу вхождения в проблему через возврат к истоку. Способ оказывается эффективен: в триаде можно найти более богатую логику, которая способна вести не только к уже известным позициям, но и к новому неэссенциалистскому дискурсу.
Почему энергия как «себя-в-действии-имение» должна быть в жестком подчинении предзаданной цели, тел осу, энтелехии? Это — лишь одна из логик, заложенных в триаде. Почему не должны эти понятия мыслиться так, что умный телос сообразуется с энергией, с «ресурсом действования», так что их связь обоюдна, телос не только определяет энергию, но и определяется ею? И даже гораздо радикальней: почему действие и энергия не могут вообще ничему не служить и не подчиняться? не могут быть свободными и первоисточными началами, которые из себя полагают все остальные принципы, полагают развертывание философского рассуждения? Понятно, что это всецело исключено в онтологии единого бытия; но в онтологии бытийного расщепления, где сущность окрашивается апофатичностью, а ткань явлений проникается бесконечностью (в смеси с конечностью, конечно) — не окажется ли именно этот радикальный предел деэссенциализации передающим специфику подобного бытия? — Вот три основных возможности; и можно охватить их все воедино в наглядном образе. Если условно представить онтическую дистанцию, отстояние между Возможностью и Энтелехией как некий наглядный интервал, в котором находится Энергия как посредствующее звено, — то в строгом аристотелевом эссенциализме, где сущность доминирует над всем, энергию можно представлять пребывающей в центре интервала. В случае обоюдной связи, взаимозависимости и равносильности энергии и сущности, телоса, наглядным образом служит положение энергии, смещенное к энтелехии, почти слившееся с ней. И наконец, радикальной «отвязке» энергии от сущности отвечает смещение противоположное, когда энергия — предельно вблизи возможности.
Охарактеризуем бегло эти три типа понимания энергии. Случай первый — классический эссенциализм. Доминирующим началом в триаде — а затем и во всем развертываемом дискурсе — служит энтелехия, а равно с нею и сущность, поскольку оба начала связаны прямою и обоюдной связью (по Аристотелю, «сущность как форма есть энтелехия» (О душе 412 а 21), а энтелехия, в свою очередь, есть «сущность, находящаяся в состоянии осуществленности» (Мет. 1039 а 17)). Как производящий и смыслополагающий принцип системы понятий, сущность-энтелехия составляет вершину этой системы; все прочие категории дискурса, включая потенцию и энергию, дистанцированы от нее и подчинены ей. Примеры подобного чистого дискурса сущности можно видеть в системах Спинозы, Лейбница, Гегеля; в соответствии с ним может трактоваться и метафизика Аристотеля (хотя аргументированно выдвигалась и отличная трактовка этой метафизики, о которой скажем ниже). Здесь оптическая триада представляет событие как замкнутую и завершенную, самодовлеющую цельность. Самым характерным свойством такого дискурса является тотальная охваченность реальности сетью закономерности: все вещи, явления, события не только реализуют определенные сущности-энтелехии, но также подчинены целой системе эссенциальных принципов — началам цели, причины, формы и т. п., действие которых носит характер законов.
С развитием подобного понимания, как его углубление и усовершенствование, формируется дискурс, в котором энергия предельно приближена к энтелехии. В истории мысли, и древней, и современной, ему принадлежит крупная роль. Здесь энтелехия и сущность по-прежнему определяют собой реальность и философскую речь, однако при этом они имеют энергию ближайшим и равносильным, в существенном, даже равнозначным себе принципом. Главным, фундаментальным предикатом сущности и энтелехии утверждается их энергийность: необходимость энергии для них, их наполненность, обеспеченность энергией. В отличие от чистого эссенциализма, абстрактно постулирующего власть эссенциальных принципов, здесь учитывают, что реализация этой власти необходимо является действием и нуждается в энергии: всякая сущность энергийна. Но принимается и обратное: примат сущности требует, чтобы всякое действие и энергия служили реализации известных законов и эссенциальных начал, т. е. всякая энергия сущностна. Два эти тезиса в совокупности могут рассматриваться как дефиниция определенного философского дискурса, который естественно называть эссенциалъно-энергийным дискурсом. Чистый и яркий пример его — неоплатонизм. Как сам Плотин, так и ученики его усиленно и многообразно выдвигают и разрабатывают оба полюса этой дефиниции, как энергийность сущности (ср. Энн. II, 5, 3, 4: «все первые принципы суть энергийно-данные»; также Энн. II, 5, 3, 5 е. а.), так и сущностность энергии (по Плотину, энергия есть «полнота смысловых сил»; ср. также Энн. II, 5, 2, 4 е. а.). Два других примера данного дискурса мы найдем в творчестве позднего Хайдеггера: это, во-первых, его собственное учение (где в центре стоит событие, Ereignis, трактуемое как характерно эссенциально-энергийный концепт, «освоение» сущности или реализация взаимопринадлежности человека и бытия), а во-вторых, его реконструкция метафизики Аристотеля (по Хайдеггеру, и эта метафизика, и в целом древнегреческая философия стоят на понимании сущности как энергии).
Наконец, перейдем к последней и противоположной трактовке — такой, в которой энергия отдаляется от энтелехии и сближается с потенцией. Энтелехия при этом оказывается в структуре события отделенною от его основного ядра, оказывается как бы дополнительным и произвольным привнесением. Тем самым, ее присутствие может теперь рассматриваться как «приумножение сущностей», излишнее и устраняемое бритвой Оккама. Иными словами, энтелехия устраняется из события или, возможно, «удаляется на бесконечность», сохраняет свое присутствие лишь как чисто апофатическое начало (что, в свете вышесказанного, только доводит до предела некоторые изначальные тенденции европейского философского процесса). Напротив, энергия теперь концентрирует в себе все существенное содержание события; она освобождается от подчиненности сущности-энтелехии и отнимает у нее роль доминирующего начала в структуре события — а затем, соответственно, и роль производящего принципа философского дискурса. Заодно с сущностью, она утрачивает связь и со всеми примыкающими к ней принципами: де-эссенциализируется. Если прежде энергия была «энергией исполнения», энергией достижения определенной сущности, цели, формы… — то теперь она делается «энергией почина», начинательного усилия, исходного импульса выступления из возможности в действительность; приближаясь к δύναμις, она становится чисто динамическим принципом. Поскольку же она обрела доминирующую роль, то событие, а следом за ним и общая картина реальности, воспринимают основные свойства и предикаты энергии, как прежде они воспринимали таковые сущности и энтелехии. Им перестанут быть свойственны самодовлеющая замкнутость и завершенность — и станут присущи динамичность и открытость вовне; они будут описывать чисто энергийную динамику свободной актуализации, не заключенную в сеть предсуществующих целей, причин и форм и допускающую множественность сценариев и вариантов. Став дискурсом энергии, философский дискурс в любой теме будет развертываться, в первую очередь, в горизонте энергии и как прослеживание того, что совершается с энергией. Историческая судьба такого дискурса своеобразна. В философии он практически отсутствовал до сих пор (если не считать подходов, в той или иной мере коррелативных — дискурсов воли, любви, желания и т. п.). Однако его главные принципы, примат энергии и деэссенциализованная трактовка последней, выдвигались и полагались в основу в двух областях чрезвычайно разного рода: в некоторых древних школах мистико-аскетической практики (включая православный исихазм) и в современной квантовой физике и космологии.
Как ясно уже, именно этот дискурс мог бы, вообще говоря, оказаться адекватным языком для передачи природы виртуальной реальности. Чтобы увидеть, действительно ли такая реальность возникает — или может возникнуть — в контексте дискурса энергии, нам необходимо раскрыть его онтологическое строение — выявить конституирующие его начала и отношения в их бытийном содержании. При этом будет важным «грамматическое» отличие данного дискурса, связанное с принадлежностью его порождающего принципа к обсуждавшемуся типу «глагольных» категорий. В особенности, когда она отделена от энтелехии-сущности, энергия имеет исключительно природу действия, «деятельностную», существуя лишь в действии и не существуя «сама по себе», в самодовлеющем устойчивом пребывании, какое характеризует любую сущность. Не допуская, тем самым, никакой субстанциализации или гипостазирования, она представляет собою не «имя», но «глагол», и в структуре события, а затем и во всем дискурсе, она выступает как предикат, «сказуемое»; тогда как в эссенциальных дискурсах, как мы отмечали, их доминирующий сущностный принцип выступает как грамматический субъект, «имя», «подлежащее».
Отличия грамматической структуры сказываются на структуре онтологической. Мы уже говорили, что в дискурсе, определяемом «именем», какою-либо из сущностей, это имя, опознаваясь при онтологическом рассмотрении как имя бытия, говорит нам о том, какое именно сбывается, свершается бытие. Это может быть имя различной общности, до конца или же только частично специфицирующее, конкретизирующее указуемое бытие. В первом случае мы скажем, что данное имя задает определенный онтологический горизонт, определенный способ, образ бытия; во втором случае это имя может принадлежать различным онтологическим горизонтам. К примеру, «сущее» — одно из наиболее общих имен, еще не выделяющее конкретного горизонта; но «здешнее» или «наличное» бытие уже обозначают таковой. Другими примерами онтологических горизонтов могут служить античные «стихии» (земля, вода, воздух, огонь), именно так трактовавшиеся, начиная с Парменида, который впервые установил различие оптического и онтологического, «физики» и «метафизики». — Но что в нашем случае?
Энергия как высказывание о бытии есть, очевидно, бытие-в-действии, бытие-в-деле, бытие как самоосуществление (но, вообще говоря, еще не самоосуществленность) (Ср.: «Энергия — это… бытие на деле»
[1]). Прежде всего, это, действительно, не есть имя бытия. Это — глагольное высказывание, говорящее не о том,
какое, а о том,
каким образом свершается бытие. Затем (что будет для нас еще важней), это — предельно общее высказывание. Тут нет никакого указания, каким же образом свершается бытие, а есть только констатация: бытие
свершается, оно предполагает действие, оно имеет аспект или «измерение» действия. Энергия, т. о., и есть это «действенное» измерение бытия, или «бытие-действие»
[2] — особое онтологическое измерение, которое не выделяет одного определенного онтологического горизонта, но может априори включать в себя различные горизонты, в которых «образ свершения» бытия конкретизируется в полной мере.
Наша задача — выяснить, реализуется ли на самом деле эта априорная возможность различных бытийных горизонтов в энергийном измерении. Для этой цели удобнее всего обратиться к языку событий. Энергия определяет, конституирует событие; рассмотрим, каким бытийным горизонтам могут соответствовать события. В классических, именных дискурсах, где энергия является осуществлением сущности-энтелехии, всякое событие является изведением некоторой такой сущности в пребывающее присутствие, в наличие. Тем самым, оно отвечает горизонту наличного бытия и может характеризоваться как событие обналичивания. Понятно, что дискурс энергии также допускает события обналичивания, поскольку в многообразии возможностей всегда и заведомо имеются возможности выступления в наличествование. Тем самым, в энергийной онтологии также присутствует горизонт наличного бытия. Здесь он вновь несколько изменяет свой характер и содержание, выступая как горизонт обналичиваемого бытия-действия. Но более важным отличием от других дискурсов является то, что данный горизонт теперь не является единственным, отвечающим событиям: наряду с обналичиваемым, возможно также и необналичиваемое бытие-действие.
Прежде чем убедиться в этом, мы поясним возникающее свойство «онтологической неоднозначности» энергии, ее способности определять различные бытийные горизонты. Данная способность энергии естественно сопоставляется с ее хорошо известным свойством существовать в двух разных видах или модификациях, как энергия «свободная» или «связанная». Обычно это свойство обсуждалось в чисто естественнонаучном контексте, как относящееся к физической, природной энергии; немногие наличные опыты философского анализа энергии — в частности, у Аристотеля и Хайдеггера — не отражали его, поскольку принадлежали к эссенциальным или эссенциально-энергийным дискурсам, представляющим энергию только «связанной», заключенной в систему форм. Исключением является анализ А. В. Ахутина, который усматривает в античной мысли «путь, ведущий к стихии и путь, ведущий к форме», и эти пути «приводят к двум понятиям энергии. Стихия, понятая как… начало движения, есть вечное, неизменно пребывающее изменение форм, трансформация. Это и есть действительное бытие, энергия стихии или стихия как энергия. Если же итти противоположным путем (который избирает Аристотель) и понять… начало движения как форму, эйдос, то "физически сущее" определяется как… формирование, в основе которого лежит энергийное бытие формы, ближайшим образом — ее самовоспроизводство»
[3]. Этот анализ созвучен нашему, по-своему приходя к представлению о двоякой, «свободной» и «связанной» энергии на онтологическом уровне. Но следует подчеркнуть, что в дискурсе энергии возникает не «два понятия энергии», но
единое понятие
многообразной энергии — энергии, способной порождать события различного онтологического содержания и статуса, так что в одних она выступает «свободной», в других же «связывается» в энергийное бытие формы.
Очевидным образом, горизонт наличного бытия, или же обналичиваемых событий, и есть область «связанной» энергии, где энергия, изводя сущность-энтелехию, оказывается и связанной в некоторую форму. Но что такое события со «свободной» энергией? Как мы говорили, когда энергия делается деэссенциализованной, она сближается с потенцией и может выступать как
начинательное усилие: не столько сформировавшийся акт, сколько лишь побуждение, побудительное движение; и не столько оформившееся движение, сколько чистый импульс, первый толчок или «росток» движения, в смысле не биологии, а топологии — вы-движение, вы-ступление из стихии потенции — к актуализации (впрочем, хотя и начинательное, но уже выступившее, отделившее себя от потенции отчетливо и определенно, ибо имеющее определенную энергию). Подобная энергия, как и событие, порождаемое ею, непричастны никакой форме и никакому телосу; именно в них реализуется чистая деэссенциализованность, инаковость всем эссенциальным началам
[4]. И сразу же очевидно одно качество или одна предпосылка, которою должны обладать эти энергии и события: они должны
не иметь длительности, протяженности. Событие может не иметь связи с формой лишь в том случае, если оно
еще не обрело формы, если у него «не было времени сформироваться»; если же оно имеет длительность, у него с необходимостью возникают и форма, и другие элементы эссенциальности. «Непричастность форме и телосу» может быть лишь сугубо мгновенным свойством: ибо если есть хотя бы один «следующий» миг, следующий микрошажок, микроэлемент события, тут же становится правомерен вопрос: это событие есть
почин — чего?
Но что значит — «у события нет длительности»? Это значит, что оно имеет «бесконечно малую» длительность, т. е. является «моментальным», совершается в момент, в миг — в промежуток времени бесконечно краткой протяженности. В свою очередь, «бесконечная малость» и «бесконечная краткость» означают
несоизмеримость с обычной, конечной протяженностью, какой обладает любой «интервал на оси времени», временной промежуток, интегрированный в обычную темпоральность наличного бытия. Стало быть, у не-длящегося события его время, или же «миг», не интегрируется, не включается во временной порядок, в темпоральность наличного бытия, но оказывается изъятым из этого порядка, отдельно сущим, дискретным. Столь же отдельным и дискретным, несоотносимым является этот миг и по отношению к другим подобным событиям. «Миг» принципиально единствен, неповторим и невоспроизводим, он не сливается ни с обычным, длящимся временем, ни с другими «мигами». И мы получаем, в итоге, важные выводы. Дискурс энергии допускает особый класс «чисто деэссенциализованных» событий, главным отличием которых является отсутствие длительности. Такие события (или, равносильно, их энергии) конституируют новый тип временного порядка, новую темпоральную структуру: дискретную темпоральность, стоящую вне темпоральности наличного бытия и порождаемую совокупностью несвязных, несоотносимых и непротяженных временных элементов. Мистический опыт доставляет свидетельства о реальном совершении их: так, современный подвижник-исихаст характеризует темпоральность высших ступеней Духовного Процесса как «мгновение, в котором, однако, открывается вечность, не имеющая протяжения»
[5].
Длительность («реальная длительность», протяженность, durée…) — определяющий предикат наличествования, устойчивого пребывания, присутствия. Ergo, события без длительности не принадлежат горизонту наличного бытия (обналичиваемого бытия-действия) — являются необналичиваемыми событиями, которые образуют другой онтологический горизонт, и даже, возможно, не единственный горизонт, поскольку не исключено априори, что предикат необналичиваемости может принадлежать различным образам бытия-действия. Смысл и содержание этого рода событий могут быть достаточно поняты, лишь когда нам уясняется еще один существенный аспект бытия — топологический, раскрывающий специфическую связность всех онтологических событий и горизонтов. Данный аспект конституируется мыслью и сознанием, неотделимыми от бытия, и мы подробнее обратимся к нему ниже. Теперь же укажем для необналичиваемых событий некоторые соответствия и параллели.
Прежде всего, можно заметить, что, обнаруживая феномен не-длящихся событий, характеризуемых лишь определенной энергией, философия в своей сфере открывает факт физического дискурса, взаимную сопряженность энергии и времени: чистая, «свободная» энергия в своей определенности исключает время как протяженность и пребывание. В философии же аналогичные явления описывались не раз и в разных контекстах. Ближе всего к нашему изложению поздний Хайдеггер, который во «Времени и бытии» и в ряде заметок, посвященных энергии, говорит о событиях, лишенных длительности, устойчивого пребывания. Он тоже отмечает, что такие события отчуждены от сущности, деэссенциализованы, поскольку «быть сущностью значит пребывать (wesen heißt währen)»
[6]. Отличие, однако, состоит в том, что лишь в дискурсе энергии, в измерении бытия-действия, подобные события выделяются в особый онтологический горизонт, тогда как в эссенциально-энергийном дискурсе позднего Хайдеггера (как и в экзистенциальном дискурсе раннего Хайдеггера) как пребывающие, так и не пребывающие события объемлются горизонтом бытия-присутствия, Dasein (которое не совпадает ни с обналиченным и стабильно пребывающим бытием, ни с нашим пониманием необналичиваемости; их соотношение — особая тема). Определенную близость к нашей альтернативной структуре темпоральности (вкупе с обычною темпоральностью образующей двоицу, диахронию) имеет «диахрония», дискретная и «внебытийная» темпоральность, возникающая в построениях Левинаса и противопоставляемая им «синхронии», сплошному, слитному времени эссенциальных дискурсов
[7]. Наконец, в русской мысли идеи об ином, разрывном порядке временности развивались Бердяевым: в его эсхатологической метафизике истории эмпирическая временность получает свое содержание и смысл от спонтанных и вневременных, дискретных прорывов в здешнее бытие — иного, эсхатологического порядка бытия. — Все эти опыты и идеи объединяются тем, что в них выступает интуиция временности, темпоральной структуры бытия, отличная от господствующей в европейской мысли платоновско-августиновской концепции темпоральности. Последняя базируется на интуиции «вечности» как совершенного первообраза эмпирического времени; и в этом первообразе качество непрерывности, слитного единства не только не исчезает, но сгущается — тогда как свойства дискретности и разрывности ему целиком чужды.
Уже достаточно ясно, что необналичиваемые события обладают теми свойствами, которых мы ожидаем от виртуальных событий, и горизонт необналичиваемого бытия-действия способен описывать виртуальную реальность. Однако не менее ясно из нашего описания выступает связь этого горизонта еще и с неким другим концептом — что, как выяснится, весьма усложняет онтологическую ситуацию. Выступая — или же ис-ступая, вырываясь — из темпоральности наличного бытия, внося разрывность в его порядок, необналичиваемые события определенно «имеют отношение» к трансцендированию. Такая интуиция не может не возникать; однако еще необходимо придать ей отчетливую философскую форму. Это не так легко. Что есть трансцендирование, и как следует его понимать в контексте нашего дискурса энергии?
«Трансцендирование» — один из важнейших граничных топосов философской речи, в которых тематизируются ее отношения с ее границами, как предметными (границы предмета философствования), так и методологическими (границы метода философствования); и по свойству всякого топоса, тематизируются они так, что не могут получить законченного и непротиворечивого представления. Впрочем, исходная (и весьма основательная) база темы о трансцендировании, созданная в традиции европейского идеализма, сводит до минимума эту открытость и проблемность темы. В рамках картезианского дискурса, обносящего «чистую мысль» защитной оградой оппозиции res cogitans — res extensa, и в рамках кантианской оппозиции трансцендентное — имманентное, акт проработки сознанием, мыслью — предмета мысли есть выход мысли от имманентного — исход ее из себя как из собственной «имманенции» — к трансцендентному; и это есть акт, в котором мысль осуществляет себя как «трансценденция»: что и есть «трансцендирование» per definitionem. Это — когитативная концепция трансцендирования, в которой последнее предстает как акт чистого интеллекта, чистой мысли — и не предстает как апория «исхождения из собственной природы», поскольку трансценденция и есть природа мысли, а трансцендирование — осуществление этой природы.
Но это всего лишь одна трактовка трансцендирования, отнюдь не единственная в истории мысли. В числе ключевых и движущих интуиции философского, религиозного, мистического сознания всегда жила интуиция радикального выхода за пределы, преодоления или разрыва границ, снятия или трансформации самих фундаментальных предикатов наличного бытия, какими они отпечатались на мысли и на жизни, на всех планах существования. В семантическом ядре этой интуиции на первом месте стояли именно моменты предельной радикальности и формальной невозможности, немыслимости «выхода», понимания «выхода» как акта, в котором природа данного и наличного не осуществляется, но отменяется, отбрасывается, превращается в нечто, глубочайше иное, — и который заведомо не ограничивается областью чистой мысли. Такой «выход» тоже традиционно (и оправданно, в согласии с семантикой латинского trans-scendere) обозначался как «трансцендирование» и «трансцензус»; однако ясно, что здесь с термином связываются существенно иные представления. Они не во всем иные: легко согласиться, что первоисточные интуиции «выхода» (исхождения, прорыва, претворенья в иное…) и «когитативное трансцендирование» классического идеализма соотносятся как общее и частное, «сильное» и «слабое», сверхприродное и природное. В когитативном, или «естественном» трансцендировании философия нашла и выделила ту область, где трансцендирование можно было непротиворечиво (хотя глубже и тут обнаруживались проблемы!) определить и концептуализировать. Нельзя не признать в этом ценного завоевания мысли; однако это завоевание не охватило и не могло охватить всего поля первоисточной интуиции. В декартовско-кантовском дискурсе трансцендирование было отчасти приручено и освоено; но другою частью оно было вытеснено из философии.
«Другая часть» была обширна и начиналась тут же, сразу же за декартовой стеной обители чистой мысли. Даже в неоплатонизме, при всей его интеллектуалистичности, трансцендирующее начало, или «душа», не есть чистая мысль, оно не только интеллект, но и воля, этос, эрос. В сфере традиционной тематики и проблематики европейской мысли, никогда не исчезавшей, вопреки усилиям позитивизма и рационализма всех толков, мы обнаруживаем целый круг или, если угодно, куст идей, интуиции, парадигм и просто вопросов, явно принадлежащих к «топосу трансцендирования» и столь же явно не охватываемых естественным трансцендированием чистой мысли. «Эпистрофэ» неоплатоников, «экстаз» всех мистических традиций (и онтологии Хайдеггера), «теозис» патристики и «метанойя» аскетики, «искорка» Майстера Экхарта, «метаморфоза» Гете, «претворение» (Wandlung) Рильке… — все это суть аватары трансцендирования, или его соседи, или аспекты… А еще выясняется с разных сторон — начиная со строгой феноменологии — что дискурс чистой мысли отнюдь не может быть целиком изолирован от дискурса телесности, как и от дискурса воли, желания, — и в свете этого, концепцию естественного трансцендирования следовало бы пересмотреть. — В итоге же, трансцендирование остается сегодня — как и оставалось всегда — топосом, открытой проблемою и узлом проблем. Вектор философского усилия в этом топосе — стремление осветить, вовлечь в философскую орбиту возможно более из того реального содержания, что пребывает за оградой классической концепции когитативного трансцендирования. Одна из обещающих возможностей в этом направлении и открывается в дискурсе энергии. Возвращаясь к необналичиваемым событиям, мы получаем теперь возможность поставить конструктивно вопрос об их отношении к трансцендированию. Поскольку мы не в границах классического дискурса и ориентируемся не на «слабый», чисто когитативный, но на «сильный», радикальный тип трансцендирования, отнюдь не имеющий какой-либо единой и неоспоримой трактовки, — нам требуется сначала сформировать опорное понимание этого «радикального трансцендирования», выделить его определяющие признаки. Рассматривая весь комплекс соответствующих представлений и интуиции — отчасти он охарактеризован выше — мы приходим к выводу, что ключевым элементом здесь является, несомненно, отношение к «фундаментальным предикатам наличного бытия». «Радикальное трансцендирование» хочет мыслить себя актом или процессом действительного онтологического изменения, выхода за пределы исходного онтологического горизонта, каковым для него служит наличное бытие (обналичиваемое бытие-действие, в нашем случае). Подобный выход и означает не что иное, как изменение фундаментальных предикатов данного горизонта.
Но здесь необходимо поставить кантианский вопрос: как возможно «изменение фундаментальных предикатов» онтологического горизонта? Ответ на этот вопрос представляется двояким. Прежде всего, подобное изменение, как и всякое вообще, может быть мыслимо как совершаемое ex machina, путем некоего внешнего вмешательства. Такой образ изменения отвергается философским и феноменологическим дискурсом, как несовместимый ни с опытом, ни с корректным пониманием онтологических категорий; он принимается лишь в рамках определенных теологических дискурсов (дискурс Провидения). Однако существует и другая возможность. Действия и события, совершающиеся в данном горизонте, производят в нем определенные изменения. Могут ли «фундаментальные предикаты» вовлекаться в эти изменения, затрагиваться ими? «Фундаментальные предикаты» суть основополагающие свойства онтологического горизонта (будем ради определенности иметь в виду наличное бытие), которые конституируют данный образ бытия, составляют его определение. Тем самым, они сопоставлены онтологическому горизонту в целом, как таковому, и не выступают непосредственно в обычных событиях, которые всегда конкретны и частны, ограничены некой своею областью. Во всех таких событиях выступают не сами по себе эти предикаты, но лишь частные же их обнаружения, проявления. Из всего, относящегося к данному образу бытия, составляющего его «икономию», именно эти предикаты больше всего удалены от того, что доступно воздействию и подвержено изменению, они суть неизменное par excellence. — И все же есть исключение. Фундаментальные предикаты доступны опыту рефлексии. Они могут становиться предметом сознания, при условии, что сознание совершит акт идентификации их: узрения, опознания и выделения. Это — единственный путь и единственный образ, каким эти предикаты могут «становиться предметом». Но, став предметом, они могут теперь вовлекаться в события — а именно, в такие «события сознания» или события с участием сознания, в которых сознанием предварительно совершен акт идентификации. О тех энергиях, что отвечают таким событиям, можно говорить, что они направлены (или способны направляться) на фундаментальные предикаты наличного бытия.
Выделенная категория событий может, вообще говоря, включать события различного рода, и «направляться на фундаментальные предикаты» способны — априори — разные энергии и по-разному. Сейчас для нас важно зафиксировать один род: энергии, «направляющиеся на фундаментальные предикаты», могут быть энергиями неприятия этих предикатов, отталкивания от них, стремления к их изменению. На основании нашего анализа «радикального трансцендирования», мы можем назвать эти энергии — энергиями трансцендирования, а соответствующие события — событиями трансцендирования.
Рассмотрим внимательней появившийся род событий. Понятно, прежде всего, что по отношению к естественному, или когитативному трансцендированию они выступают как его обобщение и усиление. Акт рефлексии входит в их конституцию, однако составляет лишь предпосылку, условие события, а не существо его содержания; в этом существе событие должно быть отнесено к иному, «радикальному» типу трансцендирования. Далее, можно констатировать, что события трансцендирования не могут отвечать горизонту наличного бытия. По самому определению, они суть события отталкивания от этого горизонта, его неприятия в его фундаментальных предикатах. Видно, что их энергии принадлежат именно к тем, которые мы характеризовали как предельно приближенные к потенции и предельно де-эссенциализованные: как импульсы отвержения, неприятия, отталкивания, это суть, в общем случае, лишь импульсы чистого почина и отрыва, «выступления из», отнюдь не носящие характер «выступления к» или «оформления в», — иначе говоря, не несущие в себе никаких элементов формы, тел оса, энтелехии, оторванные от всех эссенциальных начал — и, тем самым, представляющие собой лишь чистую не-длящуюся энергийность — что и была нами названа «необналичиваемой» энергией.
Итак, события трансцендирования — необналичиваемые события. Но наша характеристика их рождает сразу один вопрос: непременно ли такие события должны оставаться в пределах чистой начинательности, ограничиваться чистым порывом выступления? возможно ли для них выйти за рамки чистого начинательного порыва, продвинуться к завершению, «исполнению» — и достичь их? Конечно, такие «продвинувшиеся» события будут представлять собой уже иной, новый род событий, так что точней вопрос следует задать так: не связаны ли с описанными событиями чисто энергийного, актуализующегося трансцендирования — события трансцендирования актуализовавшегося, завершенного? — Для ответа требуется, прежде всего, понять, что такое «завершенность» в случае событий трансцендирования. В обычном, т. е. аристотелианском, строе понятий, завершенность означает актуализованность, достигнутость определенного телоса, воплощенность (изведенность) определенной сущности-энтелехии — и имеет своим главным предикатом наличествование (как и обратно, если мы отправляемся от понятия наличествования). «Завершенное» есть достигнутый телос и изведенная сущность, и «завершенное» наличествует. Однако трансцендирование не может наличествовать, принадлежать горизонту наличного бытия — ни вообще, ни, тем более, если оно сумело достичь своей завершенности!
Так мы подходим к одной из тем, где отражается граничный характер трансцендирования как топоса философии. С одной стороны, казалось бы, заведомо возможно сопоставить трансцендированию как некоторому действию — его законченность и завершенность, полноту его актуализованности. С другой стороны, однако, такое сопоставление придает трансцендированию — или точней, гипотетической «завершенности трансцендирования» — телос, энтелехию и наличествование, т. е. свойства, которыми оно, по определению, обладать не может, которым оно предельно чуждо. Перед нами типичное «диалектическое противоречие», и ясно, в каком направлении лежит «синтез». Трансцендирование — особое, единственное в своем роде действие онтологического исхода, и его «завершенность» и «актуализованность» — если вообще о них можно говорить! — также особого рода. Они обозначают актуализовавшийся в полноте, исполнившийся (?) переход в некий иной онтологический горизонт, с иными фундаментальными предикатами; и, тем самым, им следует сопоставить уже не обычные аристотелевы телос и энтелехию, что предполагают наличествование, но некие обобщения их — если угодно, «транс-телос» и «транс-энтелехию». Сама же «завершенность и полнота трансцендирования» есть, в отличие от трансцендирования как такового, уже не глагольная категория, а вновь — именная, не род бытия-действия, но некоторое имя бытия — имя вышеупомянутого «иного онтологического горизонта».
Будем обозначать эту «завершенность и полноту» термином «трансцензус». Это — то имя бытия, в котором исполняется трансцендирование как глагол бытия. Но сразу необходимо подчеркнуть, что эти новые понятия — трансцензус, транс-телос, транс-энтелехия — только условны и проблематичны, они не решают, а только выявляют проблему, намечают ее язык. Возвращаясь с понятием трансцензуса к именному дискурсу, мы уходим от дискурса энергии, в котором, именно за счет его энергийности, глагольности, оказалось возможным продвинуться далее когитативного трансцендирования и в определенной мере тематизировать трансцендирование радикальное. Но возможно ли тематизировать это трансцендирование иначе, нежели в измерении бытия-действия, как чистую энергийность?
Существует ли трансцензус? Это фундаментальный «вопрос конца» энергийной онтологии, в известном смысле дополнительный, парный к «вопросу начала» любой онтологии: почему вообще есть нечто, а не скорее ничто? Без труда можно опознать в нем философское отражение древнейшей мистической и эсхатологической проблематики — но в данном тексте нам незачем углубляться в него. Приведем лишь одну, принадлежащую Мерабу Мамардашвили, отчетливую формулировку преобладающего философского отношения к проблеме: «Есть трансцендирование, но нет трансцендентного. Есть действие в человеке какой-то силы, но приписывать ей цель и направление в виде предмета, на который она направлена, мы не имеем права»
[8].
* * *
Итак, горизонт необналичиваемого бытия-действия содержит события трансцендирования — меж тем как мы рассчитывали связать с этим горизонтом виртуальную реальность. Но два эти обстоятельства, разумеется, не противоречат друг другу. Мы не обнаружили и не утверждали, что событиями трансцендирования
исчерпываются все необналичиваемые события; и, как мы убедимся сейчас, необналичиваемость, действительно, допускает, наряду с трансцендированием, также другой род, который с полным основанием можно сопоставить виртуальности. Мы видели, что события трансцендирования требуют для своего осуществления таких специфических условий как рефлексивный «акт идентификации» и направленность энергии на фундаментальные предикаты наличного бытия; и очевидно, что эти условия отнюдь не являются необходимыми для всякого необналичиваемого события. Необналичиваемость как таковая связана с предельной деэссенциализированностью, предельной приближенностью к потенции, предельной «начинательностью» — и все эти свойства сами по себе заведомо не требуют названных условий, не нуждаются ни в рефлексии, ни в «направленности на фундаментальные предикаты». Скорей напротив, эти условия вносят усложняющие элементы в структуру события, а также требуют особой интенсивности и концентрации (так, цитированный уже нами архим. Софроний характеризует мистическое трансцендирование как «состояние интенсивного пребывания вне времени»
[9] [9]). Данными свойствами события трансцендирования отчетливо удаляются и отделяются от простого начинательного импульса — и следует заключить, что, кроме них, существуют также «простые необналичиваемые события», не направляющиеся к трансформации фундаментальных предикатов наличного бытия, лежащие еще ближе к потенции и «чистой начинательности». Они осуществляют наименьшее выступление из потенции, представляя собою как бы «минимальные события», сущие на пороге событийности как таковой. Именно их мы и будем называть
виртуальными событиями. Если события трансцендирования можно рассматривать как преодоление наличествования, и в этом смысле, как своеобразные «события сверх-наличествования», то виртуальные события суть чистое умаление наличествования, или «события
недо-наличествования». Используя традиционную для онтологии световую метафору, можно уподобить виртуальные события — мерцанию, тогда как события трансцендирования — сфокусированной сверхинтенсивной вспышке (скажем, импульсу лазерного луча — весьма неслучайная параллель с синергетикой, разъясняемая ниже, во второй из статей «Трилогии Границы»); наличествующему же событию будет отвечать, очевидно, ровное свечение. И каждый из этих типов событий характеризует определенный род бытия-действия.
Возникло, таким образом, некоторое описание бытийной ситуации, онтологического строения бытия-действия. Используя язык физики, можно охарактеризовать это строение как своего рода «тонкую структуру», или же «расщепление спектра» бытия. На месте единого онтологического горизонта наличного бытия в именных дискурсах, мы обнаруживаем три различных горизонта энергийной онтологии, располагающиеся в онтической упорядоченности и образующие совместно единый горизонт или измерение бытия-действия:
События трансцендирования
События наличествования
Виртуальные события.
2. К философскому пониманию виртуальности
Было бы можно подумать, что мы уже достигли поставленных целей, сформулировав философское определение виртуального события и развив интерпретацию виртуальной реальности как определенного горизонта в онтологическом измерении бытия-действия. Но быстро становится понятно, что наши выводы дают лишь начальное и крайне неполное знание и об онтологической ситуации в целом, и, в частности, о статусе и свойствах виртуальной реальности. Наш онтологический анализ носил покуда характер своего рода инвентаризации: мы констатировали, что в рамках дискурса энергии возникают такие-то и такие-то классы событий, которые следует интерпретировать как онтологические горизонты, располагающиеся в измерении бытия-действия. Подобные выводы представляют энергийную онтологию как всего лишь «свободную структуру», набор внутренне не связанных элементов, о которых известен лишь факт их существования. Но есть ли в этой онтологии связь, единство, движение? Оставаясь в пределах скудной системы отвлеченных метафизических категорий, мы лишены возможности ответить на этот вопрос. Уже и раньше нам отчасти пришлось выйти за пределы этой системы: чтобы определить, что такое события трансцендирования, оказалось необходимым привлечь начала сознания и рефлексии — тем самым, предположив в картине реальности присутствие человека. Теперь же, чтобы продвинуться от определений к цельной картине энергийной реальности — в частности, виртуальной реальности — взятой в ее связи и движении, необходимо учесть это присутствие в полной мере. Подобная ситуация фиксировалась философией не раз: напомним хотя бы, что, по Хайдеггеру, лишь отождествляемое с бытием человека «присутствие», Dasein, создает различие между сущим и бытием — фундаментальную ontologische Differenz, которая является конститутивной для самой онтологии как таковой. В этом строе понятий, философское построение, развертывающееся вне бытия человека, способно дать разве что некую пред-онтологию.
Присутствие человека вносит в философский дискурс кардинальные изменения, характер которых можно расценивать как переход в новую топику: этим присутствием изменяется картография дискурса, меняются его проблемные узлы (τόποι), возникает иная расстановка понятий и иная сеть их связей и отношений. И в первую очередь, бытийная картина приобретает связное единство. Присутствие человека в горизонте бытия-действия означает присутствие некоего фокуса, центра или источника, в котором встречаются, сходятся все конкретные образы данного бытия. В дискурсе энергии человек возникает как энергийный микрокосм: сущее, для которого осуществимы все роды событий и которое выступает, тем самым, как начало связности, Nexus, в целокупном бытии-действии. (В известной мере, тут можно видеть энергийную аналогию категории Nexus в эссенциальном дискурсе Николая Кузанского: там эта категория означала связь Возможности и Бытия в онтологической триаде бытия-возможности, Poss-(e)-est.) Но какова же та связность, что создается его присутствием? Увидеть ее природу помогает сравнение с одним из эссенциалистских дискурсов — с учением об идеях, взятым в условно-огрубленной форме, как модель онтологического дуализма (какою не является действительное учение Платона). Здесь онтологическая структура включает два бытийные горизонта, один из которых отвечает миру явлений, другой же — миру идей-сущностей; и эти горизонты, в трактовке огрубленной, «школьной» модели, являются разделенными непреодолимым онтологическим отстоянием: «параллельными». Но в дискурсе энергии бытийные горизонты являются не параллельными, а, напротив, сходящимися, и бытие-действие человека есть точка схождения этих горизонтов: оно всегда способно осуществиться как в событии трансцендирования, так равно и в событии наличествования, либо виртуальном событии. Тем самым, любое событие, принадлежащее к бытию-действию человека, происходит в своеобразной точке разветвления, бифуркации энергийных онтологических горизонтов. Само же бытие-действие человека включает в себя момент имманентной онтологической альтернативы и должно быть определено как бытие-бифуркация.
Итак, топика человека отличается особою топологией в энергийном измерении бытия: топологией, в которой бытие-действие являет собою «всюду присутствующее», имманентное онтологическое разветвление (бифуркацию). Это отличие отнюдь не является единственным. Онтологическая ситуация в топике человека имеет целый ряд важных и специфических особенностей, в силу которых она приобретает динамический и диалогический характер, становясь единственным в своем роде онто-диалогическим процессом. Полная реконструкция этого процесса выходит далеко за пределы нашей темы; однако ее начальные моменты имеют прямое отношение к виртуальной реальности, заставляя пересмотреть и уточнить ее статус.
Источником новых онтологических особенностей в топике человека служат энергии трансцендирования. Мы уже видели и подчеркивали их специфическую связь с присутствием человека: события трансцендирования невозможны вне этого присутствия и включают в свою структуру акты сознания и рефлексии. Но, чтобы вполне понять место и роль этих событий и их энергий в онтологии, необходимо привлечь и начало воли. В этом есть логика: в дискурсе энергии онтология развивается в элементе действия и события, и начало воли, дело которого — управлять действиями, в топике человека закономерно оказывается сопричастным онтологии. Как сущее, наделенное волей, человек посредством актов воления осуществляет одни энергии и события, придает им желаемый характер, и не осуществляет, не изводит из стихии возможности другие. И здесь, в сфере своих волений, он обнаруживает новое ключевое отличие энергий трансцендирования: они оказываются вне этой сферы, их присутствие не зависит от его воли. Они образуют, тем самым, совершенно особый род энергий: они действуют в человеке, однако являются не зависящими от него.
Открытие этой особой природы энергий трансцендирования инициирует, далее, некий онтологический акт, составляющий одну из самых специфических черт топики человека: акт обращения, в котором совершается кардинальное изменение роли энергий трансцендирования, их статуса в данной топике. В чем же заключается этот акт? Полагая прежде энергии трансцендирования своими обычными энергиями, человек затем опознает их как не принадлежащие ему и совершает их экстериоризацию: формирует представление о том, что они имеют некий исток за пределами человека и всего круга его опыта. Он признает их, тем самым, энергиями Внеположного Истока — энергиями «Иного»; и он обращает собственные энергии: ориентирует их от себя и за пределы себя — к «Иному». Подобное философское определение или философская модель обращения, как нетрудно заметить, находится в согласии с архетипальной парадигмой обращения, заданной платоновским мифом о Пещере в VII книге «Государства». Входя в классическую античную метафорику, мы можем сказать, что до обращения человек, не отличая энергий трансцендирования от обычных своих энергий, «лишь улавливал смутные отблески на сводах пещеры» («пещера» как границы, узы, налагаемые эмпирическою индивидуальностью человека, — одна из традиционных трактовок); признав же их энергиями Иного, «совершил обращение к самому Источнику Света». Понятно, однако, что это согласие с Платоном — лишь схематический изоморфизм, отнюдь не снимающий онтологического расхождения дискурса энергии с платоновским эссенциализмом.
Итак, акт обращения приводит к опознанию или полаганию Внеположного Истока (обе эти трактовки, ортодоксально-теоцентрическая и фейербахианско-теогоническая, диаметральные по религиозной установке, в философском дискурсе неразличимы). Это означает принципиальное изменение онтологической ситуации. Последняя становится теперь двуцентровой, биполярной: прежде, как мы говорили, человек — Nexus выступал как единственный энергийный фокус, центр и исток; но с обращением появляется также и другой, Внеположный Исток. Эта двуцентровость, двуисточность делается решающим онтологическим и антропологическим фактором. Энергии двух истоков действуют в общем поле сознания и изначально находятся в соприкосновении, взаимодействии между собой: уже в самом обращении, когда энергии трансцендирования опознаются как энергии Внеположного Истока, человек делает эти энергии предметом своего рода интенционального акта, в котором его собственные энергии направлены и сосредоточены на них. Но энергии трансцендирования «направлены на фундаментальные предикаты здешнего бытия», каковая направленность включает в себя идентификацию данных предикатов, — так что действие этих энергий вносит в сознание определенное смысловое содержание, информацию: несет сообщение, воспринимаемое сознанием как обращение (уже в ином, коммуникационном значении слова!), зов Внеположного Истока к сознанию. Далее, коль скоро возможен зов — возможен и отклик, причем и отклик, и зов имеют вполне определенную тему — фундаментальные предикаты и трансцендирование. Тема обширна, и, вообще говоря, она может тем же путем продолжаться, развертываться.
Сказанное резюмируется в кардинальный вывод: с актом обращения в измерении бытия-действия топики человека формируется диалогическая ситуация. Взаимодействие энергий человека с энергиями трансцендирования, экстериоризованными в энергии Внеположного Истока, принимает характер диалогического общения, которое естественно назвать онтодиалогом. Как род диалогического процесса, онтодиалог обладает, конечно, глубоко специфическими чертами, коренящимися в его радикальной асимметрии, в онтологическом различии и отстоянии его сторон. Но надо заметить, что онтологические позиции дискурса энергии заставляют признать именно онтодиалог первообразом и онтологической предпосылкой диалога как такового. Обычный, межчеловеческий диалог не пуст, а «событиен», в смысле хайдеггеровского Ereignis, лишь в том случае, если для каждого из участников существует свой онтодиалог. Ибо событийный диалог должен развертываться в определенном событийном горизонте, который полагается лишь из онтодиалога, из отношения каждого из участников к Внеположному Истоку. Горизонт всякого событийного диалога полагается онтодиалогом: в этом положении легко опознать «энергийный коррелат», или же форму, принимаемую в дискурсе энергии известным принципом «связи, опосредуемой общим центром», — принципом, вводившимся в философию уже у Джордано Бруно под именем conglomeratio et exglomeratio centri.
Развертываясь в измерении бытия-действия, не предполагая никаких эссенциалистских предпосылок, онтодиалог отнюдь не обладает самоподдерживающимся протеканием, готов всегда оборваться. Его поддержание, его связность достижимы лишь при особом энергийном условии — условии синергии: предельного сообразования, содействия, соработничества энергий человека энергиям Внеположного Истока. Это — новая существенная особенность бытийной ситуации. — Итак, наше рассуждение на интуитивно-предварительном уровне показывает, что онтологическая проблематика дискурса энергии должна заключаться в реконструкции диалогической и синергийной онтологии; что, разумеется, не входит в задачу данного текста.
Здесь же нам следует вернуться к виртуальным событиям: новый онтологический этап нечто уточняет и в их статусе. С обращением возникает радикальное отделение и противопоставление энергий трансцендирования как «энергий Иного», энергий Внеположного Истока, — всем остальным энергиям как энергиям человека, «здешнего истока». Именно это новое разделение делается теперь критерием действительного онтологического отстояния и различия, тогда как различие между энергиями наличествования и виртуальными энергиями выступает как внутреннее различие между двумя родами «здешних» энергий — так что, в конечном счете, оно не оказывается полноценным онтологическим различием (или, если угодно, оно является таковым только в пред-онтологии, или же условной «до-антропологической топике» — в свободной структуре несвязных горизонтов бытия-действия).
Последний наш вывод означает, что в онтологии, учитывающей полностью особенности топики человека, виртуальная реальность не выступает как автономный род бытия, онтологический горизонт. Она опознается как своеобразный суб-горизонт в горизонте энергий «здешнего истока», представляя собою не род, но недород бытия. В свете того, что говорилось о «минималистском» характере виртуальных событий как чистого умаления, недостатка производящей энергии обналичивания, последний термин надлежит понимать сразу в двух значениях. Виртуальная реальность — недо-выступившее, недо-рожденное бытие, и одновременно — бытие, не имеющее рода, не достигшее «постановки в род». Это — недород бытия в смысле таксономических категорий, равно как и в смысле рождающего бытийного импульса.
* * *
Онтологический аспект виртуальной реальности обрисовался полней; но, разумеется, философская проблематика, сопряженная с нею, не только не исчерпана, но разве что едва приоткрыта. В порядке заключительных замечаний укажем, что применительно к виртуальной реальности изменяет свое содержание и смысл, требует пересмотра подавляющее большинство привычных философских понятий. Возьмем, к примеру, уже затрагивавшееся
возникновение — и тут же увидим, что в его обычном смысле, виртуальные события не возникают и не могут возникнуть. Не только в чисто эссенциальной, но и в эссенциально-энергийной трактовке возникновение мыслится как из-ведение и поставление в определенный вид и род, и у позднего Хайдеггера мы прочтем, что «существо возникновения есть постановка в вид»
[10] [10]. Но, будучи «недородом бытия», пороговой энергийностью вне таксономии, виртуальные события не имеют, тем самым, этого существа — и, коль скоро они все-таки «возникают», это может быть только новое, иное «возникновение», неклассическое и обобщенное, не имеющее каких-то свойств классического понятия, являющееся в сравнении с ним «недо-возникновением». (Что согласуется с нашею световой метафорой, характеристикой виртуальной сферы как «мерцающей» или «вибрирующей» реальности.) Понятно, что «недо-возникающее» событие не может иметь полноты причин: имея в энергии свою действующую причину, оно в то же время не обладает формальной и целевой причинами. Это выводит нас к следующим категориям: мы неизбежно найдем, что свойства каузальности, детерминированности в виртуальном мире также должны быть неклассическими и обобщенными (если не отсутствуют вообще).
Иная здесь, конечно, и временность. Начатый выше ее анализ необходимо продолжить и дополнить, ибо есть не только различие между темпоральностью обналичиваемых и необналичиваемых событий, но также и дальнейшее различие между не-длящейся, разрывной темпоральностью, присущей событиям трансцендирования и виртуальным событиям. Притом, это — одно из наиболее радикальных различий между двумя видами необналичиваемых событий: в плане темпоральности они предстают прямою противоположностью друг другу. В событии трансцендирования необналичиваемая темпоральность конституируется как «сверх-время», интенсивно сгущенное и собранное, сфокусированное в точку, сверхплотный, сверхнасыщенный «миг». Но в виртуальном событии эта темпоральность конституируется как «суб-время», или «недо-время», в котором отсутствуют либо какие-то из первичных элементов сознания времени, либо какие-то из моментов акта связывания этих элементов в непрерывную длительность (либо и то, и другое). Реконструкция этой темпоральности должна отправляться от гуссерлевой феноменологии внутреннего сознания времени и представляет собой задачу для будущего; пока для ее решения недостает даже надежного запаса фактических наблюдений. Следует ожидать, конечно, что отсутствуют в недо-времени, прежде всего, активно-деятельностные, сознательно-творческие и целостно-связывающие компоненты. Сохраняется, видимо,
ретенция, первичная память, как свойство, близкое непосредственно к физиологии; но уже судьба
репродукции, вторичной памяти, совсем не ясна априори. Более сложные активности, предполагающие развитую интенциональность, отсутствуют или нарушаются с большею вероятностью: таковы, например, «созидание временных позиций» и, в особенности, формирование объективированного времени, совпадающего с объективным, физическим. Последнее наиболее очевидно и принадлежит к наиболее существенным признакам виртуального события: такое событие заведомо нарушает то фундаментальное условие, что «объективированное абсолютное время с необходимостью есть идентично то же самое, что и время, которое принадлежит ощущению и схватыванию»
[11] [11].
Это означает, что время виртуального события не интегрируется в нормальную длительность и такое событие принадлежит, действительно, к необналичиваемым событиям. Но, если «сверхвремя» вбирает нормальную длительность в себя, сжимая и трансцендируя ее в единую цельность «мига», то «недо-время» не есть цельность, оно не усиливает, а утрачивает связность нормальной длительности, будучи разрывно не только по отношению к последней, но и внутренне, в самом себе: образуя обрывочную, не соткавшуюся во время стихию из разрозненных элементов времени. Можно отсюда заключить, что сам термин «виртуальное событие» менее удачен, чем принятая обычно «виртуальная реальность» — коль скоро расползшаяся стихия субвремени не есть «миг», и впадание, или выпадение в эту стихию в измерении объективным временем может занимать любую неопределенную протяженность.
Стоит также заметить в связи с терминологией, что термин «виртуальная реальность» сегодня огульно применяется к огромной сфере очень разнородных явлений, и вовсе не следует считать наши выводы относящимися ко всем этим явлениям без исключения. К примеру, виртуальная реальность, конструируемая в эргономике, явно не есть чистая сфера виртуальных событий как недо-бытийствования и недо-наличествования. Здесь перед нами — рационально моделируемый, обладающий контролируемыми границами «островок виртуальной реальности»; он составляет элемент более широкой экспериментальной ситуации и должен анализироваться и квалифицироваться в ее контексте. Ситуация же в целом представляет собой управляемый, контролируемый и целенаправленный процесс получения определенных данных. В этом целом, виртуальный элемент выполняет функциональную и подчиненную роль, в том числе — что важно — и с точки зрения самого испытуемого сознания. Пребывая в обстановке опыта, сознание частично удерживает аналитические и самонаблюдательные активности, и вследствие этого формирование виртуального состояния также только частично.
Весь наш анализ, конечно, сугубо начинателен, и его главные результаты — не столько в ответах, сколько в открывающихся возможностях постановки целого ряда дальнейших тем. Одна их часть заключается в выяснении применимости введенных понятий к разнообразным явлениям, которые интуитивно представляются близкими к виртуальной сфере: возможно ли, скажем, считать виртуальными событиями такие феномены как наркотический или алкогольный транс, галлюцинации, прелестные восприятия в духовном процессе? В связи с последним, следует вспомнить, что в рассмотрении измененных состояний сознания до сих пор почти отсутствовало даже принципиальное различение между видами этих состояний, примыкающими, соответственно, к виртуальным событиям и событиям трансцендирования; тем паче, отсутствовали конкретные критерии подобного различения. Выработка таких критериев — еще одна из дальнейших задач. Здесь следует учитывать, что стратегия трансцендирования, основываясь на трезвении, не отключает и не усыпляет ничего в человеке, пребывая в целом, как и в любом элементе, в парадигме возрастания. Стратегия же виртуального события всегда есть некий баланс, при котором что-то необходимо отключить — дабы что-то усилилось или обострилось. Вся эта проблематика тесно связана с идеями заключительных статей нашей книги, где мы вырабатываем концепцию «духовной практики» и обсуждаем соотношение между «топикой духовной практики» и «топикой психоанализа».
И наконец, последнее, но весьма важное — обширное поле осмысливания виртуальных подходов и практик в современной культуре. Философии и культурологии еще предстоит раскрыть, сколь тесно и глубоко идеи и представления виртуалистики сплетены с сегодняшними культурными и антропологическими процессами. Несомненно и явно, эти процессы отражают нарастающую тенденцию к восприятию реальности человеком — как реальности многомирной, реальности сценарной и вариантной, реальности, где все большее место принадлежит модельной и игровой, подвижной, пластичной и проблематичной стихии. И не менее несомненно, что все эти виды или предикаты реальности весьма близки к чертам реальности виртуальной, если не прямо принадлежат ей. В известном смысле, мы уже близимся к появлению «виртуалистского мировосприятия» и человека, ориентированного на виртуальность — ориентированного на всех уровнях своей организации, начиная с телесного. В сфере компьютерных технологий и масскультуры, культуры рока и клипа, моментально-дискретных, вспыхивающих и сменяющихся эстетических блоков, перцептивный аппарат человека весь перестраивается и настраивается на виртуальность, входит в особый виртуальный режим. И глубина, масштаб этой перцептивной и иной трансформации психосоматики — тем паче, ее последствия — по всей вероятности, проявились еще далеко не до конца.
Как свойственно всем живым явлениям, тут есть и приобретения, и опасные стороны. Расширяется опыт и способности человека — но расширяются они за счет погружения в умаленную и участненную, недовоплотившуюся и недооформившуюся реальность, в сферу минимальной, пороговой событийности и энергетики. Гипертрофия «виртуалистского мировосприятия», глобальная трансляция и тиражирование его установок служат, как весьма можно предположить, симптомами энергетического упадка человека и мира — упадка не количественного, а качественного: убыли формостроителъной воли и способности. В своем развитии они потенциально приводят к появлению типа homo virtualis, который стремится замкнуться в горизонте виртуальной реальности, с трудом его покидает и вырабатывает специфические «виртуалистские» стереотипы поведения и деятельности. В большой мере, они связаны с тем, что виртуальный мир не создает своих форм и вынужденно ограничивается манипулированием с готовыми формами, их всевозможным дроблением и комбинированием; и эта вторичная, зависимая позиция по отношению к миру наличного имеет психологические последствия: влечет фрустрацию, протест и тягу к освобождению, которая может выразиться лишь в разрушении форм и норм — разумеется, виртуальном разрушении, бесконечное разыгрывание которого составляет главное занятие масскультуры. Другой виртуалистский стереотип — «виртуальное творчество», широкий разлив которого мы наблюдаем: творчество без принятия ответственности и без притязаний на истинность, творчество полу-понарошку, творчество для пробы, для понта, для стеба, для прикола… — творчество, постулирующее, что все существующее, будь то в сфере материальной или духовной, есть только виртуальность.
Однако все существующее не есть виртуальность. В бытии-действии виртуальная реальность — только недород бытия, низший горизонт минимальных недо-обналиченных событий; тогда как человек — Нексус, действующая связь между всеми горизонтами. Горизонты имеют порядок, и, наряду с низшим горизонтом, между ними есть высший. И эти простые вещи достаточно ясно говорят, какими же должны быть отношения человека и виртуальной реальности.
РОЖДЕНИЕ РУССКОГО ФИЛОСОФСКОГО ГУМАНИЗМА. СПОР СЛАВЯНОФИЛОВ И ЗАПАДНИКОВ
Cтатья для американского энциклопедического издания по русской философии
I. Введение. Структуры русского сознания и русской истории
Наша речь пойдет о философском процессе в России на стадиях его зарождения и формирования. На этих стадиях он еще не конституировался, не выделился отчетливо из общего процесса духовного и культурного развития страны, и потому мы должны начать с характеристики этого более широкого процесса. Как известно, здесь сразу встает вопрос об отношениях двух слагаемых, двух видов содержания данного процесса — аутентичных русско-византийских элементов и элементов, имеющих западноевропейское происхождение. Чаще всего этот вопрос обсуждался в жанрах эссеистики, публицистики, полемики, решался же с идеологических, политических, партийных позиций. Чтобы уйти с этого поверхностного уровня, мы будем использовать общие концепты структурного анализа русского самосознания, духовной и культурной традиций в России в рамках синергийной антропологии
[1].
Основным рабочим понятием для нас будет служить Восточнохристианский дискурс. Это — специфический дискурс (в общем смысле семиотического процесса, способа означивания и языка освоения реальности), создаваемый Восточным христианством (православием) и содержащий духовный, концептуальный, эпистемологический фонд для формирования Восточнохристианского (византийского, а затем и русского) менталитета и культурно-цивилизационного организма. Он создается, начиная уже с 4 в., как реализация ведущей духовно-экзистенциальной установки Восточнохристианского сознания: установки примата аутентичного христианского опыта — опыта устремления ко Христу и соединения с Ним, опыта христоцентрического Богообщения. Именно достижение, хранение, трансляция этого опыта представлялись главной задачей (тогда как на латинском Западе главная задача скорее виделась в достижении завершенной полноты вероучения и церковной организации). Примат опыта Богообщения вел к появлению и развитию особой практики, посвященной культивации такого опыта. Мистико-аскетическая практика исихазма (от греч. hesychia, уединенный и безмолвный покой) зарождается уже в 4 в. и путем многовековых трудов складывается в классический образец духовной практики — ступенчатого, восходящего процесса холистической аутотрансформации человека, ориентированной к его актуальному онтологическому трансцендированию. Эта искомая цель, телос духовно-антропологического процесса, мыслится в православии как совершенное соединение всех энергий человека с Божественной энергией и называется обожением. Концепт или парадигма обожения — ключевое и конститутивное понятие исихастской практики. Последняя, подобно всякой духовной практике, выстраивается и хранится особым аскетическим сообществом, или духовной традицией. Духовная традиция — важный и парадоксальный социально-антропологический феномен: она — узкое сообщество, дистанцирующееся от социальной жизни, но только в ней продуцируется в полной и чистой форме особый опыт, который признается высшей духовно-жизненной ценностью, — и поэтому она оказывает на социум глубокое, стойкое и зачастую определяющее влияние.
Исихазм, связанная с ним духовная традиция и конституирующая его парадигма обожения составляют ядро Восточнохристианского дискурса, его главную часть. Весьма существенно, что это ядро определяет и задает определенную персонологию, способ конституции личности и идентичности человека. Греческая патристика 4 в. и первые Вселенские Соборы заложили основы теоцентрической персонологической парадигмы — концепции личности как Божественной Ипостаси, онтологического модуса совершенного Божественного бытия с конститутивными предикатами любви и общения. Логически завершая эту парадигму, православие принимает, что эмпирический человек в собственной (т. е. тварной падшей) природе не обладает ни личностью, ни (само)идентичностью, однако он обретает их «по причастию», т. е. в той мере, в какой приобщается Богу и Божественному бытию. Данное приобщение достигается в Богообщении, восхождении к обожению — так что исихастская практика представляет собой также и путь конституции человеческой личности. (В отличие от этого, западная мысль Нового Времени развила антропоцентрическую персонологическую парадигму, основанную не на концепции Ипостаси, а на римской концепции персоны, автономного индивида, дополненной картезианской концепцией субъекта.)
Но, начиная уже с первых этапов формирования, в состав Восточнохристианского дискурса входит также другая религиозная и мировоззренческая парадигма —
парадигма сакрализации, имевшая не столько христианские, сколько языческие корни. Став государственной религией после Миланского эдикта, христианство начало впитывать в себя многие элементы Римской религии — в первую очередь, те, что требовались для официального имперского культа и обеспечивали сакрализацию императорской власти, то есть утверждение ее сакрального статуса и божественной природы. Из таких элементов и сложилась постепенно парадигма сакрализации как общая парадигма религиозного сознания: установка, приписывающая божественную природу определенному кругу феноменов здешнего бытия. Как и парадигма обожения, она утверждала определенный характер отношений горизонта здешнего бытия с Богом и божественным бытием; но, если в первом случае этот характер виделся энергийным и персонализованным, как возможность для человека свободной энергийной связи с личным Богом, то во втором случае он был эссенциальным и отнюдь не обязательно персонализованным: сакрализация могла охватывать и институты, обряды, материальные объекты… Будучи столь различны, две парадигмы имплицируют разный тип религиозности и разную религиозную и культурную динамику
[2]. Реальный же историко-культурный процесс складывается в итоге их наложения и взаимодействия — так что взаимное отношение двух парадигм в его эволюции выступает как фактор, определяющий развитие данного процесса. В ходе истории это отношение бывало самым различным, но, в целом, можно сказать, что для исторической реальности православия более типично преобладание парадигмы сакрализации. (Поэтому парадигме обожения в культурфилософии, в исторической науке отводят обычно маргинальную роль, а нередко, в особенности, на Западе, вообще игнорируют ее существование.) Отражением этого явился гипертрофированный символизм византийского сознания.
Предмет нашего внимания, однако, — не Византия, а Россия. Восточнохристианский дискурс формируется здесь в результате трансляции из Византии, которая интенсивно происходит после Крещения Руси (988) в Киевскую эпоху, но продолжается и в дальнейшем, в Московскую эпоху, вплоть до падения Византии (1453). Становящееся русское сознание восприняло обе конститутивные парадигмы. Аскетическая традиция, культивирующая парадигму обожения, удивительно быстро достигает здесь зрелого развития, и можно уверенно утверждать, что в эпоху Киевской Руси в русском христианстве данная парадигма преобладает над парадигмой сакрализации. Однако в Московскую эпоху это соотношение начинает меняться. Основные изменения были двояки. Во-первых, развитию централизованной русской государственности сопутствует неуклонное усиление тенденций сакрализации. Они проявляются и в прогрессирующей сакрализации верховной власти (особенно после крушения Византии, когда происходит translatio imperii), и в постепенной победе обрядоверия: в середине 16 в. Стоглавый Собор проводит догматизацию обряда, которая в дальнейшем существенно стимулировала Раскол, а знаменитый «Домострой» стремится внедрить сакрализацию тотально, вплоть до деталей быта. Во-вторых, проявляется одна особенность русской версии Восточнохристианского дискурса: при ее формировании возникает разрыв между трансляцией и рецепцией; важные содержания, связанные с парадигмой обожения, хотя и передаются на Русь, однако не усваиваются там, не входят в активный фонд русского сознания. Исихастское возрождение в Византии 14 в. кардинально расширяет сферу активности и влияния исихастской традиции: в полемике Исихастских Споров, в трудах св. Григория Паламы эта традиция интенсивно развивает богословско-философское творчество и выявляет в себе богатые культуростроительные возможности. Сведения об этом развитии, основные тексты нового паламитского богословия достигают Руси, но не находят там отклика. Русский исихазм не становится культуростроительным фактором, хотя изначально он имел такие потенции, как свидетельствует культура эпохи Сергия Радонежского и Андрея Рублева. В итоге, пути культурного творчества, развития оригинальной культуры на почве Восточнохристианского дискурса оказываются заблокированы, закрыты, и единственною возможностью культурного развития остается обращение на Запад: вестернизация. В структуре же культурно-цивилизационного процесса в России образуется конфликт: разрыв между духовной традицией (остающейся вне культуры, в сфере низовой, народной религиозности) и культурной традицией. В дальнейшем этот разрыв становится ключевым фактором, определяющим паттерны культурного развития.
К концу Московской эпохи бинарная оппозиция сакрализация — вестернизация становится доминирующей структурой российского культурно-цивилизационного организма. Едва ли возможно отрицать, что это была нездоровая структура; ни один из ее полюсов не нес в себе начал культурного и исторического творчества. Одним из прямых плодов сакрализации явился Раскол, ставший длительным и болезненным катаклизмом национальной жизни; вестернизация же осуществлялась через посредство Малороссии, имела своей главной формой латинизированную «Киево-Могилянскую ученость», ориентированную на школьную систему иезуитов, и несла не столько европейскую культуру как таковую, сколько всего лишь культуру Восточноевропейского барокко. Преодолением оппозиции стала реформа Петра I, с ее радикальным выбором в пользу вестернизации и столь же радикальной сменой контента вестернизации.
Имперская Россия, созданная Петром, была неожиданным, странным сооружением. Ее замысел имел, в сущности, технологическую природу: в основе его лежала идея государства как эффективной структуры, всецело доступной единоличному управлению. Два элемента, в первую очередь, должны были обеспечить эту цель: абсолютная монархия и радикальное подчинение Церкви государству, огосударствление Церкви. Последнее требовало смены вектора вестернизации, с католической ориентации на протестантскую, что было проделано резко и решительно: Синодальный строй русской Церкви, уничтоживший патриаршество (1701), следовал протестантским принципам, а его руководящий документ, «Духовный регламент» Феофана Прокоповича, о. Г.Флоровский назвал «программой русской реформации». Но в то же время, для укрепления института монархии как нельзя лучше подходил византийский сакральный символизм, транслировавший из языческого Рима культ не только Империи, но и персоны Императора. Поэтому он сохраняется и поддерживается; в русском православии складывается абсурдная смесь византийской мистики Империи, цезарепапизма, и протестантского рационализма — одно из множества противоречивых, конфликтных сочетаний в структурах русского сознания и жизни Имперской эпохи. Духовная же традиция, «линия обожения», между тем — в тяжелом упадке, отчасти сохраняясь лишь глубоко в низовой религиозности.
Дело Петра удалось, царь сумел реализовать свой технологический проект: он добился эффективно управляемой машины абсолютизма и реально изменил историческую динамику и энергетику российского бытия, вернув России динамизм исторического процесса. Но внешнему успеху сопутствовали глубинные дефекты и риски, из коих важно отметить два: 1) вытеснение духовной традиции и ее крайний упадок, 2) неорганичный и эклектичный характер вестернизованной культуры, складывавшейся из пестрого набора заимствований и влияний, из лоскутов немецкой системы управления, французской галантной культуры, немецкой, голландской технической и бытовой культуры, пиетизма, мартинизма, масонства… Лоскутная культура не могла создать собственной традиции, не была способна к трансляции. В свете этого, тот «вызов», что, по классической формуле Герцена, «Петр бросил России», был глубоко амбивалентным: наследием Петра был не только мощный порыв к историческому действию и творчеству, но и грозящие опасности, крупные ущербные факторы в жизни культурного организма. Ответ на вызов поэтому должен был быть двояким: необходимо было не только подхватить порыв, но и одновременно — преодолеть опасные явления.
Феномен классической русской культуры 19 в., вкупе с феноменом возрождения духовной традиции, — исполнение этого двоякого задания. Лоскутная культура 18 в. была внутренне осмыслена, пережита, переработана — и претворена в органичную, цельную культурную традицию. Одновременно, хотя и полностью независимо, в недрах общества происходит спонтанное возобновление русла исихастской духовности. Оно совершалось двумя путями, через связи с главным средоточием традиции, Афоном, но также и без подобных связей, в новых очагах аскетического делания, что начали зарождаться сразу в ряде ареалов Великороссии. Одним из таких очагов стала знаменитая впоследствии Оптина Пустынь. Оба исторических результата имеют кардинальное значение. Успех, победу усилия рождения целостной культуры символизирует, как верно заметил Герцен, фигура Пушкина. Но мы снова дополним Герцена: совершено было и усилие воссоздания духовной традиции. Успех, победу этого усилия символизирует фигура Серафима Саровского. Для дальнейшей истории России важны оба успеха, но важна и их полная разобщенность: как часто отмечают, Пушкин и преп. Серафим, будучи современниками, вероятней всего, не знали о существовании друг друга. В этой разобщенности духовной и культурной традиций крылись зерна новых оппозиций и противоречий российского развития.
Культура пушкинской эпохи, как и в целом русская классическая культура, носит явный характер синтеза. Какие же составляющие вобрал в себя этот «русский синтез»? Конечно, необходимо было свести воедино все компоненты «лоскутной культуры», взятые из множества культурных миров, умственных и духовных течений. Но более существенную задачу представлял Западно-Восточный синтез: успешное претворение «чужого» в «свое», заемного и лоскутного в органичное и творческое, означало, что ведущую роль в синтезе играли собственные, аутентичные начала — опыт русской истории, менталитета, православной религиозности (которая, при всей вытесненности исихастского ядра, все же не могла не нести его хотя бы отдаленных, опосредованных влияний и отражений). Можно считать, что в крупной своей структуре, русский синтез был синтезом: Восточнохристианского дискурса — опыта российского исторического бытия — секуляризованной культуры Запада. Столь разнообразная структура открывала широкие возможности самовыражения, артикуляции национального сознания и опыта — и эти возможности сразу же начали интенсивно эксплуатироваться.
В углублявшемся процессе развертывания национального самосознания была определенная последовательность. Впереди шла словесность. Прежде других сфер русской культуры она достигла творческой высоты у Державина, Карамзина, Жуковского; а кроме того, здесь рано сложились сообщество и среда, где живо дебатировались проблемы становления новой словесности. Многие из этих проблем выводили за пределы литературного жанра, расширяя горизонты рефлексии. Такова, в частности, была проблематика создания нового литературного языка, ставшая самой насущной в свете поистине фантастических изменений, которые испытал русский язык в 17 и 18 столетиях. В дискуссиях этой проблематики сложились позиции и сформировались кружки, ставшие первыми воплощениями тех паттернов, что определяли русскую идейную и интеллектуальную жизнь на всем протяжении 19 в. Оппозиция «архаистов» и «новаторов», «Беседы» и «Арзамаса», во многом предвосхищала оппозицию славянофилов и западников; в спорах о «старом» и «новом» слоге уже проступали два полярных воззрения на общие процессы исторических перемен и контактов культур. От дискуссии судеб языка, русское сознание неизбежно переходило в более общий горизонт, к судьбам самой страны, к исторической рефлексии; а с нею естественно соединялся и философский план.
Здесь, однако, пора сделать пояснение. Речь идет о первых десятилетиях 19 в., почему же в этот период происходит еще только зарождение философии в России? — Как всегда замечают историки мысли, путь русской философии отличается «поздним пробуждением» (Флоровский), она чрезвычайно поздно занимает свое место в русской культуре. Причины этого «невегласия» (Шпет) много дебатировались, но в нашей концептуализации культурного процесса они прозрачны. Конститутивный принцип Восточнохристианского дискурса — примат духовного опыта, опыта весьма специфического: этот опыт личного Богообщения в корне отличен от любого эмпирического опыта и представляет собою «для эллинов безумие» (1 Кор 1,23). Воплощая его примат, восточнохристианское сознание строит богословский дискурс определенного рода, включающий в себя свидетельства живого опыта и ими руководящийся. Но в способе мышления, отвечающем этому дискурсу, философия не возникает столь прямо и естественно, как в античной мысли и западной, ей наследующей. Эта особая судьба философии в Восточнохристианском дискурсе, проблематичная и затрудненная, ясно проявилась уже в Византии (и заслужила ей стойкое пренебрежение западной мысли). В России же она привела к тому, что в русле Восточнохристианского дискурса философии вообще не возникало (задачу ее создания впервые поставит Иван Киреевский). Философия начиналась здесь лишь в русле вестернизации — и, соответственно, начиналась поздно.
Один из основных выходов к философии, как уже сказано, доставляла историческая рефлексия. В России она всегда тяготела к «историософии», вольному жанру, сливающему в себе элементы философии истории, культурфилософии, социальной философии. Далее, к развитию философии вела прямиком и другая нить, идущая от адептов масонства и прочих религиозно-мистических движений, что изобиловали в царствования Екатерины, Павла и Александра. Еще одну нить составило русское шеллингианство, представленное целым рядом профессоров университетов и духовных академий, влиятельное и в культуре светских салонов. Наконец, после Отечественной войны в декабристских и примыкающих к ним кругах активно развивается общественно-политическая мысль.
В итоге, многие нити, многие тенденции российского культурного процесса, соединяясь, к 30-м годам 19 в. приводят к активному пробуждению теоретического сознания, к растущей и ширящейся рефлексии, исторической, социальной, культурфилософской — и наконец собственно философской. Назревает и начинается, по крылатому выражению Михаила Гершензона, «великий ледоход русской мысли». Его нам и предстоит осветить.
II. Генезис философского процесса
Кружки, их почва и пища
В идейной истории России с «ледоходом» неотрывно соединено слово «кружок». Кружок — очаг и движитель, главный механизм идейного развития России в эпоху дворянской культуры (когда он часто, хотя и не всегда, бытовал в салонах), а затем и культуры разночинской (когда салоны отошли в прошлое). Известный, разумеется, во всех европейских обществах, он все же, пожалуй, нигде более не играл такой кардинальной роли: у нас же свыше столетия, от «арзамасцев» в Петербурге до евразийцев в Софии, культурные явления и движения почти неизменно зачинались в форме длительных, интенсивных дискуссий, «русских разговоров», в тесном кругу дружески связанных людей. Нередко они и не перерастали этой формы, оставаясь лишь камерными явлениями, несостоявшимися в большой культуре. Однако в кружках 20-х — 30-х годов 19 столетия зарождались явления отнюдь не камерные. На первом месте в ряду этих явлений — противостояние западников и славянофилов, определившее собой целую эпоху в истории русского сознания.
Далеко не сразу, однако, русские кружки стали кружками славянофилов и западников. В кружковых же формах протекал и эмбриональный период двух идеологий, когда они еще отнюдь не были взаимно разделены. На первых порах ледоход русской мысли совершался в «сплошной среде», которая еще не выработала никаких отчетливо различающихся позиций и только нащупывала те проблемные поля, где бы могли оформиться идейные размежевания. К этому эмбриональному периоду принадлежат, по меньшей мере, два значительных феномена кружковой культуры: кружок любомудров в 20-х годах и кружок Станкевича в 30-х. Они оба действовали в Москве, где большей частью и проходил ледоход: в Петербурге при Николае Первом льдам было трудней таять. В первый кружок, что возник еще в конце 1823 г. и, меняя форму, существовал до начала 30-х, входили В.Ф.Одоевский, Д.В.Веневитинов, И.В.Киреевский, А.И.Кошелев и др. По всему духу он очень близок был к культуре немецкого романтизма: молодых участников объединяли пылкая увлеченность философией, эстетикой, поэзией, преданность идеалам возвышенного и прекрасного, атмосфера известной восторженности и мечтательности. В философии в центре всех интересов был Шеллинг, в эстетике — идеи иенской школы; однако плоды собственной мысли любомудров были весьма незначительны. Тем не менее, в культурном процессе кружок оставил немалый след, благодаря своей новой для России направленности: к германской, но не французской мысли, к углубленной рефлексии, к философскому рассмотрению всех тем.
Поворот к философии был подхвачен «кружком Станкевича», который образовался среди студентов Московского университета зимой 1831-32 г. и существовал до отъезда в Германию в 1837 г. его лидера, Н.В.Станкевича (1813–1840). Этому кружку обычно отводят еще более крупную роль в идейном движении. Самая наглядная причина к тому — обилие в нем будущих крупных имен русской истории, причем представляющих радикально разные лагеря: членами его были М.А.Бакунин, В.Г.Белинский, Т.Н.Грановский, К.С.Аксаков, М.В.Катков. Причина же более глубокая в том, что по сравнению, с одной стороны, с отвлеченно-аморфным теоретизированием любомудров, с другой — с узко политическими группками постдекабристских лет (в том числе, с кружком Герцена,), беседы в кружке Станкевича решительней и основательней продвигали идейный процесс, приближали формирование и размежевание идейных лагерей. Здесь, в частности, намечается активный поворот к изучению Гегеля и переход от Шеллинга к Гегелю доминирующего философского влияния в русской интеллектуальной среде. Следует подчеркнуть, что это влияние носило принципиально иной характер, чем влияние Шеллинга: мысль Гегеля мощно вовлекала в Систему, и эта система, вооружая адептов замечательными умственными орудиями, сразу давала им способ развития всевозможных теорий, толкала к собственным построениям. Поэтому увлечение Гегелем бывало затягивающим, всепоглощающим, захватывало умы не только западной ориентации. Среди первого поколения русских гегельянцев были не только Станкевич, Бакунин, Белинский, Герцен, но и ревностный славянофил Самарин, писавший так: «Участь православной церкви тесно, неразрывно связана с участью Гегеля»…
Однако не чистая философия становится главной почвой тех размышлений и дискуссий, в которых идейный процесс выходит вскоре на новые рубежи. В стране еще не было не только творческого философствования, но даже удовлетворительного философского образования. И при Александре I, и при Николае I, философия в университетах была всегда под идеологическим подозрением, нередко переходившим в гонение, и в историю вошла фраза одного из министров просвещения (кн. П.Ширинского-Шихматова): «Польза от философии не доказана, а вред от нее возможен». Поэтому кружковая молодежь не имела достаточной философской школы, и чистая философия могла быть для нее лишь областью ученичества, но не творчества, не создания оригинальных концепций. Не достигало творческого уровня и гегельянство. Была лишь единственная область, где насущные вопросы русского самосознания соединялись с достаточными уже возможностями их творческой постановки и разработки. Это была область русской истории, рефлексии движущих начал российского исторического бытия и развития. Одним из первых эту особую роль истории осознал Иван Киреевский, писавший еще в 1830 г.: «История в наше время есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого развития; направление историческое обнимает
всё»
[3]. К концу 30-х он же становится одним из главных участников усиленной работы мысли и острой борьбы идей, которые развернулись на указанном им поле.
К тому, что в центре усилий становящейся русской мысли оказывается рефлексия национальной истории, общественное сознание толкали и еще два фактора, два идейных влияния: официальной идеологии и чаадаевской мысли. Полярно противоположные друг другу, они, при всем том, делали в идейном процессе сходную сократовскую работу майевтики, помогая родиться на свет русской философии. Касательно Чаадаева это очевидно: поистине, трудно вообразить более сильное средство возбуждения исторической рефлексии, чем публикация Первого Философического письма (1836) с его резким, нигилистическим отрицанием смысла и ценности русской истории
[4] — при одновременном утверждении, что «на Западе все создано христианством» и «царство Божие до известной степени осуществлено в нем». Письмо это действенно стимулировало становление и западничества и славянофильства: свидетельства о своем сильнейшем впечатлении от него оставили, в числе многих, Герцен и Петр Киреевский (у кого первого из всех сложились начатки славянофильских воззрений). Однако официальная идеология Николаевской эпохи, выстроенная, прежде всего, С.С.Уваровым и отчасти Д.Н.Блудовым, А.Х.Бенкендорфом, М.П.Погодиным и другими, обладала тем же характером ясно артикулированной крайней позиции и своим существованием также содействовала самоопределению мысли. Притом, отнюдь не во всем сознание мыслящего общества самоопределялось, отвергая официоз; порой незаметно для себя, оно от него усваивало некоторые существенные элементы. Так, в 18 в. русскому сознанию не присуща была идея противостояния России и Европы: две культуры скорее сопоставлялись, нежели противопоставлялись, их исторические судьбы включались в широкую парадигму единой общей судьбы христианского мира. Идеологема противостояния, бинарная оппозиция Россия — Европа, была создана в русле николаевского официоза — но привилась практически во всем обществе, включая и западнические круги. Последние лишь дали свое толкование оппозиции, видя ее причину и содержание в коренной отсталости России от Запада. Позиция же «славянской партии», разумеется, утверждала превосходство России над Западом (как и позиция официальная, хотя та и усматривала это превосходство в иных вещах). В итоге, платформы западничества и славянофильства обе восприняли этот вклад официоза, формируясь на базе указанной оппозиции, как две ее противоположные трактовки: «То, в чем западники видели недостаток, славянофилы, напротив, находили достоинством»
[5]. Помимо того, оформлению платформ способствовало и появление уваровской «официальной народности». Впервые знаменитая триада «православие, самодержавие, народность» возникает в Отчете Уварова о ревизии Московского университета в 1832 г., чтобы затем получить пространное выражение в его обзорном докладе царю за десятилетие его министерства (1833–1843). Здесь это «тройственное понятие» предлагается сделать «общим знаменателем всех элементов гражданского образования». Просвещенные круги в большинстве своем отвращались от казенного духа уваровских доктрин, от их «квасного патриотизма» (bon mot Вяземского), но volens nolens испытывали влияние предложенных концептуальных моделей, альтернатив которым покуда не было. «Очерк развития русской философии» Г.Шпета язвит даже, что славянофилы «с романтическою любовью приняли к сердцу преподанную Уваровым тему о народности»
[6]. Западники могли принимать ее в штыки, но нужды нет! она делалась пищею ума, и они думали на темы России не только по Гегелю, но и насколько-то по Уварову, в призме его «народности» тематизируя русскую «отсталость». И нельзя отрицать вклада официоза в тот кардинальный факт, что именно «вопрос о народности становится демаркационной линией, делящей передовую часть русского общества на два враждебных лагеря»
[7].
Московские сражения
Итак, издавна существовавшие в русском обществе два воззрения, два рода мыслей, европоцентристское и руссоцентристское, долго вызревая в салонных и кружковых спорах, вбирая стимулирующие влияния побочных факторов, на грани 30-40-х годов наконец начинают превращаться в отчетливые идейные позиции. Вначале этот переход происходит в «славянском» лагере. Лидеры его А.С.Хомяков (1804–1860) и И.В.Киреевский (1806–1856) были несколько старше ведущих представителей западников — А.И.Герцена (1812–1870), В.Г.Белинского (1811–1848), Т.Н.Грановского (1813–1855) и, по свидетельству Герцена в «Былом и думах», в ту эпоху это имело немалое значение. Говоря о различии жизненного опыта двух групп, Герцен одновременно признает и приоритет «славян»: «Киреевские, Хомяков и Аксаков сделали свое дело… с них начинается перелом русской мысли»
[8]. Однако перелом до последнего избегает печатного станка: программные тексты славянофильства появляются уже зимой 1838-39 гг., когда в другом лагере Герцен еще и не раскрывал Гегеля; но они писаны не для печати, а для чтенья в кружке. На одной из «сред» у Ивана Киреевского, А.С.Хомяков читает свою статью «О старом и новом», в одну из следующих «сред» хозяин зачитывает свой отклик, «В ответ А.С.Хомякову». Оба текста расходятся во многих списках, и с этого этапа вся дискуссия получает систематическую основу. Вкупе тексты дают связную модель историко-культурного процесса в России, стоящую на довольно ясно выраженных общих принципах. Они удачно дополняют друг друга: Хомяков, выдвигая оппозицию
Древность — Современность, выстраивает историческую перспективу; Киреевский же, выдвигая оппозицию
Россия — Запад, выстраивает культурфилософскую перспективу. В малой статье Хомякова четко уже заявлен и проведен главный принцип всей будущей славянофильской концепции России и ее истории: принцип ретроутопии, рисующий идеализированную древность (мирный зачин процесса и гармонический древнерусский социум) — представляющий современность как итог порчи, искажения этой древности (за счет привнесений с Запада, но также и внутренних факторов) — и утверждающий, что для достижения своих исторических задач России «довольно воскресить, уяснить старое… древние формы жизни русской». Киреевский добавляет к этому важный религиозный аспект: Россия сохранила во всей чистоте и полноте «правильную философию христианства», его сущностную основу, что хранится в патристике и аскетике. При этом, она, однако, нисколько не осмыслила и не развила их; Запад же, в противоположность России, активно развивал христианские начала, но при этом их искажал, сливая с языческими, а равно сливал начала духовные — со светскими. Отсюда намечался сценарий Западно-Восточной гармонии: стремясь к верному пониманию христианской истины, западная мысль может найти это понимание в православии, поскольку «в нашей Церкви… совсем неожиданно открывается именно то, чего теперь требует просвещение Европы»
[9]. Россия же, в свою очередь, в осмыслении собственной духовной традиции сможет воспользоваться трудами западного разума. Из всех светлых славянофильских прогнозов этот оказался, быть может, единственным сбывшимся: в 20 в. западное христианство, действительно, интенсивно осваивало православную духовность, почерпая в ней многое ценное для себя
[10], а православная мысль развивалась в плодотворном диалоге с западной духовностью и наукой. Правда, это происходило уже в «постхристианском» мире…
В октябре 1840 г. Чаадаев пишет в Париж Ивану Гагарину: «Наши доморощенные учения со дня на день все сгущаются и быстрыми шагами приближаются к конечным выводам»
[11]. Эта оценка процесса справедлива, хотя до «конечных выводов» в виде полного оформления учений и полного же разрыва меж их сторонниками еще оставалось несколько лет. В отличие от славянофилов, всегда сконцентрированных в Москве
[12], силы западников были разбросаны. Герцен с 1834 г., в основном, пребывает в ссылках; лишь с 1839-40 гг. он погружается в Гегеля, в дискуссиях с Бакуниным и Белинским формируя философские позиции левогегельянского толка. Грановский, вернувшись из-за границы, с 1839 г. начинает лекции по истории в Московском университете. Наконец в 1842 г. Герцен возвращается из новгородской ссылки в Москву; он пишет философский цикл «Дилетантизм в науке» и, по выражению Шпета, сразу «выходит на линию огня». Открывается последний этап споров, самый активный, оставшийся в истории как центральный эпизод в жизни русского общества 40-х годов. Споры захватывали всеобщее внимание; как некогда догматические споры в эпоху Вселенских Соборов, они делались главной темой даже и повседневной жизни горожан. Из всех их красочных описаний в мемуарной литературе, на первом месте стоят, бесспорно, классические страницы «Былого и дум». «Москва сороковых годов … принимала деятельное участие за мурмолки и против них; барыни и барышни читали статьи очень скучные, слушали прения очень длинные, спорили сами за К.Аксакова или за Грановского… На эти вечера приезжали … посмотреть, как встарь ездили на кулачные бои»
[13].
К той поре две группы уже отчетливо разделились, получив окончательные имена. В отличие от западников, или «западной партии», славянофилы не сами дали себе это имя, но лишь согласились его принять; придумано же оно было еще в 1800-е годы, с оттенком насмешки применяясь к архаистам «Беседы», и позже перенесено на «славянскую партию» ее оппонентами. Основные темы дискуссий уже ясны: это русская история и «народность», значение петровских реформ, отсталость или превосходство России пред Западом, оценка западной истории и культуры; но отчасти и темы более общие, как философия всемирной истории, общество и личность, вера и атеизм… С углублением дискуссий, расхождения неуклонно обострялись. Долгое время навыки дворянской культуры, узы дружбы, сложившиеся до разделений, удерживали споры в границах любезного и доброжелательного общения; однако в 1844 г. запасы доброжелательности, а затем и простой учтивости начали истощаться. Последней победой добрых чувств над идейными разногласиями стал живописуемый Герценом знаменитый обед, устроенный 22 апреля 1844 г. С.Т.Аксаковым для обеих партий в честь завершения успешнейших публичных лекций Грановского по западной истории. Обед прошел в братаниях и лобзаниях, но к концу года все уже быстро двигалось к полному разрыву. В декабре появляются грубые памфлетные стихи Н.М.Языкова против западников. По их поводу возникает резкая ссора Грановского и Петра Киреевского, едва не приведшая к дуэли. В начале 1845 г. полный конец общих обсуждений и полный разрыв личных отношений стали фактом. С тех пор обе партии, по выражению Герцена, лишь «беспощадно терзали друг друга в журнальных статьях». Но для истории русского сознания, важней этого негативного исхода был позитивный плод. Появление двух интеллектуальных сообществ, которые полностью конституировались и взаимно дифференцировались в сфере идей, значило, несомненно, что «родилась новая интеллигенция, неофициальная, свободная»
[14].
III. Мысли русского януса
Крылатая фраза Герцена рисует два сообщества как нераздельно сросшиеся, как Януса. Описав рождение русского Януса, рассмотрим, что думали две его головы. Хотя противостояние двух партий охватывает, в конечном счете, все основные сферы мировоззрения, но главные споры их, главные творческие усилия всегда были сосредоточены на небольшом круге ключевых тем. Как нетрудно заметить, всё, что волновало оба сообщества, в своем существенном содержании сходится в два главных узла, два топоса всего предметного поля: топос России (в ее истории и ее «народности») и топос личности (или же личности и общества).
Топос России: славянофилы
В российской проблематике, позиции обоих лагерей базировались, как уже сказано, на общей установке коренной противоположности, противостояния России и Европы. По своей сути, данная установка представляла идеологический постулат, который заведомо не мог быть научно доказан и закрепление которого в сознании общества сороковых годов было, в значительной мере, совокупным плодом усилий Чаадаева и Уварова. Приняв этот постулат, два лагеря в своих спорах сообща создали два упрощенных идеологических конструкта, «образ России» и «образ Запада»: Россия — патриархальный традиционалистский мир, живой, но а-историчный, статичный, обращенный к ценностям прошлого и к коллективистскому сознанию; Запад — мир динамики, развития, совершенствования, устремленный к будущему и исповедующий индивидуализм. Далее, они развили концепцию о противоположности истоков славянорусской и европейской истории — в современных терминах, о двух противоположных типах этногенеза, характеризующих тот и другой мир. Такая концепция естественно имплицировала определенную картину и всего исторического процесса.
Концепция «славянская» явилась первой и, в отличие от концепции другого лагеря, покоилась на определенном философском основании, доставленном Хомяковым. Прежде всего, мы найдем у него общий тезис, утверждающий особую, конститутивную роль начала, истока в историческом процессе: «Закон развития общественного лежит в его первоначальном зародыше»
[15]. Ясно, что этот тезис — прямое выражение определенного типа философской мысли,
археологического, широко представленного в философской традиции, от греков до Хайдеггера. К этому типу принадлежит, в частности, «органическая философия», представляющая бытие в органической парадигме; а к органической философии, в свою очередь, принадлежит вся философия славянофилов. Итак, исток первичен, конститутивен. Если в истоке своей истории — рассуждает далее Хомяков — социум складывался мирным, гармоническим путем, то он образует органическое единство, «общину живую и органическую», движимую общим согласием, и таким пребудет во всем ходе своей истории. Если же, напротив, социум сложился в итоге насильственных конфликтов, завоеваний, он всегда будет лишь «случайным скоплением человеческих единиц», что может управляться лишь силою принуждения. Эти два типа этногенеза, из коих один есть мирное объединение племен, другой — их борьба и насильственное покорение, сопоставляются России и Западу (представление об исключительно мирной жизни древних славян бытовало тогда в науке). В силу конститутивности истока, они порождают два диаметрально противоположных типа социума и типа истории.
Российский социум, по славянофильской доктрине, воплощает в своем устройстве принципы гармонии и согласия, что делается возможным за счет созданной им особой социальной формы — «общины», или сельского «мiра». Утверждалось, что эта форма крестьянского сообщества — уникальное достояние Руси, на Западе она отсутствует и неизвестна даже ученым. Она основана на «естественном и нравственном братстве и внутренней правде» и потому имеет такие «общежительные добродетели… которым, может быть, ничего равного не представляла еще история мира. Благородное смирение, кротость, соединенная с крепостью духа, неистощимое терпение, способность к самопожертвованию, правда на общем суде и глубокое почтение к нему, твердость семейных уз…»
[16]. Культ общины — краеугольный камень славянофильской идеологии, и в нем выразились многие важнейшие черты последней. Прежде всего, славянофильство здесь выступает типичным образцом консервативной, традиционалистской мысли, которая всегда стремилась идеализировать крестьянский уклад и «неиспорченную городом» сельскую жизнь. Далее, тут видна и такая яркая черта славянофильского мышления как его гипертрофированный этицизм: нравственная идеальность общинного устройства не только обеспечивает общине все ее другие достоинства, но снимает необходимость в особом развитии правовой сферы и многих иных, ибо все они оказываются, по сути, внутри сферы нравственной; по одному тому, что члены общины
нравственны, решение их общего схода и личное соглашение меж ними мыслятся как универсальные и достаточные формы регуляции всей правовой и хозяйственной жизни. Как многие другие славянофильские идеи, эта
оппозиция этики и права (бесспорно, близкая русскому сознанию) доводилась до максимума, граничащего с абсурдом, у К.Аксакова, прозванного «передовым бойцом славянофильства»: «Гарантия не нужна! — Гарантия есть зло. Где нужна она, там нет добра… Вся сила в нравственном убеждении… [Россия]
всегда в него верила и не прибегала к договорам»
[17]. Наконец, культ общины заключал в себе и некоторую форму коллективизма, примата общества над индивидом, к которой мы обратимся ниже, при обсуждении
топоса личности.
На Западе, в противоположность России, социум развивается из ущербного истока, в котором вместо единства была раздвоенность, конфликт завоевателей и завоеванных. Отсюда, по Хомякову, следует, что в своем развитии он представляет собою не живой организм, а иной, альтернативный тип общества, принцип существования которого не жизнь, а механичность, «мертвенность». Оппозицию двух типов Хомяков с догматичной твердостью проводит во всех аспектах, рисуя законченно негативный образ Запада. Все характеризующие его нормы и принципы, отношения и связи сугубо неорганичны, формальны: тип связей — «условный договор» (вместо «истинного братства»), в сфере права — «мертвая справедливость», «законность внешняя, формальная» (вместо «внутренней, духовной») и «отрицательная свобода», что проявляется в розни и разномыслии (вместо «положительной», что тождественна единству и проявляется в единодушии
[18]), в устройстве государства — централизация (вместо «процветания местной жизни и местных центров») и бюрократический аппарат (чиновник, по Хомякову, носитель принципа мертвенности).
Этот очередной идеологический конструкт нет смысла сопоставлять с реальностью. Бинарная логика мысли Хомякова требовала оппонента, «мальчика для битья», и образ Запада играет у него не самостоятельную, а методологическую, вспомогательную роль. (У Киреевского нет подмены Запада условным конструктом, но он рассматривает лишь философский, а не исторический процесс.) Истинный предмет его мысли — одна Россия, и оттого важен для этой мысли не Запад как таковой, а лишь его влияние на Россию, вестернизация. Вслед за темой общины, западное влияние — вторая из ключевых тем славянофильской концепции России. Хомяков и ее снабдил философским основанием. Оно строится легко в рамках его общей «органической философии». Жизнь социального организма зиждется на полнокровной связи с истоком; любые внешние привнесения, восходящие к другому истоку, замутняют, нарушают связь с собственным. Если же эти привнесения сильны, массивны, рискует измениться сам тип социума. Именно это и произошло в России в результате реформ Петра: утверждение коренной противоположности допетровской, «старой» и петровской, «новой» России — еще один краеугольный камень славянофильства. Изменение социума носило характер разделения, раскола: западный уклад приняли высшие сословия общества, подчинив этому укладу сферы образования и культуры, администрации, государственности и проч., низшие же сословия, «народ», остались носителями уклада исконного. Возник глубокий «разрыв в умственной и духовной сущности России… между ее самобытной жизнью и ее прививным просвещением»
[19].
Органическая парадигма требует признать «новую» Россию неорганическим, ущербным обществом. Условие жизни — единство, разрыв — признак «мертвенности», но, очевидно, мертвенность здесь не такая же, какая характеризует Запад, а какая-то иная. Является необходимость определить род ущербности, поставить диагноз больной России. Именно так славянофилы понимали свой долг: восхваляя Древнюю Русь, они вели разговор о России современной в совершенно медицинских тонах, говоря о «нашей внутренней болезни», «глубокой ране нашего внутреннего раздвоения» и т. п. Диагноз, поставленный Хомяковым, был таков: главный недуг новой России —
подражательность, следование чужим образцам. Это также вытекало из органической парадигмы: здоровый организм получает свое бытие исключительно из собственного истока, он
само-бытен, и его самобытная жизнь есть развертывание того, что он получает из своего истока. Если же он питается некими инородными содержаниями, не из этого истока, он ослабляет и теряет свою с ним связь — разрушает свою жизнь, заболевает: «Введение начал неорганических в органическое тело сопровождается жизненным расстройством»
[20]. Поэтому воздействие западной культуры, или «просвещения», в России может быть только отрицательным: «Влияние западного просвещения исказило самый строй русской жизни»
[21]. Так диктует модель; и, повинуясь ей, славянофилы отрицают нагляднейшую реальность — блестящие успехи «русского синтеза», европеизированной культуры России; допустить синтетический характер культурного творчества, плодотворность кросскультурных контактов для них невозможно. Следуя своему диагнозу, они дают рецепт исцеления: возврат в изначальное состояние, что было до «введения начал неорганических» и потому было самобытным, здоровым. «Восстановление наших умственных сил зависит от живого соединения со стародавнею и все-таки нам современною русской жизнью»
[22], ибо эта жизнь несла в себе связь с питающим истоком, несла «древние, живые и вечно-новые начала, к которым должно возвратиться». Надо лишь уточнить, что возврат славянофилы все же не мыслили эмпирически-буквально. Уже в статье «О старом и новом» Хомяков представляет «возврат к древним началам» скорее диалектически, говоря, что в его итоге «воскреснет Древняя Русь, но уже сознающая себя»; и по контексту ясно, что это достижение самосознания Руси для него значит «истинное познание веры», просвещение светом христианства всех областей жизни. При этом условии, Русь сможет «осуществить свое высокое призвание».
Несмотря на диалектическую поправку к образу чаемого финала, описанная схема вполне соответствует хорошо известному типу ретроутопии — социальной модели, помещающей общественный идеал в отдаленное прошлое — в исток истории, Золотой Век… Столь же типичным является соединение ретроутопии с мифологемой Падения: события исхода, извержения из идеального, райского состояния в «падший мир», эмпирию. Золотой Век славянофилов — домонгольская Русь, Падение — в решающем элементе, реформы Петра, вестернизация. Конституируя свою идентичность, в качестве первого этапа русское сознание осмыслило себя в универсальных структурах пробуждающегося мышления.
Топос России: западники
Весьма поучительно сопоставить, как выстраивают топос России две партии. По той же канве вышивается совершенно иной узор, тот же материал и в рамках тех же общих воззрений тогдашней исторической науки, становится почвой для диаметрально противоположных оценок и толкований. Как принято считать, основной ответ западников на славянофильскую концепцию русской истории представлен в статье Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России» (1847), базирующейся на его лекциях в Московском университете. Мы не найдем здесь попытки последовательно развить исторический дискурс, как мы это видели у славянофилов, на единой философской основе (хотя известное влияние Гегеля присутствует). Однако в остальном работа Кавелина, вкупе с примыкающими к ней, действительно, старается охватить тот же материал и дать ответ на те же коренные вопросы становления и развития нации. Совпадает, как выше сказано, и отправная позиция: Русь противопоставляется Западу, ее древний уклад — чисто родовой и патриархальный (впрочем, общинный уклад славянофилы отличали от родового, считая более высокой ступенью), тогда как на Западе — дружинный. Но далее уже всё наоборот: если у Хомякова воинская дружина — носитель «мертвенности», то у западников она же — колыбель личности, и оппозиция Россия — Запад теперь не оппозиция живой органики и мертвой формальности, а оппозиция отсутствия или подавления личности и ее свободного развития. Сменяется верховный принцип всего дискурса: вместо примата общины, у западников — примат личности.
Именно в ключе личности теперь рассматривается исторический процесс. «Древняя Русь представляется погруженной в родственный быт. Личность … еще не выступала; она была подавлена кровными отношениями»
[23]. Это отсутствие личности в Древней Руси — центральный тезис западнической концепции, ее настойчивый лейтмотив. За счет него, и все свойства русской общины оказываются у западников отнюдь не достоинствами, а недостатками: «Общинный быт древней Руси… как мало было в нем зачатков гражданственности… Отсутствие твердой, юридической, на начале личности созданной общественности… характеризует нашу древнюю внутреннюю жизнь»
[24], и т. д. В отличие от этого, в Европе, в особенности, у германских племен (отзвук «Философии истории» Гегеля), изначально развито «глубокое чувство личности», поскольку определяющие их уклад дружины суть «добровольные союзы… и начало личности положено в основание этих союзов»
[25]. Поэтому здесь «с самого начала все отношения… запечатлены этим началом личности и выражаются в строгих юридических формах»
[26]. При этом, центральная роль личности — не частная черта каких-то народов, а безусловная предпосылка причастности любого народа к мировой истории: «для народов, призванных ко всемирно-историческому действованию существование без начала личности невозможно… Личность, сознающая свое бесконечное, безусловное достоинство, — есть необходимое условие всякого духовного развития народа»
[27]. Отсюда определяются внутренняя задача и смысл русской истории: в ней должно совершаться преодоление родового уклада и «постепенное образование, появление начала личности». Тут — снова противоположность Европе: «Задача истории русско-славянского племени и германских племен была различна. Последним предстояло развить историческую личность, которую они принесли с собою, нам предстояло создать личность»
[28]. О трудности этой задачи сдержанный обычно Кавелин пишет экспрессивно в частном письме: «Русское государство раздавило личность на всех общественных ступенях… Если бы мы были азиатский народ, мы бы и сгнили в этом состоянии. Но в нас есть способность к развитию; и потому начало личности, индивидуальности должно было выразиться и понемногу вступить в свои права»
[29]. Петр, согласно Кавелину, сумел успешно решить задачу: «У нас не было начала личности… с XVIII в. оно стало действовать и развиваться»
[30]. Этот огромный успех дает основания для его превознесения: «Петр… великий человек, наш герой и полубог, наша надежда»
[31]. Стоит сравнить это со славянофильскими оценками Петра как изменника неписаному договору русского государства с народом (К.Аксаков), «совратителя» Руси «на путь западный» и т. п. Само «совращение» тоже получает, конечно, противоположную оценку: по западникам, вестернизация была и не просто полезна, а необходима для создания личности: «Лицо должно было начать мыслить и действовать под чужим влиянием. Такое влияние было для него необходимо и благодетельно»
[32].
Здесь нужно, однако, уточнение: эта схема истории, приходящая к оптимистическому заключению, что «мы оевропеились… мы вышли в жизнь общечеловеческую», соответствует лишь либеральному западничеству. В оценке современной России она расходится как с католическим традиционализмом Чаадаева, так и с радикальным западничеством
[33], которые не видели в российской реальности решительно никакого «выхода в общечеловеческую жизнь». Типичное выражение такой позиции дают, к примеру, декларации Герцена, не делающие никакого исключения для современности: «У нас лицо всегда было задавлено, поглощено… Рабство у нас увеличивалось с образованием
[34] …Русская история была историей развития самодержавия и власти, как история Запада является историей развития свободы и прав»
[35].
Топос личности: западники
Как мы уже убедились, тема личности красной нитью проходит в западническом дискурсе, составляя сам пафос западничества, едва ли не сам его raison d'être. У каждого из западников мы непременно найдем утверждение примата личностного начала в истории и общественной жизни, утверждение автономии, независимости индивидуальной личности, ее достоинства и свободы. И тем не менее, в том общем идейном фонде, что можно было бы назвать учением или доктриной западничества, мы не найдем сколько-нибудь развитой концепции личности. Пожалуй, такая концепция, или, по крайней мере. ее ядро, есть у Герцена (и ниже мы опишем ее), однако едва ли можно считать ее частью доктрины; нигде не выраженная систематически, разбросанная обрывками по многим его трудам, но при этом бесконечно важная для него самого, она и принадлежит скорей не движению, а ему лично, составляя стержень его философского мировоззрения. Что же до «учения», до типичного западнического дискурса, то для них характерна великая поглощенность общественной, социальной проблематикой и отнюдь не свойственно углубление в антропологический или персоналистский горизонт. Это значит, что личность здесь не берется как философская проблема, не раскрывается в своей специфической природе — ибо это всё уже не социальная проблематика. Когда личность — лишь элемент социальной философии (или тем паче публицистики, проповеди), то пусть даже этот элемент ставится на пьедестал, объявляется высшей ценностью — всё равно, сам по себе, в собственной природе он не анализируется, он — аксиома, постулат. — Итак, личность для западников в большей степени предмет культа, нежели осмысления, философской рефлексии.
За этой своеобразной структурой дискурса: дискурс социальных проблем, социальной критики, со шкалой ценностей, вершина которой — личность человека, начало не социальное, а индивидуальное, — кроется, быть может, сильнейшая движущая пружина этого дискурса, его нравственный пафос, этицизм. Если речь о личности не входит в анализ личности, но усиленно утверждает необходимость ее развития, обеспечения ее достоинства, ее прав, всемерной и безусловной ее защиты, — эта речь являет собой уже не столько персоналистский, сколько этический дискурс; и западнический принцип примата личности представляется как этический принцип (напомним, это же мы увидели и за славянофильским принципом примата общины). Нагляднее и ярче всего этот нравственный пафос выступает у Белинского, самого публицистичного из лидеров западников. Не менее чем «Зальцбруннское письмо» к Гоголю, стало хрестоматийным его письмо к Василию Боткину от 1 марта 1841 г. с предъявлением морального счета Гегелю: «Судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира… и гегелевской Allgemeinheit… Кланяюсь покорно, Егор Федорович… но если бы мне удалось влезть на высшую ступень лестницы развития, я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах живой жизни и истории… иначе я с верхней ступени лестницы бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братий»
[36]. Своим безоглядным этическим максимализмом Белинский прямо напоминает Константина Аксакова с его столь же хрестоматийным заявлением о вреде правовых гарантий — да они и были друзьями юности, выйдя оба из кружка Станкевича. Гипертрофированный этицизм оказывается общей подосновой и западнических, и славянофильских теорий — а, стало быть, и вообще русского сознания той эпохи. Конечно, эта гипертрофия, как и любая, была опасна — стоит всерьез подумать о возможности ее связи с сегодняшней
атрофией этического сознания в России. А в ту пору, этический максимализм и пафос свободы личности достаточно естественно увлекают радикальных западников к социализму, который у них приобретает этическую окраску, представляется как практическое решение проблемы личности — и, благодаря этому, получает высшее, в своем роде религиозное значение. Все эти связи, ставшие вскоре азбукой «передового сознания», так выражает, например, Бакунин: «За всеми… религиями должен последовать
Социализм, который, взятый в религиозном смысле, есть вера в
исполнение предназначения человека на земле»
[37] .
Лишь крайне редко можно найти у западников обсуждение того,
что же такое личность, и в этих редких случаях мы видим не самостоятельное продумывание проблемы, а нечто, напоминающее пересказ давно выученного урока. Урок этот был дан христианским воспитанием, которое получил каждый. Пусть в 1845 г. Бакунин напишет брату: «Слава Богу, мы уже не христиане»; но в 1840-м он в письме родным очень ясно формулирует ортодоксальное христианское понимание личности, с минимальной примесью Гегеля: «Личность человека… есть непосредственное единство индивидуального человека с Богом… Личность каждого человека разнится от его индивидуальности именно тем, что она есть первоначальное воплощение Бога в индивидуальности каждого… Неразрывное единство… с Божественной личностью воплощенного Бога — Христа — есть необходимое условие действительного осуществления внутренней личности… И потому вся жизнь человека, всё его стремление должны состоять в том, чтобы его индивидуальность, исполненная греха и лжи, исчезла в осуществлении его живой и вечной личности»
[38]. Иными словами, истинная личность человека — заключенные в нем образ и подобие Божие: таковы представления апостола анархизма о личности в этот вполне уже зрелый период его мысли. У либерала Кавелина не много общего во взглядах с Бакуниным, но в числе этого немногого та же христианская и христоцентрическая идея личности, которую он соединяет с Гегелем более неуклюже, чем Бакунин: «возникла впервые в христианстве мысль о бесконечном, безусловном достоинстве
человека и человеческой личности. Человек — живой сосуд духовного мира и его святыни; если не в действительности, то в возможности он представитель Бога на земле, возлюбленный сын Божий, для которого сам Спаситель сошел на землю…»
[39]. Ясно, что подобная дефиниция никак не могла служить эффективным рабочим понятием при изучении судьбы личности в российской истории; уже один из студентов Кавелина, будущий фольклорист А.Н.Афанасьев, критически замечал о знаменитой его статье: «Автор, поставив краеугольным камнем своего труда личность, не объяснил точно, какой дает объем этому понятию»
[40]. Но такой упрек можно обратить отнюдь не только к Кавелину. Объяснений «точного объема понятия» вообще трудно найти в западническом дискурсе личности. Внимательный взгляд показывает, что в нем сплошь и рядом (у Кавелина, в том числе) налагаются христианская концепция личности, в основе которой связь со Христом, и свойственная западной метафизике секуляризованная концепция личности, отвечающая антропоцентрической персонологической парадигме (см. Введение). Однако двойственность, вносимая наличием атавизмов христианской концепции, в дискурсе западничества остается обычно незамечаемой, что говорит о его философской незрелости.
В известной мере, исключением служит Герцен. Его мысль изначально, с юношеских увлечений сен-симонизмом, обрела антропологическую ориентацию, сосредоточенность на человеке, с ведущей интуицией живого единства человеческого существа. Один из самых ранних его опусов носит уже название (предвосхищающее Макса Шелера) «О месте человека в природе» (1832). Идею человека как живой цельности он противопоставлял «дуализму», в котором видел господствующую черту и главный порок всей европейской мысли христианской эпохи. В его понимании, «дуализм — это христианство, возведенное в логику, освобожденное от предания, от мистицизма
[41]. Главный прием его состоит в том, чтобы разделять на мнимые противоположности то, что действительно нераздельно, например, тело и дух… Полторы тысячи лет всё… было пропитано дуализмом… [который] исказил все простейшие понятия»
[42]. Разумеется, победить дуализм Герцену, как и всей Европе, помог Гегель. Но отношения Герцена с мыслью Гегеля не столь просты, уже оттого хотя бы, что Гегелева система, в целом, далеко не несет в себе антропологической ориентации и, напротив, содержит существенные черты, которые я в моем анализе антропологии немецкого идеализма
[43] определяю как «анти-антропологические». Глубже всех эти отношения разобрал Густав Шпет. По Шпету, Герцен лишь очень частично овладел Гегелем, поскольку он (как многие философские дарования в России) подлинному погружению в философию предпочел общественное служение. «Не столько само содержание философии Гегеля увлекало Герцена, сколько общий
характер этой философии… Герцен был увлечен, во-первых,
научностью философии Гегеля, во-вторых, тем, что конечной задачей этой философии была сама
действительность»
[44]. Поэтому, усвоив достаточно гегелевский дискурс, язык, он ставит их на службу своему изначальному антропологизму и намечает с их помощью контуры своей концепции личности. Подобное сочетание факторов сразу напоминает Фейербаха. Поскольку же вдобавок все прочли в «Былом и думах», как Герцен «вспрыгнул от радости», начав читать «Сущность христианства» Фейербаха, то трактовка философии Герцена как фейербахианской была почти общепринята, пока ее не отверг категорически Шпет, посвятивший особое исследование разоблачению «легенды о фейербахизме Герцена». Как показывает Шпет, единственным настоящим философским влиянием для Герцена остается Гегель, по отношению же к Фейербаху он вполне самостоятелен и во многом глубоко расходится с ним.
Простыми рассуждениями в гегельянском ключе Герцен строит базис своей концепции личности. Всеобщность, разум обладают внутренней необходимостью, потребностью индивидуализации. Они должны иметь силу воплотить себя из рода в вид, а из вида в индивид и личность. В свою очередь, пред личностью, в силу той же внутренней необходимости, встает задача самореализации. В том, как она, по Герцену, решается, заключена вся суть концепции, ее специфическое своеобразие. Здесь снова преодоление дуализма, ибо задача изначально двояка: с одной стороны, задача мысли, теории, с другой — задача действия, практики. Пафос Герцена обращен на утверждение второго полюса, третируемого или игнорируемого в спекулятивной философии. «Забытая в науке личность потребовала своих прав, потребовала жизни… удовлетворяющейся одним творческим, свободным деянием»
[45]. Герцен доказывает, что именно в действии, деятельности — ключ к конституции личности, лишь в них обретается полнота ее самореализации. «Действование — сама личность… в разумном, нравственно-свободном и страстно-энергическом деянии человек достигает действительности своей личности»
[46], ибо в таком деянии, «свободном, разумном и сознательном» — вновь и вновь повторяет Герцен — теория переводится в жизнь, примиряется дуализм теории и практики, а вместе с ним побеждается и всякий дуализм (то есть, по Герцену, корень зла). Наметившаяся здесь концепция личности далее начинает наполняться конкретным содержанием: дается набросок этики свободы и достоинства личности (включающий любопытную апологию эгоизма), рассматривается зависимость личности от среды, эпохи и т. д. и т. п.
Деятельная природа личности — сердцевина, ключевой тезис концепции личности Герцена. Сам по себе, такой тезис мог бы быть тривиален, но смысл его у Герцена в том, что и личность и ее природа берутся в горизонте гегелевской «действительности», Wirklichkeit. В этом горизонте, деятельное выступает как разумно-деятельное, а сама личность предстает как уникальный плавильный тигель, где, по словам Шпета, «переплавляется вся действительность, чтобы, очистив ее от шлаков и «случайного» сора, ее можно было чистую и драгоценную влить в формы разумности»
[47]. Шпет весьма высоко оценивает эту концепцию, в которой, по его выражению, гегелевская «действительность заговорила голосом личности». Сегодня к его оценке можно добавить, что в концепции Герцена обнаруживаются переклички, связи со многими философскими явлениями 20 в. — течениями неомарксизма, персонализма, «мыследеятельным подходом» в позднесоветской и постсоветской философии, и др. И можно согласиться также, что в этой концепции — вершина мысли западников о личности и о человеке.
Топос личности: славянофилы
Стремясь сохранять объективность в идейной полемике, Герцен писал об отношениях личности и общины: «Наша община — великое приданое наше… я вполне ценю ее, но в ней недостает личного начала»
[48]. Суждения других западников резче, они, как правило, говорят не столько о «недостаче», сколько о полном отсутствии такового начала. Если же обратиться к самим славянофилам, то на это обвинение в адрес общины мы найдем у них лишь скудный и не слишком определенный ответ. Правда, у Константина Аксакова, как всегда, позиция прямая и четкая, но в данной теме она уже на грани утопии.
Проблему «личность и община» Аксаков не затушевывает, а решает сразу, в зачатке, давая собственную дефиницию общины: «Община есть союз людей, отказывающихся от своего эгоизма, от личности своей… это действо любви, высокое действо христианское… Община представляет нравственный хор и как в хоре не теряется голос… так и в общине не теряется личность, но, отказываясь от своей исключительности для согласия общего, она находит себя в высшем очищенном виде, в согласии равномерно [т. е. в равной мере —
С.Х.] самоотверженных личностей… в нравственном созвучии личностей, каждая личность слышна, но не одиноко, а согласно — и предстает высокое явление дружного совокупного бытия разумных существ»
[49]. Конститутивный принцип общины — единогласие, или «свободное нравственное согласие всех». В реальном сообществе его постоянное поддержание, разумеется, нереально, и Аксаков говорит: «единогласие трудно, но всякая высота нравственная трудна». Отсюда хорошо видно, что все силы, конституирующие и скрепляющие общину, — сугубо нравственного характера, как усиленно подчеркивает и сам Аксаков: «Славянская община была союз людей, основанный на нравственном начале… Когда люди образовали общину, то общий внутренний нравственный закон является как порядок общей жизни… Основание общества есть одно общее нравственное убеждение»
[50]. Все стороны и измерения жизни сообщества, кроме нравственных, отодвигаются здесь на второй план, а юридические прямо отрицаются; оппозиция этики и права как «правды внутренней» и «правды внешней» достигает степени правового нигилизма: «Славяне жили под условиями правды внутренней… Торжество внешней правды есть гибель правды внутренней, единой истинной, свободной правды»
[51]. В такой трактовке, община — уже не реальный тип сельского сообщества, а некий чисто этический конструкт, условность и утопичность которого усугубляются тем, что условною, нераскрытой остается и сама этика любви и согласия, конституирующая общину: что это за дивная этика? откуда взялась она у славян?
Условная конструкция общины развивается в не менее условную конструкцию социума как союза общества, или же «Земли», живущей на началах общины, и сферы власти, или «Государства». Вот принципы этого союза: «Отношения Земли и Государства между собою: …Государству — неограниченное право действия и закона, Земле — полное право мнения и слова… неограниченная власть — царю, полная свобода жизни и духа — народу;… Право духовной свободы… свобода мысли и слова есть неотъемлемое право Земли: только при нем никаких прав политических она не хочет, предоставляя Государству неограниченную власть политическую»
[52]. Противоречивость и утопичность такой конструкции очевидны (что за «неограниченная власть», не могущая ни в чем стеснять «мнения и слова» подданных?!), но, вместе с тем, выраженное тут отношение к государству и политике разделялось всеми славянофилами. Они твердо считали, что «народ» не желает входить в эти сферы, находя их греховными, и полностью делегирует власть царю и его присным. При этом, однако, он желает сохранять свободной и неприкосновенной свою «внутреннюю жизнь» — религию, обычаи, быт. Эту неприкосновенную сферу славянофилы трактовали весьма широко, так что позиция их, хотя и утверждает необходимость самодержавия, но в то же время парадоксально сближается с политическими теориями сокращения, минимизации прерогатив государства. Так выражал эту позицию Иван Аксаков: «Русский народ не политический… а народ социальный, имеющий задачей внутреннюю жизнь, жизнь земскую. Его идеал не государственное совершенство, а создание христианского общества… Для нас же забота та, чтобы государство давало как можно более простора внутренней жизни и само бы понимало свою ограниченность, недостаточность»
[53].
Возвращаясь же к личности, мы видим, что, хотя «Земля» К.Аксакова, вслед за его общиной, — тоже идеализированный чисто этический конструкт (ср.: «Сила нравственная… есть элемент, в котором живет и движется Земля»), но концепция Земли несет в себе важные, опять-таки обще-славянофильские, идеи о правах личности. По учению славянофилов, эти права отнюдь не относятся к политике, они входят во «внутреннюю жизнь», в сферу Земли, и потому — неприкосновенны, неотчуждаемы. Вследствие этого, пафос свободы, достоинства и прав личности — никак не монополия западников. Славянофилы активно настаивали на свободе слова и мысли, и едва ли их заявления по резкости требований уступали протестам западников. Белинский представил свою сокрушительную критику в частном письме Гоголю; но Константин Аксаков писал в Записке, поданной императору: «Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестною ложью… всё обняла ложь, везде обман… Все зло происходит от угнетательной системы нашего правительства… Эта система, если б могла… то обратила бы человека в животное, которое повинуется, не рассуждая»
[54]. Брат же его, в передовице, открывавшей первый нумер основанной им газеты «День», вносил такое предложение в Свод Законов: «Прежде всего необходимым кажется нам постановить твердое правило, которое и внести в 1 Том Свода Законов… [как] главу 1 следующего содержания:
Свобода печатного слова есть неотъемлемое право каждого подданного Российской империи, без различия звания и состояния»
[55].
Но при всем том, концепция личности у Константина Аксакова оказывается довольно фантастической. Как мы уже видим, личность, по его мысли, никак не отсутствует в русском социуме, однако реализуется она в очень своеобразной форме, которую трудно не признать ирреальной. Аксаковский человек, член общины или Земли, самоотверженный, отказывающийся не только от эгоизма, но и от самой своей личности, чтобы в «нравственном хоре» обрести ее «в высшем и очищенном виде», — есть также чисто этический конструкт, всецело этицизированный человек, и потому — лишь антропологическая утопия. Можно только добавить, что сам Константин Аксаков, по свидетельствам, в жизни был крайне близок к этому несуществующему человеку…
Другие славянофилы видят общинное и земское устройство, а равно и личность в нем, более реалистически. Хомяков был главным создателем учения об общине, но он, тем не менее, не разделяет этического утопизма К.Аксакова, замечая трезво: «Личные добродетели далеко не развивались в сельских мирах в той степени, в какой развивались добродетели общежительные»
[56]. На его взгляд, «высокие личные добродетели в сельском быту» — только «прекрасные исключения», а еще, к тому же, форма западная, дружина, «стояла бесспорно на высшей степени личной добродетели», — откуда легко сделать вывод, что судьба личности в общине видится ему, в сущности, почти так же как западникам. И тем не менее, в главном, в положительном своем содержании, позиции Хомякова в проблеме личности нисколько не приближаются к западническим. Эти позиции развиваются им уже не в рамках учения об общине, а совсем независимо от него — в его знаменитом
учении о соборности.
Учение о соборности Хомякова и историко-философские идеи Ивана Киреевского — два самых значительных религиозно-философских плода славянофильства. Оба они несут заметные отличия от прочей литературы славянофильского движения (в книге моей о Хомякове я отнес даже учение о соборности к особому, уже не-славянофильскому этапу его творчества). Принадлежащие уже не 40-м, а 50-м годам, они по зрелости, творческому уровню выходят за рамки «кружковой философии», создававшейся в эпоху споров двух партий. Отходят они и от тематики этих споров, не касаясь ни сакраментальной общины, ни вообще национальной истории (у Киреевского историческая рефлексия имеет своим предметом, по существу, не столько «русское просвещение», сколько Восточнохристианский дискурс). В центре их — не национальная, а религиозная проблематика, более глубокая и универсальная. Этот сдвиг важен и для проблемы личности: славянофильское видение личности имело религиозные корни, и без их раскрытия не могло обрести прочного основания и даже простой отчетливости.
Сегодня, в ретроспективе, позиции двух партий в проблеме личности видятся не столь сложными. Как сказано выше, утверждавшаяся западниками «свободная, разумная и сознательная личность» соответствует антропоцентрической парадигме, в которой личность трактуется как автономный самодовлеющий индивидуум, сближаясь с метафизическим понятием субъекта. В отличие от этого, славянофильская позиция соответствует теоцентрической парадигме (см. Введение), согласно которой полнота наделенности личным бытием принадлежит не человеку, а Богу. Человеческая же личность формируется в приобщении, причастии человека Богу, причем в этом приобщении человек участвует не только интеллектуально, а целостно, всем своим существом. Поэтому цельность — ключевой предикат личности человека, и весь славянофильский дискурс личности строится как утверждение «цельной личности», представляющей собой согласную собранность всех уровней и способностей человека в единство, открытое к соединению с Богом. Однако на этом этапе раскрытие философского и религиозного содержания, заключенного в концепте цельной личности, еще только начиналось. Решающую роль в нем предстояло сыграть философии Серебряного века и шедшему за ней православному богословию личности.
Первоначально, в пору создания славянофильской доктрины, мысль Хомякова была преимущественно социальной философией, сосредоточенной на дескрипции определенного типа человеческого сообщества, который характеризовался целым рядом совершенств, идеальных свойств («общежительных добродетелей»). Две главные особенности отличали эту философию: во-первых, специфическая природа данного совершенного сообщества передавалась в органической парадигме, посредством понятия организма; во-вторых, принималось (краеугольный камень доктрины!), что это сообщество реализуется в истории в форме русской общины. Но, в отличие от Константина Аксакова, Хомяков мыслил не утопически. Смотря достаточно трезво на общинное устройство в его истории и современности, он приходил к выводу, что община не может быть воплощением совершенного органического сообщества. Новый этап его мысли рождается тогда, когда к этому негативному выводу присоединяется позитивный: действительная, единственно адекватная реализация совершенного сообщества есть — Церковь.
В основе этого этапного вывода — простая логика. Тип совершенного сообщества, в силу его совершенных, идеальных качеств, принципиально не может быть воплощен никаким эмпирическим обществом. Такое сообщество должно быть сверх-эмпирично, иметь сверх-эмпирические измерения в своей природе; и Церковь, в отличие от обычного социума, подобные измерения имеет. Далее, еще на «общинном» этапе мысли у Хомякова сформировался набор основных признаков, предикатов, характеризующих совершенное сообщество; главным, определяющим из них было гармоническое сочетание, и даже точнее, тождество, полного единства и полной свободы. Но новом этапе все эти характеристики, которые не удавалось найти в общине, Хомяков обнаруживает наличествующими в Церкви. Эта концептуализация церковного бытия осуществляется путем детального анализа одного определенного свойства, которым обладает Церковь согласно Символу веры христиан: свойства соборности. Точней, в Символе стоит «соборная Церковь», и Хомяков сам образует от этого прилагательного существительное — неологизм, который со временем занял прочное место в русской — да и не только русской — религиозной и социальной мысли.
«Соборная» — третий атрибут Церкви из четырех («едина, святая, соборная и апостольская Церковь»), выражаемый в греческом оригинале термином catholicos — по смыслу, всецелое, всеобщее, универсальное. Важная особенность русского термина — отсутствующее в оригинале сближение с понятием собора, собрания верующих. Усиленно опираясь на нее, Хомяков развивает учение о соборности как «соборном единстве», в котором полнота единства и полнота свободы его элементов не только совместимы, но предполагают друг друга. Этот синтез свободы и единства он настойчиво утверждает как главное определение природы Церкви: «Церковь — свобода в единстве»
[57], «Единство Церкви есть не что иное как согласие личных свобод»
[58] и т. п. Но сам Хомяков не применяет к этому сочетанию двух начал слова «синтез» и не дает вообще ему спекулятивной трактовки, гегелевской или иной. Как особенно подчеркивал Георгий Флоровский, дискурс соборности Хомякова развивается в элементе описания и свидетельства, это —
опытный дискурс, передача его собственного церковного опыта, который был живым и глубоким («Хомяков жил в Церкви», как сказал Юрий Самарин). В горизонте же опыта, сочетание свободы и единства в Церкви является не диалектическим, а
благодатным: достигаемым с помощью Божественной энергии, благодати. В соборном единстве, по Хомякову, свобода принимает особую форму — это соборная свобода, «просвещенная благодатью свобода», как и само соборное единство созидается «по благодати Божией, а не по человеческому установлению». Аналогичная связь с благодатью, «преображенная благодатью» форма отличает и все основные атрибуты церковного бытия, проявления жизни Церкви. Поскольку же благодать, Божественная энергия — принадлежность Божественного бытия, иного онтологического горизонта, то этому горизонту принадлежит и соборное единство, соборность. Флоровский, пожалуй, самый авторитетный исследователь учения о соборности, четко закрепляет: «Соборность в понимании Хомякова — это не человеческая, а Божественная характеристика»
[59]. Этот тезис важен, ибо позволяет сразу отбросить все многочисленные, продолжающиеся до сего дня покушения представить соборность как социальный (а часто и национальный) идеал, отнести ее не к Церкви, а к обычному социуму.
Как явствует отсюда, в учении о соборности мысль Хомякова выходит в область онтологии, причем этот выход совершается не в русле гегельянства или какого-либо иного направления западной метафизики, а неким своим путем, более богословским, но отчасти и философским. Для русской мысли это был важный шаг. Сразу в нескольких направлениях открывались новые перспективы, которые в дальнейшем постепенно осмысливались и осваивались как философией, так и богословием. Эта рецепция учения о соборности описывается в моей книге о Хомякове
[60], здесь же я укажу только ее главные вехи. В русской философии налицо, по крайней мере, три линии развития и влияния этого учения: 1) в онтологии, в связи с концепцией всеединства, 2) в теории познания, в построениях так называемой «онтологической гносеологии», 3) в социальной философии, в попытках эксплуатировать соборность как принцип социального устройства. Особняком стоит прихотливо-личное видение соборности Вяч. Ивановым: в 1910-е годы он развивал понимание ее как некоего «хорового начала», принципа единения-слияния народной стихии в фольклорно-сакральных действах. Эти его теории имели влияние, войдя в идейный фонд русского символизма и получив развитие, в частности, в концепции «культового действа» в философии культа П.Флоренского.
Родство соборности с всеединством очевидно: оба принципа коренятся в той же исходной интуиции единства и связности бытия, выражая способ конституции или принцип внутренней формы совершенного единства множества, которое, по дефиниции Хомякова, есть «единство всех и единство по всему». Но тем не менее близость их ограничена: всеединство — чисто философский концепт, принадлежащий традиции христианского платонизма, тогда как соборность имеет опытную и экклезиологическую природу, восходя к видению Церкви как мистического Тела в Посланиях Павла. Поэтому в системах всеединства русской религиозной философии онтология обязана Соловьеву несравненно больше, чем Хомякову. Иная ситуация — в концепциях «онтологической гносеологии», которые доказывали зависимость акта познания от онтологических предпосылок. Эти концепции, развивавшиеся многими философами Серебряного века (С. и Е.Трубецкими, Лосским и Франком, Флоренским, Аскольдовым и др.), были довольно различны, но большинством из них разделялись два положения:
1) Сознание имеет соборную природу. Оно не принадлежит индивидууму как таковому, но только реализуется, осуществляет свою работу через индивидуума и в индивидууме. Само же по себе оно определяется трансиндивидуальными предикатами, являясь родовым и вселенским сознанием.
2) Познание базируется на нравственных предпосылках. Оно является не чисто рассудочною, но холистической и синтетической активностью, в которую вовлекаются купно мысль, воля, чувство; и ключевым сверх-рассудочным слагаемым когнитивного акта служит любовь.
Оба эти положения прямо восходят к Хомякову, что вполне ясно из следующего важного философского пассажа: «Ясность разумения поставляется в зависимость от закона нравственного. Общение любви не только полезно, но вполне необходимо для постижения истины… Недоступная для отдельного мышления, истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью»
[61]. Легко признать близость этих суждений позициям современного западного «коммунологического» мышления, утверждающего примат общения и сообщества (community and communication). Наконец, что касается социальной философии, то мы говорили уже о необоснованности переноса хомяковского концепта в эту сферу. Тем не менее, такой перенос совершался систематически, как правило, в учениях с консервативным или националистическим уклоном, от поздних славянофилов до постсоветских коммунистов и (нео)евразийцев. Исключением служит лишь теория Франка, развитая им в книге «Духовные основы общества» (1930) и пытающаяся сочетать экклезиологический статус соборности с приданием ей роли «идеально направляющей силы общественной жизни».
Развитие богословского учения о соборности было рано оборвано смертью Хомякова. Понятно, что это развитие должно было неизбежно вести к вытеснению органической парадигмы: поскольку эта парадигма, связанная биологическими коннотациями, ограничена горизонтом здешнего бытия, то онтологический дискурс должен был войти в конфликт с органическим. Можно заметить, как в поздних трудах Хомякова применение к Церкви и ее жизни понятия организма и примыкающих к нему становится более осторожным и ограниченным — и всё в большей мере в дескрипции церковного бытия выходят на первый план принципы личности, любви и общения, которые не связаны с органическою парадигмой, сверх-органичны. Дискурс соборности продвигался в сторону богословия личности и, тем самым, — к теоцентрической персонологической парадигме. Явное появление концепции личности как Божественной Ипостаси должно было бы стать решающим шагом в преодолении органицизма; но такое появление предполагало еще одну важную ступень, которая достигнута не была: углубленное развитие, вслед за экклезиологией, — христологии. Далее, усиленно подчеркивая конститутивную роль благодати в бытии Церкви, учение о соборности сближается, пускай имплицитно, и с богословием энергий, основательно забытым в ту пору. Указанные два рода православного богословия стали в 20 в. основой нового этапа православной мысли, который часто именуют этапом неопатристики и неопаламизма и который осуществил плодотворное современное возрождение Восточнохристианского дискурса. Его зачинатели Вл. Лосский и Г.Флоровский создали обновленную современную редакцию учения о соборности, которая стала существенной частью данного этапа. Поэтому Хомякова можно считать по праву одним из ранних его предтеч.
С возрождением Восточнохристианского дискурса тесно связана и мысль Ивана Киреевского. В его поздних статьях, и особенно, в программном и предсмертном труде «О возможности и необходимости новых начал для философии», намечается сам концепт Восточнохристианского дискурса, ставится и анализируется проблема создания аутентичной философии, стоящей на его основаниях (и, тем самым, вне русла европейской метафизики). С большой философской зоркостью, Киреевский (как думают многие, включая меня, сильнейший философский ум в России своего времени) выстраивает идейный контекст такой философии и указывает ее определяющие черты. Как им подчеркивается, она должна быть не новой понятийной системой, согласуемой с положениями веры как внешними требованиями (путь схоластики), а
новым способом мышления: таким, который способен дать выражение духовного опыта в адекватном этому опыту философском дискурсе. Он точно указывает, что, в отличие от западной мысли, Восточнохристианский дискурс отводит духовному опыту (опыту веры, Богообщения) ведущую роль: «Особенность православного мышления, исходящая из особенного отношения разума к вере, должна определить… господствующее направление самобытной образованности»
[62]. И, как он далее подмечает, эта опытная ориентация должна выражаться в своеобразной и тонкой организации мышления: «в мышлении православно верующего совокупляется всегда двойная деятельность: следя за развитием своего разумения, он вместе с тем следит и за самым способом своего мышления, постоянно стремясь возвысить разум до того уровня, на котором он мог бы сочувствовать вере»
[63]. В историко-философском контексте, намечаемая философия должна сопрягать два полюса: она должна быть безусловно актуальной и современной, «соответствовать вопросам своего времени», и в то же время, «живительным зародышем и светлым указателем пути» должна для нее служить «философия святых отцов православной церкви»; так что, в итоге, ее задача — «согласить со святоотеческим преданием все начала современной образованности». В утверждении имманентной, непреходящей роли греческой патристики, обращение к которой может и должно питать не архаизирующую и консервативную мысль, а творческое постижение современности, идеи Киреевского прямо предвосхищают концепцию неопатристического синтеза Флоровского. Именно это — та идейная нить, следуя которой русская мысль 20 в. успешно двигалась к преодолению конфликта духовной и культурной традиций, ключевого конфликта русской культуры.
И всё же ни у Киреевского, ни у Хомякова не было создано той философии, к которой они стремились: современной, строящейся на собственных основаниях русской духовной традиции и потому отличной от классической европейской метафизики. Учение о соборности Хомякова развивалось в стихии вольного рассуждения, более богословского, чем философского, отрывочного и часто — публицистически-полемического. Комплекс идей Киреевского носил характер намечаемого проекта, к осуществлению которого ему не суждено было приступить. Задача создания русской философии осталась будущему. Однако ледоход русской мысли уже был неостановим. Начатая работа продумывания этой философии была подхвачена и продолжена.
IV. Заключение
В восприятии славянофильства и западничества в культурном сознании давно сложился
симметричный стереотип: оба движения рассматриваются как однотипные, аналогичные, хотя и противостоящие друг другу; как две взаимно подобные фигуры идейных противников. В действительности, однако, они вовсе не симметричны во многих важных аспектах. Насущные потребности мысли, общества виделись им по-разному, и поэтому в центр у них ставились разные задачи: у западников — развитие, эмансипация общественного и, прежде всего, личного, индивидуального сознания, культивация свободной личности; у славянофилов — самоопределение русского сознания, его отчет себе в собственных основаниях, осмысление собственных начал, собственного исторического и духовного опыта. Видно, что эти задачи — разной природы. Первый круг, где к тому же предполагалось принятие готовых западных концепций личности и моделей общества, сводился, в основном, к проблемам социальной педагогики и просвещения, тогда как второй круг принадлежал топосу самосознания, глубоко философской проблематике. Именно поэтому Густав Шпет, стоявший сам на крайне западнических позициях, со всей определенностью утверждал: «Славянофильские проблемы… — единственные оригинальные проблемы русской философии»
[64], из всех западников признав некоторое философское значение лишь за Герценом («Герцен вместе со славянофилами заправлял тесто русской философии»
[65]). Мысль западников питает общественный, гражданский пафос, «религия великого общественного перевоплощения» (Герцен), и для их биографий типичен уход от философии «в общественность», как тогда говорили, — в публицистику, политику. Славянофилы никогда не пренебрегают «общественностью», но мысль их питает философский пафос, и никуда, никогда эта мысль не может уйти из топоса русского самосознания.
В итоге, в идейной жизни и культуре России надолго сложилось «разделение труда»: славянофильские тенденции преобладают в философском процессе, сфере творческой мысли; влияние западничества — в общественном движении и развитии. Напротив, покушаясь на философию, западники обыкновенно достигали лишь посредственных результатов (Шпет — исключение, подтверждающее правило), славянофилы же никогда не могли «увлечь массы» или предложить обществу реалистическую социальную программу. В этом свидетельстве истории отражается искусственность обеих доктрин, опирающихся на условные идеологические конструкты. Понятое как догма, как полнота истины, каждое из учений тут же обнаруживает явные несообразности, оказывается несостоятельным и устаревшим. Недаром все лучшие интеллектуальные достижения в обоих руслах — учение о соборности Хомякова, философский проект Киреевского, концепцию личности у Герцена — мы находили выходящими за рамки доктрин, не отвечающими догматическому западничеству или славянофильству. Но в то же время, каждое русло оказывается вовсе не устаревшим, а непреходящим, необходимым всегда — в качестве составляющего момента, одной из тенденций, граней всякой полноценной стратегии развития российской культуры.
Однако беда русской истории была в том, что оба учения не умели и не желали взглянуть на себя таким образом — как на необходимые, но частичные моменты самореализации культурного организма — живого целого, не охватываемого никакою догмой. Как выражались в старину, они не желали «признать правду друг друга» — отказаться от шор идеологизма, признать относительность своих догм и достичь «синергии», соработничества друг с другом. (Лишь ненадолго элементы такой синергии возникнут в культуре Серебряного века, мелькнут в идее Славянского возрождения…) Дальнейшее углубление поляризации общественного сознания было в порядке дня, оно с легкостью предвиделось и с неизбежностью надвигалось.
2007 г.
РУССКИЙ ФИЛОСОФ В ЛИТВЕ: A CASE STUDY
Их встреча была определенно не из тех, которые предначертаны на небесах. По обыкновенной логике вещей, им вообще было не с чего встречаться, русскому историку и философу Льву Карсавину и литовской стране. Но встреча произошла, и непредвиденно она стала большим событием для каждой из сторон, принесла крупные плоды. Неожиданно они подошли друг другу. Приехав в Литву в 1928 году, Карсавин так больше и не покинул ее по своей воле; он жил здесь, пока не был арестован советскими органами в 1949 году и в 1950-м не увезен в северные лагеря, откуда вернуться ему было не суждено. Литва же помнит его по сей день и не забудет уже, имя Карсавина здесь — известное всем, чтимое и славное имя.
Инициатива в их отношениях принадлежала ей, Литве. Все двадцатые годы новорожденная республика усиленно занималась строительством своей отечественной государственности, культуры, науки, образования — естественно, с переменным успехом. Mutatis mutandis, этот период в постимперском существовании бывших частей царской России сопоставим с аналогичным периодом в постсоветском существовании бывших советских республик. Как мы сегодня хорошо знаем, такое время не обходится без неизбежной волны национального самоутверждения, выражающегося, в первую очередь, в отталкивании от имперского прошлого и его русской основы — а отсюда, по инерции, и от всего русского как такового. Эти общие обстоятельства имеют прямое отношение к нашему герою. В высшей школе заведомо не хватало туземных кадров, в особенности для таких научных постов, на которых предполагались ученые высшего профессионального уровня, с именем и положением в науке. Приглашение иностранцев было необходимостью, и, в частности, в 1927 г. подобная необходимость возникла в связи с оказавшейся вакантною кафедрой всеобщей истории столичного университета — университета Витаутаса Великого в Каунасе (напомним, что Вильнюс в период между мировыми войнами принадлежал Польше). В научных кругах Литвы было в то время двое добрых знакомых Карсавина: философ В.Э.Сеземан, бывший его коллега по Санкт-Петербургскому университету, и юрист А.Вольдемарас, коллега по Бестужевским Высшим Женским курсам, который к тому же в 1926 г. стал премьер-министром страны. Благодаря им (как полагал сам Карсавин, рекомендация принадлежала Сеземану), факультет гуманитарных наук принял к рассмотрению кандидатуру Карсавина — после того как намеченный ранее Р.Ю.Виппер, известный историк Древнего Рима, сообщил, что он не склонен покидать занимаемую им кафедру в Риге. Но в силу упомянутых обстоятельств, вопрос о приглашении Карсавина вышел за стены университета. Он стал предметом активных дебатов в литовской прессе, и обсуждались в них отнюдь не только профессиональные данные кандидата.
Среди профессуры, в газетах начали выражаться сомнения и протесты по поводу намеченного приглашения. Возражения были двояки, как общего плана, так и персонального. Общие касались приглашения не-литовца, разрешения ему читать лекции в первые годы не по-литовски, усиления русского присутствия и влияния. Персональные же обнаруживали внимательное, но и весьма пристрастное знакомство с «личным делом» кандидата. Выпустив большой цикл исторических трудов, снискавших ему репутацию крупного историка, Карсавин с середины 20-х годов сосредоточился больше на философии, развивая собственную систему религиозной метафизики; выпустил он и книгу по богословию Отцов Церкви. В этот же период он сблизился с Евразийским движением, стоявшим на антизападных и антикатолических позициях. Все эти факты были поставлены ему в вину: выпуск богословской книги доказывал, что он — «крайний православный» и проповедник «русско-византийского мистицизма», евразийские статьи демонстрировали его вражду к литовской национальной религии, католичеству, а занятия философией заставляли предполагать, что как историк, он перестал работать и утерял профессиональную квалификацию. Хотя эти аргументы успешно парировались, и 15 ноября 1927 г. приглашение было подтверждено и направлено кандидату официально — тем не менее очевидно, что отношения философа и страны начинались отнюдь не идиллически. Современное исследование этого эпизода, открывшего собой литовский период Карсавина, заканчивается следующим выводом: «Ученого, прибывшего в Каунас в январе 1928 г., ожидали предубеждения, которые ему удалось блестяще развеять»
[1].
Путь предшествующий
К началу литовского периода биографии, за плечами у русского мыслителя лежал уже на редкость богатый, сложный жизненный и творческий путь. Он родился на свет в 1882 г. в семье танцовщика Петербургского балета Платона Карсавина (через три года у него появилась сестра, будущая великая балерина и звезда дягилевских Русских Сезонов Тамара Карсавина) и уже в гимназии обнаружил блестящие дарования — как, впрочем, и некоторые свойства характера, в будущем причинявшие ему немалые неудобства: чрезвычайно независимый нрав, иронию и насмешливость, тягу к вызывающе звучащим высказываниям… Поступив на Историко-Филологический Факультет Петербургского университета, он, начиная со старших курсов, примыкает к научной школе крупнейшего историка древнего мира И.М.Гревса, становится одним из его многочисленных учеников — притом, «самым блестящим из всех» согласно свидетельству самого учителя. Его научною специальностью становится Западное Средневековье в его религиозной стихии, а первою большой темой — ранняя история францисканского движения. Несколько лет усиленной работы, включающей и занятия в архивах Италии, приводят к созданию первого крупного труда, «Очерки религиозной жизни в Италии в 12–13 вв.» (1912). Вслед за тем в его деятельности всё заметней, сильнее начинает заявлять о себе его дар мыслителя. Продолжая исследования средневековой религиозности, Карсавин переходит к научным обобщениям, к разработке новых понятий и подходов, обращающих взгляд историка от обычных предметов прежней науки — истории государств, институций, узаконений… — к
человеку в истории, конкретному человеку с его внутренним миром. Этот поворот, убедительно представленный в его следующей большой книге, докторской диссертации «Основы средневековой религиозности», защищенной в Петербургском университете в 1916 г., предвосхищает будущие пути исторической мысли — в частности, многие установки знаменитой школы «Анналов» во Франции. Сегодня специалисты утверждают дружно: «Карсавин методологически опередил зарубежную медиевистику»
[2]; «Исследования Карсавина… предвосхитили то, что делалось в исторической науке на полвека позднее»
[3]. Однако вклад Карсавина в это будущее развитие был оценен по заслугам лишь в недавнее время, когда его имя и его творчество были возвращены из забвения.
Но стремление его мысли к обобщающему, углубленному видению и познанию реальности не задержалось на этапе «Основ» — уже в ближайшие годы его интересы обращаются к еще более общей проблематике, к теории исторического знания как такового, затем к философии истории, чтобы далее наконец оставить область истории вообще — в пользу религиозной философии. Нет сомнений, что именно здесь лежал его главный дар; и имя его осталось в истории, прежде всего, как имя одного из крупнейших русских философов минувшего века, создателя оригинальной системы христианской метафизики. Эта система возникала, оформлялась и развивалась у него с удивительной быстротой: всего-навсего 9 лет отделяют появление ее первого очерка-наброска в книге “Noctes Petropolitanae” (1920, опубл. 1922) от публикации окончательного и наиболее зрелого ее изложения, трактата «О личности» (1929). Это девятилетие — звездные годы Карсавина, которые вместили в себя множество важнейших, узловых событий его пути. В плане жизненном, это его Wanderjahre, годы изгнания и странствий, начавшиеся на родине, в России, и закончившиеся на «второй родине», Литве; это и годы бурных переживаний, увидевшие мощный всплеск лирической стихии в его душе, рождение и крушение большой любви, подчинившей его себе. В творческом же плане, они объемлют собой без малого всю его философию: помимо двух названных трудов, за это время им созданы еще два изложения его метафизики всеединства — монографии «Философия истории» (1923) и «О началах» (1925), книга «Джордано Бруно» (1923) о мыслителе, весьма ему близком и на него повлиявшем, целый ряд меньших, но существенных философско-богословских текстов, а также значительный цикл философской публицистики евразийского периода (где выделяется особо брошюра «Церковь, личность и государство» (1927), в сжатых тезисах формулирующая основы его системы).
Евразийство — важная и популярная тема в постсоветской России, и потому о связи с ним нашего героя надо сказать два слова. В течение ряда лет (1926–1929) он считался основным теоретиком этого движения, выразителем его религиозных и философских позиций; был автором или соавтором ряда его программных документов. При этом, однако, он не был в числе основателей движения и всегда оставался в стороне от его руководящего внутреннего ядра; больше того, он нисколько не разделял и многих «фирменных» идей евразийства, входящих в саму суть и специфику его доктрины, — прежде всего, пресловутого «упора в Азию», безудержного монголофильства и монголофильской ревизии русской истории. С движением его соединял исторический реализм, признание безвозвратного ухода Имперской России и взгляд на режим большевиков как на дееспособное государственное устройство, при всех пороках его обеспечивающее историческое бытие России на новом этапе. Но и тут почва для согласия была ограниченной. С 1928 г. Карсавин — наряду с Сергеем Эфроном, мужем Марины Цветаевой, — оказывается в числе лидеров левого или «кламарского» (от городка Кламар под Парижем, где жили тогда и Карсавин, и Эфрон) крыла евразийцев, заходившего особенно далеко в одобрении и пропаганде большевистского опыта. Деятельность кламарцев — одним из их главных дел был выпуск в 1928-29 гг. еженедельной газеты «Евразия», где Карсавин поместил немало своих статей, — была явно неудачной, лишь вызвав раскол и склоки во всей евразийской среде. После этого эпизода Карсавин целиком отходит от сотрудничества с движением, и лишь в немногих его позднейших текстах можно найти выражение евразийских взглядов.
Но, ограничиваясь лишь научною и публичной деятельностью Карсавина, совершенно невозможно понять его жизнь и его судьбу — да даже и саму эту деятельность. Культура Серебряного Века и созданный ею — или ее создавший, тут оба залога равноправны! — специфический тип творческой личности строились на синтезе, сплаве, взаимопроникновении стихий жизни и творчества; и Лев Платонович Карсавин ярчайше воплотил в себе этот тип. Путь его был доподлинным жизнетворчеством, за которым скрывалась личная драма, драма любви и жертвы, служа единым питающим источником и экзистенциальным ключом к этому пути. На этот ключ указал он сам, уже в свои поздние, последние годы написав в письме к героине драмы: «Это Вы связали во мне метафизику с моей биографией и с самой жизнью». Внешняя канва драмы не столь сложна. В 1920 г. у профессора завязываются лирические отношения с Еленой Скржинской, талантливой студенткой также из круга учеников Гревса. Они переходят в пылкое взаимное чувство, уникальным дневником которого становится книга «Noctes Petropolitanae», пишущаяся на пике его нарастания, расцвета, и в едином восторженном потоке сливающая мистику, метафизику и любовные излияния. Следующие два года философ разрывается внешне и внутренне между новым чувством, захватившим его, и чувствами долга и привязанности к семье: давно будучи женат, он уже имеет трех дочерей. Внешней развязкой становится «философский пароход», высылка философов, чуждых марксизму и большевизму, за рубеж, в Германию, осенью 1922 г. Но даже внешне развязка не была окончательна: в мае 1923 г. Елена едет к изгнаннику в Берлин, и все лето у философа длятся прежние жестокие колебания — пока наконец в сентябре, утратив надежды, героиня не уезжает обратно. Внутренняя же их связь не разорвалась никогда — и драма, уже навсегда поселившаяся в его душе, становится фоном и шифром его творчества. Уже в Литве она получит новое яркое выражение: в 1931 г. Карсавин напишет здесь «Поэму о смерти» — как и «Noctes», лирико-философский текст, с тою же героиней. Теперь, однако, у нее литовское имя, Элените, и автор о ней говорит как о… скончавшейся, мертвой (меж тем Елена в России была абсолютно жива). Эмоционально, эта вторая философская исповедь — резкая противоположность первой, она вся до предела — на мучительной боли и жестоком надрыве, на горькой иронии и трагической отрешенности. Это — последнее философское сочинение, выпущенное Карсавиным при жизни. В обрамлении двух уникальных документов философии-лирики-исповеди-игры, корпус его философских текстов предстает как самый причудливый интеллектуальный ансамбль, рожденный неподражаемою культурой Серебряного Века.
Как становятся «Литовским Платоном»
Таким — не самым обычным из смертных, мягко говоря — был человек, который в январе 1928 г. занял кафедру всеобщей истории в Университете Витаутаса Великого. Как полагается русскому интеллигенту, он был принципиальным во взглядах, мог быть и резким на идейной почве (что мы увидим еще); но против новой своей страны он не имел ничего — и первым делом постарался исправить ложные представления о себе и своем отношении к ней, вступив в прямую переписку с главным противником своего приглашения в Каунас, прелатом А.Якштасом-Дамбраускасом. Этот прелат тоже мало кому бы уступил по части необычности своей фигуры — он был не только одним из лидеров литовских католиков, теологом и философом, но еще математиком, литератором, поэтом и энтузиастом языка эсперанто; и когда Карсавин объяснил ему свои позиции — в частности, конкретную обусловленность своих антикатолических статей и свою полную открытость к межконфессиональному диалогу — два оригинала, кажется, благополучно уладили отношения.
Дальше на очередь вставали отношения с языком, и они уладились еще лучше. Карсавин и литовский язык — особая тема, не упускаемая никем при описании литовской эпопеи философа. Это еще один его роман, и начинался он так: «Я отвечаю ему по-русски, а он: нет, вы со мной говорите по-литовски, я хочу научиться! Очень тяжелый язык, ничего общего со славянским не имеет, но все-таки интересный язык… удивительный язык… И что поразительно, очень скоро он со мной начал говорить… через полгода уже… Один раз пришел внезапно, муж не был дома — и ко мне: Я уже говорю по-литовски, можем побеседовать! И обращается ко мне по-литовски уже совсем свободно. Муж вернулся, я говорю: Вот, профессор Карсавин был, мы беседовали по-литовски. — Да неужели? — муж удивился. Удивительно способный к лингвистике…»
[4]. Так вспоминает в 1993 г. г-жа Юлия Шалкаускас, вдова каунасского коллеги Карсавина, виднейшего католического философа Литвы Ст. Шалкаускаса, к которому мы еще вернемся. Она же описывает и следующий этап отношений с языком, который наступил вскоре: «Без всякого акцента говорил — чисто по литературному языку… Даже произношение поправлял у своих коллег, которые ударение неправильно ставили… разбирался в акцентологии. Иногда я скажу так, через скорую разговорку, не совсем правильно — так он говорит: извините, мне кажется, здесь ударение надо было так поставить… даже меня поправлял». Окончательный же этап по достоинству оценили крупнейшие литовские ученые. Говорит Бронислав Гензялис, маститый философ, председатель Комитета по науке и образованию парламента Литвы: «Он был настолько мастер литературного языка, что был редактором журнала Гуманитарного факультета… мог править лингвистически и стилистически тексты, написанные по-литовски. Он правил даже не только тексты, он правил речь литовцев… Все свои тексты он писал прямо на литовском языке, не переводя с русского — он уже мыслил по-литовски… имел способность воплощать русскую метафизику в категориях литовской философии. Ведь еще и терминология не была достаточно разработана, у нас проблемы с научной терминологией. И в этом тоже роль Карсавина весьма значительна». Альгирдас Греймас, один из ведущих лингвистов 20 века, учась в Каунасе на юридическом факультете, неукоснительно ходил слушать Карсавина на другой факультет; и строки из его мемуаров впечатляюще завершают нашу серию отзывов: «Он говорил по-литовски в совершенстве: слушая его, я отдавал себе отчет в том, что литовский язык способен быть одновременно ясным и утонченным… Мне удалось встретить в жизни еще только одного человека, язык которого был столь же прекрасен и высоко культурен. Но он был сыном другой империи: Адорно»
[5].
После сказанного, нисколько не удивительно, что, вместо отпущенных ему по контракту трех лет, Карсавин перешел в чтении всех своих лекций на литовский язык уже через два года. Эти лекции его — следующий и, пожалуй, центральный сюжет во всей теме о встрече философа и страны: именно ими внес он свой основной вклад в становящуюся интеллектуальную культуру Литвы. Априори это вовсе не очевидно — отчего бы учебным курсам профессора-историка быть крупным культурным вкладом национального значения? Но причина на это есть, притом не одна. Во-первых, лекции Карсавина своим профессиональным, интеллектуальным, культурным уровнем далеко превышали — и повышали! — тамошние научные и педагогические стандарты. Помимо обычных общих курсов, он еще прочел около 20 (!)) разнообразнейших курсов специальных, необычайно развивая, расширяя горизонты своих слушателей. А кроме этой академической причины, есть и другая, человеческая: здесь, следом за талантом в литовском языке, раскрылся другой яркий талант Карсавина. Карсавинские лекции остались особым событием в культурной памяти нации; о них доныне передаются рассказы, легенды. «Лев Платонович был самый блестящий лектор. Не только по содержанию его лекции были очень интересные, очень глубокие, но он был артист на кафедре. Он был до того артистичен, что покорял аудиторию именно своим артистизмом. И его лекции слушать приходил весь Каунас, даже люди, которые не учились в университете». Эту общую характеристику, данную одною из слушательниц, Н.Мейксиной, продолжает, конкретизирует свидетельство другой, искусствоведа Альдоны Львовны Кончене: «Он за столом никогда не сидел. Общение с аудиторией было самое живое, самое непосредственное, и хотя мы, студенты, всегда очень боялись, но все-таки с ним себя чувствовали очень хорошо и свободно… На лекции о суворовских походах он не только спел солдатскую песню, которую солдаты пели во время похода, но он даже как-то двигался… Мы просто их видели как живых в этом походе! И конечно, после каждой лекции было много-много разговоров». Заметим, что здесь, в этой карсавинской методе чтения, проявляется не просто лекторское искусство, умение достичь живости и доходчивости. Дело глубже. За этим лежит и определенный подход к историческому познанию, определенная герменевтика: Карсавин на практике проводит установку «вживания» историка в предмет, в обстановку и атмосферу явления и эпохи. В науке связывают эту установку с Дильтеем, но Карсавин, разделяя ее, имел для нее и собственные прочные основания в своей теории всеединства. Особенно ярко этот эффект вживания выступает еще в одном рассказе, уже не о лекции, а о простой беседе с сотрудниками Художественного Музея, где он работал после войны. Рассказывает Б.Микенайте: «Мы попросили нам немножко объяснить больше» об одном портрете 16 века — и объяснял Карсавин три с половиной часа. «Всю историю, всю эпоху открыл нам через одну картину… всю жизнь этого времени, когда художник сделал этот портрет. Какая там жизнь была в стране… и сам художник, и его настроение, и те, которые заказали этот портрет, какие это люди были… Все удивлялись, как человек может всё это из одного портрета открыть».
Подобных рассказов множество — и видно воочию, как фигура героя их принимает очертания и масштаб культурного символа. Материалы лекций он затем обрабатывал, дополнял — и на их базе на всем протяжении 30-х годов создавались и выпускались тома капитального труда «Europos kulturos istorija» («История европейской культуры»). 5 томов этого уникального для Литвы проекта вышли в свет в 6 книгах в 1931-37 гг.; законченный том 6-й, посвященный эпохе Реформации, утрачен был в рукописи при событиях первой сталинской оккупации в 1940 г. Многотомный курс — в 90-е годы он был целиком переиздан — был, несомненно, новым словом в литовской науке и ее высшим достижением, и в немалой мере, он сохраняет это свое место доныне. Вся же в целом деятельность Карсавина в университете, в науке с трудом поддается обозрению: помимо названного уже, он основал исторический журнал «Senove» («Старина»), организовал исторический семинар и руководил им, разрабатывал концепции, темы, планы работы историков… и чего-чего еще он не делал в эти долгие 22 года своего литовского бытия. Еще одной гранью его образа в культурной среде был ореол мыслителя, мудреца: хотя его философские труды не были переведены, о них, конечно, было известно, и незнакомство с их содержанием, быть может, даже содействовало созданию ореола. — Итак, имя крупного деятеля науки и мастера литовского языка, слава непревзойденного лектора-просветителя, ореол мыслителя-мудреца: из таких граней складывается образ Карсавина в литовском сознании; и вкупе они делают разве что чуть-чуть ироническим то прозвание, которое ему нередко дают сегодня: Литовский Платон.
Пока мы говорили только о том, чем был Карсавин для Литвы, о его служении. Но надо ведь и спросить: а чем Литва была для него? каково ему было здесь, чем стали в его биографии литовские годы? И прежде всего: какие причины его привели сюда, отчего он решился поменять европейскую столицу, Париж, на окраину с незавидной культурной репутацией? Карсавин как историк отвергал причинные объяснения, сказав как-то, что ставить вопрос о событиях и ситуациях в биографии человека надо иначе: Я должен лишь спросить у себя: почему я хотел этого? Последуем же его указанию. Почему он хотел этого? Ко времени литовского приглашения у философа обозначилась явная неудача по всем линиям поиска близкого, родственного по духу окружения и устойчивых, надежных рабочих и творческих контактов. Отношения с евразийством, всегда далекие от полного согласия и гармонии, определенно изживали себя. Еще определеннее не сложились отношения с главными религиозно-философскими силами русской эмиграции, центром которых с середины 20-х годов становится парижский Богословский Институт преподобного Сергия Радонежского: при организации этого института Карсавин был кандидатом на занятие в нем кафедры патрологии, но был отвергнут. Прямым поводом к тому был его нашумевший адюльтерный роман; но и независимо от него, он как религиозный мыслитель едва ли мог бы подойти Институту: не столько по сути своих воззрений, сколько по духу и стилю. В богословии Институт держался не фундаменталистской, а скорее свободомыслящей линии, был очагом религиозного модернизма, и учение его знаменитого декана, о. Сергия Булгакова, софиология, со строгих позиций православной догматики было еще сомнительней, чем карсавинские построения. Но зато стиль и атмосфера, заведенные тут, следовали старотрадиционным канонам благообразия и благочиния, которым Карсавин никак не удовлетворял. Ему было свойственно не только вольномыслие, но и вольноречие, как говорила мне его дочь Сусанна Львовна, «отец ради красного словца не пожалеет отца»; и такие его остроты как всем запомнившийся девиз для богословия: «взять Бога за рога», были заведомо неприемлемы для православия style St Serge. Но для историка Запада, для философа, чья мысль развивалась под влиянием Кузанского, Бруно, Бернарда Клервоского, имелся, казалось бы, еще один естественный путь: путь сближения с западными кругами, интеграции в западную культуру. Карсавин, однако, отказался от этого пути, избрав свою типичную позицию дистанцирования, отчужденности — хотя на сей раз оснований для нее никак не видно. Суждения исследователей по этому поводу гадательны, и мы поэтому ограничимся лишь констатацией факта и одной яркой иллюстрацией из рассказов Сусанны Львовны. В парижский период Карсавина не раз пытались связать с западными философами и, в частности, о том немало старался его молодой почитатель А.В.Кожевников, поздней ставший знаменитым как французский философ Кожев. Кожевников хотел устроить знакомство Карсавина с Жаком Маритеном, одним из виднейших католических мыслителей 20 в. Сусанна Львовна рассказывала мне об этом так: «Маритен, с ним Кожевников собирался познакомить отца… но отец был, знаете, не легкого характера… обругать этого Маритена дураком — это все-таки, знаете, нехорошо. Так что там ничего не вышло».
Так или иначе, но перемена, назревавшая в существовании философа, воплотилась в форме перемещенья в Литву. Как доносят рассказы г-жи Юлии Шалкаускас, новое место и обстановку он воспринял вполне положительно, они вызывали у него впечатление спокойствия и уюта, в которых он ощущал нужду: «Он говорил, ему очень понравился Каунас… такой курортный ему казался городок… говорил, что здесь можно прямо отдохнуть после Парижа… можно не только работать, но и отдыхать». Первоначально он жил в Каунасе один, на лето и по другим случаям наезжая к оставленному в Кламаре семейству. Затем к нему присоединилась старшая дочь Ирина, а после выхода замуж средней дочери Марианны в 1934 г. (за одного из лидеров евразийства П.П.Сувчинского), в Каунас перебрались и жена с младшею дочерью Сусанной, уже нами многократно цитированной. Нечего и говорить, что жизнь его здесь не протекала курортной идиллией; как мы достаточно убедились выше, его активность была огромной. Но, хотя нагрузки его были самые интенсивные, вместе с тем его деятельность на ниве просвещения и науки получала признание, лекции и их неподдельный успех несли ему удовлетворение — и, может быть, в эти каунасские годы ему действительно в некой мере удалось «отдохнуть после Парижа».
Одного только нам нельзя не учесть: при всех существенных и зримых плодах этих лет, в них нет главного — нет дальнейшего развития своей философии. Здесь мы вновь уклонимся от всех попыток объяснений и толкований. Констатируем: после «Поэмы о смерти», которую чуткий слушатель (А.З.Штейнберг) оценил сразу как прощание с жизнью, философское творчество Карсавина, составляющее, без сомнения, главный нерв его творческой личности, замирает. Так длится весь каунасский период. Некоторым замещением, суррогатом занятий философией для него, вероятно, служат в этот период регулярные философские беседы, которые велись в образовавшемся кружке из четырех философов: кроме него, в этот кружок входили уже упоминавшиеся Ст. Шалкаускас и В.Э.Сеземан, а также В.С.Шилкарский, прежде учившийся в Московском университете и занимавшийся творчеством Вл. Соловьева. Существование этого нигде не описанного философского сообщества я обнаружил в своих литовских встречах 1993 г., и более основательное изучение его еще предстоит. Кружок собирался более 10 лет, по средам, когда его участники раньше заканчивали свои лекции, в доме Шалкаускасов; беседы шли первое время по-французски, потом по-литовски. Говорит снова г-жа Юлия, бывшая хозяйкой этих бесед: «Во время учебного года они каждую неделю собирались, потому что философские вопросы были актуальны и моему мужу, и профессору Сеземану, и профессору Шилкарскому… А профессор Карсавин был универсальный, ему все вопросы были интересны… Я, понятно, тогда мало понимала в философии, так слушала… мне интересно было, что если какие-нибудь слова он по-русски говорил, то повторял по-литовски тоже. Тот же термин». — Однако и деятельность кружка все же не была для Карсавина творческим философствованием, не породив каких-либо новых разработок.
И всё же возврат к творчеству начал происходить. Толчком для этого послужила переписка с молодым австрийским философом и теологом-иезуитом Г.Веттером, которая завязалась в декабре 1939 г. и активно велась вплоть до занятия Литвы Красной Армией в июне 1940 г. Письма Веттера — в самом деле, подкупающий документ, они поражают и заражают живой преданностью истине, пытливым стремлением вглубь предмета, и, отвечая на них, Карсавин должен был снова обратиться к ключевым проблемам своей метафизики. Для его мысли, 40-е годы — годы возврата, возрождения: уже не в «курортном городке», а в новой-старой литовской столице, Вильнюсе, в условиях гитлеровского, а затем сталинского режима, он создает новые философские вещи. Возврат оказывается нелегок, небыстр: его мысль как будто заново проходит тот же путь, на котором рождалась его метафизика в начале двадцатых, путь постепенного перехода от конкретно-исторического видения — через теоретико-исторические, методологические обобщения — к философскому осмыслению. Как можно судить по краткому пересказу
[6], его большой труд 40-х годов, написанный по-литовски и еще неизданный, следуя за литовской же «Историей европейской культуры» как русская «Теория истории» (1920) за «Очерками» и «Основами», пересматривает проблематику теории и методологии исторического познания (но уже несравненно детальней, основательней, чем делала это «Теория истории»). И, как и в двадцатые годы, далее следует уже собственно метафизика. При аресте философа в 1949 г. остался незаконченным другой большой труд, который он писал в последние свои месяцы и годы на свободе, и тема этого труда — проблема времени в рамках системы всеединства Карсавина. Но даже арест и лагерь не смогли оборвать вернувшейся тяги к творчеству. В тюрьме Вильнюса он сочиняет «Венок сонетов», стихи которого с мастерским лаконизмом дают поэтическое резюме его философии, ее главные темы и мотивы. А в северном лагере, уже на пороге смерти, наступившей от туберкулеза 20 июля 1952 г., им создается еще целый ряд богословско-философских работ, которые остаются для нас сегодня его философским завещанием и примером мужества мысли.
Но эти философские страницы уже несколько за рамками нашей темы. Тема же требует задать другой, совсем банально звучащий вопрос: так как же в конце концов герой наш относился к Литве? Как полагается у философа, ответ на вопрос неоднозначен, включает несколько планов. В прямом, непосредственно
эмпирическом плане мы находим ответ в записках А.З.Штейнберга, близкого карсавинского знакомого, который в его каунасские годы не раз приезжал в Литву и встречался с ним. Этот ответ, относящийся, вероятно, к начальному периоду литовской жизни, весьма в духе тех едких выпадов Льва Платоновича, в которых он, как говорила Сусанна Львовна, для красного словца мог не пожалеть и отца. По словам Карсавина, независимое литовское государство — вовсе не настоящая нация, а только лишь «маленькое историческое недоразумение». Литве следует быть в тесной связи с Россией, и такая связь была бы обоюдно благотворна: в частности, присутствие католичества литовского типа — Карсавин считал его умеренным, в отличие от польского, — принесло бы России пользу. — Но, кроме этого чисто эмпирического суждения, у Карсавина не мог не возникнуть и другой взгляд на «литовский вопрос» — взгляд, диктуемый самой его метафизикой. По его теории, всякая социальная общность, группа есть «соборная» или «симфоническая» личность, которая своим особым, несовершенным и «стяженным» образом содержит в себе и репрезентирует всеединство, совершенное и целокупное бытие; и в своем существовании она должна осуществлять собой всеединство как можно полнее и совершенней. Соответственно, и Литва — симфоническая личность; она своим уникальным образом представляет всеединство и в своем бытии должна самостоятельно его раскрыть — так что и оценивать ее историю следует в перспективе этого ее самостоятельного бытийного задания. Отражение этого
взгляда в метафизическом плане мы находим в одном из документов каунасского периода, где Карсавин, в частности, говорит, что при изучении литовской истории нельзя ее помещать (как это делалось раньше) в перспективу истории российской или польской — но вместо этого необходимо «рассматривать прошлое Литвы, базируясь на специфических особенностях жизни самой Литвы»
[7]. — И наконец, в финале его литовской эпопеи мы находим в его отношении к стране еще один, третий план. В 1948 г., переживя войну в Литве, будучи уже в царстве Сталина, он поехал в Москву, чтобы добиться подтверждения своих научных званий (ему удалось это сделать). В этой поездке его сопровождала одна из сотрудниц Вильнюсского Художественного музея, где он работал тогда, уже нами цитированная Б.Микенайте. Она рассказала мне: когда они были в Москве с Карсавиным, он сказал ей, что для него Россия и Литва — это его две страны, две родины.
Вторая родина: в этих его словах, сказанных после двадцати лет жизни в Литве, мы можем по праву видеть итоговый и самый глубокий план в его многослойном отношении к стране. Этот
экзистенциальный план выразил и закрепил выросшую между ними за все эти годы личностную, эмоциональную и духовную связь.
Путь Крестный
Дважды, в 1940-м и 1944-м году, Карсавин пережил в Литве вступление советских войск и установление власти большевиков. Перед каждым вступлением он имел возможность уехать, был убеждаем и понуждаем уехать — но оставался. Все пишущие о его биографии обсуждают эти его решения, ищут им объяснений. Отдал и я дань этому. Сейчас, однако, воздержимся от объяснений и только спросим снова по принципу Карсавина: Почему он хотел этого? Не притязая на полноту ответа, я укажу здесь всего два фактора. Первый — простой как апельсин: да он хотел быть в России, с Россией, хотел участвовать в ее истории, ее судьбе! Вот вам весь фактор, и это не слабый фактор, я уверяю. Другой фактор иного рода, и вовсе не лестный для философа: он не особенно понимал, что его ждет — не понимал природы того общества, которое его готовилось поглотить. Над ним довлела его собственная социальная философия — концепция социального устройства по модели симфонической личности. Она могла описать, что такое деспотический режим, жесткий режим, рабский режим, но она не давала никакого понимания того, что такое тоталитаризм и режим массового террора. И все, что я знаю о Карсавине и его философии, увы, заставляет меня считать, что у философа действительно не было понимания этих явлений. Так, кажется, считала и Сусанна Львовна: «Он долго не мог понять, он понял только тогда, когда приехали из Москвы смотреть, как преподают и что говорят».
Покончив на этом с «объяснениями», скажем просто о том, как это проходило, словами Сусанны Львовны. Вот первое вступление большевиков, 40-й год: «Мать [жена философа — С.Х.] на него наперла, вот, говорила, иди во французское посольство, иди еще в то посольство, давай уедем. — Нет, что это такое, я лояльно отношусь… [N.N.] его предостерегал, что большевики ухудшатся. — Ну, это естественно: укрепились, так значит ухудшатся!». Второе вступление, 44-й год: «Он снова не захотел, Боже мой, мать просила, Ирина просила, Креве [В.Креве-Мицкявичус, декан Гуманитарного факультета] его призвал и говорил: уезжаем, у меня вагон есть! А он ни в какую: Они улучшились, большевики… Это многие имели такую глупую идею…» После второго вступления произошел и миниатюрный эпизод весьма в духе Карсавина: «Когда это… погнали русских, встретил его один литовец: Поздравляю, мы опять в Европе! А он затаил, и когда пришли большевики, он встретил того и говорит: Поздравляю, мы опять в Азии!» Вариация на евразийскую тему…
Оказавшись в Азии, Лев Платонович, однако, проявлял себя стойким европейцем. Существует богатая коллекция рассказов о его действиях и поступках, абсолютно немыслимых для советского человека. Это отнюдь не была линия сознательного и последовательного политического протеста: вернувшись по своей воле в Азию, он согласился тем самым быть лояльным к азиатской власти. Но он никогда не соглашался и не согласился бы изменять себе, и всегда оставался самим собой — цивилизованным европейцем, петербуржцем. В собранных мною интервью много фактов и эпизодов, показывающих, к чему это приводило. Приведем несколько характерных. Вот столкновение с высокой комиссией из Москвы, как будто по незначительному поводу. Говорит г-н Юлис Шалкаускас, сын Ст. Шалкаускаса: «Когда из костела Св. Екатерины забирали картины, Карсавин обратил сразу внимание на работы Чехявичуса, очень хорошего художника из Вильнюса… и ему сказали: заберите в музей, если это для вас ценно. Он говорит: но их же не вынуть, они вмонтированы, там все монолитно в алтаре. И кто-то из чиновников ему указывает: возьмите нож, вырежьте из рамы, и будете иметь. Ну, тут он, рассказывали, разозлился очень, очень реагировал остро: К такому варварству я своей руки не приложу ни в коем случае! — И потом очень скоро его в Вильнюсе не стало… Это делало впечатление: вот человек, который умеет сопротивляться! Тогда любое сопротивление было крайне опасно, шла еще партизанская война во всех лесах Литвы. Такое выражение своего мнения — ну конечно, расценивалось как большая смелость и мужественность, когда за какой-нибудь мелкий дурацкий анекдот многие никогда не вернулись». Рассказ Н.Мейксиной: «Один эпизод мне запомнился очень хорошо. Уже после ареста Ирины Львовны состоялись очередные выборы. Лев Платонович не пошел на выборы. Ну, и под вечер к нему пришли так называемые агитаторы, узнать, почему он не пришел. Обратились к нему и сказали: ведь все уже голосовали, а вы еще не были. Тогда он показал на свою собачку, она всегда лежала у его ног, и сказал: она тоже еще не голосовала!». Следующий рассказ ее же кажется совсем уже фантастическим, но если даже это легенда, она — вполне в образе. «Тоже уже после ареста Ирины Львовны он читал лекцию в Доме Офицеров о роли личности в истории… После лекции один из слушателей прислал записку с вопросом, считает ли он Иосифа Виссарионовича Сталина вождем народов. Лев Платонович прочел громко вопрос и ответил: Не считаю».
Понятно, что исход всего этого мог быть только один, и не имеет особого значения, какой именно повод был избран для его ареста, произошедшего 8 июля 1949 г. После следствия и приговора, в апреле 1950 г. он был отправлен из Вильнюсской тюрьмы в северные лагеря — в лагпункт Абезь на приполярном Урале, принадлежавший к комплексу лагерей Инты. Так состоялось его расставание с его второй родиной. Лагерные дни философа описаны многократно, и мы не будем повторять этих описаний, отослав читателя к моему очерку о Карсавине в книге «После перерыва. Пути русской философии», а еще лучше — к первоисточнику, замечательной книге лагерного ученика Карсавина Анатолия Анатольевича Ванеева «Два года в Абези».
Скажем лишь в заключение о том, какой общий духовный смысл обретает судьба мыслителя в свете постигшего его жребия. Другой лагерный ученик Карсавина, Юрий Константинович Герасимов, с которым мне посчастливилось немало беседовать, накрепко запомнил слова, сказанные Карсавиным в последние дни его жизни: «Душа моя со слезами вымолила у Господа, чтобы мне умереть в Абези». И он так понял эти слова: «В метафорической форме это было его высказывание о решении пойти крестным путем, принести свою жизнь в жертву, как это и должно быть идеалом каждого христианина». Можно лишь присоединиться к этому пониманию. Оно никак не противоречит тому, что философ нисколько не стремился сам в лагерь, не пытался сам, за Бога, своей волей себе устроить жертвенный жребий. Напротив! Таким и бывает крестный путь христианина, настоящее мученичество, каким его с древности видели христиане. Нельзя самому искать мученичества, этот жребий дается по Его воле, твое же дело лишь не отступить от него. Христианскому философу дано было по его молитве, чтобы ему отпущен был жребий сей. И он от него не отступил.
СУДЬБА АДАМА И СУДЬБА ИВАНА
(Разговор с Сергеем Шаповалом 19 февраля 2005 г.)
С.Ш. По замыслу, я хотел бы поговорить о том, как представляется вам Россия в середине XXI века. Но не в плане конкретной политики или социологии, а скорей – с учетом ваших занятий – в более глубоких аспектах, философских, духовных...
С.Х. Ученый всегда начинает скучно, с метода. Позвольте и мне для начала методологическое замечание. Как можно и как нельзя говорить о будущем облике России? Когда речь идет о духовной реальности, личном бытии, рисовать картины будущего с конкретными сроками и периодами – в том числе, и на середину этого века – чистая глупость или шарлатанство. О сроках могут говорить утопии и научная фантастика, сроками могут снабжаться экономические прогнозы – но все это не моя сфера, да к тому же для сегодняшнего мира и макроэкономического прогноза с надежностью дать нельзя. Философ же может корректно говорить лишь о тенденциях или сценариях развития ситуации, отнюдь не давая им конкретной хронологической привязки. В таком плане мы и будем с вами беседовать. Притом, в наше время разговор о России должен начинаться с более широкого контекста: с глобальной ситуации, универсальных факторов. И в этом глобальном контексте я нахожу нужным выделить, в первую очередь, антропологический фактор: происходящее с Человеком.
С.Ш. Что же, начнем с проблемы Человека. На ваш взгляд, она сегодня приобрела какую-то новую, особую важность?
С.Х. Вы вправе тут заподозрить, конечно, типичную аберрацию: специалисту всегда кажется, что его область – важнее всех. Геофизик вас будет убеждать, что самое главное – то, что творится в земной коре, а нейрофизиолог – в коре головного мозга. Но мне отвести подозрения легко: сегодня во всех секторах культурного сообщества, включая уже и журналистов, вы услышите формулу: антропологический поворот. Понимают, правда, ее туманно, так что стоит ее отчетливо разъяснить. Имеется в виду поворот – или даже переворот! – в относительной роли, важности разных уровней глобальной реальности. В целом, эта реальность устроена как то, что в науке называют «многоуровневая иерархическая система» – система явлений и процессов разных масштабов: выделяют уровень мировой, планетарной макродинамики – экологических, экономических, политических макропроцессов; затем идут процессы в масштабах локальных цивилизаций, этносов, государств, далее – уровень меньших групп, культурных, религиозных, корпоративных... – и так, снижаясь, дойдем до антропологической реальности, Человека. На каждом уровне сей структуры – свой тип процессов, своя динамика. И привычно было считать, что роль и важность отдельных уровней для всей Глобальной Системы – в прямом соответствии с их масштабом: решающее значение имеют макропроцессы, а самое наименьшее – антропологические, идущие в человеке. Больше того, полагали часто, что на этом последнем уровне вообще нет самостоятельной, собственной динамики, тут все существенное производно, вторично по отношению к высшим уровням – как по марксистской догме «человек есть продукт общественных отношений».
Вот с этой позицией и совершился переворот. Считать антропологические процессы делом незначительным, производным оказалось больше нельзя. Самые характерные явления наших дней, определяющие их облик, занимающие полосы СМИ, – антропологической природы. Вот самая острая проблема – терроризм; но его новейшая и опаснейшая форма, терроризм самоубийц, есть антропологическое явление – экстремальная практика из обширного разряда практик трансгрессии (преступания норм). Почти столь же остра проблема наркотиков: она означает, что современный человек в массовом плане практикует все и любые средства трансформации сознания, вплоть до разрушающих личность и смертельных. Еще глубже заходят генетические и гендерные эксперименты: они вторгаются в генетическую программу, в сам код человека, базовые механизмы продолжения рода, причем на данной стадии вторгаются наобум, без плана, без знания возможных последствий. Список легко продолжить, и вывод из него – однозначный. Человек стал резко, неконтролируемо, опасно меняться, менять себя, и эти изменения, эта неведомая и непонятная антропологическая динамика явно становятся главным, решающим во всей Глобальной Системе, ее динамике.
С.Ш. Тогда на первый план, видимо, выходит вопрос об этой антропологической динамике? Ее можно как-либо описать, понять?
С.Х. В этом и состоит магистральная задача для современной мысли! Отвергнув прежние позиции европейской антропологии, классическую модель человека-субъекта Аристотеля-Декарта-Канта, она – в антропологическом поиске: как древний Диоген, с фонарем ищет человека. «Кто приходит после субъекта?» – так назывался коллективный сборник, выпущенный виднейшими европейскими философами лет десять назад. Облик этого Приходящего можно передать только новыми понятиями, и они не выдумываются из головы, они рождаются с погружением в фонд всего совокупного антропологического опыта, от древних духовных традиций до новейших экстремальных практик. В этой проблеме у меня свой подход; как говорили старые французы, «бокал мой невелик, но из него лишь пью я». Обращаясь к феномену человека, я исходил из самого неотъемлемого – из его границы, которая для любого феномена служит тем, что определяет его (напомним хотя бы: «Лишь благодаря своей границе нечто есть то что оно есть» – Гегель).
Я попытался систематически описать границу Человека, границу горизонта его существования. С отказом от старых понятий субъекта, сущности, эту границу тоже нельзя описывать через какие-то сущности (и уж тем более нельзя ее понимать пространственно, вещественно и т.п.); но можно ее описать на том языке, каким с древности пользуются духовные практики: на языке человеческих проявлений, энергий. И тут возникает важнейшее для антропологии понятие Иного. Оправданно говорить, что к границе человека принадлежат все те его проявления, в которых реализуется его отношение к чему-то, что по тем или другим основаниям нельзя уже полагать лежащим в горизонте человеческого существования; и это внеположное «что-то», отношения с чем определяют человека и формируют его границу, и есть Иное. Осуществляя свои граничные, предельные проявления, входя в отношения с Иным, человек совершает размыкание себя, своего горизонта навстречу Иному.
Дальше мы замечаем, что Иное человеку, внеположное горизонту его существования, может носить разный характер. Если человек выступает носителем, репрезентантом некоторого рода, образа бытия, тогда иное ему – это иной род бытия, «Инобытие»; и коль скоро бытие человека («здесь-бытие») характеризуется конечностью и смертностью, то Инобытие – бытие абсолютное, а отношения с Иным – не что иное как отношения с Богом: религиозная жизнь, духовная практика. Но отлично известно, что отнюдь не всегда и не обязательно определяющее, конституирующее отношение человека – отношение к Богу. Напротив, для этого требуются непростые условия: надо, чтобы человек был «онтологически полномочен» – был подлинным репрезентантом, «полномочным представителем» здесь-бытия, – а это, в свою очередь, значит, что для него не должно быть никаких закрытых, недоступных областей, лакун, дыр в пределах соответствующего бытийного горизонта, не должно быть границы нигде в этих пределах. Меж тем, такая граница очень даже может иметься. Фундаментальные характеристики человека – мышление и сознание, и горизонт человеческого существования – горизонт сознания. И, начиная с Фрейда, современная мысль приняла и усвоила новое базовое понятие – понятие бессознательного: некоторой сферы, отнюдь не относимой к иному, абсолютному бытию, но тем не менее недоступной, непроницаемой для сознания. Прочно усвоено и то, что существуют целые классы, виды человеческих проявлений (а именно, неврозы, психозы, фобии, комплексы и т.д.), в которых реализуются отношения человека с этой сферой. Т.о., бессознательное – также Иное человеку, еще один род Иного; проявления, с ним связанные, входят в состав границы Человека, образуя еще одну ее область, или «топику»; и отношения с ним – еще один способ размыкания Человека. И наконец, можно обнаружить и еще одну область границы, еще один, последний уже, способ размыкания. Этот способ своеобразен, он заключается не в завязывании отношений с Иным, не в выходе к Иному, а в выходе в недостроенное, недовоплощенное существование – в виртуальную реальность. Философия и наука отчетливо отличают этот род реальности от обычной, «актуальной» реальности человеческого существования, так что виртуальные практики, в которых осуществляется выход в виртуальную реальность, тоже надо рассматривать как принадлежащие к границе Человека.
В итоге, мы указали, перечислили основные элементы границы. Этим мы решили, если угодно, задачу, сходную с расшифровкой генома человека; но, как и в случае генома, главное еще впереди: надо расположить эти элементы в осмысленную картину и увидеть их в работе – то есть в диахронии, в реальном историческом существовании Человека. Прежде всего, мы замечаем некую упорядоченность найденных элементов, или «топик» границы: в их серии налицо последовательное убывание того, что можно назвать формостроительной энергией или способностью Человека. С переходом от первой топики – естественно ее называть онтологической – к топике бессознательного утрачивается «онтологическая полномочность» человека, его способность собрать воедино весь ансамбль своих проявлений, репрезентирующий здесь-бытие как таковое, и совершить устремление, размыкание этого ансамбля к Инобытию. Виртуальная же топика отличается утратой, так сказать, уже и эмпирической полномочности человека: ее проявления не суть полноценные, актуальные феномены, им всем недостает до полной актуализации тех или иных элементов формы, структуры внутренней или внешней.
Обращаясь же к реальной истории, мы сразу вынуждаемся к неутешительной констатации: в тех стратегиях, что были определяющими для Человека, в его доминирующих способах размыкания, история являет нам смену, эволюцию – и эта эволюция отвечает именно описанному убыванию формостроительной энергетики. Долгие эпохи в отношениях Человека с его границей царила стабильность: конституирующим Человека отношением незыблемо и неоспоримо служило отношение к Богу. Затем в эпоху Ренессанса это безраздельное господство онтологической топики пришло к концу. Началась антропологически весьма любопытная эпоха, когда Человек мнил себя безграничным: предназначенным к познанию бесконечного Космоса, и в этом бесконечном познании бесконечно же усовершенствующимся. Такое отрицание границы – главный догмат всего мировоззрения Ренессанса и Нового Времени – было, однако, простою ошибкой, близорукостью; и эта ошибка зрения открывала дорогу беспрепятственному развитию, усилению проявлений из топики бессознательного. В самом деле, если отношения с Инобытием устанавливаются лишь сознательным усилием человека, то отношения с бессознательным, напротив, возникают и развиваются сами, бессознательно – и лишь сознательными усилиями можно воспрепятствовать их разрастанию. Постепенно история подошла к тому, что топика бессознательного стала доминирующей; было наконец открыто, идентифицировано наукой само бессознательное – и взамен «человека безграничного» на авансцене истории оказался человек психоанализа. Особенно ярко он себя проявил в искусстве. Для оценки его эпохи надо учесть, что феномены или, как часто говорят, паттерны, фигуры бессознательного суть феномены разнообразных психических аномалий – феномены безумия, в обобщенном, широком смысле. Но эпоха этого человека не была длительной – антропологическая динамика явственно стала ускоряться. После нескольких тысячелетий человека религиозного и нескольких столетий человека безграничного, под знаком человека психоанализа прошел не более чем один ХХ век. К концу этого века уже появился человек виртуальный. Темпы его продвижения необычайны, невиданны, антропология не знала таких – и сегодня мы уверенно заключаем, что если еще не настоящее, то будущее определенно за ним.
Так могла бы строиться «Краткая история Человека», если бы я взялся ее писать, по аналогии с «Краткой историей Времени» Стивена Хокинга. Понятно, что здесь намечается и ответ на вопрос об антропологической динамике: в крупном, grosso modo, эта динамика определяется господствующей топикой границы Человека, и смена топик – смена типа динамики. Сегодня, в частности, перед нами переход из топики бессознательного в виртуальную топику, когда налицо явления, отвечающие и той, и другой. Вдобавок, надо учесть особенность виртуальной топики: в виртуальной реальности по самой ее природе не творятся новые формы, а лишь толпятся всевозможные недовоплощенья существующих актуальных форм; так что антропология виртуальности – смешение, наложение недовоплощенных элементов из всех топик (вспомним, что сегодняшний человек падок и на духовные практики – на все и любые, но только в адаптациях, профанированных и облегченных версиях). Это парадоксальная антропология: в ней на поверхности – всё радикально новое, а на поверку – лишь бесконечные рекомбинации, перетасовки этих недовоплощенностей, лишь бесконечные серии, клипы (кстати, ключевая категория виртуальной антропологии!) из мелькающих кусочков, намеков, отсылов к уже бывшему. Пригота, как говорит Всеволод Некрасов...
Виртуальный человек жнет лишь там, где не сеял, ибо способности сеять, оплодотворять почву для рожденья подлинно нового, у него нет. Отсюда – его специфическое отношение к почве актуального, ярко видимое в современной культуре. После недолгого чувства превосходства от того, что он знает механику прежнего, может его развинтить как дитя часы, приходят комплексы: прежний художник, такой недалекий, имел собственное поле, а я, такой умный, могу только упражняться на чужом. Обида, озлобленность на актуальное, тянущая не просто его развинтить, а и мышь пустить за оклад иконы, смодулировать в фекальный дискурс, – первородный грех виртуальной (в частности, постмодернистской) культуры...
С.Ш. Но в вашем описании антропологической динамики – пока ничего особенно тревожного, рокового. Черты несимпатичные есть у любого человека, но в целом – чем, собственно, все это плохо?
С.Х. Да, если хотите, ничем не плохо – демократия на планете одерживает героические победы, политкорректность внедряется, технологии прогрессируют и наш паровоз вперед летит. Одна разве что деталь: гарантия гибели и, по наблюдаемым тенденциям, не столь далекой. Поясним то и другое по очереди. Почему гарантия гибели? Вспомним, что «фундаментальный предикат здесь-бытия» – смертность; и стало быть, Человек – не индивидуальный Иван Ильич, а человек как род, родовое бытие или существо (в философии этого совокупного человека иногда именуют условно как в древней иудео-финикийской традиции, «Адам Кадмон») – либо как-то изменит, избудет этот свой предикат, либо же умрет. Сценарий «смертный индивид – бессмертный род» – не более чем бессмыслица, созданная близоруким разумом «человека безграничного», хотя по инерции она и сегодня еще сидит во многих сознаниях. Нет, предикат смертности принадлежит именно Адаму Кадмону, и лишь затем, вследствие этого Ивану Ильичу. Изменить этот предикат значит трансформировать, претворить себя в иной образ бытия, в Инобытие; и такое задание Человек ставит себе в онтологической топике, только в ней. Выполнимо ли оно, может ли Адам Кадмон достичь в нем успеха – вопрос открытый даже для конфессионального, верующего сознания; но когда он покидает онтологическую топику, никаких вопросов о его жребии больше нет. Он уже не проблематизирует свою смертность, не пытается что-то с нею сделать, он принял ее – и получит смерть. Надо тут уточнить: о гибели Человека говорят часто, но всегда почти как о некой внешней угрозе, от внешних факторов – иссякнут ресурсы, Солнце остынет, комета врежется... Но наше обсуждение – на другом уровне, глубже. Как Homo Sapiens, человек принципиально способен парировать внешние угрозы, и суть дела не в них. Смертность его – его внутреннее качество, он носит ее в себе. «Как животный мир тяготеет к разуму, так человечество тяготеет к бессмертию», – писал Владимир Соловьев Льву Толстому. Поправим классика: больше оно уже не тяготеет. Сегодня оно, в согласии с другим классиком, Фрейдом, тяготеет к смерти.
С.Ш. А почему гибель «не столь далека»?
С.Х. Но это ведь следует уже из сказанного. Надо лишь свести вместе ряд наших выводов: определяющее Человека отношение перестало быть отношением к Инобытию, Богу, и стало вместо этого соответствовать сначала топике бессознательного, а затем виртуальной топике; в этих топиках Человек не пытается проблематизировать, оспорить свою смертность и принимает ее, так что все сценарии развития в этих топиках – сценарии смерти (напомним, что фундаментальный предикат смертности относится «не столько к Ивану Ильичу, сколько к Адаму Кадмону»); и наконец, со сменами топик антропологическая динамика интенсифицируется, убыстряется. Человек – на наклонной плоскости, и наблюдаемые темпы антропологических изменений располагают думать, что многих столетий впереди уже не дано.
Финальные сценарии Адама Кадмона могут, однако, быть очень разными. Человеку психоанализа присуще, по Фрейду, влечение к смерти; влечениям же свойственно аккумулировать большие энергии – и разряжаться во взрывных актах, экстатических, оргиастических, оргазмических... Смерть в топике бессознательного, топике безумия – экстатическая смерть, оргия самоуничтожения, оргазм аннигиляции, смерть, что хотела бы стать космическим взрывом. Такой сценарий притягателен для части землян. После 11 сентября композитор Карл Штокхаузен дал восторженное интервью, в котором говорил об экстазе гибели и эстетической ценности теракта: ярчайшее проявление топики безумия! Но смерть виртуальная – прямо противоположного рода. Господство виртуальной топики можно в известной мере рассматривать как дряхление Адама Кадмона. У «недоактуализованного» человека нет способности абсолютной концентрации и координации, и потому у него не может быть надежного контроля за всей полнотой своей ситуации. Но в техногенной цивилизации малейшая утеря контроля грозит катастрофой! Подобные катастрофы, из-за случайных, малых утрат концентрации и контроля – как у швейцарского авиадиспетчера, столкнувшего самолеты в небе, – сегодня множатся в мире. Они и будут множиться, ибо в них печать, почерк виртуального человека. Конечно, сам виртуальный человек не считает эти «случайные мелочи» предвестьем гибели и живет дальше. Он недоактуализует и свою смертность, стремится не доводить ее до сознания в ее грубой определенности и неизбежности. Существование виртуального человека не может не включать в себя и виртуализацию смерти; и виртуальная смерть – не доводимая до сознания, незаметная, мягкая – не что иное как эвтанасия.
С.Ш. Картины мрачные, но ведь надо спросить: а насколько они предопределены?
С.Х.Скажу определенно и сразу: ни насколько! Еще начиная разговор, я подчеркнул, что речь может идти только о тенденциях, сценариях, а не о предопределенном процессе, каким заведомо не является существование Человека. Мы описали движение – или, если хотите, скольжение – Человека по наклонной плоскости из одной топики в другую; но и в этом движении не было предопределенности, оно было делом выбора, делом свободы и ответственности Человека. И уж тем паче грядущее Человека является делом его свободы.
Конкретнее же, и выходы, выпадения из онтологической топики, и стратегии, позволяющие – хотя не без трудного усилия! – вернуться туда, издревле известны на уровне индивидуальной судьбы, в духовных практиках. От века было известно, что человек не удерживается неотрывно в динамике действенных отношений с Инобытием. Он рассеивается, искушается, соблазняется, постоянно выпадает из этой динамики, однако находит и возможности возврата. В православной традиции с ними связана, как известно, богатая культура покаяния. Поэтому возможны и совсем другие сценарии – можно сказать, к примеру, исправляя наше непочтительное замечание о Соловьеве, что знаменитый его сценарий в «Трех разговорах», сценарий апокалиптического оптимизма, тоже нельзя отвергать полностью.
С.Ш. От Соловьева естественно перейти к России. Какие тут специфические особенности в «тенденциях и сценариях»?
С.Х. Конечно, в крупном и главном, наши общие понятия и сценарии относятся и к России. Единство рода человеческого установлено прочно, и совокупный российский человек – окрестим его ради юмора Иваном Кадмоном – разделяет судьбу Адама Кадмона. Но местные вариации тоже могут быть существенны, даже очень. Если сначала говорить не о будущем, а об уже состоявшемся, об антропологической динамике в последний период, то первым ее отличием в России я бы назвал более ускоренный, галопирующий характер. Пользуясь тем же образом скольжения по наклонной плоскости, можно сказать, что в этот период в России угол наклона круче глобального, среднего: Иван Кадмон скатывается быстрей, чем Адам Кадмон.
На мой взгляд, этой негативной динамике дал сильный толчок, заметно ее ускорил – ельцинский период. Ускорение было, как мы помним, одним из предсмертных лозунгов КПСС, и мало ее лозунгов было исполнено так успешно. Каким же образом это произошло? В одном из своих текстов я назвал социополитический процесс в закатные годы СССР «конвергенцией деградации». В своей исходной фазе советский социум имел четкую внутреннюю структуру: имелись советское, большевистское сознание и антибольшевистское, представленное внутренней эмиграцией всех сословий. Антибольшевистское сознание было лишено возможности действия, но при этом стойко, отчетливо, и жизнь внутренней эмиграции имела твердую этику, имела свою героику и духовную красоту (вопреки всем ее оболганиям, бывшим в числе главных идейных задач режима). Но шли годы, десятилетия, и противостояние размывалось: оба лагеря теряли четкость, твердость позиций и деградировали. Важно понять, что так было и с лагерем оппозиционным: уж не говоря о прямых репрессиях, внутренняя «первая эмиграция» была жестоко изолирована, оторвана от необходимых источников развития и заведомо не могла передать свою эстафету, осуществить смену поколений. Поэтому меж поколениями внутренней эмиграции – та же точно резкая разница, что между волнами эмиграции внешней; и в позднесоветскую эпоху как «Третья волна» уехавших, так и внутренние оппозиционеры (диссиденты, люди андерграундного искусства, умеренно оппозиционная интеллигенция) были уже в своей массе – советскими людьми. По внутреннему облику, основам личности они не являли уже никакой особой противоположности функционерам противоположного лагеря (тоже, в свою очередь, изменившимся), и те и другие были вариациями «человека загнивающего социализма». Конвергенцию, таким образом, обеспечило гниение. Кстати, эта конвергенция означала, очевидно, некоторое достижение «единства советского народа», еще одного лозунга партии. Уходя от нас, КПСС сумела в немалой мере осуществить и этот свой лозунг, весьма приблизив советский народ к единству – в гниении. Но гниение – динамика медленная, динамика застоя, как же создалось ускорение?
В записках Н.Я.Мандельштам есть термин тридцатых годов, «спланировать»: функционер Системы, пользуясь ее властными возможностями, проделывает плавный, как на планере, перелет из одной сферы деятельности, ставшей опасной или просто невыгодной, в другую, где надежней и прибыльней. Так, скажем, чекисты планировали в литературу. Я думаю, рождение ельцинской России – самая масштабная операция спланирования. На некой стадии гниения, часть номенклатуры с наиболее гибким сознанием, свободным от пут идеологии, а также и прочих пут, мешающих эффективно оперировать, – морали, права... – вполне естественно решает спланировать в капитализм. По сложности дела, эти полит-операторы, как прежде большевики, нуждались в «буржуазных спецах»; и конвергенция деградации позволяла легко найти в другом, некогда противоположном лагере нужное число эконом-операторов с не менее свободным сознанием. Но властные возможности уже были далеко не те, и со спецами пришлось делиться (хотя, конечно, сознание полит-операторов не могло примириться с этой необходимостью и, как показывает дело ЮКОСа, сопоставимое mutatis mutandis с делом Промпартии, их мучительно тянет к испытанному решению в виде «вредительских процессов»). Кроме того, в качестве третьей стороны в разделе супердержавы добавились еще и прямые бандиты: в гниющем обществе криминал приобрел достаточную силу для этого. Сей тройственный цвет нации, прошедший отбор на идеальную свободу сознания, – полит-операторы, эконом-операторы, бандит-операторы – и стал новым хозяином страны. Стоит ли удивляться, что им удалось добиться ускорения в скатывании сердяги Ивана Кадмона по наклонной плоскости?
Реальные знаки и плоды ускорения – во многом, начиная с демографической катастрофы: толчок к ней был дан, бесспорно, теми мерами, в которых была заложена (а затем и воплощена) перспектива ускоренной смерти тысяч граждан, стариков и старух, слабых и немощных, оставленных зимой без гроша. Принято считать эти меры «либеральными» – не берусь спорить; но прямей всего они отвечают нравам некоторых описанных в этнографии племен: когда старых людей, в качестве теста на выживание, загоняют на дерево и трясут, если не свалишься – живи. Российские «либералы» трясли на совесть, если только это слово к ним применимо.
Не будучи специалистом, я не стану касаться экономических или социологических аспектов, но ярких черт хватает и в антропологической, культурной, духовной сфере. Эти черты можно, пожалуй, свести в одну формулу: Россия сегодня – социум невменяемый или, по крайней мере, с серьезно поврежденной вменяемостью. Повреждены, глубоко расстроены, прежде всего, наши способности адекватного видения себя, самосознания, самооценки, самоотчета, – что означает нарушение единства сознания. Причина достаточно ясна: ею служит наличие лакуны, дыры в сознании – несведенность счетов с ближайшим прошлым, отсутствие осмысленного отношения к нему. Ясна и причина этой причины: кому из хозяев нужно полное осмысление советского прошлого и честный, строгий расчет с ним? полит-операторам? эконом-операторам? или может быть, бандит-операторам? А меж тем, плата за дыру в сознании велика: тяжкая дезориентация этого сознания. Как все слышали в недавних опросах, общественное мнение, молодежь вполне одобряют широкое внедрение, засилье представителей спецслужб – тайной полиции, иными словами – во всех сферах власти, во главе общества. Общество, приветствующее тотальный диктат тайной полиции как едва ли не социальный идеал, – бывает ли более дикий бред? если даже не вспоминать, что делала тайная полиция с этим обществом совсем недавно?
Не менее важной является и нравственная поврежденность. Дезориентация общества идет рука об руку с его полной де-этизацией: страну постиг небывалый, беспрецедентный нравственный провал, когда этические координаты не сместились куда-то, а попросту вообще исчезли, и нравственный дискурс употребляется исключительно в безнравственных целях, войдя в арсенал средств надувательства. Услышишь речи о добре, любви, заботе о людях – держись за карман, да живее прочь: вот наша нравственная реальность сегодня.
И вполне органично, общество, пораженное дезориентацией и де-этизацией, обнаруживает и еще одну характерную черту: тоже, пожалуй, беспрецедентную человеческую мелкость, безличность, мелкотравчатость культурного и политического слоя страны; черту, которую можно назвать пигмеизацией. Зрелище огромной страны, огромных пространств, ресурсов, вверенных произволу пигмеев, напоминает театр абсурда. Как сказал классик о Возрождении, «это время нуждалось в титанах и породило их». Продолжая его мысль, не следует ли обозначить нынешнее время России как Анти-возрождение?
С.Ш. Но неужели картина настолько одноцветна? Ведь должны быть и положительные процессы, положительные тенденции?
С.Х. «... вы бы ребенку теперь показали светлую сторону. – Рад показать!» – Но прежде светлых сторон мне ведь требовалось показать ускорение, крутизну той наклонной плоскости, на которой оказалась Россия. Как только мы убедились в этой повышенной, аномальной крутизне, следует утешительное соображение: род человеческий един, судьба Ивана Кадмона лишь часть судьбы Адама Кадмона – стало быть, есть, должны быть какие-то общие, универсальные факторы, которые должны выравнивать, сглаживать нашу ситуацию. Сценарии судьбы Адама Кадмона тоже не очень розовы, но тут надо различать масштабы. Ориентированность этих сценариев к смерти – сравнительно долгосрочная перспектива, но катастрофические черты нашей родимой ситуации – сегодняшняя реальность и ближайшая, краткосрочная перспектива, коль скоро мы не можем указать – а я не могу – уже работающих и притом достаточно мощных положительных механизмов. Отсюда являются основания для умеренного оптимизма: в перспективе среднесрочной можно ожидать относительного оздоровления Отечества.
С.Ш. То есть нам следует уповать только на воздействие внешних факторов?
С.Х. Нет и еще раз нет! Тут недоразумение в терминах: универсальные факторы – совсем не то же что внешние факторы! Скорее наоборот: универсальные антропологические факторы – а именно о них вся наша беседа – действуют, прежде всего, как внутренние силы, импульсы, а не как внешние воздействия. Поэтому открытость миру, связи с ним, интеграция имеют положительное значение (открытость вообще условие всякой жизни, включая жизнь духа), однако в главном, те среднесрочные процессы оздоровления, на которые мы можем надеяться, могут происходить лишь из недр самого общества – быть внутренними усилиями Ивана Кадмона. И именно усилиями: антропологическая динамика – не биологическая, это не какой-то нутряной, физиологический автоматизм, а совокупность интеллектуальных, нравственных, волевых решений и действий: сфера свободы и ответственности.
С.Ш. Из каких же слоев, сил общества могут идти оздоровляющие движения? Может ли, по-вашему, Церковь сыграть положительную роль в этом оздоровлении?
С.Х. К сожалению, меньше всего надежды на те слои, которым положено определять социальные стратегии. Для них мы придумали уже слово «пигмеизация», и надо к нему еще добавить, что корыстный их интерес, их «своя рубашка» (а она в обществе без этики уж точно ближе к телу) никак не толкают их быть поборниками оздоровления. Напротив, они блокируют возвращение социума к вменяемости, и пока эффективно, поставив на службу этой задаче и СМИ (принявшие, как всегда, заказ с готовностью) и новые мощные орудия политтехнологий и технологий обработки сознания. Замечу для ясности, что под заказчиками я совершенно не имею в виду какую-то одну, скажем, пропрезидентскую, из сегодняшних группировок; по мне, над закреплением мнимостей, симулякров в качестве политической реальности России все группировки трудятся в трогательном согласии. Дай Бог оказаться тут неправым.
Дальше идет «общественность» – наука, интеллигенция. Последний популярный термин относится целиком к прошлому, никаким социальным или социокультурным группам он не отвечает ныне в России. Та самая, знаменитая intelligentsia russe, что была не только и не столько социальной группой, но и неким символом, носителем определенных ценностей и особой культурфилософской категорией – так вот, она более не существует, ее нет, и ясное понимание этого – один из необходимых моментов возврата к вменяемости. Что же касается науки, то с нею в новой России успешно разыграли сценку из Хармса. Помните: «Химик: Я химик. Ваня Рублев: А по-моему, ты говно! Химик тяжело рухнул на пол.» На полу химик пребывает и до сих пор. А где еще ему быть? Я в науке работаю всю жизнь и, как считают, не зря, кое-что сделал для отечества; и сегодня за это власти оценивают мой труд профессора – в точности в половину зарплаты дворника, что метет тротуар. Это – чисто клиническое соотношение цифр, еще один симптом невменяемости социума. За счет него сознание научного сообщества травмировано, оно не оправилось от действий Вани Рублева (тем паче что тот их продолжает и развивает дальше). И потому это сообщество едва ли способно ныне стать действенным фактором оздоровления – хотя должно бы им быть, если верно, что наука – мозг нации.
С Церковью дело обстоит все же лучше. По личному моему опыту, православная Россия сегодня – относительно более здоровый сектор социума. Конечно, она делила судьбу народа, и сегодня Церковь не может быть где-то вне всех опасностей и зол, какие мы отмечали в положении Ивана Кадмона. К примеру, отсутствие осмысления советского прошлого – эта опасная черта относится к Церкви, церковной среде, пожалуй, еще больше, чем к среде светской. Другая опасность, о которой много говорят, – тенденция снова, как в имперской России, занять положение государственной Церкви и официальной религии. Сегодня (не будем говорить о прошлых эпохах, бывало иногда и иначе) такая тенденция – явное искушение, классическое искушение земной властью, которому христианство и церковь подвергались постоянно в истории и которое вовсе не всегда побеждали. Существование русской Церкви в качестве госструктуры, структуры власти завершилось острейшим кризисом, дехристианизацией русского человека, и безумием было бы забывать сегодня этот урок.
Но в жизни Церкви есть совершенно иные измерения, более глубокие; и они важнее для нашей темы. Не столько дело в Церкви как институции, сколько в том, что хранится с ее помощью: в духовной традиции, в необходимом обустройстве духовной жизни человека. И вот здесь-то, в православной и русской духовной традиции, в подвижничестве, дисциплине внутренней жизни, скрываются ценные ресурсы для современного человека, капитал для решения антропологических проблем.
С.Ш. Но ведь Православие – не единственная конфессия в России, тем не менее, именно оно выдвигается на первый план.
С.Х. На первый план в России его выдвинула история, а не чья-то политика. И не князь Церкви, а Пушкин Александр Сергеич сказал: «Греческое вероисповедание дает нам наш особенный национальный характер». Бесспорно, очень многое изменилось сегодня, изменились и фактура истории, и черты характера. Но вменяемый социум – это тот, который в изменениях сохраняет свою память и свою идентичность. Есть известная формула, название книжной серии: «Языки русской культуры». Так вот, православие – первый и основной язык русской культуры, и те, кто сегодня не знает этого, всего лишь повторяют господина Журдена, не знавшего, что он говорит прозой.
С.Ш. Как вы относитесь к разговорам о необходимости выработки национальной идеи?
С.Х. С предельной подозрительностью. Такие разговоры слышней всего в двояких и прямо противоположных кругах: на уровне наивного сознания, погруженного в архаические структуры, мифологемы и не ведающего о настоящих фактурах современной реальности; и в кругах, которые этой наивностью хотят воспользоваться. Это – круги с политтехнологическим подходом к реальности, и их роман с национальной идеей имеет одну четкую задачу: добавить еще один, самый убойный симулякр к уже наличному набору идеологических муляжей. Мне тут вспоминается персонаж из «Улисса» Джойса, вешатель-любитель, который изобрел «самоличный спосоп накидки петли, так штоп уже не выпутался». Это, по-моему, очень соответствует надеждам специалистов по национальной идее в отношении Ивана Кадмона. Но выпутается!
«РУССКАЯ МЫСЛЬ»: Историко-методологический семинар в РХГА
«РУССКАЯ МЫСЛЬ»: Историко-методологический семинар в РХГА
Стенограмма доклада на историко-методологическом семинаре РХГА, С.-Петербург,
21 декабря 2007 г. выступил Сергей Сергеевич Хоружий с докладом «Синергийная антропология в контексте русской религиозной философии».
Ведущий семинара — доктор философских наук, профессор РХГА Александр Александрович Ермичев
А.А. Ермичев: Дорогие друзья, товарищи, коллеги. У нас сегодня Сергей Сергеевич Хоружий. Представлять его должности, титулы и звания я не буду, мы знаем Сергея Сергеевича Хоружего — автора, философа современной русской религиозной философии. Сегодня он выступит с лекцией «Синергийная антропология и традиция русской религиозной философии». Но прежде чем приступить к основной части нашей работы, мне хотелось бы попросить в дальнейшем тех, кто будет спрашивать, — именно задавать вопросы. Тех же, кто будет выступать — именно выступать, увязывая свое собственное мнение с выступлением основного докладчика, т. е. не отвлекаться в сторону, времени у нас не очень много. Это относительно порядка нашей работы. Весьма возможно, что после того, как мы закончим доклад, мы сделаем небольшой перерыв в связи с некоторыми обстоятельствами. Но прежде чем начать основную часть нашей работы, мы с Сергеем Сергеевичем хотели бы обменяться дарами. Сергей Сергеевич привез ряд книжек для нашей академии, и я их с благодарностью принимаю. Где же эти книжки, покажите нам, пожалуйста.
С.С. Хоружий: Я сразу же приношу извинения — приехал в совершенейшей московской гриппозности, еле погрузив себя в поезд. Это, боюсь, скажется и на качестве лекции, начиная с голосовых данных и заканчивая существом содержания, которое явно от гриппа не выиграет. Посему прошу вашего снисхождения — но, с другой стороны, то, что сумел-таки влезть в поезд, отмечаю как свою скромную заслугу.
А.А. Ермичев: Конечно!
С.С. Хоружий: Да, и по этой же причине отнюдь не все книги, которые были выпущены нами — то есть, небольшим институтом, которым я руковожу, и кругом моих сотрудников — я сумел сюда привезти. Но основное, что, я надеюсь, здесь будет полезно, — это плоды двух больших международных проектов, которыми мне пришлось руководить за последние годы. Надеюсь, они здесь сослужат свою пользу.
Одно из изданий, возможно, уже известно, поскольку оно вышло года два назад: это капитальная библиография исихастской традиции. Я занимался этой работой по благословению Святейшего Патриарха в течение довольно многих лет. Поскольку литература традиции — очень специальная литература, литература подвижническая, хранящаяся, в основном, отнюдь не в академических хранилищах, были организованы рабочие группы не в одной России, а во всех странах, где исихастская традиция от века существовала, всех странах православной цивилизации — Греции, Сербии, Болгарии, Румынии, Грузии. В итоге, был создан вот этот том, где впервые традиция представлена и структурирована во всем своем полуторатысячелетнем хронотопе. Крупную структуру составляют 14 больших разделов, каждый из которых снабжен научной статьей. Что очень важно — это была моя идея, которая мне дорога, — материал здесь сгруппирован по лицам. Ибо духовная традиция — это явление в лицах, явление личного бытия, и она предстает у нас как собрание всех своих участников-подвижников, как исихастский собор. Обычно библиография считается максимально безличным, сухим жанром, но наша библиография — на другом полюсе от такого подхода. И как сама она — собрание лиц, так и ее создание было личным делом для всех участников проекта. Я очень рад передать вам эту книгу (вручает книгу А.А. Ермичеву).
Исихастскую линию в нашей работе мы продолжаем постоянно, и новейшим ее этапом явился другой большой проект, наверняка еще неизвестный здесь. Только что вышел специальный выпуск журнала «Символ», посвященный целиком исихастской традиции. Сам «Символ известен давно и хорошо. Это международный журнал, выходные данные которого «Париж — Москва». До недавнего времени его редакция была в Париже или точнее, в Медоне под Парижем, теперь же она — в Москве, мы перешли к новому дизайну и существенно трансформировали концепцию журнала. Он стал более академическим, и исихастский выпуск, составленный и подготовленный мною, — один из первых московских выпусков. Когда зачинатели «Символа», отцы-иезуиты в Лионе, увидали итог труда, первый их отзыв был: «Ну, знаете ли, это получилась энциклопедия исихазма». Для единственного выпуска журнала, это, конечно, преувеличение, но некоторая энциклопедичность, я надеюсь, здесь действительно есть. Исследовательское сообщество здесь собрано весьма представительно, привлечены главные сегодняшние авторитеты в области штудий исихазма. Имеется, далее, мемориальная секция, посвященная тем, кто потрудился на ниве исихастских исследований и сегодня уже не с нами. В ней — три раздела, посвященные замечательным недавно ушедшим исследователям исихазма — о. Иринею Осэрру, о. Мишелю Ван Эсбруку и о. Джорджу Мэлони. Все они — представители западной науки, и это связано с особым профилем «Символа», с его, если угодно, миссией — служить журналом диалога Западного и Восточного христианства. В этой же связи, моя большая статья, написанная для этого выпуска, рассматривает исихастские штудии именно в компаративной перспективе, анализируя, каким образом за все столетия и уже тысячелетия существования традиции соотносились и взаимодействовали между собой западные и православные вклады в дело ее изучения и понимания. И в целом, у нас, я надеюсь, возникает достаточно полная, достаточно многомерная панорама исихастских штудий.
Имеется здесь и первая публикация: перевод ранее неизвестного исихастского памятника, сделанный непосредственно с рукописи. Даже и секция цветных иллюстраций присутствует. В ней могу указать один любопытный момент. Одна из ключевых фигур традиции — преподобный Иоанн Лествичник. Я подобрал связанный с ним визуальный ряд, и в него включил два образчика иконографии знаменитой Лествицы исихастского подвига, один — классический византийский, другой же — русского извода, и весьма любопытного. Вот видите, классическая византийская Лествица, широко известный прообраз XI–XII века, а вот — Лествица в русском изводе XVIII века. И здесь, в противоположность классическому типу, — решительно никаких бесов, которые угрожали бы подвизающимся. По Лествице поднимаются исключительно отцы, снабженные уже заранее ангельскими крылышками, а сам преподобный Иоанн в обличии этакого дородного русского протоиерея стоит у подножия и сопровождает их назиданиями. Чрезвычайно поучительно сопоставить! — Лествица по-византийски и Лествица для русского религиозного сознания, это очень будит мысли о том, что же с нами происходило. Итак — надеюсь, что эти книги будут здесь небесполезны.
А.А. Ермичев: Спасибо большое, Сергей Сергеевич! Наш библиотекарь обязательно сделает эти книги доступными в принципе любому из читателей.
С.С. Хоружий: И еще я захватил несколько экземпляров текущей продукции нашего института. Была встреча моя с московскими авангардными художниками, которые пригласили меня быть антропологическим консультантом одного из больших проектов, представленных на последней московской Биеннале. Сообщество довольно колючее, но беседа получилась содержательной, обоюдно интересной, им понравилось. Куратором проекта был весьма известный Олег Кулик, с которым мы даже подружились. Материал этой встречи мы выпустили в виде брошюры, я несколько экземпляров захватил. Хотел захватить и другие подобные брошюры, но, увы, — вот первое следствие моей болезненности — не захватил. Среди них есть текст как раз по теме сегодняшней моей лекции: «Синергийная антропология как звено традиции русской мысли». Я собирался и его привезти во множестве, но вот смотрю, тут всего один. Как-нибудь довезем, если будет интересно. Благодарю, Александр Александрович!
А.А. Ермичев: Вам большое спасибо! Что касается нашей стороны, то здесь имеется ряд книг непосредственно от авторов, наших работников, и ряд книг, изданных нашим издательством. Одна из них — о религиозно-философском обществе в Санкт-Петербурге, вторая, составленная нашим замечательным другом Валерием Александровичем Фатеевым «Славянофильство: pro et contra», и «Эрн: pro et contra». Пожалуйста, Сергей Сергеевич! Мы очень рады вас здесь видеть.
Аплодисменты
С.С. Хоружий: Моя надежда, что на обратном пути портфель мой будет полегче, явно не оправдывается.
А.А. Ермичев: Мы поможем поднести к поезду.
Доклад
С.С. Хоружий: Ну, что же, коллеги, по договоренности нашей с Александром Александровичем, разговор будет, конечно, о синергийной антропологии. Сначала я попытаюсь рассказать какие-то основные вещи. Если для кого-то эти основоположения будут уже знакомы, я всячески прошу извинения; но далее я надеюсь дойти и до последних этапов развития, рассказать о тех новых задачах, новых разработках, которыми мы занимаемся и к которым только еще приступаем. Но все же начать необходимо с предыстории — с того контекста, в котором рождалось наше направление.
Несомненно, этот контекст включает страницы, относящиеся к русской религиозной философии. Этим определилась тема лекции, предложенная со стороны Академии: «Синергийная антропология и традиция русской религиозной философии». Однако реальные истоки синергийной антропологии двояки, они лежат не только в этой русской традиции. У нашего направления существует и европейский контекст, европейская предыстория, и она, в известных аспектах, еще более существенна. Его генезис, его цели, логика и стратегия развития — всё это неотрывно, прежде всего, от пути классической европейской мысли о человеке, классической антропологии Аристотеля, Декарта, Канта. Поэтому, насколько позволят наши бюджеты времени, я попытаюсь осветить обе эти исторические линии, и отечественную, и европейскую.
Как всякий феномен, синергийная антропология может быть представлена либо в синхронии, либо в диахронии. В первом случае мы избираем прямое описание понятий, структур, методов, которые затем можем сопоставлять, в частности, и со структурами русской религиозной философии; это — синхроническая постановка проблемы. Во втором же случае мы прослеживаем генезис всех этих концептуальных содержаний, логику их появления, ход их формирования. Какой путь нам выбрать?
Идеи и аппарат синергийной антропологии заметно отличаются от прежних антропологических теорий, они не только не классичны, но и довольно необычны для гуманитарного дискурса как такового. Поэтому в прямолинейном, лобовом изложении они, пожалуй, могут представиться не просто непонятными, а, хуже того, неестественными — откуда следует, что синхронический способ представления в нашем случае нежелателен. Напротив, если увидеть истоки, проследить возникновение и формирование понятий и структур, оказывается, что они вполне естественны и даже, может быть, неизбежны, подготовлены всем происходившим. Причем, как уже сказано, происходившим в двух исторических контекстах. Во-первых, в русле русского культурно-цивилизационного процесса и, в более узком плане, религиозно-философского процесса. Во-вторых, в русле развития европейской мысли о человеке. Итак, предпочтителен для нас диахронический способ описания. Ему мы и будем следовать.
Начнем с русского контекста, который мы проследим от Религиозно-философского возрождения до сегодняшней проблематики исследования исихазма. Последнее можно относить уже собственно к синергийной антропологии: это проделанная нами всесторонняя, трансдисциплинарная реконструкция исихазма как духовного и антропологического феномена. К задаче подобной реконструкции ведет достаточно прямая нить в русском интеллектуальном и философском процессе. Идеи, которые, развиваясь, привели к появлению синергийной антропологии, ведут свое начало от размышлений над феноменом русского Религиозно-Философского Возрождения. Сегодня этим феноменом, философией Серебряного века, занимается множество специалистов и в России и во всем мире, и большинство крупных вопросов, связанных с ним, уже получили ответ. Но в 60-70-е годы XX века эти вопросы вставали передо мной как отнюдь не имеющие ответа, хотя историческое существование самого феномена, его активная творческая жизнь, уже полностью завершились. Больше того, это были тогда вопросы, которые «в темном бархате советской ночи», по слову петербургского поэта, даже и не имели права задаваться.
Продумывание вопросов о смысле, уроках, философских заданиях, которые оставил этот феномен, и стало почвой для дальнейшего продвижения. Духовная и культурная работа русской мысли стремилась дать осмысление, рефлексию опыта российского исторического бытия: религиозных устоев, особенностей менталитета и так далее — рефлексию некоторого довольно сложного фонда, с которым связываются понятия «русской духовной традиции» и шире — объемлющего для нее феномена «Восточно-христианского дискурса». В период Религиозно-философского возрождения эта осмыслительная работа шла с невиданной интенсивностью и плодотворностью. Одной из причин было то, что Владимиром Сергеевичем Соловьевым была найдена весьма эффективная стратегия философского продвижения. Соловьев выдвинул базовые концепты, такие как всеединство, София и прочие, известные ныне всем, и предложил философские формы, в которых могло развиваться умозрение синтетического характера, использующее дискурс классической западной метафизики для выражения содержаний Восточно-христианского дискурса. В этом синтетическом способе за очень краткое время была создана обширная и богатая философия русского Серебряного века. Мы, разумеется, не будем сейчас входить в ее содержание, сегодня это — общеизвестный фонд русской мысли.
Существеннее напомнить, что судьба этой философии была достаточно сложной, драматичной и не особенно прозрачной с первого взгляда. Философский процесс в России оборван был переворотом 17-го года, однако творчество ведущих мыслителей продолжалось в рассеянии. Как я полагаю (хотя этот тезис будет для многих спорным), данный философский период сумел реализовать свой творческий потенциал и завершился не по внешним причинам, а по внутренним, придя, что называется, к естественному концу. Однако в условиях диаспоры для русской мысли не могло быть нормального философского процесса, и не было адекватной историко-философской рефлексии. За счет этого, итогового обозрения и осмысления феномена в целом не произошло, и суммарные выводы не были сделаны. Поэтому могли оставаться иллюзии, что во всем виноваты одни большевики, а по своим внутренним возможностям данный философский этап так и не достиг окончания — и, стало быть, мог быть еще продолжен, возобновлен на прежних началах, на том же философском способе и с тем же идейным капиталом. Отчасти такие иллюзии бытуют и по сей день.
Пристальное рассмотрение, однако, показывает, что мысль Серебряного века — по природе своей синтетическая и синкретическая мысль, постоянно лавирующая между философией и богословием, — в действительности, исчерпала свои возможности. Из той основы и почвы, которой она стремилась дать выражение, из почвы духовной традиции и восточно-христианского дискурса, целые существенные области философского осмысления в ней не получили и получить не могли, поскольку ее понятийный строй, отвечающий западной метафизике, был принципиально чуждым для этих областей. В первую очередь, такие области включали в себя антропологический и духовный, религиозный опыт православия, представления о человеке в его связи с Богом. Более точно, они включали в себя, прежде всего, развитый в православии специфический род опыта, в котором происходила реализация фундаментального богочеловеческого отношения. Данный пункт необходимо раскрыть подробнее. У меня разработана своя концепция русского культурно-цивилизационного процесса, базирующаяся на концептах духовной традиции и культурной традиции, усматривающая между этими двумя традициями конфликт и отводящая этому конфликту ведущую роль в процессе. Эта концептуальная разработка представлена весьма тезисно в книге «Опыты из русской духовной традиции», а более подробно — в лекционных курсах, которые я читаю, они есть отчасти на сайте института (www.synergia-isa.ru), но полностью не опубликованы. На нее мы и будем опираться.
Итак, основным движущим конфликтом русского культурно-цивилизационного процесса является конфликт духовной традиции (которая ядром своим имеет аскетический опыт и исихастскую практику) и культурной традиции. Истоки конфликта лежат отчасти в имманентных особенностях культуры и разума, но в большей мере — в том историческом обстоятельстве, что по определенным причинам, культурная традиция в России не развивалась из той же аутентичной почвы Восточно-христианского дискурса, из которой росла духовная традиция. Как показывает византийский опыт, Восточно-христианский дискурс, безусловно, содержал в себе возможности культурного развития; однако эти возможности не были реализованы русским культурным процессом, и даже не были всерьез им востребованы. Следствием этого и явился базовый конфликт вестернизованной российской культуры и аутентичной Восточно-христианской духовной традиции. Задачей культурного развития было разрешение этого конфликта, гармонизация отношений. Культура Серебряного века к этому двигалась, но по самому строю, способу мысли, созданному Религиозно-философским возрождением, возможности гармонизации в философской сфере были достаточно ограничены. Это, в частности, демонстрируют два религиозно-философских конфликта, обозначивших собою финал Серебряного века в философском аспекте: Имяславческий спор и парижский спор о Софии. Конфликт духовной и культурной традиции Серебряным веком снят не был, и это снятие осталось дальнейшим заданием российской культуры. Является поистине удивительным, что, вопреки всем превратностям истории, это задание было в существенном исполнено. Согласно развиваемой мной рецепции философского процесса, именно в этом состоит значительнейший вклад русской диаспоры: вклад не только философско-богословский, но и общекультурный.
В эмигрантской мысли возникло новое течение, которое и сумело, в главном и основном, исполнить остававшееся задание. В целом, оно сформировалось уже в период после Второй мировой войны. Оно было не философским, а богословским и получило известность под именем неопатристики и неопаламизма. Ввиду его богословского характера, его, как правило, упускали из вида и не принимали во внимание при обсуждении путей развития русской мысли. А между тем оно-то и было последним и критически важным этапом этого развития. Для верной оценки всего пути и верной ориентации на будущее, это новое богословие диаспоры необходимо увидеть в единстве с предшествовавшей ему философией: увидеть и то, и другое как звенья единого процесса, невзирая на их различия или, как я выражаюсь, на модуляцию дискурса.
В известном смысле, этот богословский этап даже следовало бы включить в философский процесс, ибо он с ним находится в органической связи и преемственности. Основатели его — Владимир Николаевич Лосский, отцы Георгий Флоровский, Иоанн Мейендорф и небольшое, увы, число других исследователей — продумали опыт Религиозно-философского возрождения и сделали вывод о необходимости отойти не только от его понятий, но и в целом, от его философского языка, с тем, чтобы в рамках богословия получить возможность полного и точного выражения почвы духовной традиции. Наряду с этим негативным тезисом (негативным в смысле вердикта по отношению к философии Серебряного века), здесь имелся и позитивный тезис, согласно которому ядром и стержнем духовной традиции служит непосредственный опыт Богообщения, устремления человека к Богу. В наиболее полном и чистом виде такой опыт добывается и хранится в сфере аскезы, что в случае православия соответствует мистико-аскетической традиции исихазма.
Итак, в этой логике исихазм выступает как выверенная база данных, опытная основа и русской духовной традиции и Восточно-христианского дискурса. Такова русская линия в основаниях синергийной антропологии: она подводила к заданию современного осмысления и описания исихазма во всей его полноте, как духовного и антропологического феномена. Но, как показала дальнейшая работа, эта логика русского философского процесса оказывается частной и не самой важной, если угодно, даже провинциальной по отношению к той проблематике, что открывается дальше. Происходит очень типичный феномен в жизни культуры: разум приходит к необходимости увидеть свое, как говорится, родное, свой местный, локальный русский путь в некоторой глобальной, вселенской перспективе. В дискурсе Серебряного века необходимость и неизбежность такого развития продумывалась и выражалась, например, очень петербургским автором Вячеславом Ивановым как проблематика родного и вселенского. Сегодня же мы обнаруживаем, что, по сути, эта же идея, эта же логика, очень настойчиво утверждается как то, что называется стратегией глокализации, которая призывает сочетать верность корням и аутентичным особенностям локальных культур с включенностью в глобальные цивилизационные процессы. К подобным позициям собственно и выходила культура Серебряного века, не пользуясь, разумеется, этим современным жаргоном и задолго до его появления. Она открывала в своих практиках, что работа наша над родным опытом заключается в его определенной универсализации, выведении его в горизонт вселенского, всеобщего. В современных терминах, это значит, что на феномены нашей духовной и интеллектуальной истории следует смотреть как на феномены глокальные, то бишь принадлежащие локальному контексту, но несущие универсальное содержание, отвечающие на глобальные вопросы. Русская культура следовала этой стратегии задолго до того, как она была поименована современным западным сознанием. В искусстве Серебряного века, в богословии русской диаспоры осуществлялись одни из первых опытов стратегий глокализации.
Увидеть глокальную природу исихастской проблематики, ее универсальное содержание помогает второй, европейский исток синергийной антропологии: мысль о человеке, развивавшаяся от Аристотеля к Декарту и Канту. У Канта классическая европейская модель человека достигла своей полной зрелости, но к этому времени она несла уже и немалый негативный груз, затруднявший и затемнявший антропологическую перспективу. Уже начиная с Декарта, в ней начинали накапливаться определенные негативные факторы, которые я называю факторами анти-антропологичности. Достаточно ясно, например, что именно в качестве анти-антропологического фактора следует понимать дихотомию человека, которую совершил Декарт: радикальное рассечение конституции человека на Res cogitans и Res extensa. Эта дихотомия оказалась весьма эффективным философским орудием, но для антропологии сыграла, несомненно, негативную роль, сказавшуюся и на всем дальнейшем пути европейской антропологической традиции.
Следующий этап, кантианский, вновь был этапом блистательных философских достижений, но при этом — антропологических утрат. Трансцендентальная архитектоника Канта внесла новый анти-антропологический фактор. Человек, антропологический дискурс, оказался у Канта разнесен по чуждым человеку, неконгруэнтным человеку трансцендентальным структурам; причем «собрать человека» заново, восстановить цельный образ человека в рамках трансцендентальной архитектоники невозможно, даже если использовать не одну первую «Критику», а все три. Это отмечал и сам Кант, когда говорил, что вопрос «Что такое человек?» в рамках трансцендентальной архитектоники категорий не может иметь ответа. Как это отчетливо разъяснено в последующей хайдеггеровской рецепции, для ответа на этот вопрос над всеми «Критиками», над их трансцендентальным дискурсом, необходимо надстроить некий мета-дискурс; но таковой мета-дискурс надстроен никогда не был. Соответственно, данный фактор анти-антропологизма, возникший с появлением трансцендентального метода, остался нескорректированным, неизбывным.
Далее, в пост-кантовском идеализме добавились новые черты такого же рода. В учениях Фихте и Гегеля спекулятивный способ философии достигает апофеоза. Здесь возникает верховный концепт, какого не было еще у Канта: Абсолютный Дух, Абсолютное «Я». В моем ретроспективном анализе, я квалифицирую данный концепт как «мега-концепт с размытым антропологическим и онтологическим содержанием». Он опять-таки открывал многообещающие пути и перспективы для философии; однако в каком отношении он находится к реальному человеку — это было принципиально не установимо. Больше того, по сути, даже онтологическое позиционирование этого концепта тоже оказывалось размытым. Он, разумеется, не отождествлялся с уровнем здешнего бытия, но он не отождествлялся и с Богом; его онтологическая локализация, на поверку, была неопределеннной. Разумеется, за этим не мог не стоять онтологический дискурс неоплатонического типа, некая онтологическая иерархия с промежуточными онтологическими уровнями. Однако же классические немецкие философы не были готовы открыто и полностью признать себя неоплатониками, приверженцами языческой картины бытия, со всею философской и духовной ответственностью. Даже для самих себя и пред самими собой, они предпочитали считать, что они остаются в рамках христианского универсума и христианской онтологии. И в некоторых пунктах, это с неизбежностью порождало принципиальную недосказанность, недоопределенность.
Это был уже следующий фактор анти-антропологизма. В системах гегельянского типа он дополнялся еще одним фактором: человек выступал в них откровенно вторичным и производным по отношению к указанному мега-концепту. В русле гегельянского дискурса, как это и заявлялось порой у самого Гегеля, человек неизбежно оказывался орудием Абсолютного Духа. Что называется, по факту Дух избрал человека своим выражением, но на человеке свет клином для него не сошелся, он мог бы избрать другое выражение и орудие и, возможно, еще изберет другое. Человек отнюдь не был автономным держателем имеющихся у него сущностных содержаний, все они делегировались, вверялись ему Абсолютным Духом, и были у него лишь заемными. Очевидным образом, данный фактор мог быть лишь весьма губительным для антропологии.
Поэтому мы можем считать, что, начиная с торжества гегельянского дискурса в философии XIX века, антропология практически не могла уже продвигаться вперед в рамках классического метафизического дискурса. В антропологических измерениях европейского философского процесса обозначается раскол, выделяется русло, так сказать, антропологического протеста. Принадлежащие к нему мыслители подмечали все то, что я сейчас обозначаю как «анти-антропологические факторы», и пытались находить альтернативы классическому философскому способу. Первым крупным философом такого рода был Кьеркегор, который выдвинул и первую из альтернатив: концепцию человека, как имеющего онтологическое задание себя раскрыть, «сделать себя открытым», как он выражался в «Или — или», в «Болезни к смерти». Концепция человека, которая сформировалась в синергийной антропологии, основана на этой же ключевой идее (само-) выведения человека в открытость. В качестве базовой антропологической парадигмы синергийная антропология рассматривает парадигму размыкания человека, которая в Восточно-христианском дискурсе была открыта под именем синергии, а в Западно-христианском дискурсе была не столь эксплицитно, но все-таки открыта и проработана Кьеркегором. Поэтому Кьеркегора можно, если угодно, считать одним из отцов-основателей синергийной антропологии.
Я не буду прослеживать следующих этапов. Процесс шел определенно в расколотом, двойном русле. С одной стороны, развивалось протестное антропологическое мышление, с другой — шли стадии кризиса классического дискурса. В конце концов, то и другое столкнулось в двух самых существенных событиях современного западного мышления. Во-первых, в синтезе Хайдеггера. Как неоплатонизм был синтезом античной мысли, так мысль Хайдеггера определенно — подобной же формации, она — синтез классической европейской традиции. Этот синтез, неоспоримо, неклассический, ибо в нем присутствует резко выраженная установка преодоления метафизики, критики всего классического дискурса. Но в то же время, в важнейшей теме своей поздней философии, теме энергии, Хайдеггер утверждает, что движется вслед за Аристотелем, реконструирует его трактовку энергии, воспринимает аристотелевский энергетизм — и, тем самым, позиции классического дискурса. Равным образом, он утверждает преемственность своей первой философии, фундаментальной онтологии, по отношению к кантианскому дискурсу. Итак, по отношению и к Аристотелю, и к Канту, Хайдеггер занимает отнюдь не протестную позицию, а позицию преемственности. Так нам раскрывается достаточно уникальная роль его мысли как одновременно неклассического и неоклассического синтеза. Второе событие — разумеется, синтез постмодернистский, который произвел закрытие всей тематики, достигнув при этом слияния обоих ее противоположных русл. Здесь утверждение и отрицание перестали быть различимы, как неразличимы бытие и небытие в классическом восточном понятии нирваны или великой пустоты.
Почему все это тоже является предысторией того направления, которое мы начали развивать? А потому, что только из этой ретроспективы уясняется смысл и статус той антропологии, которая вырастает из философской и трансдисциплинарной проработки опыта духовной традиции. Из нее уясняется, что это заведомо неклассическая антропология, ибо именно аскетический опыт был средоточием всех тех содержаний, которые не поддавались выражению в рамках религиозной философии, опирающейся на классическую метафизику. Поэтому она исполняет то самое задание, что ставилось западной мыслью в русле антропологического протеста. Иными словами, возникшая у нас задача исследования духовных практик и духовных традиций со всем основанием может связываться с общим заданием поиска антропологической альтернативы, выдвинутым всем ходом развития европейской мысли.
Итак, мы можем теперь вернуться к исследованию исихазма, приобретя понимание того, что это исследование уже и есть первый структурный блок в строительстве неклассической антропологии. В нашей работе осуществлялись не исследования отдельных частных явлений в истории исихазма, но полномерная его реконструкция как духовного и антропологического феномена. Подобная постановка задачи была достаточно новой. Когда я начинал этим заниматься (а было это в 70-х годах XX века, отчасти совместно с Владимиром Вениаминовичем Бибихиным), даже и само слово исихазм было очень мало кому знакомо в России. За рубежом такой задачи также не ставилось, ни в западной науке, ни даже в эмигрантской мысли: хотя, как мы указали, богословие диаспоры сумело адекватно оценить значимость аскетического опыта, оно, разумеется, не решало проблем его всестороннего антропологического анализа.
Обращение к исихазму оказалось благодарным и продуктивным замыслом. В исихазме, на примере его, удалось, пожалуй, опознать новый класс антропологических явлений, который прежде особо не выделялся, не идентифицировался в науке, а, между тем, имел принципиальную важность для понимания феномена человека, для антропологии как таковой. Здесь осуществлялась практика самореализации человека в бытии, практика, в которой имелось и было ведущим, главным онтологическое измерение. Предмет этой практики составляло выстраивание фундаментального онтологического отношения человек — Бог, человек — Абсолютное бытие; или, более обобщенно, человек и Иное человеку как таковому. В привычной для нас новоевропейской традиции это фундаментальное онтологическое отношение было исключительно предметом разума и философии. Оно ими разрабатывалось, культивировалось и составляло их безусловную прерогативу. Но в то же время, мы знаем, эта прерогатива философского разума всегда оспаривалась религией, и на этой почве развертывалась извечная тяжба философского и религиозного разума, которая долгое время определяла собой историю европейского умозрения. Затем настала эпоха секуляризации, и в Новое Время тяжба была уже решена бесповоротно в пользу философии. Однако в духовных практиках и, в частности, в исихазме, ситуация этой тяжбы отнюдь не воспроизводилась: сознание здесь не было секуляризовано, и прерогатива философии нисколько не принималась. Напротив, здесь выдвигался свой подход к тому же фундаментальному отношению; и если взглянуть внимательней, мы увидим, что этот подход был отличен не только от философского, но также и от религиозного, каким тот виделся по привычным представлениям западной культуры.
Специфическое отличие подхода духовных практик — в их преимущественной и пристальной сосредоточенности на антропологии. Здесь развивались определенные, тщательно организованные и отрефлектированные антропологические практики, которые, что первостепенно важно, были наделены и мета-антропологическим измерением. За счет этого измерения в них и происходила конституция фундаментального онтологического отношения. При этом, в отличие от подхода философии, здесь акцентировалось, что реализацию фундаментального отношения осуществляет человек как целое, что эта реализация — не интеллектуальная, а интегральная, холистическая практика. С полным основанием можно сказать, что в духовных практиках конституировалось трансцендирование человека; но в философии проблематика трансцендирования раскрывалась совсем иначе. Подход духовных практик утверждал, что проблематика трансцендирования может развертываться отнюдь не в философском дискурсе, но как дело определенной антропологической и мета-антропологической практики. Но, разумеется, это должна была быть совершенно особая, совершенно специфическая практика, ибо ее задание было не только необычным и дерзостным, но и попросту невозможным, будь то с позиций обыденного или рационального разума — и даже с позиций разума философского, коль скоро в духовных практиках должно было осуществляться не философское трансцендирование, а холистическое, «антропологическое трансцендирование». Отсюда становится понятна история феномена духовных практик. Ее особенность в том, что полностью развитых практик такого рода осуществилось, состоялось лишь чрезвычайно малое число, и для каждой из них процесс ее формирования занимал многие столетия. В частности, исихастская практика складывалась в течение ровно тысячи лет, с эпохи первых монахов-анахоретов IV века и до Исихастского возрождения в Византии XIV века. Мы понимаем, что для выполнения своего невозможного задания, для преодоления его невозможности, каждая из практик должна была создавать некоторые также весьма особые, необычайные средства.
Итак, в духовной практике человеку требуется достичь актуальной онтологической трансформации, претворения себя в иной образ бытия, что в Восточно-христианской традиции именуется обóжением. Цель такова, что в горизонте наличного бытия она попросту отсутствует, отчего и сам термин «цель», собственно, непригоден. В качестве его замены часто употребляется греческий термин «телос» (конец-смысл, служащий конститутивным принципом всего ведущего к нему пути, несущий его смысловое содержание). Продвижение к инобытийному телосу, отсутствующему в эмпирическом мире, не может, очевидно, выстраиваться по каким-либо внешним вехам в этом мире; оно может руководиться лишь внутренними вехами: вехами антропологического опыта. Иными словами, следование по пути духовной практики заключается в добывании, продуцировании определенного антропологического опыта, и для достижения телоса необходимо точное знание того, какой именно опыт потребен: какой опыт соответствует каждой из стадий, каждому из пунктов пути. Опыт духовного пути должен быть организован и методичен, необходимо иметь полную и строгую путевую инструкцию, антропокарту всего пути. Это и был первый рабочий вывод нашего исследования исихазма. Обнаружено было, что его опыт, опыт практик такого рода, должен иметь собственный органон в точном аристотелевском смысле, то есть полный канон правил организации, верификации и интерпретации данного рода опыта. Лишь полноценный органон способен служить адекватной инструкцией антропологического трансцендирования. Не что иное как создание органона и является той работой, что выполняется в течение всех столетий формирования духовной практики. Ясно, что эту работу должно совершать некоторое сообщество, которое воспроизводит себя в истории, хранит и передает опыт данной практики. Это сообщество мы определяем как духовную традицию. Здесь это понятие наполняется конкретным смыслом: духовная традиция — сообщество последователей, исполнителей определенной духовной практики, преемственно воспроизводящейся, транслируемой в истории.
Но в чем заключаются тогда задачи научного изучения духовной практики? Конечно, мы должны, прежде всего, реконструировать ее органон; однако при этом наша задача удваивается. Во-первых, мы должны восстановить точно тот органон, который создан самой традицией, который существует в ее сознании и на ее специфическом языке. Но, кроме того, наш долг — и понять его, для чего требуется представить наш научный взгляд на него: дать его интерпретацию, его, если угодно, перевод в рамках нашего современного языка и методологии. В первом случае, по моей терминологии, мы получаем внутренний органон, органон, непосредственно созданный самою традицией. Во втором же случае мы выстраиваем внешний участный органон. Термин «участный» отражает то важное обстоятельство, что адекватное понимание опыта духовной практики возможно отнюдь не во всякой, а лишь в достаточно специальной когнитивной парадигме. Оно невозможно в старой субъект-объектной когнитивной парадигме, однако возможно в парадигме участности. Знаменитое бахтинское понятие участности сегодня общеизвестно, однако бахтинские концепции приходится довольно существенно дорабатывать в философских, герменевтических аспектах; герменевтика участности не была достаточно развита у Бахтина. Итак, в парадигме участности выстроить органон духовной практики возможно. Он не совпадет с внутренним органоном, он будет другим, но он будет органоном адекватного понимания.
Систематическое описание этих двух органонов стало первым рабочим этапом построения синергийной антропологии. Требовалось описать и проанализировать все компоненты органона: аппарат постановки опыта, его организации, верификации и так далее. Теория научного эксперимента развивается в другой когнитивной парадигме, но включает в себя приблизительно те же основные разделы. Сопоставление двух ситуаций весьма полезно; мы видим, что на материале духовных практик возникает содержательная и оригинальная эпистемология. Одно из отличий от органона научного эксперимента состоит в том, что необычайно возрастает роль аппарата проверки, критериологии. В духовных практиках она приобретает особую важность, поскольку телос — то, к чему должен вести опыт, — отсутствует как наличная данность, его нет в горизонте здешнего бытия. Поэтому практике всегда, имманентно грозит опасность сбиться с пути, принять ложный опыт за истинный. В исихазме это, как известно, именуется «впадением в прелесть»; в других практиках развит свой язык и свои приемы распознания и отбрасывания ложного опыта. Далее, весьма интересна исихастская герменевтика, где мы зачастую находим неожиданные постановки проблем, необычные герменевтические принципы. И все здание органона завершается интеграцией проанализированного нового опыта в совокупный корпус опыта традиции.
Оба получаемых органона оказываются достаточно новыми для европейской эпистемологии. На этой почве возникает много интересных проблем, много научных возможностей: нетрудно найти здесь новые обещающие идеи для герменевтики, для феноменологии. Отношения с феноменологическим дискурсом оказываются весьма содержательными, глубокими; открывается большая тема «феноменология и исихазм». Отчасти она сегодня уже исследована (в частности, ей был посвящен мой доклад на недавнем юбилейном конгрессе памяти Г.Г.Шпета, крупнейшего русского феноменолога). Но на львиную долю все эти герменевтические, феноменологические, эпистемологические задачи еще не изучены, тем паче не решены, и налицо обширное поле для философской работы.
Однако, при всем том, главная линия развития идет в другом направлении, которое соответствует уже обсуждавшейся стратегии глокализации. Начав с некоторого феномена Восточно-христианской религиозности, мы постепенно в нем обнаруживаем универсальное антропологическое и мета-антропологическое содержание. Обозрение исихастского органона убеждает в том, что исихастская практика развивает собственный взгляд на человека, оригинальный и очень цельный. В отличие от классической антропологии, она не сопоставляет человеку ни сущности, ни вообще каких-либо отвлеченных характеристик. Она рассматривает человека сугубо операционно. Требуется успешно проделать путь — и только; концепты как таковые здесь никого не интересуют. Поэтому человек рассматривается как энергийное образование, то есть совокупность всевозможных и разнонаправленных энергий. Это неклассическое (как мы подчеркивали уже) энергийное вúдение человека и есть важнейшее антропологическое содержание, закодированное во внутреннем органоне практики. За специфическим дискурсом Восточно-христианской религиозности, византийского монашества, русского монашества, за очень техническим языком аскетического делания скрываются очертания цельной энергийной антропологии. Мы ставим задачу извлечь, эксплицировать эту антропологию. В соответствии с этим, исихастский органон выступает как своеобразная школа неклассического антропологического мышления. Среди его элементов рассеяны такие, которые имеют универсальный антропологический смысл, несут потенциал обобщения, тем самым, доставляя материал для стратегии глокализации. Выявляя их, анализируя и строя на их основе концепты, мы постепенно выходим в общеантропологический горизонт.
Арсенал подобных эвристически продуктивных антропологических элементов обширен. Глубокий универсальный смысл несет исихастская концепция покаяния или обращения, «премены ума» (metanoia), именно в этом аспекте внимательно изучавшаяся недавно П.Адо и М.Фуко. Потенциал обобщения несет и концепция трезвения (nepsis), бдительного самоконтроля сознания; именно с нею, в первую очередь, связаны сближения и параллели исихазма с феноменологией. Но наиболее важным оказывается понятие синергии. Подступы к высшим ступеням духовной практики — это подступы к встрече человека с иным горизонтом бытия, Инобытием. Для энергийного вúдения такая встреча есть встреча энергий, их взаимное сообразование, соработничество: именно то, что в византийском богословии и получило название синергии. В этой концепции мы обнаруживаем наибольший эвристический потенциал; событие синергии наделено максимальной антропологической и онтологической значимостью. В нем человек достигает соединения своих энергий с некими энергиями, которые он в опыте опознает как не принадлежащие ему самому: такие, источник которых не в нем, и даже не где-либо в пределах его горизонта сознания, горизонта существования и опыта. Тем самым, эти энергии принадлежат некоторому внеположному истоку, являются энергиями онтологического Иного. Но, коль скоро энергии человека достигают контакта с энергиями Иного (а такие контакты удостоверены опытом, о них традиция накопила богатый корпус свидетельств), — это значит, что человек сумел сделать собственные свои энергии открытыми для восприятия, для воздействий Иного. Иными словами, он сумел сделать себя открытым Иному, сумел разомкнуть свой бытийный горизонт в его энергийных измерениях. Поэтому можно говорить, что синергия представляет собой не что иное как антропологическое размыкание.
Византийское умозрение обладало достаточной антропологической зоркостью и совсем неплохо видело богатое антропологическое содержание исихастской практики. Но оно не питало особого интереса к этому содержанию, поскольку было сугубо теоцентрично. Поэтому вырабатываемые практикою понятия редко рассматривались за пределами своих прямых применений в подвиге, а когда рассматривались, то, как правило, — в богословском дискурсе. Такова была судьба и понятия синергии. При этом вовсе не отрицалось, что антропологическое содержание у этих понятий тоже есть. Но это византийского человека мало интересовало. А человека нашего времени наоборот очень интересует. Это и называется антропологическим поворотом сегодняшней мысли (в частности, и богословской). Под этим углом зрения, наша реконструкция исихазма и есть работа антропологического поворота. В ней не открывалось, по сути, чего-то нового, речь шла о хорошо известном, столетия известном (хотя и выраженном в абсолютно ином дискурсе) корпусе опыта. Но если раньше этот опыт прочитывался преимущественно в богословском дискурсе, то сегодня оказалось, что он крайне интересен нам как опыт антропологический. Нам надо вычитать его антропологическое содержание.
Мы ставим вопросы: что здесь делает человек? что здесь делается с человеком? Поэтому синергию мы переосмысливаем как антропологическое размыкание. Это та же самая синергия, но взятая в антропологической перспективе. Коль скоро здесь осуществляется соединение энергий человека с энергиями Инобытия, то это также есть трансцендирующее размыкание; и мы видим, что синергия — ключевая парадигма антропологического трансцендирования. Далее, мы усматриваем еще одно антропологическое свойство синергии. В размыкании, претворяясь в иной онтологический способ, человек, очевидным образом, достигает своего бытийного исполнения, достигает полноты самореализации. А это, в свою очередь, означает, что в этом событии человек конституируется; событие размыкания антропологически конститутивно. Для нашего антропологического собирательства и строительства, это — вывод первостепенной важности! В силу него, в синергии мы обретаем не просто очередной элемент, пригодный для искомой неклассической концепции человека. Здесь мы обретаем сам центральный принцип такой концепции — неклассический принцип конституции человека. Отсюда следует, что тот опыт неклассической антропологии, который постепенно складывается у нас, должен получить название синергийной антропологии.
Однако на пути к цельной дескрипции человека, основанной на парадигме размыкания, лежит еще ряд этапов обобщения. В качестве ближайшего этапа, проводится анализ всей области духовных практик, включающей классическую йогу, буддийскую Тантру, дзен и так далее. Мы констатируем, что сформировавшийся на примере исихазма подход (и, прежде всего, способ характеризовать духовную практику посредством структуры из двух органонов) эффективен, в главных своих чертах, для всякой духовной практики. При этом, с его помощью можно описывать не только общие элементы духовных практик, но и их различия. В частности, мы можем описать и проанализировать фундаментальную бифуркацию, которая имеет место в сообществе духовных практик. В этом сообществе существуют две противоположные реализации телоса, конца-смысла практики. Телос — инобытиен, к нему ориентирован весь путь практики, но сам он лежит уже за пределами этого пути, за пределами бытийного горизонта человека. Поэтому он принципиально вне поля опыта, однако из опыта приближения к нему и контакта с его энергиями человек обретает известное его постижение. Так вот, такой телос в одних практиках мыслится и постигается как наделенный своей динамикой, причем весьма особой, внетемпоральной, являющей собою личное бытие-общение. В других же практиках он мыслится и постигается как статический и имперсональный, как Нирвана, Великая Пустота, что превыше оппозиции бытия и небытия. Но нам важно сейчас другое: важно, что у нас возникают универсальные концепты, которые создают общий язык, общий контекст для всей области духовных практик. Понятие синергии, или же онтологического размыкания, понятия внутреннего и внешнего органона создают наконец-то адекватную концептуальную базу для компаративных исследований, тот широкий объемлющий контекст, в рамках которого можно единым образом исследовать разные практики, фиксируя их сходства и их различия. Компаративные исследования крайне популярны в современной науке, однако для них типична была великая доля произвола, простор которому открывало именно отсутствие концептуальной базы. На новой основе они составляют одну из рабочих тем нашего института. На первом месте для нас всегда был и остается исихазм, но мы уже активно исследуем и дзен, и прочий репертуар дальневосточных практик, основанных на понятии дхармы (уточним тут же, что дхарма, бесспорно, не есть понятие, но европейская мысль не нашла покуда адекватного имени для ее природы). Как выясняется, общие понятия энергийной антропологии оказываются здесь валидны и достаточно эффективны. Проводятся и исследования суфизма.
Но все это, подчеркнем, совсем не главная линия. Нашей целью остается достичь некоторого общего понимания человека, развить речь о человеке как таковом. Меж тем, мы говорили сначала о совсем частном феномене, об узком сообществе культивирующих исихастскую практику. Затем мы говорили о сообществе адептов всех духовных практик; но даже и произвольная духовная практика никак не является универсальным предикатом человека как такового. Необходима полная универсализация дискурса — и ее оказывается возможным достичь, продолжая опираться на парадигму антропологического размыкания. Мы обнаруживаем другие реализации этой парадигмы, отличные от осуществляемого в духовных практиках онтологического размыкания. И за счет этого, данная парадигма оказывается способной стать ядром цельной концепции человека.
Известна обширная сфера таких феноменов, где во внутренней реальности человека тоже осуществляется контакт его энергий с некоторыми энергиями, которые он опознает как не принадлежащие ему, как такие, источник которых он не может локализовать нигде в горизонте своего сознания и опыта. Однако в этом круге явлений человек не ставит задачи трансцендирования; он не идентифицирует себя с определенным образом бытия, здешним бытием, стремящимся к претворению в иной онтологический горизонт. Вместо этого, человек репрезентируется как сущее, наделенное сознанием, самосознающее. В такой ситуации возможно, что источник иных энергий является опять-таки внеположным человеку, внеположным горизонту опыта человека, но внеположность уже не является онтологической. У человека может попросту отсутствовать всякий онтологический опыт — однако при этом еще может происходить контакт с некоторыми энергиями, источник которых за пределами горизонта сознания, — и, соответственно, может осуществляться антропологическое размыкание.
Такой круг явлений общеизвестен — понятно, что внеположность описанного типа имеет место для бессознательного: по самому определению, оно — за пределами горизонта сознания, но при этом никакой иной онтологический модус ему не сопоставляется. Иными словами, здесь налицо другая репрезентация Иного человеку, которая отлична от онтологического Иного. С этой репрезентацией человек также завязывает энергийное отношение. Но можно ли сказать, что он оказывается и с этой репрезентацией Иного «в синергии»? Нет, это недопустимо. Сфера употребления понятия синергии зафиксирована, синергия — онтологический феномен, и мы не распоряжаемся этим термином по своему произволу. С другой стороны, мы с полным основанием говорим, что здесь происходит размыкание человека. Т. о., размыкание человека может быть синергией, а может быть иным видом размыкания, который реализуется при действиях, индуцируемых из бессознательного. Это размыкание уже не есть трансцендирование. Но, тем не менее, что очень важно заметить, оно еще по-прежнему остается конституирующей парадигмой. Размыкание по-прежнему управляет конституцией человека. Процессы, которые индуцируются из бессознательного, хорошо известны: это вся сфера, изучаемая в психоанализе, — неврозы, мании, фобии. Известно, что они индуцируют специфические нарушения связности сознания, что то же — его специфические топологии, а за счет этого, ими конституируются и определенные структуры личности и идентичности человека (их принято относить к патологическим, однако это — особый вопрос). Размыкание здесь другое, но оно по-прежнему конститутивно.
Итак, размыкание, действительно, универсализуется, выходит за пределы духовных практик и приближается постепенно к общеантропологической парадигме. Но весь этот путь универсализации я, кажется, уже лишен возможности описать. Извините, что я так медленно продвигаюсь — но наша тематика, увы, еще всего лишь в начале… А мне, меж тем, пора заканчивать, Александр Александрович, да?
А.А. Ермичев: Еще минут семь? Я знаю, чего вы смеетесь? Но и вы поймите меня.
С.С. Хоружий: Да, здесь дискурс очень раздваивается. Что возможно, и что еще надо бы сказать — это вещи совершенно различные. Сказать бы надо еще очень многое. Но, я по крайней мере, обозначу области проблематики.
Выясняется, что размыкание человека имеет еще и третью реализацию — в виртуальных практиках. Убедиться в этом не столь трудно, если несколько переформулировать понятие размыкания, определив его не через контакт с Иным, а через предельные проявления человека, о которых мы дальше скажем. А затем довольно нехитрое рассуждение приводит к выводу, что за вычетом данных трех видов размыкания никаких иных быть не может. Я не буду пояснять этого. Любой слушатель имеет право здесь усомниться, почему их три, а не четыре, не семь; и, тем не менее, удостовериться в этом вполне возможно. Ясно, по крайней мере, сразу, что Иное, источник внеположных человеку энергий, может иметь вообще всего только две репрезентации: оно может осуществлять свою инаковость либо онтологически, в бытии, либо онтически, в сфере сущего; и никаким иным способом оно не может быть Иным. Это есть общефилософский факт, который мы всего лишь трактуем в энергийном дискурсе и в антропологическом контексте. От этого он начинает звучать несколько необычно, хотя по сути, конечно, более необычным не становится. Итак, Иное имеет две репрезентации. Виртуальное же размыкание не связано с какой-либо репрезентацией Иного, но, тем не менее, оно оказывается тоже размыканием, хотя и осуществляемым в ином механизме.
Когда мы реконструировали все три вида размыкания, то, в силу его конститутивности, мы получаем, тем самым, полный набор возможных структур личности и идентичности человека — и таковой набор наконец составляет базу общеантропологической концепции. Но, прежде чем описывать применения этой концепции, следует уточнить, что, хотя мы говорили все время об энергиях человека, получаемая концепция не должна употреблять этого понятия. Дело в том, что корректного понятия антропологических энергий, к сожалению, до сих пор не существует. Понятие Божественных энергий есть, его создала Византия, а понятия антропологических энергий нет. В буддизме все функции, все роли антропологической энергии успешно исполняет понятие дхармы; то, чего нет в европейском дискурсе, в буддийском есть. Но дхарма, как мы уже выше говорили, никак не имеет природы понятия. В итоге, в наших антропологических построениях мы, увы, не можем избрать в качестве основного термина энергию, ибо она не концептуализована. Поэтому взамен энергии, основным понятием, с которым мы оперируем, становится ее субститут: понятие антропологических проявлений, манифестаций. Может быть, это не столь внятный термин, но, по крайней мере, это совершенно корректный термин. Итак, мы характеризуем человека полной совокупностью его проявлений. И размыкание — это все те проявления, в которых он осуществляет свою открытость, оказывается у пределов горизонта своего существования и опыта. Мы называем их «предельными антропологическими проявлениями», а полную совокупность всех таких проявлений именуем антропологической границей. Эти понятия и становятся основными рабочими понятиями возникающего опыта неклассической антропологии.
Первый общий вопрос — о статусе и природе этого опыта антропологии. Полученный способ антропологической дескрипции — есть ли это теория? Модель? Эпистема? Парадигма? Первый напрашивающийся ответ таков, что мы получили модель человека. Модельное мышление — далеко не самый высокий и углубленный способ разума, однако легко видеть, что именно он отвечает нашему рассуждению. Мы рассматривали определенный класс явлений и подбирали способ его адекватного описания — способ, который воспроизводил бы его необходимые нам свойства. Так двигается моделирующее, системно-модельное мышление; и, стало быть, плод его нам следует назвать моделью. Моделями обычно удовлетворяется естественно-научное сознание, стремящееся исключительно к эффективности описания, к возможности ответов на «практические вопросы»; однако философу требуется многое другое. Поэтому мы ставим вопрос: нельзя ли полученную антропологическую дескрипцию интерпретировать и не только как модель, а каким-либо более общим образом, более удовлетворяющим критериям гуманитарной эпистемологии.
Но этот вопрос выходит на первый план не сразу. В начальный период целесообразно сказать: не будем проявлять философское высокомерие. Пускай мы получили всего-навсего модель человека; но и модель человека — это, право, не очень мало. Как нельзя не признать, в антропологическом мышлении — ситуация кризиса, и кризиса весьма выраженного: накопилось множество существенных антропологических явлений, которым не найти объяснения в рамках классической антропологии. К ним, в частности, принадлежит весь современный экстремальный опыт, маргинальный опыт, тоталитарный опыт, венчаемый феноменами Освенцима и Гулага. С кантианской антропологией к ним абсолютно бессмысленно подходить — в них действует не кантианский человек, у которого, как известно, природа предопределена двигаться к высшему благу. Если с таким пониманием человека подходить к тому, что он с собой проделывает сегодня, — можно лишь горько расхохотаться. Мы на собственном опыте очень знаем, как его природа стремится к высшему благу.
Поэтому, если у нас появилась всего лишь модель, однако способная к описанию новой антропологической ситуации, — не обязательно тут же пытаться дать ей более изощренную эпистемологическую интерпретацию. В своем качестве модели, она может иметь немалый круг ценных применений. Первый этап существования синергийной антропологии составляли ее разнообразные применения к феноменам современной антропологической реальности — например, к экстремальным практикам, включая явления суицидального терроризма. И здесь, кстати, уже возникает один весьма общий вывод, касающийся эволюции Человека. Мы констатируем, что наша неклассическая модель имеет эффективные применения к новейшим антропологическим явлениям и одновременно — к древним духовным практикам; и то, и другое суть области, где классическая антропология отказывает. Это означает, что Человек выступает в своей истории как глубоко не классическое существо. Имелся определенный и уже закончившийся период, когда он был «Человеком Классическим», мог быть описан классической антропологией; однако и прежде этого периода, в древности, и после этого периода, в современности, человек был и вновь стал сугубо неклассическим. Налицо ограниченный период Человека с классической конституцией, окруженный неклассическими антропологическими формациями. — Конкретный же спектр современных практик, к которым применялась синергийная антропология, довольно широк. Здесь практики современного искусства, а также и общие проблемы эстетики этого искусства. К возможностям синергийной антропологии в этой сфере художественное сообщество, преимущественно авангардистское, или, как говорят сегодня, трансавангардистское, проявляет интерес. В связи с этим и состоялась моя встреча с авторами проекта на московской биеннале. Рассматривались практики телесности, с которыми связаны многие популярные тренды сегодняшней культуры и масскультуры. Анализировались антропологические аспекты процессов глобализации и выяснилось, что наша модель позволяет наметить новый подход, увидеть новые возможности в сфере стратегий межрелигиозного и межкультурного диалога. И перспективы подобного рода применений еще далеко не исчерпаны.
Тем не менее, постепенно совершается переход к проблемам следующего уровня, методологического и эпистемологического. Наши стратегии в этой проблематике определяются одним главным обстоятельством: как можно предполагать по ряду причин, синергийная антропология могла бы послужить основой, ядром некоторой антропологической или антропологически фундированной эпистемы для всей сферы гуманитарного знания. Или, говоря слегка проще, основой новой методологии для всего комплекса гуманитарных наук. Здесь стоит пояснить, что такие ожидания не носят характера утопических надежд, рождаемых завышенной оценкой своего направления. Мы не утверждаем за синергийной антропологией каких-либо особых и уникальных возможностей: ожидания основаны на ее определенной и, вообще говоря, отнюдь не уникальной особенности — на том свойстве, что она, как мы указывали уже не раз, имеет в своем составе принцип конституции человека. Антропологическое размыкание конститутивно — и, следовательно, произвольные антропологические проявления так или иначе определяются реализующими его предельными проявлениями; а, с другой стороны, содержания, описываемые произвольным гуманитарным дискурсом, имеют антропологическую основу и их можно так или иначе связать с антропологическими проявлениями, охарактеризовать посредством них. В результате, избранный гуманитарный дискурс возможно, в принципе, трансформировать, связав его с основоустройством синергийной антропологии. Такова, в двух словах, логика, показывающая эпистемостроительные потенции синергийной антропологии; и из нее ясен общий эвристический вывод: эпистемостроительными потенциями обладает любая модель, любая антропологическая конструкция, которая в своем составе имеет способ конституции человека. Однако реализация подобных потенций — сложная и даже проблематичная программа.
Исследованием именно этих потенций, методологических и эвристических, мы сейчас начинаем интенсивно заниматься. Последние семинары института посвящаются этой проблематике. Их материалы есть на сайте нашего института (www.synergia-isa.ru), а скоро появятся и в печатном виде. Мы подготовили специальный выпуск журнала «Точки», выходящего в Москве, где публикуется часть наших семинаров, включая и заседания по данной тематике. Там описано, насколько мы пока успели продвинуться, обосновывая, что в рамках нашего направления имеется зачаток новой эпистемы для гуманитарных наук. Рассказывать об этом я, к сожалению, уже не могу, но отсылаю к этим материалам — и с благодарностью всем слушателям, заканчиваю доклад. Спасибо!
Аплодисменты
Вопросы
А.А. Ермичев: Хотелось бы просить тех, кто будет задавать вопросы — задавать вопросы. Пожалуйста, не нужно начинать: «А у меня имеется пять вопросов, можно я их буду задавать по порядку?» Один вопрос, и именно вопрос. (С.С. Хоружему) Сергей Сергеевич, это будет наверно правильно, учитывая ваше состояние.
С.С. Хоружий: В каждом монастыре свой устав.
А.А. Ермичев: Да, у нас такой устав. (Аудитории) Пожалуйста, кто хотел бы задать вопрос? Прошу вас, Борис Георгиевич!
Б.Г. Дверницкий: Вы сказали, что антропологических энергий нет, и не может быть как понятия, так я понял. Божественные энергии есть, а человеческих нету, так я вас понял. Я дальше вопрос объясню, возвращаясь к классической антропологии. Человек создан не только по образу, но и по подобию Божию. Если святитель Григорий Палама выделяет в Боге единую природу, три ипостаси и неограниченное количество энергий или исхождений, значит и в человеке есть личность, природа, и вот я назвал это жизненностью — т. е. наличие вот этих энергий антропологических. Значит, они есть — правильно я понял?
С.С. Хоружий: Абсолютно правильно.
Б.Г. Дверницкий: Всё, спасибо.
С.С. Хоружий: Абсолютно правильно. Противоречия здесь не возникает, поскольку я имел в виду специфически философское обстоятельство. О тварных энергиях, разумеется, богословие говорит. Не так уж мало мы о них найдем у преподобного Максима Исповедника, к примеру. И у святого Григория Паламы, конечно, тоже найдем. Но философского понятия антропологической энергии нет, а есть проблема. История понятия энергии в философии — особая и не слишком простая тема. Энергия была введена, как мы знаем, Аристотелем и глубоко разработана в неоплатонизме. Но это неоплатоническое понятие энергии заведомо не соответствует тем употреблениям, тем смыслам, которыми наделяется речь о тварных энергиях. В первую очередь, это потому, что неоплатонический концепт энергии принципиально не допускает окачествования. Мы говорим, что человеческие энергии должны характеризоваться направленностью, связью с определенным уровнем организации человеческого существа и так далее — целым набором свойств. Но философский концепт энергии, аристотелевские и плотиновские энергии никаких таких окачествований не допускают. Это другого рода концепт. Антропологические же энергии, как я и говорил, до сих пор не поддаются философской концептуализации, и потому я использую термин «антропологические проявления».
А.А. Ермичев: Спасибо! Пожалуйста, еще вопросы.
С.С. Хоружий: Вы знаете, мне записка одна была подана, и я на нее должен, очевидно, ответить: «К какому виду размыкания относится взаимодействие человека с энергией злобных духов в оккультных практиках?» Ну, оккультные практики — это необычайно разношерстная, широкая сфера, Бог их там ведает, какие только бывают оккультные практики. Но достаточно хорошо известна, изучена, как на опыте, так и богословски, аскетическая демонология. Если говорить о ней, то речь идет о борьбе подвижника со страстями, и эта борьба издавна репрезентируется в форме явлений бесов и борьбы с бесами. Здесь не надо синергийной антропологии, сами аскеты давно и вполне отчетливо разобрались, что здесь происходит смешение и наложение разных воздействий и процессов. В этих феноменах подвижник полагает, что он находится на пути восхождения, проходит ступени духовной практики, — меж тем как на самом деле он уклоняется с пути. Опыт его становится не истинным, а ложным опытом. А что значит, он уклоняется с пути? Куда ему уклоняться? Если он полагает, что он на пути, — значит, из своего опыта он имеет свидетельства о том, что его энергии соприкасаются с какими-то иными, «не его» энергиями. Но если это ложный опыт — значит это не то Иное, не та его репрезентация, что служит телосом практики. А единственная другая репрезентация Иного — это бессознательное. Так — в научном дискурсе, а в дискурсе аскетическом, бесы, с которыми сражается подвижник, — воинство сатаны. Поэтому я себе позволяю такую формулу: бессознательное есть парадигматический коррелят сатаны. Если же детальней использовать аппарат синергийной антропологии, то здесь мы оказываемся в области, которая называется гибридной областью или гибридной топикой предельных антропологических проявлений. Здесь опыт человека таков, что в чем-то он, действительно, имеет элементы духовной практики, исихастской Лествицы восхождения. Но в решающем факторе, в том, к какому телосу ориентирован этот опыт, — этот опыт относится к сфере воздействия бессознательного. Происходит наложение и смешение двух истоков — и это и есть в точности то, что в аскетике называется прелестью. Соответственно, в синергийной антропологии эта область опыта называется топикой прелести.
А.А. Ермичев: Сергей Анатольевич, вы хотели задать вопрос?
С.А. Гриб: Да-да! Сергей Сергеевич, вопрос такой. У нас в Ленинграде жил известный христианский философ Яков Друскин. Мало кто о нем знает, это печально, но нужно вспоминать о нем. И он выступал с резкой критикой концепта синергийности, против синергии. Он считал, что синергия вредит православному богословию и считал, что нужно заменить это представление на то, что он называл по-своему «односторонним синтетическим тождеством». Что он имел в виду? Он имел в виду некоммутативность равенства А=В, но В≠А. и таким образом он утверждал, что Бог есть всё, например, но всё не есть Бог. Как вы к этому относитесь? Как вы на это возразите с точки зрения синергийности?
А.А. Ермичев: Друзья мои, предупреждаю, вопросы!
С.С. Хоружий: У меня нет храбрости философа Друскина, и отменять понятие синергии я решительно не берусь. Больше того, мой опыт философа доказывает мне абсолютно обратное: что как раз это понятие и является антропологически наиболее продуктивным. Но конкретные его свойства — совершенно другой вопрос. Богословие синергии Византия особенно детально не успела развить. Все это уже зрелый византийский исихазм, это XIV век. Хотя понятие спорадически появлялось и раньше, но богословие синергии — это уже поздний период, незадолго до крушения Византии. Многие из весьма существенных богословских вопросов не успели быть разработаны, и многие вещи в наследии святителя Григория Паламы по сей день остаются дискуссионными и активно дискутируются в православном богословии. Вот только что прошла большая богословская конференция, которую владыка Филарет проводил в Москве. Там выступил мой добрый знакомый, участник библиографического проекта, Алексей Георгиевич Дунаев и привлек большое внимание греческих богословов своим анти-паламитским докладом. Но при всем том, парадигма синергии как таковая… Можно рассуждать о ее свойствах, например, о симметричности (и мы найдем, что она, безусловно, несимметрична, никакой симметрии быть не может) — но сама она неотменима, не устранима из корпуса православного богословия.
А.А. Ермичев: Спасибо. Отец Вениамин, прошу вас!
Иг. Вениамин (Новик): Известно, что восточные мистические практики более пантеистичны, более имперсональны. Практика исихазма, практика православия более персоналистически ориентирована.
С.С. Хоружий: (нрзб) Незачем сравнительные степени. Православная практика вполне персоналистична, а те вполне же имперсоналистичны.
Иг. Вениамин (Новик): Да, да. Когда мы говорим о мистике, то такие четкие определения как-то так не очень может быть корректны, все-таки мистика это некая тайна. Но вопрос у меня такой: каковы вы видите, скажем, духовные культурные психологические особенности православного персонализма?
С.С. Хоружий: Персонализм отнюдь не православное мировоззрение, а краеугольный камень христианства как такового. Исихазм — это наш православно-аскетический извод того персонализма, который заложен в христианской догматике. И как парадигма синергии неотъемлема от православия, так персонализм неотъемлем от общехристианской догматики как таковой. И догматика католицизма точно так же персоналистична, значения каппадокийцев для нее ни один папа не отменял и не отменяет. Другой вопрос, что в реальном бытовании католического богословия эти моменты гораздо менее выражены. Говоря, краткости ради, совсем огульно, в августинианской линии персонализм продолжает быть выражен довольно отчетливо, а в томистской линии он очень часто теряется. Но это уже различия не догматических оснований, это историко-культурное бытование.
А.А. Ермичев: Ростислав Николаевич, прошу вас!
Р.Н. Хоружий: Большое спасибо, Сергей Сергеевич за то, что, несмотря на недомогание, вы сумели произнести столь глубокий, содержательный и используя ваше выражение «эвристически продуктивный» доклад. А вопрос следующий. Кажется ли вам близкой та традиция понимания философии как уподобления Богу, которая восходит к платоновскому «Теэтету», встречается в среднем платонизме у Евдора Александрийского, Филона Александрийского, у Давида Анахта в «Шести определениях философии»? И если кажется близкой, то в какой степени?
С.С. Хоружий: Она не близка исихастскому боговедению. В философизированном христианстве, в христианском платонизме она необычайно органична. Православие использует этот язык, как оно использует в разных контекстах, в разных своих пластах и слоях, великую массу языков. Проверку аутентичным православным опытом пройдут далеко не все эти языки. И уподобление — что же, и оно имеет некий законный ареал. Но сути самого личностного Богообщения эта парадигма не выражает.
А.А. Ермичев: Так, пожалуйста, прошу вас!
К.П.Косых: Будьте добры, поясните все-таки, пожалуйста, более подробно, в чем именно вы усматриваете гибельность гегелевской философии? Я поясню, почему у меня возник этот вопрос. Вы сказали, что у него не установлено отношение к человеку, а потом из вашего уже разговора, да и у него же самого, там ясное отношение к человеку как к Субъективному Духу. И вы говорите, что в принципе, можно что-то дописывать, как вот марксисты дописали его с точки зрения социальной практики, то может быть его можно дописать и с точки зрения духовной практики, и тогда будет все в порядке?
С.С. Хоружий: Ну, разговор в таком пробабилистском дискурсе слишком всегда размыт, в нем трудно расставить резкие грани «да» и «нет». В сослагательном наклонении все возможно… В гегелевской части моей критической ретроспективы (она опубликована как раз в недавних номерах «Вопросов философии») я указываю конкретные элементы анти-антропологизма в гегелевском дискурсе. Их, прежде всего, два. Во-первых, структурный, как я называю, или трансцендентальный анти-антропологизм. Он появился у Канта, и у Гегеля сохраняется, хотя в несколько ином виде. Суть его в том, что антропологическая реальность концептуализуется в спекулятивных понятиях трансцендентальной систематики, и при этом оказывается разъятой, расчлененной неузнаваемо и невосстановимо; возможность собрать цельного человека, ответить на вопрос: «Что такое человек?» утрачивается. К этому кантовскому фактору анти-антропологичности у Гегеля добавляется анти-антропологичность верховного принципа его системы, Абсолютного Духа, а также то, что я называю «объективный анти-антропологизм»: безусловная вторичность человека как такового перед лицом Верховного Принципа — вторичность, производность, подчиненность, отсутствие у него, скажем так, онтологической автономии.
А.А. Ермичев: Ну, хорошо, других нет вопрошателей. А, вот есть, извините, вот еще один вопрос.
В. Семенков: К развитию вопроса о Якове Друскине. Можно ли вас так понять, что и опыт Кьеркегора для вас так же стратегически не значим?
С.С. Хоружий: Не очень понимаю. Наоборот, я говорил, что в моем Институте синергийной антропологии портрет Кьеркегора должен был бы висеть на почетном месте. Я говорил, что к задачам, к идеям синергийной антропологии подводят два контекста, две линии, русская и европейская. И в европейской линии, наиболее близкий автор, близкий предшественник этих идей и задач — безусловно, Кьеркегор. Ибо парадигма антропологического размыкания в европейской традиции впервые отчетливо выражена именно у Кьеркегора.
А.А. Ермичев: Всё!
Д.К. Бурлака: Очень хорошо — подробный доклад, поэтому вопросов мало.
С.С. Хоружий: Устав в вашем монастыре довольно репрессивный.
А.А. Ермичев: Знаете, щадя вас!
Выступления
А.А. Ермичев: Кто хотел бы поделиться впечатлениями о докладе? Прошу вас, представьтесь, пожалуйста.
Б.В. Иовлев: Я сотрудник лаборатории психологии Института имени Бехтерева. Я внимательно слежу за статьями и книгами Сергея Сергеевича, и хочу сказать о том, что для меня остается неясным, и уже давно.
Во-первых, неясно, почему, когда говорится об исследовании духовной практики исихастов и об исследовании духовных практик вообще, не используются современные представления об измененных состояниях сознания? Сейчас измененные состояния сознания изучаются в связи с проблемой наркомании, но не только. Эти состояния возникают при функционировании организма в особых условиях, например, при голотропном дыхании. Совершенно неясно, как можно игнорировать эту интерпретацию, поскольку если мы вспомним про «бритву» Оккама, то должны строить свои объяснения, начиная именно с предположения о том, что сознание изменено в связи с нарушением функционирования мозга. Человек поставлен в особые условия существования, например, при аскетическом образе жизни исихастов. При этом мозг не может функционировать так же, как в обычных условиях. Я, естественно, говорю в рамках научной парадигмы. Непонятно, почему не рассматривается эта интерпретация. Есть множество точек, и мы вместо того, чтобы провести через это множество прямую, вычерчиваем сложнейшую кривую.
Научная сторона вопроса, как мне кажется, обязательно должна быть представлена, иначе о ней просто умалчивается и общая картина искажается.
Второе, что мне неясно — это то, что в статьях Сергея Сергеевича говорится о бессознательном и психоанализе Фрейда. Прежде всего, есть вполне ортодоксальные, обоснованные представления о том, что психоанализ ненаучен. Об этом, в частности, писал Карл Поппер. Более того, в нашей культуре, в отечественной психологии, в рамках которой работает институт Бехтерева, психоанализ и бессознательное не признаются. Психологический факультет Ленинградского Университета отказался организовывать кафедру психоанализа. По этому вопросу, конечно, могут быть разные точки зрения. Однако когда в статьях о «неотменимом антропоконтуре», точнее, об одной из его сторон, как «дважды два — четыре» говорится о бессознательном в психоаналитическом смысле, это вызывает недоумение. Безусловно, можно придерживаться и этой позиции, но она требует разъяснения и аргументации.
И, наконец, то, что мне также не вполне ясно: мы слушаем лекцию религиозного философа, однако нельзя сказать, что ее содержание отражает религиозный дискурс. Лишь при ответах на вопросы стало понятно, что мы находимся в Русской Христианской Гуманитарной Академии. Дискурс же, который использовался в лекции, был, полагаю, чем-то средним между научным дискурсом и собственно религиозным. Его можно назвать «теплым», но не «холодным» и не «горячим».
Это то, что мне неясно.
С.С. Хоружий: Спасибо. Было поднято сразу много вопросов, но все они были из одной сферы, касающейся отношений между синергийной антропологией и психологией. Другая общая черта, все они носили характер возражений против неправильных позиций доклада — с некоторых верных позиций. Такие возражения называются идейными. Поскольку их целый ряд, то для ответа стоит их перечислить. Как я их сумел понять, вопросы-возражения были следующие:
1) Почему доклад не использовал «современные представления об измененных состояниях сознания»?
2) Почему доклад не рассматривал интерпретацию духовных практик как дисфункций мозговой деятельности?
3) Почему доклад опирался на концепции психоанализа?
4) Почему доклад не был представлен в религиозном дискурсе?
Прежде конкретных ответов, я замечу, что психологический дискурс — один из основных смежных дискурсов для синергийной антропологии, и отношение с ним постоянно обсуждается, прорабатывается и в моих статьях, и в работе семинара ИСА; в частности, еще в 2000 г. по просьбе психологов Московского Психолого-Педагогического университета мной был прочтен для них курс «Психологические проблемы синергийной антропологии». Мы поддерживаем активный контакт с психологическим сообществом, в состав Ученого Совета ИСА входят В.П.Зинченко, Ф.Е.Василюк, Н.Л.Мусхелишвили, чьи имена для психологов не требуют комментариев, помимо них, в семинаре ИСА делали доклады Б.Д.Эльконин, А.И.Сосланд, и наконец прямым свидетельством плодотворности отношений служит тот факт, что уже ряд лет Ф.Е.Василюк разрабатывает на базе идей синергийной антропологии оригинальное направление «синергийной психотерапии». Как ясно отсюда, тематика вопросов — очень обширная для нас тематика, по которой мне бы нашлось сказать весьма многое; однако сейчас придется ограничиться лишь кратчайшими разъяснениями.
1) Концепция «измененных состояний сознания» (ИСС) не использовалась не только в данном докладе, но и в целом в синергийной антропологии, поскольку с ее позиций, она глубоко неудовлетворительна. Неудовлетворительна во многих аспектах, начиная с самого понятия и термина. Сознание — принципиально динамическая реальность, оно существует исключительно в деятельностном залоге, как ансамбль активностей, которые к тому же неостановимо сменяются, чем вносится уже «динамичность второго порядка». Поэтому его нельзя, некорректно характеризовать «состояниями», ибо понятие со-СТОЯНИЯ включает предикат если и не статичности, то, во всяком случае, стабильности, которого у сознания нет. У сознания есть лишь активности, «режимы активности», «динамические режимы» и т. п. — понятие же «состояние сознания» мнимо, условно и некорректно. Что касается понятия «измененного» СС, то: 1) «измененность» здесь мыслится как сдвиг, отклонение по отношению к некой «норме» — однако никакого концепта «нормы» по отношению к сознанию не создано, 2) ввиду динамической природы сознания, оно существует лишь в качестве непрерывных изменений, так что любое «состояние сознания» является «измененным» предшествующим и «изменяющимся» в последующее. В итоге, понятие ИСС внутренне противоречиво и бессодержательно, если не сказать нелепо. (Что не исключает возможности его эффективного функционирования, в качестве условного знака, в контекстах, ориентированных сугубо прагматически и эмпирически.)
Еще существенней, чем неудовлетворительность термина ИСС — неудовлетворительность самой сути концепции. Эта концепция огульно сливает между собой целый ряд явлений, процессов и понятий, которые синергийная антропология кропотливо различает между собой. От имени «науки» нам предлагают слить под одной шапкой ИСС такие антропологические (и психологические) сферы, разведение которых — одна из главных установок нашего направления! Концепция ИСС объединяет вместе, как якобы однородные феномены, паттерны бессознательного (или, если бессознательное отрицается, патологии сознания) и конфигурации сознания в духовных практиках. Синергийная антропология на обширнейшей опытной основе утверждает, что в этих двух сферах налицо в корне различная процессуальность, динамические механизмы двух радикально различных типов. При этом, оба типа представлены наглядно, в детальной дескрипции. В исихастской практике осуществляется процесс спонтанной генерации энергоформ, выстраивание восходящей иерархии энергоформ, в плане чистой динамики (но, разумеется, не в духовном плане!) родственное динамике самоорганизации, структурированию хаоса, синергетической парадигме. В другом же случае реализуется чисто топологическая динамика, описываемая у Лакана и, философски основательней, у Делёза, с помощью таких концептов как складка, сгиб, зияние или, скажем, «ломаная черта, проходящая сквозь дыры»… Можно сказать условно, что два типа различаются как «вертикальная» и «горизонтальная» динамика; и синергийная антропология идентифицирует еще вдобавок их наложение, композицию — упоминавшийся «гибридный тип». Все эти различения синергийная антропология устанавливает посредством своего метода топической локализации, отнесения антропологических (ergo, и психологических) феноменов к Онтологической, либо Онтической топике (Виртуальная топика сейчас не затрагивается). Концепция же ИСС сливает эти две топики, что влечет за собой множество и других сливаний.
Наряду с этим, в ней сливаются и еще два рода явлений, принципиально различные для синергийной антропологии: духовные практики и психотехники. Наш анализ духовной практики показывает, что она представляет собой весьма специфическую формацию, двойственное единство «духовная практика — духовная традиция», в котором духовная традиция создает органон практики и образует категорически для нее необходимую «жизненную среду». Ничего подобного нет в феномене психотехники, представленном сегодня во множестве видов и вариаций — техники Грофа, Кастанеды, Гурджиева… — имя им легион. Как следствие этого, в нем нет и ряда других ключевых черт духовной практики — тех, в первую очередь, что связаны с актуальным приближением к инобытийному телосу. Дав в книге «О старом и новом» сводную дефиницию «парадигмы духовной практики», я точно указал, при отсутствии каких именно элементов этой дефиниции духовная практика принимает вырожденную форму психотехники. И, как и различение Онтологической и Онтической топик, это второе различение, также игнорируемое концепцией ИСС, в высшей степени принципиально для синергийной антропологии.
2) Вопрос о нейрофизиологической интерпретации духовных практик, кажется, отдельно не задавался, звучал частью предыдущего, но я его выделил особо, поскольку в нем выражается еще одна типичная и частая вульгаризация дискурса сознания: редукционистская позиция, смешивающая сознание и функции мозга. Она сплошь и рядом встречается в Америке в довольно активно там проводимых исследованиях дальневосточных практик, чаще всего, дзена. До исихазма там еще, слава Богу, не добрались, так что прозвучавшая рекомендация имеет, пожалуй, сомнительную честь первенства. Не буду тратить время на повторение философских азов об иноприродности мозга и сознания как принципиально иного уровня реальности, но вместо того отмечу, что нейрофизиологический отсыл содержит и зерно истины. Да, существуют нейрофизиологические факторы или нарушения, способные вызывать в сознании такие эффекты, которые можно смешать с отдельными элементами восходящего процесса духовной практики. Но далее следуют два момента: 1) указанным образом возникают отнюдь не сами ступени Лествицы практики, но лишь «эффекты, которые можно смешать» с ними, то бишь их симулякры; 2) это в самих же практиках изначально известно и принимается во внимание — наряду с прочими возможностями ложного опыта. В частности, критериология исихастского органона содержит специальные указания на сей счет, принадлежащие еще Евагрию Понтику (IV в.).
3) Слушатели согласятся, я думаю, что апология психоанализа — никак не моя задача в этом докладе; да она и вообще сегодня уместна разве что в комическом жанре. За действительным положением вещей могу отослать, к примеру, к недавнему специальному выпуску одного из лучших наших психологических журналов, «Московского психотерапевтического журнала». Название выпуска — «Лакановский психоанализ». А то, что инвективы в адрес психоанализа звучат от имени «науки», производит опять-таки комическое впечатление.
В целом, в вопросах выражались позиции отнюдь не «научности», а партийности в науке, позиции партии или школы — притом, как на первый взгляд кажется, некой отсталой и маргинальной школы. Очень хотелось бы ошибиться в этом.
4) Последний вопрос уже не по части психологии. Даю точную справку: дискурс синергийной антропологии — научный дискурс, проводимый в парадигме участности по отношению к сфере аутентичного религиозного опыта. Это — не богословский и не конфессиональный дискурс. Как верно сформулировала австрийская исследовательница Кристина Штекль, «Синергийная антропология Хоружего не является конфессиональным дискурсом … Это не есть и религиозная антропология… Фактически, это не более (но и не менее) чем антропология, которая сохраняет независимое место для религиозного опыта в антропологическом дискурсе».
(Один из слушателей просит задать вопрос основному докладчику)
О.Н. Губанов: Дайте оценку имяславию.
С.С. Хоружий: По имяславию в «Библиографии исихазма», которую я привез, имеется специальный раздел, который я же составил, и который я сопроводил суммарной, резюмирующей статьей. В целом, я присоединяюсь к богословским оценкам, которые были сделаны митрополитом Сергием Страгородским и греческими богословами. Это — известные оценки в опубликованных текстах. В частности, богословское мнение, сформулированное профессорами греческой богословской школы в Халки, в последние годы не раз перепечатывалось в России.
А.А. Ермичев: Друзья, пожалуйста. Если других желающих нет, то я передаю слово Дмитрию Кирилловичу Бурлаке, который обычно завершает наши семинары.
Д.К. Бурлака: Коллеги, необычная такая задача передо мной стоит, поскольку я всегда подводил итоги семинара, и были разные дискуссии. Но сейчас как-то все подавлены интеллектуальным натиском Сергея Сергеевича, настолько структурированный доклад. То ли люди устали, то ли… Поэтому, собственно, и подводить какие-то итоги так вот невозможно. Я тогда просто хочу сказать, что, на самом деле, то, что делает Сергей Сергеевич Хоружий — может быть, оно и не принимается всеми. И, может быть, в нем есть какие-то моменты, которые подлежат критике. Но мне представляется, что сама деятельность Сергея Сергеевича Хоружего, она, скажем так, на онтологическом уровне фундирована тем событием, которое описано в Деяниях Апостольских, и которое связано с тем, что мы называем Пятидесятницей. Что такое Пятидесятница? Это тот дар или то событие и тот дар говорения на разных языках, которое Святой Дух дал христианству, дал в Церкви. И Апостолы заговорили на разных языках, на языках, которые не были каким-то шаманским бормотанием, как это часто хотят представить неопятидесятнические движения, это были наречия, вполне известные. И этот дар дает возможность Церкви проповедовать Евангелие разным народам. Не только разным народам в этническом смысле этого слова, но и разным социальным группам. И Церковь всегда находила соответствующий язык для того, чтобы донести слово Божие, слово о том, что Бог вочеловечился в Иисусе, и что Он умер за нас и воскрес для разных людей. И вы знаете, очень сильно изменился мир. Я вот вчера тоже говорил что, в общем, сами христиане ввели понятие о постхристианском измерении нашей цивилизации. И я говорил о том, что на самом деле мы должны говорить не о пост-христианской, а о пост-константиновской эпохе, и о том глубоком кризисе культуры, в который вовлечена и Церковь, именно потому, что она слишком сильно срослась с порожденной ею новой культурой. И вот что пытается делать Сергей Сергеевич Хоружий? Он пытается использовать языки, казалось бы людей, далеких от христианства, далеких от Церкви — Делез, Хайдеггер. Но он пытается найти в этих языках более адекватную картину реальности, нежели, например, была представлена в языках классической метафизики, того же Гегеля, или Декарта, или даже определенных крупных богословов, Фомы Аквинского или Блаженного Августина. И это своего рода перевод вечной истины христианства на языки той или иной эпохи, и я думаю, что в этом большое значение деятельности Сергея Сергеевича Хоружего. Он рискует: его концепции, его попытки неоднозначно встречаются в интеллектуальной и в церковной среде, разное есть. Вот мы сейчас услышали крики кустарей из научного лагеря, но и с другой. Но, собственно говоря, как пишет Лосский, сам Бог рискует, входя в пространство истории, и это свидетельство великого Его могущества и свободы. И вот за эту деятельность, скажем так, внутренней евангелизации культуры, в том числе таких ее слоев, которые, казалось бы, далеки от христианства, я хочу поблагодарить Сергея Сергеевича. Также хочу поблагодарить его за то, что он нашел время, уделил нам один день своей жизни. И давайте поприветствуем его.
Аплодисменты
С.С. Хоружий: Спасибо! Благодарю всех за теплый прием, за живой интерес к докладу.
А.А. Ермичев: Спасибо, работа семинара сегодня закончена.
СИНЕРГИЙНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК ЗВЕНО ТРАДИЦИИ РУССКОЙ МЫСЛИ
Доклад прослеживает основные этапы развития русской философской традиции, уделяя особое внимание ее истокам. Показано, что эти истоки двойственны: они включают в себя «Восточнохристианский дискурс», созданный в Византии и представляющий собой синтез греческой патристики и православной аскетики (исихазма), и западную традицию классической метафизики. Взаимодействие этих двух составляющих на почве русской культуры и является ключевым фактором русского философского процесса. Раскрывается логика идей, определяющая переход от религиозной философии Серебряного Века к следующему этапу процесса — богословию русской эмиграции, проделавшему возврат к патристико-аскетической основе и проблематике, затем от этого этапа — к исследованию исихастской антропологии, и наконец — к созданию синергийной антропологии в современных работах автора. Дано описание идей и аппарата синергийной антропологии и обсуждение ее актуальных проблем.
Доклад на Международной конференции «Русская культура», Пекин, декабрь 2006 г.
Одна из основных задач нашей встречи — ознакомить китайских коллег с современным состоянием и проблемами русской философской мысли, осветить и обсудить философскую ситуацию в России. Я не возьмусь говорить об этой ситуации во всей ее широте, во всем спектре проблем и направлений, разрабатываемых в России сегодня. В своих философских размышлениях я всегда был связан по преимуществу с одной определенной линией русской мысли — линией русского религиозного философствования. Соответственно, этой линии и будет посвящено мое сообщение, причем главное внимание мы уделим последним продвижениям в ней, которые связаны с недавно возникшим направлением синергийной антропологии.
1. Никак нельзя отрицать, что русло религиозной мысли, философской и богословской, всегда было центральным и главным во всей русской умственной культуре. (Единственным исключением из этого правила служит советский период, когда в силу внешних факторов само существование данного русла стало временно невозможным.) Его генезис и ранние этапы его развития исследованы давно и детально, многократно описаны, и нам нет необходимости сейчас заново обращаться к ним. Для дальнейшего достаточно указать отдельные вехи и некоторые характерные черты этого развития. Исходная особенность его заключается в своеобразном эффекте запаздывания: развитие русской культуры, хотя и началось интенсивно сразу же с христианизацией Руси, весьма долгое время не включало в себя формирования философско-богословской мысли. Не говоря уж о создании оригинальных трудов, вплоть до последнего периода Московской Руси даже в составе переводной литературы богословие присутствовало минимально, философии же практически не имелось. Роль генезиса, истока в развитии исторических и культурных явлений всегда значительна, и с обсуждения этой особенности начинают анализ русского самосознания оба его наиболее глубоких историка, Густав Шпет и Георгий Флоровский, хотя они и стоят на взаимно противоположных позициях. Здесь действительно отразились важные факторы, которые существенно проявлялись и в дальнейшем.
Как сегодня мы скажем, данная особенность была вызвана специфическими отличиями Православия, или Восточного Христианства, к которому присоединилась Русь, причем эти отличия оказались еще усилены специфически русскими чертами сознания и духовного склада. Активное развитие богословского и философского дискурсов на Западе имело своей необходимой предпосылкой доминирующую роль отвлеченного концептуального мышления, начала которого лежали в античной интеллектуальной традиции, греческой и римской. Но в Византии этот способ мышления не играл такой роли, поскольку восточнохристианское сознание прочно базировалось на примате опыта. Главная цель христианского существования, а равно и христианского разума, виделась в обретении определенного опыта, особого и нелегко добываемого: аутентично христианского опыта единения со Христом, опыта Богоустремленности и Богообщения, жизни в Боге. Этот опыт служил поверяющей инстанцией для речи о Боге и Божественном бытии, и богословие, в отличие от его трактовки на Западе, строилось и рассматривалось не как школьная или научная дисциплина, но как опытный дискурс, поведание о подлинно пережитом опыте Богообщения. Сознание в этом опыте могло быть и искушенным, просвещенным сознанием, поведание могло включать и философские содержания, но выделять в составе цельного опытного дискурса — особый автономный философский дискурс не было оснований. Имело место и изучение античной философии, но цель его виделась лишь педагогической, тренирующей, и четко отделялась от поиска истины, поскольку по Евангелию известно было, что вся истина — во Христе. Подобные установки сформировали особый Восточнохристианский дискурс, основы которого сложились уже у преп. Максима Исповедника (7 в.) и представляли собою синтез греческой патристики и православной аскетики, исихазма.
Итак, русская культура, русское интеллектуальное сознание конституировались путем трансляции из Византии, при некотором посредстве южных славян, Восточнохристианского дискурса. Трансляция в полной мере включала установку примата аутентичного опыта Богообщения, однако не включала ни греческого языка, ни греческой философии и даже творения Отцов Церкви включала крайне обрывочно. Такая селективность была отчасти выбором самого русского сознания: как показывают исследования, вслед за Исихастским Возрождением в Византии, в 14–15 вв., делались специальные усилия по трансляции на Русь текстов возникшего тогда богословия энергий, крайне важного для развития православной мысли; но переводы таких текстов копировались и распространялись пассивно, мало, гораздо менее аскетико-назидательных сочинений — и, в итоге, энергийное богословие практически не получило рецепции в России. Как ясно из сказанного, русское сознание, воспринимая Восточнохристианский дискурс, формировалось как истово благочестивое, однако лишь минимально просвещенное и едва ли стремящееся к просвещению сознание. Таким его облик остался на многие столетия. Сравнительно с Византией, отличия от парадигм западного философско-богословского сознания здесь еще возросли; смещение акцентов и ценностных приоритетов от интеллектуального опыта к сугубо душеспасительному нравственно-аскетическому опыту еще увеличилось.
Восточнохристианский дискурс не создал своей самостоятельной парадигмы культурного развития и научного знания. Постепенно западные парадигмы утвердились в качестве единственного и универсального образца для христианской и европейской культуры в целом, включая и ареал Православия. При этом, в культуре православных стран специфические отличия духовности и менталитета проявлялись как некие «поправки малого порядка»: не слишком значительные отклонения и сдвиги, дополнительные оттенки, нюансы на фоне доминирующих западных моделей и парадигм. Но, наряду с этим, оставалась и сфера, где эти отличия занимали господствующее место: сфера низовой, народно-фольклорной духовности и культуры, активно противившаяся вестернизации. Характерной особенностью православного социума стал социокультурный и духовный раскол. В России он принял, вероятно, наиболее глубокие и острые формы и самым существенным образом сказался на развитии русской философии.
2. Как известно, русская мысль становится философским явлением, стоящим на уровне профессионального дискурса европейской философии и вносящим полноценный вклад в европейский философский процесс — лишь в творчестве Владимира Соловьева. Все главные идеи философии Соловьева и все характерные особенности его творчества переходят затем в философию его многочисленных последователей, чьи труды составили основу знаменитого Русского религиозно-Философского возрождения. Особая слава, которой пользуется этот недолгий период русской мысли, вполне заслуженна. Как ни определять его границы, но в любом случае он длился не более полувека, а наиболее активная, плодотворная его часть — лет двадцать; но сделанное за это время составляет сегодня львиную долю содержания всей истории русской философии. И, разумеется, дело не в объеме продукции; ни до, ни после эпохи Серебряного Века, идейным ядром которого явилось Религиозно-Философское возрождение, Россия не выдвинула такой плеяды мыслителей мирового масштаба. Флоренский, Булгаков, Бердяев, Шестов, Франк, Вяч. Иванов, Карсавин — творчество каждого из них сегодня изучаемо особым сообществом специалистов, о каждом создана целая литература и каждому посвящаются регулярные события и встречи на мировом уровне. Но нас не занимают сейчас отдельные фигуры или отдельные идеи. Во всем крупнейшем явлении, которое представляет собой мысль Серебряного Века, нас более всего интересует его статус и его судьба в целом. В этом плане встают два взаимосвязанных вопроса
[2]: 1) в каком отношении находится философия Серебряного Века к Восточнохристианскому дискурсу и определяемой им русской духовной традиции? 2) Что сменило данную философию в процессе развития русской мысли и как произошла смена этапов?
Успешное создание обширного ряда философских учений и систем вслед за философией Соловьева было обусловлено одним ключевым обстоятельством: эта философия совершила прорыв, открывший возможность нового русла философствования. Данное русло, по которому и пошла философия Серебряного Века, согласно нашей оценке
[3], было определенной самостоятельной школой в рамках классической западной богословско-философской традиции. От этой традиции были восприняты основания онтологии, метод и аппарат, категориальный строй, причем во всех этих аспектах наиболее существенны были влияния классического немецкого идеализма. Самостоятельные же, оригинальные элементы были прямо связаны с Восточнохристианским дискурсом. Вестернизация не была, разумеется, полной псевдоморфозой, подменой русской культуры со всеми ее духовными основаниями, глубинными интуициями; оттесняясь, но не уничтожаясь, эти интуиции и основания продолжали жить. Рождаясь в поле действия не только вестернизованных пластов культуры, но также и почвы русского Православия, русской духовной традиции, новая философия стремилась выразить аутентичный опыт русской истории и духовности, национального бытия и менталитета — всего того, что нес сгущенно в себе Восточнохристианский дискурс. Она, таким образом, имела собственные задания, собственные идеи и темы, и проблема ее была в том, чтобы реализовать эти задания с помощью обретенных западных средств. Для этого требовались понятия смешанной природы, которые принадлежали бы западному философскому дискурсу и несли при этом содержания, отвечающие Восточнохристианскому дискурсу. Заслугою Соловьева было то, что он указал первый крупный концепт такого рода, способный стать главным принципом целого философского направления. Построенная им система всеединства оказалась лишь первым примером в богатом спектре учений русской метафизики всеединства — нового течения в европейской философии, которому он положил начало. Здесь, главным образом, и была обретена искомая общая почва классической европейской метафизики и Восточнохристианского видения мира, человека и Бога. Системы всеединства, представленные Флоренским, Булгаковым, Евгением Трубецким, Н.Лосским, Франком, Карсавиным, выразили многие коренные черты этого Бого- и миро-видения и, в первую очередь, присущие ему интуиции или идеалы гармонического единства бытия и соборного общественного устройства.
Довольно быстро, однако, обозначилась и ограниченность этой общей почвы. Другие, не менее существенные черты и стороны Восточнохристианского дискурса оставались за ее пределами и, как уяснялось постепенно, не могли быть включены в нее вообще, в принципе. Как мы скажем сегодня, это были те стороны, в которых воплощалась личностная и энергийная природа Восточнохристианского дискурса, отличная от эссенциальной природы классической метафизики. Сюда входили самые сердцевинные, ключевые особенности этого дискурса, связанные с его основоположной установкой примата опыта — аутентичного опыта Богообщения. Школой этого опыта служила аскетическая традиция исихазма. Она создала цельную практику самопреобразования человека, строящуюся как последовательное восхождение по знаменитой Духовной Лествице к соединению со Христом — обожению. При этом, преобразованию подлежали не какие-либо отвлеченные, метафизические характеристики человека, а его реальные проявления, энергии. Практика оперировала с человеком как с энергийным образованием — и, соответственно, такой практике должна была отвечать некоторая энергийная антропология, заведомо отличная от классической европейской антропологии Аристотеля-Декарта-Канта. Наряду с этим, финал, телос практики также трактовался православным богословием в энергийном дискурсе: уже у преп. Максима Исповедника обожение раскрывалось как совершенное соединение всех энергий человека с Божественною энергией, благодатью Святого Духа.
В итоге, специфические отличия Восточнохристианского дискурса, в которых проявилось его расхождение с аристотелианской, эссенциалистской основой классической метафизики, были достаточно фундаментальны. Они охватывали и темы о человеке, и темы о Боге, а также и аспекты метода, организации дискурса, концептуального строя, поскольку в классической метафизике все эти аспекты были связаны прямо с эссенциалистской природой понятий. Развитие русской философии (как и русской культуры в целом) в эпоху Серебряного Века отличалось необычайной насыщенностью и ускоренностью; и эта принципиальная ограниченность возможностей, невместимость существенных сторон Восточнохристианского дискурса в рамки избранного способа философствования стала отчетливо осознаваться рядом философов уже в годы кануна Первой мировой войны и Октябрьской революции. Толчок к этому осознанию был дан конфликтом в монашеской, а затем и общецерковной среде, который был порожден движением имяславцев — иноков-исихастов, утверждавших особую, более ключевую и центральную, чем ранее принималось, роль Имени Божия и поклонения ему в отношении христианина к Богу. Группа московских философов (Флоренский, Булгаков, Эрн, а поздней и Лосев), активно поддержав имяславие и поставив задачу философско-богословского обоснования его позиций, убедилась вскоре в невыполнимости такой задачи в рамках существовавшей метафизики всеединства. Соответственно, они решили расширить эти рамки, дополнив метафизику всеединства концепциями, способными описать философско-богословское содержание исихастской практики и исихастского Богообщения. В первую очередь, это были концепции вышеупомянутого энергийного богословия, развитого св. Григорием Паламой в эпоху Исихастского возрождения 14 в. Такая стратегия была осуществлена, и в русской философии возникли три независимых опыта «философии Имени» (Эрн, скончавшийся в 1917 г., успел лишь начать свои построения). Сохраняя эссенциалистскую онтологию метафизики всеединства и дополняя ее энергийными концепциями, они были опытами философского энергетизма характерно неоплатонического типа, когда принципы энергии и сущности на равных началах служат в качестве верховных порождающих принципов философского дискурса. Но все эти опыты были созданы в России уже после Октября и оставшись подавляющей частью неопубликованными в свое время, практически не повлияли на развитие русской мысли (лишь в наши дни они начали активно изучаться и обсуждаться). Это развитие пошло по другому пути и в ходе него выяснилось, к тому же, что идеи и построения московских защитников имяславия, в свою очередь, существенно не согласуются с истинными принципами Восточнохристианского дискурса.
3. Следующий этап русской религиозной мысли формировался в радикально иной обстановке и атмосфере, порожденной российской катастрофой и изгнанием культурных сил из страны. Для понимания эмигрантской мысли небезразличны и психологические тональности этой атмосферы. Исторический перелом сказался и психологическим переломом — на смену эмоциям энтузиазма, «священного хмеля», «оргиастического восторга» и проч., на смену тяге к созданию широких возвышенно-идеалистических систем, чрезмерной доверчивости ума и благодушию сердца — пришли разочарованность, горечь, ожесточенность. Преодолевая болезненные стороны этой психологической стихии, озлобленность и замутненность души, христианское сознание стремилось претворить ее в установки покаяния и трезвения. А это — аскетические установки; сами обстоятельства наталкивали переживших крушение России на то, чтобы обратить пристальное внимание на мир аскезы, признать за ним роль ядра и стержня духовного мира Православия. Применительно к сфере мысли, философско-богословской сфере, установка трезвения требовала уйти от прежних широких синтезов, вольных построений, черпающих понятия и идеи в любых умственных мирах, — к мысли ответственной и строгой, имеющей твердую основу в определенной опытной почве.
В таких установках в эмиграции, в 20-е — 30-е годы созревала мысль философско-богословского поколения, следующего за деятелями Религиозно-Философского возрождения. Недоверие к метафизике Серебряного Века, сознание необходимости мысли более достоверной, строящейся на иных основаниях, принадлежали здесь к исходным посылкам и позициям. Но в чем и какая же обретена была достоверность? — Первые результаты происходившей внутренней работы начали появляться в середине 30-х гг. Они принадлежали трем авторам, взаимно никак не связанным; и тем значительней, что рассуждения этих авторов, будучи заметно различны в темах, подходах, логике, тем не менее, целиком согласуются между собой в главном.
— О. Георгий Флоровский в своих курсах патрологии, вышедших в свет в 1932-34 гг., в «Путях русского богословия» (1937) уже формулирует свою знаменитую концепцию неопатристического синтеза. По этой концепции, в рамках Восточнохристианского дискурса достоверной основой является корпус греческой патристики — писания Отцов Церкви, образующие единство с аскетикой, прошедшие рецепцию Вселенских Соборов и признанные общеправославным сознанием как Предание Церкви;
— о. Василий (Кривошеин), афонский монах, в блестящей работе «Аскетическое и богословское учение св. Григория Паламы» (1936), разом поставившей изучение исихазма и богословия энергий на новый уровень, отсылает непосредственно к аскетическому опыту, выстроенному по строгому канону афонского исихазма и истолкованному согласно богословию Паламы:
— В.Н.Лосский, уже с первых своих текстов, рассматривающих догматический дискурс православного богословия («Спор о Софии» (1935), «Очерк мистического богословия Восточной Церкви» (1944)), выстраивает изложение на базе положений богословия энергий, опять-таки непосредственно укорененных в опыте исихазма.
В ретроспективе, в названных работах уже ясно намечаются контуры некоторого нового этапа русской мысли. Дополнительный вклад в становление и самоопределение этого этапа внесла возникшая необходимость размежевания с предшествующим этапом, с позициями мысли Серебряного Века. Такой необходимостью стал известный «Парижский спор о Софии», дискуссия по поводу софиологического учения о. Сергия Булгакова, представленного в его книге «Агнец Божий» (1933). Нам нет нужды входить в содержание спора. Довольно сказать, что обсуждаемое учение во всех отношениях — в своих идеях, методологии, типологии — было характернейшим образцом мысли Серебряного Века, а в проходившей дискуссии Лосский и Флоровский стали его главными теоретическими оппонентами. Отмежевание от софиологии оказалось прочной общей чертой формирующегося направления: о. Василий (Кривошеин), будучи на Афоне и не принимая в споре прямого участия, тем не менее счел необходимым указать лаконично в своей работе: «Мы не можем согласиться с мнением о. Сергия Булгакова о внутреннем сходстве его учения о Софии с учением св. Гр. Паламы… Нам представляется несомненной существенная разница между обоими учениями»
[4].
Окончательное формирование нового этапа произошло, однако, позднее. «Парижский спор о Софии» можно считать лишь своеобразным символическим прологом, когда новое явление, впервые мелькнув на сцене, не было еще замечено и опознано. Помимо прочего, проблемой было и то, в каком сообществе такое явление могло бы найти рецепцию, быть воспринято, в какой контекст оно могло бы войти. Культурный слой эмиграции был парадоксальной средой: по универсальному закону, малые сообщества, попав в изоляцию, застывают в развитии, консервируются; и, принеся в изгнание модернистскую культуру Серебряного Века, этот слой не избежал опасности закоснеть, сделаться консервативным в своем модернизме. Для адекватного развития зародившемуся новому был нужен выход вовне; и неслучайно решающими вехами в становлении нового направления стали две франкоязычные публикации богословов русской диаспоры: в 1944 г. — выход в свет вышеназванного труда Вл. Лосского и в 1959 г. — выход книги о. Иоанна Мейендорфа «Введение в изучение св. Григория Паламы». Фундаментальная монография Мейендорфа, помимо богатства конкретного содержания, выдвигала совершенно новый для Запада общий взгляд на предмет и, в прямую противоположность стандартному взгляду на Православие как на мир недвижный, косный, отсталый, раскрывала именно «передовой» для нашей современности характер учения Паламы, утверждала его современную ценность и актуальность. Вкупе с влиянием работ Вл. Лосского по православной догматике и о. Георгия Флоровского по неопатристическому синтезу, появление труда Мейендорфа, вызвавшее огромный поток откликов, изменило вскоре весь мировой контекст изучения и понимания православной мысли. К середине 70-х гг. существование нового направления этой мысли стало неоспоримым фактом, причем воспринимающей средой для него служило сообщество христианских богословов всех конфессий. За ним закрепилось имя «неопатристики и неопаламизма» — скорей неудачное, поскольку, как я неоднократно указывал, оно неадекватно передает статус патристики и паламизма в православном сознании.
В сути его идей, новое направление может быть охарактеризовано как православный энергетизм. Им развивается современная трактовка энергийного богословия Паламы, всесторонне учитывающая исихастские основания этого богословия и, в отличие от философского энергетизма, развивавшегося в Москве, избегающая любых понятий, чуждых его опытной почве. Благодаря этому, мысль наконец достигает здесь адекватного выражения Восточнохристианского дискурса, духовной традиции Православия; но при этом, очевидно, она развивается отнюдь не в философском дискурсе. В отличие от предшествующего этапа русской мысли, этап «неопатристики и неопаламизма» — сугубо богословский этап, который достиг решения своих задач именно за счет строгой приверженности исихастскому опыту и прямо с ним связанному богословию энергий. Однако с его развитием встают и дальнейшие вопросы, определенная и важная часть которых носит философский характер. После необходимого ухода, «модуляции» русской мысли в богословский дискурс, дальнейшей необходимостью становится возвращение к философской рефлексии, однако на новом уровне: «обратная модуляция».
4. Две взаимосвязанные особенности православного энергетизма обращают на себя внимание своей близостью к современным тенденциям в философии: его обращенность к опыту и его обращенность к человеку. Связь-укорененность с подвижнической традицией, верность ее аутентичному опыту — главная методологическая установка нового этапа, ясно осознававшаяся как его отличие от предшествующей религиозной метафизики. Притом, эта обосновывающая связь была наполнена антропологическим содержанием, поскольку была связью с некоторой антропологической практикой, стратегией самореализацией человека. Как мы скажем сегодня, данный этап нес в себе два принципиально новых момента: феноменологический поворот и антропологический поворот. Но к его непосредственным задачам, как и к самому типу его понятий, его дискурса, отнюдь не принадлежало явное раскрытие и осмысление этих моментов, и они пребывали в нем имплицитно и неотрефлектированно. Меж тем, они были важны и актуальны в современной интеллектуальной ситуации — ситуации антропологизации богословия, отказа от метафизики и кризиса всех классических моделей и парадигм.
В этом свете понятно, что очередным шагом в развитии русла религиозной мысли стало, при прежней опоре на исихазм, более явное и пристальное обращение к его антропологическим аспектам, к строению и природе его опыта. В работах 90-х гг. мною была поставлена и решена задача фронтальной реконструкции и исследования исихазма во всем комплексе его антропологических и духовных измерений. В книге «К феноменологии аскезы» (1998) дана была полная дескрипция исихастской практики как ступенчатого процесса самопреобразования «энергийного человека» — человека, взятого как энергийное образование, полная совокупность антропологических проявлений. Эта дескрипция стала конкретным примером неклассической антропологии, опытной и энергийной, целиком отказывающейся от понятий и аппарата классической модели человека Аристотеля-Декарта-Канта, включая все три фундаментальных концепта этой модели — субъект, сущность, субстанция. Отказ от классической парадигмы шел и дальше: построенная исихастская антропология уже не была традиционной философской антропологией, которая, согласно Максу Шелеру, должна заниматься исследованием сущности человека. Эта антропология была бессущностной и трансдисциплинарной, сочетая в себе основные дискурсы, причастные к проблеме человека — не только философский, но и богословский, герменевтический, психологический, системно-синергетический. Анализ структур исихастского опыта и сознания привел к открытию того, что механизмы работы сознания в духовной практике весьма близко соответствуют описаниям интенционального сознания в феноменологии Гуссерля, и исихастское сознание в модусе трезвения есть близкий аналог феноменологического сознания ав модусе интенциональности. На базе этого вывода возник вариант решения одной из давних проблем феноменологии — проблемы применимости ее метода для описания феноменов религиозно-мистического опыта: удалось наметить определенное обобщение концепции интенциональности, названное холистической интенциональностью и охватывающее опыт высших ступеней духовной практики. Обнаруженная тесная связь теории интенциональности и работой сознания в духовных практиках способна привести ко многим принципиальным продвижениям в религиозно-антропологической проблематике.
5. Антропология исихазма представляет собою, очевидно, некоторую
частную антропологию: такую, что изучает человека лишь в определенных (и очень специфических) его практиках, составляющих духовную практику исихазма. Однако многовековой опыт аскетической традиции сделал ее до предела насыщенной конкретным антропологическим содержанием — наблюдениями, приемами, техниками — весьма своеобычного рода, неведомого для классической антропологии; и поэтому она таила в себе богатый ресурс для дальнейших продвижений в проблеме человека. Наиболее ценным и перспективным оказался элемент наибольшей общности: при ближайшем рассмотрении, мы обнаруживаем в исихастской антропологии общий принцип конституции личности и идентичности человека. Весь духовно-антропологический процесс исихастской практики направляется, как сказано выше, к обожению человека, трактуемому как совершенное соединение энергий человеческих и Божественных. Эти два рода энергии имеют максимально различную природу — они различны онтологически, принадлежат разным горизонтам бытия. Поэтому их соединение требует особых предпосылок, которые и должна создать практика. Ключевая и главная из этих предпосылок —
синергия [5] : строй взаимной сообразованности, согласованности, «соработничества» той и другой энергии. Подобно обожению, синергия также принадлежит к числу специфических феноменов религиозно-мистической жизни, невозможных в стихии обычного эмпирического существования, и в течение веков с нею была связана сложная богословская проблематика с элементами межконфессиональной полемики (в проблеме синергии позиции богословия различных конфессий весьма расходятся). Для нас сейчас, однако, важна не теологическая, а антропологическая сторона. При взгляде
sub specie anthropologiae, концепт синергии обнаруживает мощные эвристические потенции: за ним открывается некоторый фундаментальный антропологический принцип.
Достигая в синергии своей согласованности с Божественными энергиями, энергии человека оказываются, тем самым, способны воспринять их присутствие — оказаться не закрытыми, не замкнутыми для них. В этом свойстве — глубокое содержание. Божественные энергии — онтологически иные энергии, их источник лежит вне горизонта человеческого существования и бытия — т. е. в философской терминологии, этот источник представляет Другое, или Иное для человека (притом, онтологически Иное). Поэтому способность воспринять их присутствие, не-замкнутость для них означает, что человек — в своих обычных практиках ограниченный горизонтом своего существования, замкнутый в этом горизонте, — оказался открыт, разомкнут навстречу Иному: неким образом осуществил размыкание себя. В этом, очевидно, и заключается антропологическое содержание синергии: в антропологическом аспекте, синергия означает размыкание и разомкнутость человека в его энергиях («энергийного человека») навстречу онтологически Иному.
Переход к концепту антропологического размыкания — критически важный шаг. Прежде всего, понятия (антропологического) размыкания и Иного принадлежат уже не исихастской, а общей антропологии; это универсальные антропологические понятия, с которыми мы выходим в общеантропологический контекст. Более того, в этом контексте они могут рассматриваться как основоположные понятия антропологического дискурса; базируясь на них, возможно развить цельную концепцию человека. Для всякого явления, отношение с Иным ему — определяющее, конститутивное отношение, поскольку в этом отношении устанавливается граница явления — а она, по общей философской логике, задает дефиницию, определение явления (определить предмет значит указать границу его, «обвести по контуру»). Антропологическое же размыкание есть универсальный способ, каким человек актуализует свое отношение с Иным — и, стало быть, это есть также универсальная парадигма конституции человека. В классической антропологии конституция человека определяется его сущностью, которая играет и роль порождающего принципа антропологического дискурса; и мы заключаем, что антропологическое размыкание выступает как альтернатива сущности человека в рамках неклассической энергийной антропологии. Для европейской мысли такой вывод не является целиком новым: фундаментальную роль размыкания, исхода из замкнутости в открытость, как акта, конституирующего личность и идентичность, «самость» человека, активно утверждал Кьеркегор. В своих главных текстах («Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам»», «Болезнь к смерти» и др.) он представляет ряд подробных сценариев этого конституирующего акта или процесса, рассматриваемого им как исполнение назначения человека; и потому, наряду с синергийным богословием Православия, в его философии мы также можем видеть прообраз антропологии размыкания. Однако, подобно исихастской антропологии, антропология Кьеркегора является, вообще говоря, лишь частной антропологией, поскольку постулирует априори, что конститутивное отношение Человек — Иное имеет лишь единственную репрезентацию в онтологическом отношении Человек — Бог (Иное бытие); а кроме того, она слишком во многом еще зависит от эссенциалистских понятий и позиций системы Гегеля.
6. Найдя в принципе синергии общеантропологическую парадигму размыкания, мы можем продвинуться дальше, используя эту парадигму как порождающий принцип антропологической модели. На исходной стадии, необходимо идентифицировать все сущие и возможные репрезентации парадигмы. Каждая из таких репрезентаций определяет некоторый тип конституции человека, его структур личности и идентичности, тогда как весь их спектр, очевидно, будет определять общие контуры модели — или, иными словами, контуры Человека согласно неклассической энергийной антропологии.
В данной логике рассуждения, принцип синергии выступает как одна из репрезентаций: а именно, онтологическое размыкание человека, размыкание навстречу Иному бытию. Нетрудно убедиться, однако, что данный род антропологического размыкания не является единственным. Горизонт человеческого существования естественно понимать как горизонт сознания и опыта человека. Иное, внеположное этому горизонту, может быть репрезентировано отнюдь не только как онтологически иное, иной горизонт или способ бытия — ибо, по самому определению, иным, внеположным горизонту сознания, является также и бессознательное. Отношения человека с бессознательным — т. е. в наших терминах, размыкание человека навстречу бессознательному — обширная сфера антропологического опыта, которой занимается психоанализ. Как соотносятся меж собой два рода размыкания человека? Бессознательному не приписывается статуса Иного бытия; в онтологической дихотомии Бытие — Сущее, или же онтологическое — онтическое, его бытийный статус характеризуется категориями сущего и онтического. В силу этого, в отношениях с бессознательным осуществляется онтическое размыкание человека, развертывающееся в пределах горизонта наличного бытия и не являющееся онтологическим событием. Это отличие — отнюдь не из числа отвлеченных свойств, оно характеризует природу явления и сказывается радикальным различием антропологической динамики, механизма процесса размыкания в двух случаях. Здесь мы впервые сталкиваемся с одной из главных особенностей рождающейся антропологической модели: поразительной плюралистичностью возникающего образа человека. В своих проявлениях, отвечающих разным репрезентациям антропологического размыкания, человек оказывается до такой степени различен, что можно с достаточным основанием считать эти репрезентации порождающими не только разные типы личности, но разные существа.
Как показывает моя реконструкция исихастской практики, онтологическое размыкание реализуется как ступенчатый процесс, где выстраивается череда меняющихся способов организации «энергийного человека» — иерархия динамических или энергийных форм, в строгом порядке восходящих к синергии и обожению, энергийному соединению с Иным бытием. К этому онтологическому процессу, в котором человек ищет и достигает своей самореализации в бытии, всегда с основанием применялась метафора вертикали, восхождения, лестницы, а его антропологическую динамику мы можем сегодня охарактеризовать как динамику синергетического типа. Что же до онтического размыкания, то коль скоро человек под влиянием энергий бессознательного не ориентирует собственные энергии к трансцендированию наличного бытия, это влияние может сказываться лишь воздействиями топологического характера: изменениями или нарушениями обычных путей, ходов, траекторий, какими следуют сознание и поведение человека. Данные психоанализа подтверждают это дедуктивное заключение: феномены, индуцируемые из бессознательного — неврозы, фобии, мании и т. д. — типично характеризуются именно в топологических терминах, как эффекты нарушения связности сознания, образования в нем лакун, запретных зон и проч. Психоаналитическая философия, глубоко развитая у Лакана и Делеза, рисует человека сугубо топологическим существом, процессуальность которого лишена всякого онтологического содержания, всецело реализуясь в плоскости сущего, — отчего для нее адекватна уже только метафора горизонтали, криволинейных путей или сетей на плоскости (как видно наглядно хотя бы на примере ризомы, корневой сети — одного из ключевых концептов Делеза). Итак, если Иное бытие — онтологически внеположный и потому синергетический фактор, то бессознательное — онтически внеположный и потому топологический фактор. И эти два внеположных фактора, или энергийных источника, конституируют радикально различную антропологическую динамику и антропологическую реальность.
Переходя к поиску других репрезентаций парадигмы, следует уточнить наш концепт Иного: в нашем случае, это никак не иное отдельному индивиду (репрезентации такого иного необозримы), равно как и не иное эмпирическому человечеству (репрезентациями такого иного могут служить пернатые, четвероногие, Природа, Космос…), но иное по отношению к горизонту человеческого существования (включающему в себя пространственно-временной Универсум). Здесь круг репрезентаций становится минимален, сужаясь до дихотомии: Иное онтологически — Иное онтически, уже описанной нами. Соответственно, этою же дихотомией ограничиваются репрезентации фундаментального отношения Человек — Иное и репрезентации антропологического размыкания навстречу Иному. Тем не менее, в поле современного антропологического опыта легко обнаруживается еще одна репрезентация парадигмы размыкания — репрезентация другого типа, не связанного с Иным. Действительно, размыканием человека — т. е. снятием его замкнутости в обычном способе существования — необходимо считать и его выходы в виртуальную реальность. Виртуальные явления определяются по противопоставлению актуальным, как явления, не обладающие полнотой актуализации, не сформировавшие до конца свой актуальный состав и облик, недоактуализованные. А недоактуализованность — то же что недозамкнутость, ибо это — недостижение полного и окончательного, в этом смысле — замкнутого облика и состава. Поэтому человека в его виртуальных проявлениях надо считать разомкнутым, в смысле — недозамкнутым, недозамкнувшим себя до своей законченной актуальности. Т. о., существует виртуальное размыкание человека, которое, в отличие от других, не является встречей с Иным, а определяется чисто привативно, по отсутствию, недостаче тех или других предикатов актуальной антропологической реальности — иными словами, как размыкание в простую недозамкнутость. Как известно, этот вид размыкания всё шире распространяется в наши дни, осуществляясь в непрерывно растущем репертуаре антропологических практик.
Из хода нашего рассуждения ясно, что спектр репрезентаций теперь полностью исчерпан: человек может разомкнуть себя Иному бытию, Иному сущему или же недозамкнуть, недоактуализовать себя — и никаких других типов антропологического размыкания в реальности нет. Описав этот спектр, мы существенно приблизились к созданию фундамента неклассической антропологии, которую естественно назвать синергийной антропологией: ибо это антропология, основанная на парадигме размыкания, первый исторический пример которой дан был в концепции синергии. Для завершения фундамента мы, однако, еще нуждаемся в объединяющем концепте, который бы сводил воедино все три обнаруженные репрезентации размыкания. В размыкании конституируется (строится, формируется) личность и идентичность Человека, так что данный концепт должен обозначать всю сферу антропологической реальности, обладающую конституирующей потенцией, «кухню конституции» Человека.
В любой из своих репрезентаций, размыкание человека — определенная совокупность антропологических проявлений, причем эти размыкающие проявления — особого рода: в них человек достигает предельных областей своего сознания и опыта, областей, где фундаментальные предикаты человеческого существования начинают меняться (за счет встречи с Иным, либо неполной актуализации). Предельность — общее определяющее свойство размыкающих проявлений для всех способов размыкания, и потому совокупность всех предельных антропологических проявлений в точности совпадает с объединением областей всех трех размыканий, т. е. с вышеуказанной конституирующей сферой антропологической реальности. Как ясно отсюда, эта совокупность играет ключевую роль в возникающей концепции человека. Введем поэтому для нее особый термин: будем называть совокупность всех предельных антропологических проявлений Антропологической Границей. Это и есть недостающий концепт, собирающий в себе все репрезентации парадигмы размыкания; и в своей собирательной и конститутивной роли, он становится центральным концептом синергийной антропологии. Области, отвечающие трем способам размыкания, мы называем топиками Антропологической Границы, так что в своей структуре Граница складывается из трех топик, Онтологической, Онтической и Виртуальной, которые могут также перекрываться между собой.
7. Такова, в самом кратком описании, основа синергийной антропологии — неклассической антропологии, бессубъектной и бессущностной, трактующей человека как энергийную формацию и определяющей человека его Границей, его предельными проявлениями. Эти два принципа, энергийность и предельность, определяют рабочий аппарат и методы новой модели человека. Ее непосредственный предмет изучения — различные виды антропологических практик. В числе последних выделяются три основных, базисных вида, в которых осуществляются репрезентации размыкания: онтологическое размыкание — в духовных практиках, онтическое размыкание — в паттернах бессознательного и виртуальное размыкание — в виртуальных антропологических практиках. Первичный анализ этих базисных практик проделывается уже в ходе построения фундамента синергийной антропологии, но тем не менее их исследование постоянно остается в рабочей тематике модели. Затем, ряд практик необходимо оказывается в орбите изучения при достройке, довершении фундамента, когда надлежит дать трактовку комплекса непременных антропологических проблем, как то: проблемы телесности (соматические практики), проблем интерсубъективности, общения и сообщества (диалогические и коммуникационные практики), проблемы культуры и художественного самовыражения человека (культурно-художественные практики). И наконец, обширный, а потенциально — неограниченный круг практик вовлекается в рассмотрение, когда мы переходим к приложениям модели. К числу наиболее актуальных приложений сегодня принадлежат, прежде всего, разнообразные экстремальные практики, включая террористические и суицидально-террористические, практики трансгрессии, виртуальные практики, предельно сливающие антропологическую и компьютерную реальность и намечающие переход в «постчеловеческий мир».
На данной стадии, лишь малая доля из всего перечисленного (в частности, соматические, художественные, некоторые экстремальные практики) успела получить хотя бы предварительную трактовку. Аппарат модели позволяет, однако, сформулировать некоторые общие правила, универсальную методологию для описания и анализа любых практик и, в принципе, любой сферы антропологической реальности. Не входя в обсуждение этой методологии
[6], скажем лишь, что в основе ее лежит процедура «топической локализации» антропологических феноменов, которая устанавливает связь изучаемого феномена с топиками Антропологической Границы (те же явления, у которых такая связь целиком отсутствует, мы выделяем в класс «практик обыденности»).
В построении модели встают и некоторые общие проблемы, затрагивающие все топики Границы и все классы практик. В первую очередь, из них важны две. Первая из них — дескрипция структур личности и идентичности, отвечающих трем способам размыкания или, иными словами, реконструкция трех базовых репрезентаций существа «Человек»: Человека Онтологического, Человека Онтического и Человека Виртуального (а затем и «гибридных» репрезентаций, отвечающих сочетаниям топик). Вторая же — дескрипция «антропологической эволюции». Что это такое? Естественно ожидать, что в любую эпоху, в любом обществе и культуре, не все способы размыкания реализуются в равной мере, но из них выделяется какой-либо преобладающий, доминантный. Рассматривая доминантность того или другого размыкания, той или другой репрезентации Человека как особую характеристику или даже «антропологическое определение» эпохи, мы ставим вопрос об эволюции этой характеристики: о том, чтобы проследить изменения со временем доминирующей репрезентации Человека. Тем самым, наша модель ставит проблему описания исторического процесса под новым углом; история должна быть представлена в антропологическом ключе, как
История Человека, структурируясь при этом по-новому — на эпохи доминирования определенных антропологических формаций
[7].
В этой трансформации исторического дискурса проявляется общая эпистемологическая особенность или потенция модели: в принципе, она должна выводить к аналогичной трансформации также и других гуманитарных дискурсов, переводящей их в антропологически фундированный строй понятий. Практическое продвижение в этом направлении уже происходит в психологии, где в течение ряда лет развивается подход «синергийной психотерапии», ориентированный на концептуально-методологическую базу синергийной антропологии. Как пишет основатель данного подхода Ф.Е.Василюк, «Синергийная психотерапия — психотерапевтический подход, основывающийся на синергийной антропологии»
[8]. При этом, как и при изучении антропологических практик, в рамках синергийной антропологии возникает общий метод антропологизации гуманитарных дискурсов, основанный также на топической локализации — соотнесении избранного дискурса с определенной сферой антропологических проявлений, а этой сферы, в свою очередь, с определенной топикой (или топиками) Границы.
Как видим, с развертыванием синергийной антропологии обнаруживаются и вступают в действие существенные особенности ее природы. При этом развертывании она входит в тесное взаимодействие, вообще говоря, со всеми гуманитарными дисциплинами, всеми дискурсами, причастными к речи о человеке, раскрывая в себе трансформирующие и объединяющие потенции по отношению ко всему комплексу наук о человеке и всей сфере гуманитарного знания. Она явно не есть «философская антропология»: последняя, по Максу Шелеру, не отделяет себя от изучения «сущности человека», признанной ныне фиктивным, пустым концептом (и потому испытывает глубокий кризис, нуждаясь в кардинальном переосмыслении своего предмета и статуса). Она не есть и «философия человека»: исследование ее непосредственного предмета, антропологических практик, всегда трансдисциплинарно (хотя и с ведущей, связующей ролью философии — и, прежде всего, феноменологии — как определяющей метод и герменевтику всего исследования). Словом, она — не ветвь философии, но также не ветвь или направление какой-либо другой науки, равно как и не отдельная наука, дисциплина в ряду других частных дисциплин. Развертывая, актуализуя свои методологические и эпистемологические потенции, она выступает как ядро нового способа представления гуманитарного знания (знания о человеке); или, что то же, — как ядро новой, антропологизированной эпистемы для гуманитарного знания. Тем самым, она оказывается родственна феноменологии, которая, по замыслу Гуссерля, также не должна быть ни философским направлением, ни даже общим методом для философии, но универсальной когнитивной парадигмой и ядром цельной феноменологической эпистемы (полностью никогда не осуществленной).
Встает, однако, вопрос: оказываясь, в конечном счете, методологией, а точней, эпистемологическим и эпистемостроительным орудием, — является ли синергийная антропология действительно антропологией, речью о Человеке? Ответ на этот вопрос любопытен. Прежде всего, мы видим, что она, во всяком случае, не является обычной речью о Человеке, такой речью, которая имеет Человека своим предметом, объектом. Но далее мы осознаем, что так оно и должно быть. Речь о Человеке не должна быть речью о каком бы то ни было предмете, поскольку Человек не есть предмет! Точнее, он не только предмет, и он не предмет в главном: он не только то, что рассматривают в той или иной когнитивной перспективе, но главное, он то, что (или лучше, тот, кто) полагает любую когнитивную перспективу. Как таковой, он дан не предметно, а деятельностно, как принципиально не опредмечиваемое динамическое начало, динамический фокус, топос, Nexus реальности; а та динамика, которую он представляет собой, есть эпистемологическая и эпистемопорождающая динамика. Ясно, что этот современный образ Человека вполне согласуется с тем новым образом речи о Человеке, который предлагает наша модель. И можно надеяться, что синергийная антропология в своей природе угадывает хотя бы некоторые существенные черты будущей антропологии III тысячелетия.
Другой заключительный вопрос в связи с нашей общей темой — об интеграции синергийной антропологии в русскую философскую традицию. Но после всего сказанного, вопрос этот достаточно прозрачен и прост. Мы видели, что в своем генезисе наша модель органически связана с руслом русской религиозной мысли, и тесней всего, с ее ближайшим этапом, на котором эта мысль обратилась к патристике и аскетике. Благодаря переходу в иной дискурс, мы избежали обычных в ходе развития эффектов трения, отталкивания от ближайших предшественников; но зато такие эффекты неизбежно возникли по отношению к ближайшим предшественникам в философском дискурсе, к мысли Серебряного Века. Синергийная антропология никоим образом не принадлежит к развитому этою мыслью специфическому жанру «русской религиозной философии». Благодаря достижениям богословского этапа, благодаря строгой приверженности феноменологическому методу, нам удалось, как мы надеемся, дистанцироваться от этого жанра, найдя принципиально иное решение исконной проблемы русской мысли и всего Восточнохристианского дискурса: проблемы отношения философского и богословского способов. И в целом, входя в традицию, синергийная антропология на своем примере воплощает в очередной раз ту простую и глубокую формулу, которой о. Георгий Флоровский характеризовал движение русской мысли: разрывы и связи…
СИНЕРГИЙНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК НОВЫЙ ПОДХОД К МЕТОДОЛОГИИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
Доклад в Новгородском государственном университете 19.04.2007
Данный доклад будет тесно связан с другим моим докладом, который был сделан в этом же семинаре год назад. Тогда мною было дано общее описание синергийной антропологии — того научного направлении, которое сложилось в моей работе и в настоящее время развивается в организованном мною Институте синергийной антропологии. Я изложил основные идеи и принципы синергийной антропологии и постарался показать ее актуальность: показать, что она доставляет эффективные пути и средства для описания и анализа современных острых антропологических проблем. Мы не будем сейчас перечислять эти проблемы; краткий обзор их был представлен в прошлом докладе. Укажем лишь основную общую особенность: практически все они не поддаются интерпретации в рамках классической европейской антропологии. Как в силу этого, так и в силу внутренних, концептуальных факторов вся эта классическая линия в трактовке феномена человека ныне признана несостоятельной и устаревшей, и потому задачей антропологической мысли является поиск ее обобщений и альтернатив ей, разработка неклассических русл для антропологии. Это — широкая задача, включающая в себя и многие весьма общие проблемы. Насколько радикальным должно быть обновление антропологического дискурса? Достаточно ли найти некоторые новые базовые категории или же изменений требует сама организация этого дискурса, его методологические и эпистемологические основания? Не следует ли в свете новой антропологической ситуации пересмотреть сам статус и существо антропологии, ее положение в системе гуманитарного знания, ее отношения с другими дисциплинарными дискурсами?
Синергийная антропология — одно из конкретных неклассических русл, разрабатываемых в современной науке. По степени радикальности отхода от прежних оснований, она должна быть причислена скорее к альтернативам, нежели к обобщениям классической антропологии. И, как ясно уже из сказанного, проблематика ее развития не ограничивается практическими приложениями. Сколь актуальны бы они ни были (как, скажем, в случае проблем биоэтики или терроризма), однако, наряду с ними, в рамках синергийной антропологии, на ее конкретном материале, должно происходить и продумывание указанных общих проблем современных наук о человеке. И в сегодняшней ситуации отсутствия единой организующей парадигмы гуманитарного и антропологического знания, в ситуации проистекающей отсюда эвристической дезориентации современной гуманитаристики, такое продумывание — не менее актуальная задача.
Итак, в данном докладе мы постараемся сделать синергийную антропологию предметом методологической рефлексии, которая должна прояснить основания этого научного направления и его место в современном гуманитарном контексте. Но, с учетом того, что мы здесь — в университетской аудитории, стоит предварительно провести некоторое размежевание. В сфере высшей школы, где главное — это педагогический процесс, неизбежно укоренился свой взгляд на методологию — взгляд, который понимает ее сугубо педагогически и прагматически. В таком понимании, предмет методологии — не столько исследование методов, сколько производство методик и методичек, разного рода пособий, разработок и практических рекомендаций для преподавания. Необходимость подобного продукта не нуждается в доказательствах; однако предметом нашего обсуждения будет другая методология, не педагогическая, а научно-философская. Но оба рода методологии взаимосвязаны, ибо педагогическая методология неизбежно опирается на ту или иную научную методологию и является доброкачественной тогда, когда эта научная методология достаточно современна, а связь с ней отчетлива и продумана. Поэтому обсуждаемые нами сегодня новые методологические принципы антропологического и гуманитарного знания завтра должны становиться базой методологических разработок в высшей школе; и наш методологический анализ, не относясь прямо к педагогической методологии, создает в то же время основу для ее дальнейшей модернизации.
***
Чтобы раскрыть методологическое и эвристическое содержание синергийной антропологии, я должен кратко напомнить ее базовую структуру. Прежде всего, как мы подчеркивали, это — неклассический подход к феномену Человека. Радикально неклассическая природа синергийной антропологии выражается, в первую очередь, в отбрасывании практически всего традиционного основоустройства европейской мысли о человеке. Ядро этого основоустройства — фундаментальная триада характеристик человека: сущность — субстанция — субъект. Все эти концепты отсутствуют в том описании человека, которое развертывает синергийная антропология. Причина отказа от них — отнюдь не авторский произвол. Каждый из трех ключевых концептов был капитально раскритикован в рамках самой классической европейской традиции: с каждым из них связана своя история, своя линия его критики, итогом которой и стал отказ от него. Наиболее радикальный разрыв с классической парадигмой несет в себе устранение концепта сущности, на котором как на верховном принципе базировалась не только классическая антропология, но и все классическое европейское философствование после Аристотеля — в соответствии с чем оно и квалифицировалось как эссенциальное философствование. Поэтому отказ от сущности произошел в последнюю очередь, уже в недавний период — однако же произошел с полной определенностью; его обоснование можно найти, например, в трудах Жана-Люка Нанси, крупнейшего из ныне здравствующих французских философов.
Как мы далее увидим, отказ от триады базовых концептов влечет за собой не только необходимость найти другие концепты, но также и необходимость глубинной структурной и методологической трансформации антропологического дискурса, и поиск новой антропологии включает в себя такую крупномасштабную задачу как пересмотр самого статуса и положения антропологии в дисциплинарном строении гуманитарной науки.
Обращаясь к основам синергийной антропологии, мы выделяем в качестве ее первого фундаментального принципа — принцип энергийности. Он означает, что дескрипция антропологической реальности здесь ведется не в дискурсе сущности, а в дискурсе энергии, бытия-действия. Проблема энергии — из числа вечных, наиболее глубоких и трудных проблем философского разума, и многие существенные вопросы, в ней возникающие, доныне открыты. Один из основных нерешенных вопросов — выработка удовлетворительного концепта «антропологической энергии»: хотя представление об «энергиях человека» возникает естественно и неизбежно, и мы с необходимостью пользуемся им во множестве ситуаций и контекстов — тем не менее, очень затруднительно претворить это представление в корректный философский концепт, и такого концепта до их пор не создано. Ясно лишь, что классическое понятие энергии, введенное Аристотелем и затем глубоко разработанное в неоплатонизме и отдельными европейскими мыслителями (в частности, поздним Хайдеггером), здесь прямо не применимо. Вследствие этого, в синергийной антропологии мы не делаем центральным понятием «энергию человека», но употребляем различные соотносимые с нею понятия энергийного ряда, а в качестве основного рабочего термина избираем «антропологическое проявление». Это понятие трактуется чрезвычайно широко. К понятиям энергийного ряда можно относить базовые категории многих течений мысли, которые пытались выходить за пределы эссенциализма — таких течений как, скажем, философия воли Шопенгауэра, философия жизни, экзистенциализм, деятельностный подход в позднем марксизме. Понятие антропологического проявления является более общим, нежели эти категории. В частности, если соотносить с деятельностным подходом, рабочими понятиями которого служат виды деятельности, социальные и иные практики, акты человека, поступки и т. п., то в разряд проявлений входят не только они все, но, кроме того, еще и принципиально важный класс «пред-актов» или «прото-актов» — таких, которые лишь намечаются на уровне внутренних движений, мелькнувших помыслов, побуждений и т. п. Все они также включаются в антропологическую дескрипцию, согласно нашему принципу энергийности. По типу и характеру, по степени содержательности такая дескрипция оказывается наиболее близка антропологии духовных практик.
Второй (и последний) фундаментальный принцип синергийной антропологии — принцип предельности. Можно сформулировать его так: во всем необозримом и крайне гетерогенном множестве антропологических проявлений мы выделяем род или класс так называемых предельных антропологических проявлений и принимаем, что именно этот класс является определяющим, конститутивным для человека — т. е. в данных проявлениях формируется конституция человеческого существа, базовые структуры его личности и идентичности. По определению, мы называем предельными антропологическими проявлениями такие проявления, в которых опыт человека достигает пределов, границ горизонта человеческого сознания и существования. Соответственно, в них человек некоторым образом соприкасается уже с тем, что не находится в этих пределах, соприкасается с Иным себе; и в них начинаются определенные модификации, изменения самих фундаментальных предикатов горизонта человеческого существования.
В качестве иллюстрации приведем пример из области духовных практик, на материале которых складывался весь наш подход. Духовные практики во всех развитых мировых традициях подводят на своих высших ступенях к таким явлениям, в которых с человеком начинаются кардинальные трансформации. При этом, в первую очередь начинает испытывать трансформации перцептивная система человека; перцептивные модальности заменяются совершенно другими, новыми перцепциями. Разумеется, это — крайне необычные явления, но, несмотря на это, они основательно зафиксированы во всех духовных традициях, и существует богатейший фонд их описаний и свидетельств о них. В русле христианства, в исихастской практике, формирующиеся новые перцептивные системы называются «умными чувствами». Это и есть характерный пример предельных проявлений. Здесь человек с помощью некоторых специальных практик совершает выход к пределам горизонта своего существования, сознания и опыта.
Далее мы подходим к введению ключевых понятий. Мы собираем воедино всю совокупность предельных антропологических проявлений и называем ее Антропологической Границей. С этим понятием тесно связано другое, понятие или парадигма антропологического размыкания. Мы упомянули уже, что в своих предельных проявлениях человек входит в соприкосновение, контакт, обретает встречу с Иным себе — с реальностью, пребывающей вне горизонта его сознания и существования. Это значит, что он оказывается открыт, разомкнут по отношению к Иному; и потому мы можем принять еще одно определение: будем говорить, что в предельных антропологических проявлениях имеет место размыкание человека (антропологическое размыкание). Данное понятие, характеризующее антропологическую реальность предикатами открытости — замкнутости, философски наиболее глубоко, и оно оказывается важнейшим концептом новой антропологии. Когда в дальнейшем мы выясняем, что размыкание может осуществляться различными способами, каждому из которых (поскольку предельные антропологические проявления конститутивны) отвечает определенный тип конституции человека — это понятие делается основой неклассического понимания человека: если в классическом понимании, человек определялся как сущее, обладающее некоторой определенной сущностью, то в качестве альтернативы, оказывается возможным понимать и определять человека как сущее, определенным образом осуществляющее размыкание себя. Как и понятие антропологического проявления, парадигма антропологического размыкания по своему характеру близка антропологии духовных практик; однако она спорадически появлялась также в философии и богословии. Впервые в истории она возникает в византийском богословии как концепция синергии, соработничества энергий Божественной и человеческой. (Именно с этим связано название нашего научного направления: в свете сказанного, его можно было бы назвать «антропологией размыкания», а синергия — его первый исторический пример.) В философии же наиболее существенным и заметным образом она появляется у Кьеркегора. Можно сказать, пожалуй, что, как и в синергийной антропологии, в антропологии Кьеркегора размыкание человека служит центральным и порождающим принципом. По Кьеркегору, «долг каждого — сделать себя открытым»: иными словами, назначение человека — привести себя в открытость или синонимично, осуществить размыкание себя.
С появлением исходной системы базовых понятий, первая проблема, которую решает синергийная антропология, — это описание полного строения Антропологической Границы. Прежде всего, мы обнаруживаем, что эта граница включает в себя разные области: предельные проявления, которые образуют ее, могут быть весьма разной природы или, другими словами, существуют различные механизмы антропологического размыкания. Однако множество таких механизмов очень ограничено: как выясняется, для человека их всего три. Прежде всего, как это происходит в духовных практиках, человек может осуществлять свою самореализацию в бытии: осознавая себя как сущее, представляющее определенный род бытия (а именно, бытие, характеризуемое конечностью и смертностью) и конституируясь в актуализации своего отношения к иному роду бытия, Инобытию, путем размыкания себя навстречу его энергиям. Это — размыкание человека в бытии, онтологическое размыкание; и предельные антропологические проявления, в которых оно осуществляется, составляют определенную область Антропологической Границы, называемую Онтологической топикой. Наряду с этим, науке давно известно, что человек может конституироваться и в ходе воздействия на него энергий бессознательного. В этом случае, он разомкнут по отношению к бессознательному, и это уже размыкание иное, которое развертывается не в бытии, а в сущем (ибо бессознательное не представляет собой иного рода бытия), т. е. не онтологическое, а онтическое размыкание. Соответственно, отвечающие ему проявления составляют другую область Антропологической Границы, ее Онтическую топику. Свойства двух топик существенно различны: размыкание человека во встрече с бессознательным — процесс, лишенный онтологического содержания, но зато имеющий богатое топологическое содержание. В своем взаимодействии с человеком, бессознательное действует как топологический фактор, создавая для человека в пространстве его сознания, а отсюда и в его поведении, в его движении в сфере сущего топологические эффекты. Как констатирует психоанализ, под действием бессознательного человек начинает воспроизводить в структурах сознания и поведения определенные траектории, фигуры — «паттерны бессознательного», и это означает, что топология мира сознания, а отсюда и сферы поведения человека, становится уже не обычной, а какой-либо «неевклидовой», искривленной или многосвязной. Наиболее типичны паттерны, носящие характер нарушений связности, когда одни области сознания и поведения оказываются недоступны для других, взаимно недостижимы. Здесь корректны и полезны физические аналогии: бессознательное действует как некоторая магнитная аномалия или, как в космологии, как источник кривизны пространства, его сложносвязности и т. п. Топологическая природа «человека бессознательного» (а в наших терминах, онтической топики) была подмечена философией. Философская трактовка антропологической реальности, определяемой бессознательным, развивалась французской мыслью давно, еще с 20-х — 30-х гг. 20 в.; но в последние десятилетия, в постструктурализме Фуко, Делеза и близких к ним авторов, эта трактовка приняла форму именно «топологической философии». С наших позиций, это — вполне адекватная трактовка, и расхождение с синергийной антропологией лишь в том, что для постструктурализма «топологический человек» исчерпывает собою феномен Человека вообще: заведомо сужающий взгляд!
Наконец, еще один, и уже последний, способ размыкания человека доставляют виртуальные практики, все шире и шире распространяющиеся сегодня. Виртуальные феномены отличаются от обычных, актуальных, тем что они актуализованы, воплощены не полностью, не имеют какой-либо части сущностных свойств, предикатов актуальных явлений. В силу этого, они также должны рассматриваться как предельные антропологические проявления; и мы сопоставляем им еще одну область Антропологической Границы, называя ее Виртуальной топикой. Указанные три главные области Границы образуют также сочетания меж собой, которые носят название гибридных топик.
Согласно этому описанию Антропологической Границы, человек представляется как принципиально плюралистичное существо, которое реализуется в трех главных экземплификациях — соответственно, как Человек Онтологический, Человек Онтический, или Топологический, и Человек Виртуальный. Человек существует как сообщество этих экземплификаций, он есть сообщество. Существа, составляющие это сообщество, связаны меж собой взаимодействиями, взаимопереходами и взаимопревращениями, о которых мы пока не сказали ничего, и изучение которых — особая и обширная проблематика. У каждой из трех базовых реализаций Человека — своя антропология, и меж собой эти антропологии радикально различны. Каждая из них по отдельности знакома была философии и антропологической мысли (хотя виртуальная антропология пока плохо развита), однако не существовало объемлющей их картины и научной позиции, утверждающей, что все реализации сосуществуют в Человеке, и истинная антропология — лишь интегральная антропология, включающая их все в их связи.
Вместо этого, существовало конфликтное отношение Онтологической и Онтической антропологий как двух взаимоисключающих способов понимания человека. Антропология психоанализа с самого своего появления занимала позицию резкого отрицания, неприятия религиозной антропологии. Она заявляла, и стремилась доказать это, что в религиозных явлениях не существует никакой собственной несводимой природы (в наших терминах — никакого собственного способа размыкания Человека), и все те явления, что составляют сферу религиозного, в своих механизмах управляются исключительно бессознательным и подлежат объяснению на базе психоанализа. Бессознательное, Онтическое Иное, — единственная реализация Иного, и кроме него, человеку взаимодействовать не с кем и не с чем. Поэтому онтологии — нет, религия — есть, но не имеет своей автономной сферы, автономного предмета, имеет же таковой предмет — исключительно психоанализ. В свою очередь, позиция идеологического отрицания, перечеркивающего всякую состоятельность другой сферы и само ее право на существование, не чужда была и приверженцам религиозного догматизма. В нашем же случае, возникает некий объемлющий взгляд по отношению к этим двум позициям, и над бинарной оппозицией надстраивается метадискурс. Мы содержательно видим, как и в каких случаях человек себя реализует как топологическое существо, управляемое бессознательным, и когда он реализует себя в корне иным образом, который отнюдь не сводится к механизмам действия бессознательного. Человек плюралистичен, он имеет разные конституции, разные антропологии, и это принципиально и неустранимо.
***
Методологическую рефлексию на представленный подход к проблеме Человека начнем с выяснения его отношений с философской антропологией. На первый взгляд, коль скоро мы строим этот антропологический подход на философских понятиях, он не может отвечать ничему иному как некому очередному направлению философской антропологии. Но это оказывается не так. Предложенный способ антропологической дескрипции нельзя считать философской антропологией, причем сразу по многим основаниям.
Самое очевидное — это несоответствие синергийной антропологии тому пониманию философской антропологии, которое целиком относит ее к руслу эссенциализма, философии сущностей. Такое понимание, видящее задачу философской антропологии в продумывании сущности человека, сущностных структур человеческого бытия, отвечало классической метафизике и оставалось широко принятым даже в эпоху ее кризиса. Его, в частности, твердо отстаивает антропология Макса Шелера, даже и поздние ее труды, в которых намечаются многие новые идеи и которые принадлежат к самым влиятельным текстам современной антропологической мысли: согласно дефиниции Шелера, «философская антропология… [есть] фундаментальная наука о сущности и сущностной структуре человека»
[1]. Понятно, что синергийная антропология с ее принципиально бессущностным дискурсом — заведомо вне подобной философской антропологии. Да и не только она: вне рамок философской антропологии тогда окажется и вся постструктуралистская антропология, самое значительное направление современной мысли о человеке.
Но и при более широкой трактовке философской антропологии, не предполагающей Шелеровской жесткой связи с эссенциализмом, синергийная антропология по-прежнему будет вне ее рамок. Как ясно уже из ее беглого описания, в конституции синергийной антропологии участвует не только философский дискурс. Когда мы строим Онтологическую топику, в которой человек — существо, размыкающее себя энергиям Инобытия, мы не можем ее построить, пребывая целиком внутри философского дискурса. Нам необходимо привлечение дискурса богословского, практической антропологии духовных практик. Когда же мы строим Онтическую топику, дескрипцию человека в топике бессознательного, нам необходимо быть не философствующими психологами, а психоаналитиками, необходимо войти в процессуальность паттернов бессознательного в полном объеме того, что о ней знает и как ее трактует предметная область психологии. Наконец, если мы начнем анализировать детали и механизмы того, что с человеком происходит в его предельных проявлениях, то выяснится, что такой анализ эффективней проводится не в рамках чисто философской речи, а при использовании параллелей с теорией систем, использовании концептуальных ресурсов синергетики. Перечень таких выходов в разнообразные гуманитарные (и даже не очень гуманитарные) дискурсы можно продолжить — и в итоге, мы заключаем, что синергийная антропология не есть философское направление; в частности, не есть и направление философской антропологии.
С другой стороны, она не отвечает и недавно популярному типу «междисциплинарного направления», которое возникает, как выражались, «на стыке наук», определяясь потребностями развития этих наук или потребностями освоения некоторой новой предметной области — когда эти потребности диктуют привлечение рабочего арсенала более чем одной научной дисциплины. Предметная область синергийной антропологии самая исконная, и ее построение, производящее концептуализацию и конституцию этой области ab ovo и на основе собственного, оригинального производящего принципа, отнюдь не совпадает с междисциплинарной методологией, которая соединяет, сколачивает блоки из разных дисциплинарных дискурсов. Вообще говоря, синергийная антропология привлекает все связанные с человеком, восходящие к человеку дисциплинарные и иные дискурсы («человекомерные» дискурсы, по удобной тут терминологии, вводимой в современной теории научного знания В.С.Степиным, В.И.Аршиновым и др.). Однако в своих отношениях с этими дискурсами, она должна квалифицироваться как направление не междисциплинарное, но трансдисциплинарное: обладающее собственным «плавильным тиглем» (старая метафора Гумбольдта), в котором привлекаемые содержания разного происхождения и природы интегрируются в новое концептуальное и методологическое единство.
Вглядимся в этот «плавильный тигель» — и перед нами глубже раскроются занимающие нас методологические и эпистемологические измерения синергийной антропологии. Каков, в самом деле, характер ее отношений с привлекаемыми ею, входящими в ее орбиту различными гуманитарными дискурсами? Используемые содержания любого из этих дискурсов интегрируются в топическую репрезентацию человека, с ее непосредственно антропологическими языком и процессуальностью. Тем самым, они отнюдь не остаются в своей прежней форме: из «человекомерных» — т. е. соотносимых с человеком, вообще говоря, сколь угодно косвенно, отдаленно и непрозрачно — они становятся эксплицитно антропологическими, они антропологизируются. Налицо, действительно, определенное претворение, переплавка. Синергийная антропология исходит непосредственно из человека как из порождающего фокуса, центра своего дискурса — и в своем развертывании совершает антропологизирующую переплавку всех дискурсов, какие требуются для антропологической дескрипции и так или иначе с ней связаны. Иными словами, в своих потенциях она предстает как общий метод или общая методология, которая переводит все дискурсы, так или иначе связанные с антропологической реальностью, в некую новую форму, в которой их антропологическое содержание эксплицируется и выдвигается на первый план. Здесь возникает параллель с феноменологией Гуссерля: она тоже может рассматриваться не как философское направление, а как общая методология для гуманитарного знания, и сам Гуссерль находил, что это — более глубокая и правильная трактовка. Но, разумеется, в случае синергийной антропологии подобная трактовка — пока лишь возможность или проект.
Сегодня суть такого проекта лучше всего передает современное понятие эпистемы. В процессе «антропологизирующей переплавки» формируется новое основоустройство для всего сообщества гуманитарных дискурсов — а это именно и означает, что сфера гуманитарного знания претворяется и организуется в новую эпистему. Главное отличие этой эпистемы в том, что в своем ключевом принципе она непосредственно отсылает к антропологической реальности — является «антропологизированной», или же «антропологически фундированной» эпистемой. В такой эпистеме последовательно осуществляется антропологизация всей сферы гуманитарного знания, а антропология, служа ядром эпистемы, выступает как своего рода мета-дискурс или, по выражению И.П.Смирнова, как «наука наук о человеке».
Далее, хотя мы и подчеркиваем, что описанная схема, в которой синергийная антропология выступает как порождающее ядро новой эпистемы, еще только проект, но следует указать, что это — отнюдь не утопический, а вполне рабочий проект, осуществление которого уже происходит. Базу для этого осуществления создает тот факт, что в рамках синергийной антропологии существует универсальная процедура для «антропологической переплавки», трансформации произвольного, вообще говоря, гуманитарного дискурса. Суть данной процедуры — мы называем ее «антропологической локализацией» — заключается в установлении связи феноменальной сферы, изучаемой избранным дискурсом, с топиками Антропологической Границы. Ясно, что подобная связь обеспечивает искомый результат, возможность дескрипции этой сферы в рамках аппарата синергийной антропологии. Установление же ее складывается из нескольких стадий.
Первый этап решает, так сказать, «переводческую» задачу, соотнося рассматриваемый дискурс с рабочим языком синергийной антропологии — языком антропологических проявлений. Выделив сферу явлений, изучаемых данным дискурсом, мы определяем, какие антропологические проявления отвечают этим явлениям, достигая, тем самым, характеризации изучаемой предметной сферы в терминах антропологических проявлений. Для каждого из гуманитарных дискурсов подобная характеризация в принципе возможна, в силу его «человекомерности». Например, в психологии изучаемые ею феномены сознания непосредственно суть антропологические проявления, и никакого «перевода» не требуется. В исторических явлениях речь идет, в конечном итоге, о действиях людей и, конкретизируя область таких явлений, мы можем увидеть, какие антропологические проявления ей соответствуют. И так далее. Можно назвать эту стадию антропологической расшифровкой избранного дискурса.
Затем следует ключевая стадия: выделив определенную область или класс антропологических проявлений, мы устанавливаем связь этих проявлений с предельными антропологическими проявлениями (т. е. с Антропологической Границей). Опять-таки, и здесь нам a priori известно, что эта задача разрешима и нужная нам связь существует. Это обеспечивается особым статусом предельных проявлений: в силу их конститутивной роли в антропологической дескрипции, в силу того, что они определяют структуры личности и идентичности человека, произвольные антропологические проявления зависят от них, определяются ими. Но это — чисто принципиальное суждение: оно утверждает лишь наличие связи и зависимости, не говоря ничего о том, каковы конкретные формы этой зависимости. Меж тем, эпистемостроительная задача требует решения конструктивного — мы должны развить новое описание рассматриваемой сферы явлений в терминах понятий синергийной антропологии и с помощью ее аппарата. И это значит, что нам требуется установить явную и конкретную связь выделенного класса антропологических проявлений с предельными антропологическими проявлениями.
Это — сугубо конкретная задача, ибо одни явления зависят от отношений человека с Инобытием, от религиозных проявлений, другие — от паттернов бессознательного, третьи — от виртуальных практик. Заведомо не существует «универсальной формулы», описывающей зависимость обычных антропологических проявлений от предельных; но все же в арсенале синергийной антропологии есть общие понятия, описывающие типичные виды связей в сообществе проявлений, и есть методики, помогающие эксплицировать искомую зависимость. Типичным образом, антропологические проявления организуются в антропологические практики, и между этими практиками возникают характерные связи: взаимовлияния, импликации, отношения согласованности или, напротив, несовместимости, и т. д. и т. п. Для основных видов таких связей мы вводим особые термины, из коих сейчас укажем лишь самый необходимый в данном случае: это — антропологические практики, примыкающие к некоторым другим, которые служат для них ведущими. Примыкающая практика ориентируется на ведущую и многое заимствует от нее: заимствоваться могут цели и ценности, задачи и установки, элементы организации и структуры… Это — широчайше распространенный вид практик. К примеру, в средневековом обществе доминирующую роль не только в антропологических, но и в социальных практиках играло онтологическое отношение Человек — Бог; и это значит, что в своей большей части, как антропологические, так и социальные практики являлись примыкающими по отношению к базовой, стержневой практике, посвященной специально культивированию Богочеловеческого отношения. — Ясно, что данное понятие и подобные ему реально содействуют решению нашей задачи. Предельные проявления группируются в предельные практики, и в силу особого статуса этих проявлений, самое широкое множество других антропологических и социальных практик представляют собою практики, примыкающие к предельным. Иными словами, предельные практики оказываются окружены обширной средой примыкающих практик. Ввиду широкой распространенности последних, мы можем первоначально связать избранный нами класс антропологических проявлений с какими-либо из них — дабы затем, через их посредство, установить и искомую связь с Границей.
Когда же эта связь установлена, мы получаем, следом за «антропологической расшифровкой» рассматриваемого гуманитарного дискурса, его «антропологическую локализацию», привязку к определенной топике Антропологической Границы. Главная цель на этом достигнута: указанный дискурс введен в орбиту синергийной антропологии, и мы можем непосредственно проводить его антропологизирующую переплавку, строя дескрипцию изучаемых в нем явлений на ее базе. То, что такая дескрипция возможна, вновь вытекает из конститутивной роли предельных проявлений: связь с ними — не второстепенный, а конститутивный фактор в рассматриваемых явлениях.
Итак, в результате описанной антропологизирующей переплавки, явления, изучаемые данным гуманитарным дискурсом, предстанут как непосредственные деяния основных реализаций существа «человек» — Онтологического, Топологического и Виртуального человека; а сам дискурс примет антропологизированную форму. И если подобная переплавка проделана по отношению к некоторому значительному набору дисциплинарных дискурсов, это означает, что сфера гуманитарного знания переводится в новую, антропологизированную эпистему, методологическую и эпистемологическую базу, ядро которой составляет синергийная антропология.
Отметим здесь одно ценное свойство возникающей эпистемы. Когда синергийная антропология выступает как ядро эпистемы, в такой эпистеме наглядно отражается производящая, генеративная роль самого человека в гуманитарном знании. Здесь получает ясное выражение тот фундаментальный эпистемологический факт, который в других эпистемах оказывается погребен и незаметен: тот факт, что в дискурсах гуманитарного знания человек отнюдь не только изучается как предмет — он, прежде всего, сам строит эти дискурсы. Здесь кроется своеобразный герменевтический или эпистемологический круг, циклическая эпистемология, которую игнорирует классическая гуманитарная наука. Круг заключается в том, что налицо определенные дискурсы, предмет которых на поверку отнюдь не предмет, а инстанция действия, которая создала эти дискурсы и которая, тем самым, сама их имеет собственным предметом. Все дискурсы, составляющие дескрипцию антропологической реальности, по своей природе суть эпифеномены антропологической реальности — и эта специфическая эпистемологическая ситуация должна быть учтена и отражена в той эпистеме, в которую организовано данное сообщество дискурсов. В эпистеме, намечающейся на базе синергийной антропологии, это имеет место. Когда эпистема имеет в своем истоке человека — человек выступает уже не только как предмет изучения, он выступает не в пассивном, а в активном, деятельностном залоге, как эпистемостроительное и дискурсопорождающее начало в реальности. Он выступает как создатель Гуманитарного Универсума, каковым он на самом деле и является. Это и есть тот его облик, к которому гуманитарное знание должно выйти, — однако в прежних эпистемах оно едва ли выходило к нему.
Итак, мы очертили тот путь, на котором могут осуществляться эпистемостроительные потенции синергийной антропологии. Как видим, путь складывается из конкретных, выполнимых шагов, и для ряда гуманитарных дискурсов «антропологизирующая переплавка» уже начата. На первом месте здесь можно назвать историю. В данном случае стоит вспомнить, что в современной науке уже имелся основательный опыт антропологизирующей трансформации исторического дискурса: это исторические или историко-антропологические исследования Фуко. Его знаменитые разработки «История безумия», «История наказания», «История сексуальности» представляют собой не что иное как антропологизацию истории, которая предстает в них как история человека, как процесс эволюции антропологических предикатов, антропологических практик и иных принадлежностей бытия человека. Очевидным, напрашивающимся обобщением такого взгляда является переход от прослеживания эволюции отдельных сторон, отдельных составляющих феномена Человека — к дескрипции эволюции феномена в целом, что предполагает выделение определенных антропологических формаций, взаимодействующих и сменяющих друг друга в историческом времени. Такое обобщение проделал, хотя и бегло, Делез, согласно которому антропологизированной истории Фуко отвечала бы следующая серия антропологических формаций: Форма-Бог, Форма-Человек, Форма-Сверхчеловек (из коих последняя лишь ожидается и намечается).
Синергийная антропология как эпистема в своем подходе к истории проводит практически те же общие принципы. Мы замечаем, что эта антропология исторична: в любом историческом срезе, из сообщества антропологических формаций, образующих существо «Человек», реализуются, вообще говоря, не все и не в равной степени. Типичным образом, какая-то из этих формаций (в других терминах, какая-то из топик Антропологической Границы) является доминирующей, и исторический процесс может рассматриваться как история смены доминирующих антропологических формаций. В этой главной установке мы совпадаем с французскими авторами, но мы кардинально отличаемся от них в том, какие формации выделяет наша антропология — а отсюда и в том, какою же конкретно рисуется антропологизированная история.
В нашем случае, фундаментальных формаций всего три, Человек Онтологический — Топологический — Виртуальный. Но уже беглый взгляд на них в историческом аспекте показывает возможность того, что доминирующая антропологическая формация не совпадает ни с одной из них; реальная история оказывается богаче. Прежде всего, в ранние эпохи истории доминирующим антропологическим отношением является отношение Человек — Бог, и соответственно, доминирующей формацией — Онтологический человек. Но, взглянув ближе, мы видим, что человек вовсе не сразу сумел сформировать у себя парадигму размыкания к Инобытию, реализоваться как Онтологический человек. Как ярко видно на примере шаманизма, архаические формы религиозности не соответствуют Онтологической топике. В них человек еще не разделил, не различил меж собой те свои проявления, в которых реализуется его отношение к Инобытию (онтологическое отношение) и к бессознательному (онтическое отношение). Стихия религиозного и стихия бессознательного сращены и едины, они обе в действии, и разделить их нельзя. Поэтому здесь предельные проявления человека — смешанного, сращенного характера и отвечающая ему антропологическая формация — «До-Онтологический» человек, отвечающий наложению Онтологической и Онтической топик, т. е. гибридной топике Границы. Лишь на следующем этапе, путем углубленной работы религиозного сознания (служащего главным агентом антропологического самоопределения) человек достигает структурирования своих проявлений — и реализуется как Онтологический человек.
Затем доминирующей вновь оказывается формация не из ряда трех основных. В итоге процессов секуляризации, начиная с Ренессанса, человек все более отвергает онтологическое размыкание как принцип собственной конституции. Отношение к Инобытию дезавуируется в своем доминирующем антропологическом значении, отодвигается, вытесняется. Бессознательное же еще не стало предметом для разума, и отношение с ним не рефлектируется, отсутствует в горизонте сознания. И это значит, что человек утрачивает всякие отношения со своей Границей, перестает ее видеть. Закономерно, что в этот период он захвачен идеей бесконечного: он принимает концепцию бесконечного мироздания и стремится конституировать себя как (Декартова) субъекта познания, который конституируется в своем отношении к бесконечному и безграничному мирозданию и потому сам тоже безграничен. Это — своеобразная промежуточная формация «Безграничного человека». Она всецело базируется на культе человеческого разума, ибо именно он осуществляет отношение с мирозданием и, чтобы это отношение обладало желаемыми свойствами, он должен быть бесконечен и (хотя бы в потенции) всемогущ.
Онтологический человек не игнорировал бессознательное, он знал его (пускай не-научным знанием) как конкурирующую антропологическую стихию и строил практики, препятствующие его воздействиям. «Человек безграничный», вместе со всем основоустройством отношения Человек — Инобытие, отбросил и эти практики; все главные его стратегии неявно базировались на отрицании самого существования бессознательного и его воздействий. Поэтому эти воздействия беспрепятственно усиливались, их роль и место в антропологической реальности росли. Учитывая, что сфера бессознательного, как начала, противоположного сознанию и разуму, нередко именуется в психологии (к примеру, Лаканом) «сферой безумия», мы можем выразить эту ситуацию простым афоризмом: Культ разума ведет в царство безумия. Как обозначилось на исходе 19 века (впрочем, хронологические вехи тут могут быть лишь условны и приближенны), доминирующей антропологической формацией начал становиться Онтический человек. конституция которого определяется бессознательным. Богатые, выразительные свидетельства и документы его господства доставляет культура модернизма.
Антропологическая динамика в наше время убыстряется, и очередная смена формаций уже наметилась на грани тысячелетий. Сейчас, как известно, все шире распространяются и все с большей определенностью продвигаются к доминантности виртуальные практики. Но в их доминантности, в растущем погружении человека в виртуальность, заложены глубокие антропологические опасности и риски. Мой предварительный анализ на базе синергийной антропологии показывает, что человек может и преодолеть наличную тенденцию все углубляющейся виртуализации. Если же этого не будет достигнуто, то неограниченная виртуализация антропологической реальности имеет наиболее вероятным сценарием своего развития — эвтанасию человечества.
Таковы пока основные продвижения в антропологизации истории. Некоторые продвижения имеются также и в антропологизации эстетики, эстетических практик. Здесь наш антропологический анализ, главным образом, ведется для современных, новейших периодов развития, поскольку с ними связана весьма актуальная антропологическая проблематика. В том, что раньше носило название изобразительного искусства, налицо кризис самих оснований, когда все фундаментальные понятия, такие как художественный акт, художественный предмет, должны кардинально переосмысливаться; и эта задача переосмысливания неизбежно обращает к антропологии. Сознание современного художника необычайно антропологически обострено, он видит себя вынуждаемым к антропологической рефлексии. И на путях этой рефлексии возможны, а иногда уже и осуществляются, встреча и сотрудничество с поисками антропологической мысли. Так, по инициативе художников — участников большого проекта «Верю», представленного на Второй Московской Биеннале 2007 г., в их кругу был проведен цикл обсуждений синергийной антропологии, а теоретическая платформа проекта вырабатывалась с моим участием.
Понятно, что особые проблемы вызывает антропологизация философии. Сейчас мы не будем в них входить, но только укажем, что здесь позиции синергийной антропологии соседствуют с рядом современных философий, в которых была уже отчетливо выражена тенденция антропологизации. Самая значительная из них — философия классического Хайдеггера, его «Бытия и времени». Общая черта этих философий — дистанцирование от философской антропологии как таковой, ибо все данное русло руководится той интуицией, что не антропология должна быть философской, а философия должна быть антропологической. Достаточно явное выражение эта интуиция нашла у Хайдеггера, который в своей известной дискуссии с Кассирером в 1929 г. высказался так: «Весь проблемный узел «Бытия и времени», имея дело с существованием человека, не является философской антропологией. Она слишком узка и предварительна для этого». Что же до синергийной антропологии, то в антропологизации философского дискурса посредством ее «плавильного тигля» обнаруживаются еще новые ее параллели с методологическими и эпистемостроительными аспектами феноменологической парадигмы.
***
Возвращаясь же к ситуации в целом, можем сказать: сегодня уже имеется немало примеров из разных областей, показывающих, что программа антропологизации гуманитарного знания на базе синергийной антропологии достаточно реалистична и перспективна.
Дискуссия
Кузьмин А.А., декан философского факультета: Действительно, это какой-то фантастический проект: переписать все гуманитарное знание с точки зрения новых антропологических принципов! Поучаствовать в этом проекте предстоит по крайней мере не одному человеку, в этом должно участвовать целое научное сообщество, если будет поставлена реальная практическая задача. Это очень интересно. Но меня интересуют, может быть, в большей степени детальные вопросы. Эти вопросы связаны, например, с конкретными дисциплинами. Вы говорили о феноменологии как способе описания. Но у Гуссерля трансцендентальная феноменология не только описывающая, но и выявляющая сущности.
Хоружий С.С. Связи феноменологии Гуссерля с синергийной антропологией — тема большая и глубокая, я ее освещаю во многих текстах. Сейчас же я упоминал лишь один конкретный момент: идея рассмотреть наше философское направление как общую методологию — это совершенно гуссерлианский ход мысли. Он хотел рассматривать свою феноменологию как общую методологию гуманитарного знания.
Кузьмин А.А. В связи с этим у меня второй вопрос. Все-таки антропология, как и социология — это молодые науки. Вы Шелера, например, записываете в классики, как и Вебера мы считаем классиком социологии. Эти парадигмы: классическая антропология, неклассическая антропология. Вы считаете, что классика связана, по крайней мере, с тремя такими столпами как сущность, субстанция и субъект, а неклассика как бы отказывается от этих принципов. Здесь возникает такой вопрос, а не отказывается ли неклассика от существования как такового. Имеет ли она дело с существованием вообще или что тогда остается если мы откажемся от субстанции, субъекта, сущности. И соответственно, этот тезис Фуко, что человек возникает и исчезает, соответственно, вместе с ним исчезает и существование. А чем вообще-то занимается антропология, если нет ни сущности, ни субстанции, ни субъекта, ни существования и вообще человека нет?
Хоружий С.С. Вопрос сливает вместе много очень разных вещей. Во-первых, категория существования — иного статуса и иной судьбы, нежели триада Сущность — Субстанция — Субъект. От триады антропологическая мысль отказалась, и этот отказ — не произвол каких-то буйных новаторов, а итог всего европейского философского процесса, вынужденный и необходимый вывод из этого процесса. Существование же всегда остается предикатом антропологической реальности. Во-вторых, тезис Фуко о том, что человека ожидает исчезновение, не относится к синергийной антропологии, и я за него не отвечаю. По своему содержанию, это — обычный философский прогноз, а что касается его не радужного характера, то это — черта почти всех современных прогнозов. В частности, и я сам упомянул о немалой вероятности сценария глобальной эвтанасии, и, пожалуй, это еще менее светлый прогноз.
Сорокин А.И., доцент кафедры философии: Вы говорите, что человек плюралистичен. Но в чем тогда синергийность антропологии? Ведь как известно, синергия — это коллективность действий, а плюралистичность — это множественность. Нет ли здесь логического противоречия между плюралистичностью и синергийностью?
Хоружий С.С.: Синергия — это определенная богословская парадигма, которая с коллективностью ничего общего не имеет. Она описывает ситуацию, когда энергии человека входят в соприкосновение и взаимодействие с энергиями источника иной бытийной природы (энергиями Инобытия). Соработничество этих разноприродных энергий и называется синергией. В истории мысли, это был первый пример подмеченного и описанного антропологического размыкания, и на этом основании синергия вошла в название антропологического направления, основанного на парадигме размыкания.
Сорокин А.И.: Вы берете богословский термин, а ведь он еще есть и в естествознании?
Хоружий С.С.: В естествознании фигурирует несколько иной термин, синергетика. У меня же термин синергия употребляется всегда в своем точном смысле — в том смысле, какой он имеет на своем месте и в своем контексте, а именно в православном богословии, сначала византийском (где он и был введен), а затем и современном. Дисциплина же синергетика — это отнюдь не наука, где рассматривается синергия, а наука, где рассматривается конкретный вид процессов в физических системах. С нею в синергийной антропологии возникают некоторые любопытные соответствия, которые я указываю и обсуждаю в ряде текстов.
СИНЕРГИЙНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОД
Синергийная антропология: концепция и метод
(выдержки из основных текстов){1}
Синергийная антропология возникала в прямой идейной связи с новым подходом к наследию православной духовности, развитым богословами русской диаспоры: с исследованиями исихазма и паламитского богословия энергий в трудах еп. Василия (Кривошеина), В.Н.Лосского, прот. Иоанна Мейендорфа, а также идеями православной теологии культуры о. Георгия Флоровского. В книге «Диптих безмолвия» (1978, опубл. 1991), писавшейся еще как самиздатный текст, были намечены принципы распространения этого подхода в сферы философии (онтологии, в первую очередь) и антропологии.
ДИПТИХ БЕЗМОЛВИЯ.
«Главным стимулом нашей работы постоянно служило одно коренное убеждение: убеждение в том, что в православной духовности — и притом, по преимуществу, в «практических» ее разделах, в мистике и подвижничестве скорее, нежели в богословии и догматике — кроется особый и цельный взгляд на человека, на его назначение и на пути реализации этого назначения; кроется поистине целая опытная антропология, сложившееся учение о человеке в его непреходящем существе. В классический период становления мистико-аскетической традиции Православия (IV—VII вв.), как и в дальнейшем в периоды ее расцвета, в ней открывалось новое понимание человека, вырабатывался новый образ человека и новый способ, как ему обращаться с самим собою. И все эти антропологические достижения и открытия, будучи, разумеется, порождением определенной эпохи и определенной среды — а именно, православного монашества в первые века Византийской Империи — тем не менее, по всей своей сути были совершенно не ограничены рамками ни этой эпохи, ни этой среды. Во всем существенном, они отнюдь не относились специально к раннехристианскому монашеству или монашеству вообще, но говорили о каждом человеке, о человеке как таковом. Они выражали в чистом виде — бытийную ситуацию человека. И однако вся эта наука о человеке, в тонкости развитая на опыте, до сих пор еще не была извлечена из общего корпуса православной духовности, не получила отчетливого выражения в умозрении и на добрую долю по сей день пребывает нераскрытой, «не доведенной до сведения» современного сознания. А между тем, ее ценность и интерес даже не столько в том, что здесь перед нами — еще один покуда непознанный опыт антропологии, еще один до конца не раскрытый образ человека; гораздо существенней то, каковы же они, этот опыт и этот образ.
Как мы надеемся хотя бы в небольшой мере показать ниже, образ человека, утверждаемый православной антропологией, замечателен по своей многомерности и пластичности, по сочетанию в нем твердости духовных основ и абсолютной чуждости всякому отвлеченному догматизму, всякой рассудочной нормативности. Человек предстает здесь как динамичное целое, недробимое и в тоже время сложносоставное и многообразно активное, истинный характер которого совершенно непередаваем ни механическими, ни органическими моделями (коим чрезмерно доверяются столь многие антропологические концепции); как уникальное во всей картине реальности «онтологическое орудие», находящееся в движении к полноте бытия, несущее в себе непостижимую способность и тягу к
преображению: к тому, чтобы таинственно собрав в себе здешнее бытие в некий единый фокус, достичь его актуальной онтологической трансформации, претворения в иное бытие, свободное от ига конечности и смерти. По высоте задания, как и по реалистической полноте охвата, такой образ человека, хотя и сформировавшийся в основных чертах полтора тысячелетия тому назад, по сей день остается скорее уж впереди нас, нежели позади. Он остается, таким образом, не только нераскрытым, но также еще и не устаревшим, непревзойденным — и потому не утрачивает способности оказаться нужным и ценным для современной мысли, современных духовных поисков, всей духовной ситуации наших дней. И в свете этого, тема антропологии православного подвижничества оказывается далеко не академической и не исторической. Это — тема о нераскрытых возможностях, о неисчерпанных ресурсах православного миросозерцания, которые могли бы сыграть плодотворную роль в решении духовных задач современной эпохи. Могли бы — кто знает — оказаться вестью, заветом древней православной традиции современному сознанию…»
{2}.
«Наша попытка раскрытия православной опытной науки о человеке складывается из двух частей, богословской и философской. По-разному говоря об одном и том же и в то же время взаимно продолжая и дополняя друг друга, они вместе словно бы составляют две створки одной картины, диптиха. Важною отличительною чертой богословского раздела служит то (упоминавшееся уже) обстоятельство, что материал для него нам приходится почерпать не столько из основного корпуса православного вероучения, сколько из мистико-аскетической традиции, из опытных данных духовной практики. Дело в том, что этот основной корпус, выработанный в эпоху Вселенских Соборов, действительно, еще не заключал в себе фронтального догматико-богословского решения антропологической темы. Как подчеркивается в одном из современных трудов, «Вселенские Соборы никогда не занимались антропологией, но только тринитарным или христологическим богословием»
[3]. В последние десятилетия этот факт немало обращал на себя внимание православных исследователей. Об этом писал еще В. В. Болотов, после него — ряд других богословов. Довольно характерен, к примеру, нижеследующий диалог, произошедший в одном из знаменитых петербургских Религиозно-философских собраний 1902-1903 гг. между известным религиозным публицистом В. А. Тернавцевым и председателем Собраний епископом Сергием (Страгородским), будущим патриархом.
«Тернавцев. ...В факте спасения, кроме двух тайн о Боге и Христе, заключается еще и третья тайна, о человеке. Эта религиозная тайна о человеке деятельностью Вселенских Соборов раскрыта не была... раскрыта была теология и христология, антропология же осталась нераскрытою и составляет великую задачу будущего. (...)
Епископ Сергий. Неужели Вы думаете, что в христианстве не раскрыто, что такое человек?
Можно было бы привести еще немало подобных решительных суждений. Однако, по счастью, рисуемая ими картина все же не вполне справедлива, поскольку в большинстве из них совершенно упускался из виду один более поздний (сравнительно с эпохой Соборов), но оттого не менее важный этап догматического развития православия: этап исихастских споров XIV века. На этом этапе центральной задачей церковного сознания явилось богословское оправдание духовной традиции исихазма, или священнобезмолвия, которая в различных, преемственно развивающихся формах составляла главное русло православного подвижничества на протяжении всей его истории. Такое оправдание было глубоким образом дано в писаниях св. Григория Паламы, и оно, разумеется, не могло не включать в себя подробного богословского разбора тех представлений о человеке, которые выработала и которыми руководилась подвижническая практика. Поэтому с учетом достижений паламитского богословия говорить о богословской нераскрытости православной антропологии возможно лишь в некотором ограниченном смысле: именно в том, что богословское учение св. Григория, хотя и было в важнейших пунктах закреплено догматическими определениями Соборов XIV века, однако в последующем, по причинам историческим, оказалось скорей заброшено, нежели приумножено и ныне нуждается в возвращении ему должного места и значения в православном богословии; нуждается в широком исследовании и обсуждении, в современной интерпретации, а далее, несомненно, и в творческом продолжении и развитии. И эта работа в течение последних десятилетий уже начала осуществляться усилиями православных богословов.
В соответствии со всем сказанным, наша первая часть представляет собою не что иное, как краткое современное изложение основных идей паламитского богословия, главным образом, на материале центрального сочинения св. Григория, «Триад в защиту священнобезмолвствующих»; только в отдельных темах, которых мало касалось исихастское обновление XIV века, мы обращались непосредственно к аскетическим памятникам. По сравнению с тем, что было высказано в недавних изложениях «паламитского синтеза» у Вл. Лосского, Кривошеина, Мейендорфа, читатель здесь едва ли найдет нечто новое. Мы лишь повсюду стремились как можно более выпукло представить важнейшие черты богословского здания, как можно отчетливей проследить главнейшие идеи и интуиции, на которых строится исихастская антропология. Следуя этому же стремлению, мы хотим уже здесь, во введении, явно указать эти ключевые идеи. Это:
идея благодати как Божественной энергии;
идея обожения, или соединения с благодатью, как высшего призвания человека;
идея непосредственного общения с Богом или, точней,
идея синергии, свободного человеческого соработничества благодати, как единственного пути обожения.
Возможно, следует добавить сюда и идею постоянной изменчивости, пластичности человеческой природы, в силу которой в здешней жизни соединение с благодатью не дается в собственность человеку, а остается всегда подвижным, не закрепляемым и может поддерживаться лишь непрестанным духовным трудом, особым устроением и напряжением всего существа человека.
Когда мы говорим о православной антропологии, никакой акцент на этих краеугольных идеях не может оказаться чрезмерным. В них — сумма, главное достояние всего православного понимания человека»
{5}.
«Тем непосредственным началом, которое определяет собой характер и облик нашей философии, ее специфическую особливость, является
православный энергетизм. «Человек соединяется с Богом не по сущности, а по энергии», — вот богословский тезис, смысл и значение которого еще никогда не были продуманы и осознаны во всем их масштабе. В действительности же, за ним встает целый самостоятельный способ видения, который сказывается на всем и всему придает свою особенную окраску
[6]. В частности, и философским позициям. Человек делается причастен Богу (Абсолютному, совершенству и полноте бытия) не своею «сущностью» — иначе говоря, не какими-то непременными определяющими чертами, или частями своего существа, или сторонами своей природы (в том числе, и не разумом самим по себе!) — но исключительно своими «энергиями», т.е. некими устремлениями, свободными импульсами, внутренними установками — и притом, не любыми, а лишь очень определенными, которые могут присутствовать, а могут и отсутствовать у человека, могут у него появляться и исчезать и должны специально им вырабатываться и поддерживаться. И потому, говоря об отношении человека и здешнего бытия к Богу, к Абсолютному — в чем и заключается истинное назначение философии, — философия (онтология) должна говорить не о «сущностном», а об «энергийном», об устремлениях и побуждениях человека, о его внутренних движениях и внутренних установках. Только энергийные предикаты здешнего бытия «онтологически чреваты», онтологически перспективны, способны к трансформации в предикаты иного образа бытия, — и потому могут и должны выступать в качестве онтологических категорий. Этим необходимым установкам философии, строящейся в элементе православного энергетизма, мы и пытались следовать»
{7}.
«Онтологическая позиция, которую мы намечаем здесь, фиксируется двумя фундаментальными принципами: принципом синергии, доставляющим определение здешнего бытия и основу его феноменологической аналитики, а также принципом Личности, указывающим онтологический горизонт, с которым соотносится и в котором находит свое исполнение здешнее бытие. Но если принцип синергии в определенной мере раскрывается, эксплицируется в ходе рассуждения, то о принципе Личности этого сказать нельзя. Термин «Личность» возникает в начале нашего рассуждения как чистое обозначение, название иного порядка бытия, в который стремится трансформироваться или (что то же) с которым стремится соединиться здешнее бытие, человек. И на протяжении всего текста это понятие Личности лишь в самой минимальной мере наполняется содержанием, приобретает лишь самое минимальное число свойств, по существу, так и оставаясь только обозначением, иероглифом. За этим стоят, разумеется, более веские причины, нежели общая краткость нашего рассуждения. Самое существенное в том, что вследствие онтологического отстояния между нами и Личностью, преодолеваемого лишь очень особым «экстатическим» образом, мы не можем знать о Личности отчетливым, систематическим, дискурсивным знанием. Личность не может стать предметом философско-феноменологического наблюдения, и мы принципиально не можем развить аналитики Личности, подобной синергийной аналитике здешнего бытия. Философствование о Личности может развиваться разве что в элементе «метафизики» (в смысле Хайдеггера), отвлеченного концептуального конструирования, которого нам всячески хотелось бы избегать. Либо, еще возможно, в стихии апофатики, не доставляющей никакой позитивной экспликации понятия. Но все же возникает вопрос: если понятие Личности не развивается и не разрабатывается у нас, а остается лишь «иероглифом», тогда по какому праву мы выбрали для него термин, уже обладающий определенным значением, и богословским и философским? Даже и утверждая непостижимость, неэксплицируемость Личности, мы все же обязаны каким-либо образом оправдать этот наш выбор, дабы он не остался лишь странным (и конечно, небезопасным) терминологическим злоупотреблением. Сейчас мы попытаемся пояснить, что же за интуиции лежали в его основе; попытаемся проследить некие связи между обычными значениями термина и нашею «Личностью».
Философская история понятия личности скорей злосчастна. Хотя этому понятию никогда не отказывали в философской глубине, в первостепенной философской важности и значимости, тем не менее, поныне не существует развитой философии личности, и даже нет, пожалуй, единой твердой основы для философской разработки понятия. Вообще, очень нелегко отыскать в теме личности какие-либо бесспорные, классические положения и выводы. Как известно, личность не входила в круг понятий античной философии; появившись вместе с христианством и будучи столь близка именно к тому центральному, сердцевинному в христианстве, что для эллинов – безумие, она, по существу, так и не нашла себе места в корпусе базовых категорий европейской мысли. Что, в самом деле, такое — личность? Это не то же, что «сущее» или «сущий», не existentia – но и не essentia; это не дух, не субстанция, не идея; не «материя» и не «сознание», не феномен и не ноумен, не общее и не особенное, не бытие, но уж, конечно, и не ничто. Разумеется, она не есть и какая-либо простая комбинация этих начал. Она не укладывается ни в одну из классических дихотомий, ни в одно из членений реальности, выработанных в традиционной метафизике, — и, следовательно, ее философское освоение требует какого-то нового членения, новой системы категорий, специально основанной на понятии личности, принимающей это понятие в качестве фундаментального онтологического принципа. Однако современная философия не проявляет заметного интереса к созданию подобной системы категорий. Напротив, в последнее время изучение личности все в большей степени направлялось по руслу психологии и социологии, где личность редуцируется к одному из своих уровней и разлагается в сумму тех или иных составляющих моментов. Налицо период антиперсоналистских и антиантропологических тенденций, когда тема личности, равно как и вся линия философской антропологии, оказывается третируемой и отодвинутою
[8]. Так что в итоге, наше понимание личности сейчас придется сопоставлять не столько с какой-либо систематической философской трактовкой последней, сколько лишь с неким «комплексом представлений».
Все же, главные элементы этого комплекса выделяются с достаточной ясностью. На первом месте здесь, несомненно, находится представление о том, что личность есть нечто суверенное, самостоятельное, что не может определяться или управляться чем-то внешним себе и что заключает в себе некий собственный смысл и ценность. Иными словами, личность онтологически содержательна и онтологически суверенна. При этом — другой необходимый момент — ее смысл и ценность в ней полностью и до конца выражены, явлены, открыты, «суть налицо». Личность, «лицо», есть совершенная, предельная открытость и явность, чуждая всякой скрытости или недовершенности. Наконец, личности еще предполагается свойственной наделенность энергией или энергиями, «самодвижность», способность к активности, к многообразным проявлениям. В этом своем аспекте личность обычно противопоставляется «вещи». Предполагается также обычно, как нечто само собой разумеющееся, что все эти представления относятся к «человеческой личности», к индивидуальному человеку в здешнем бытии. Однако, весьма характерным образом, они не включают в себя никаких особенностей, специфически связанных с принадлежностью к здешнему бытию, с фундаментальными предикатами конечности, смертности, внутренней ограниченности. Напротив, если вдуматься, они даже входят в противоречие с этими фундаментальными предикатами! В самом деле, уже такой основной признак личности (лица) как совершенная нескрытость, выраженность, явленность всего ее смыслового содержания, очевидным образом предполагает отсутствие в ней всяких внутренних препятствий к самоосуществлению, отсутствие внутренних границ и пределов — иными словами, отсутствие предиката внутренней конечности. Бытие, связанное внутренними препонами — а именно таково здешнее, «тварное падшее» бытие — не может быть полнотою открытости и выраженности, не может быть личным! Итак, уже беглый философский анализ представлений, связываемых с идеей личности, обнаруживает, что реальность, отвечающая этим представлениям, в сущности, не может быть вмещаема горизонтом здешнего бытия. Поэтому следует сделать вывод, что весь комплекс указанных представлений описывает не столько то, чем актуально является или же обладает человек, сколько то, что он стремится обрести, чем он стремится стать. (Наличие такого момента в семантике личности также отмечалось неоднократно.) Усиливая и обобщая этот вывод, мы и приходим к тому, что было бы философски правильнее и плодотворней окончательно разграничить между собой понятия личности, с одной стороны, и человека в его здешней, наличной данности — с другой; и придав этому разграничению полновесный онтологический смысл, называть личностью горизонт реальности, отличный от здешнего бытия и являющийся предметом «фундаментального стремления» человека. Сам же человек определяется тогда как нечто, несущее в себе лишь «образ и подобие» личного бытия, некий несовершенный залог, задаток его, — что мы предлагаем называть «предличностью»
{9}.
«Наряду с понятием личности как центральной онтологической категорией и принципом внутренней формы совершенного бытия, в любом опыте философии личности должна необходимо иметься определенная трактовка человеческой индивидуальности. Тип и характер философского учения во многом определяются тем, в каком соотношении между собой находятся эти два понятия. Прежде всего, здесь возникает альтернатива: личность и индивидуальность можно отождествлять между собой, либо полагать их отличными друг от друга. В первом случае человек в его наличном образе есть первичная и окончательная реальность, имеющая неизменную, статическую природу. Все происходящее с человеком замкнуто горизонтом здешнего бытия. Хотя личное начало, в лице человека, и ставится здесь в центр философской картины реальности, однако само представление об этом начале лишено онтологической глубины. Такова позиция большинства разновидностей персонализма. Христианская же метафизика личности — или
теоцентрический персонализм — может избирать только противоположный путь. В этом случае индивидуальность и личность разделены онтологическим отстоянием, и притом личность выступает как задание, как искомое для индивидуальности. Последняя представляет собою не совершенное осуществление личного начала, но только некий залог, начаток его — «предличность», по введенной выше терминологии. Природа ее является здесь как нечто еще незавершенное, открытое, ждущее своего исполнения и получающее его в особом онтологическом процессе становления или претворения индивидуальности в личность, «лицетворения». И здесь снова возникает альтернатива: наличие связи, общения, контакта данной индивидуальности с другими может быть безразличным для этого процесса, для достижения его цели — или, наоборот, существенным для него. Трансформация индивидуальности в личность может оставаться либо «частным делом» каждой данной индивидуальности, либо соборным «общим делом», неисполнимым в отъединенности от других, требующим определенной связи с ними. Различие этих двух априорных возможностей глубоко отражается на метафизической картине реальности. Однако с позиций обсуждаемой нами практической антропологии Православия, такая предпосылка является целиком ложной. Этой антропологии соответствует как раз противоположный полюс указанной выше альтернативы»
{10}.
«Всякое духовное строительство, служащее онтологической трансформации здешнего бытия, непосредственно осуществляется индивидуальностью и в индивидуальности — и однако всегда имеет всеобщую, соборную природу, включается в единое соборное деяние, в «общее дело». Суть и задачу этого «общего дела» человека и человечества можно определить одною краткою формулой: преодоление смерти. Ибо, хоть нам не дано ясно, «ответчиво» знать о том высшем горизонте бытия, в который имеет претвориться человек, но мы знаем твердо, что самое стремление человека к этому высшему горизонту есть не что иное как стремление к преодолению смерти, к избавлению от обреченности Ничто, к освобождению здешнего бытия из-под власти дурной конечности. В этом — последний и самый глубинный смысл духовной работы человека: смысл эсхатологический. Указания на этот смысл нечасты в культуре — и даже в религии. Они и не должны быть частыми, дабы не снижалось в обыденность их до предела необыденное свидетельство, и дабы не являлся федоровский соблазн: будто потребна какая-то особая деятельность, отличная от всех «обычных» форм духовного и исторического делания и специально направленная к осуществлению эсхатологического смысла (соблазн, удачно названный однажды «проектом мнимого дела»). Подобная деятельность невозможна уже по одному тому, что в сфере практики мы просто не знаем, чтó же осуществлять. Во что преодолены в Личности конечность и смерть? отвечает ли бытие обоженное полному отсутствию этих начал? а может быть, там некий неведомый синтез, сплав их с полярным началами бесконечности и бессмертия — что называют жизнью-чрез-смерть? «Еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». В этих словах Иоанна Богослова давно уж, и со всем основанием принято видеть норму христианского эсхатологизма.
Однако не менее, чем соблазн «мнимого дела», реальна и противоположная опасность: опасность забвения и утраты эсхатологического чувства, эсхатологического напряжения. А без этого чувства и напряженья всякое духовное и культурное делание человека, в конечном счете, только бесцельно и бесплодно, только длящееся под разными формами рабство Ничто. «Разве культурный прогресс ставит себе такие задачи, как уничтожение смерти?» — недоуменно спрашивает Политик в «Трех разговорах» Соловьева. На это отвечает таинственный porte-parole автора, Господин Z: «Не ставит... да оттого-то и его самого очень высоко ставить нельзя». И оттого-то — добавим мы — неисчезающею нотой в культуре должно звучать эсхатологическое напоминание и свидетельство: ига смерти не должно быть. Единственное и истинное дело человечества — преодоление смерти. «Бог уготовал, чтобы сделаться тебе выше ее» (Исаак Сирин).
Такие слова, повторим, не должны говориться часто. Но каждый из нас должен хотя бы однажды услышать и произнести их для себя — чтобы уже не забывать никогда»
{11}.
ЭНЕРГИЯ КАК ИЗМЕРЕНИЕ БЫТИЯ
Реализация намеченного проекта энергийной онтологии потребовала, прежде всего, нового углубленного анализа понятия энергии. Трактовка этого понятия в классической европейской метафизике, восходящая к Аристотелю и Плотину, была подвергнута пересмотру; представлены были аргументы, показывающие, что в исихазме, как и вообще в духовных практиках (практиках мета-антропологического трансцендирования) свойства энергии не согласуются с классической трактовкой и требуют иной, более общей концепции энергии, допускающей снятие связи энергии с сущностью: деэссенциализованную форму энергии. Эти идеи и выводы представлены в текстах «Род или недород?» и «Трилогия Границы», вошедших в книгу «О старом и новом».
«Вглядываясь в понятийный строй классического аристотелева дискурса, мы обнаруживаем, что в этом дискурсе «событие» — точнее, «то, что отвечает событию», ибо самой категории события здесь не вводится — представляется трехэлементной структурой, упорядоченной триадой начал:
Δύναμις – Ένέργεια – Έντελέχεια
Каждое из трех начал имеет целый спектр значений; укажем важнейшие для нас:
Δύναμις – возможность, потенциальность, потенция;
Ένέργεια – энергия, деятельность, действие, акт, актуализация, осуществление;
Έντελέχεια – энтелехия, действительность, актуализованность, осуществленность.
Расположение начал нисколько не произвольно: вся триада есть онтически упорядоченное целое, которое описывает, как Возможность посредством Энергии претворяется или оформляется в Энтелехию. Это целое представляет собою, очевидно, произвольный элемент происходящего в реальности, произвольное «происшедшее» или (как мы и сказали) «событие», данное в его онтическом строении. Тем самым, триада обладает порождающей, производящей способностью: она несет в себе цельное ядро или «атом» философского описания реальности, и может служить как базисная структура, которая из себя развертывает это описание.
Однако эта триада — весьма вариативная, «протеическая» онтическая конструкция: она наделена чрезвычайной гибкостью, способна иметь многие истолкования и порождать философские построения многоразличного характера. Ее внутренняя логика, система ее смысловых взаимосвязей как структурированного онто-логического предмета не является определенной неким единственным и однозначным образом, ибо входящие в нее начала, равно как их отношения, допускают весьма различные трактовки. Но в силу порождающей функции триады в философском дискурсе, каждое ее определенное онто-логическое прочтение имплицирует особый философский подход, особый способ и русло философствования.
Главным же источником различных прочтений оказывается центральное звено триады, энергия. Как известно, термин первоначально был произведен Аристотелем от выражения έν έργω είναι: быть в деле, в действии, «задействоваться». Согласно этой этимологии, в исходном, наиболее общем представлении «энергия» должна мыслиться ближе всего к «действию», как некий доступный ресурс действования, действенность и т. п. Стагирит же с самого начала связал и предельно сблизил энергию с осуществлением, приняв, что энергия — «существование вещи... в смысле осуществления» (Мет. 1048 а 31) — разумеется, осуществления некоторой сущности. Тем самым, он изначально и прочно придал своему понятию эссенциалистскую трактовку, в которой, по удачной формуле Хайдеггера, энергия раскрывается как «себя-в-творении-и-конце-имение»: «конец», а также и «творение» вместо «действия», здесь явно выражают и закрепляют связь с телосом, энтелехией, сущностью. Однако сам по себе, введенный термин не обязывает к такой трактовке, он может пониматься и попросту как «себя-в-действии-имение». Итак, непременная связь энергии с сущностными началами, энтелехийность энергии — дополнительное предположение Аристотеля; но оно не только не произвольно, но прямо и тесно связано с характером онтологии, с парменидовской и общегреческой онтологией единого бытия. Можно было бы показать, что энтелехийность энергии, по сути, является одною из полноценных дефиниций такой онтологии.
Выход за пределы этих онтологических представлений означает и выход к иным представлениям об энергии. Один из многих уроков, какие несет в себе история концепта «энергия», заключается в том, что введенное Стагиритом понятие оказалось несравненно шире и тех видов, в каких он его вводил, и того понимания, какое он развил для него. Понятие обнаружило редкостную, почти уникальную способность играть ведущую роль в самых различных онто-логиках и логиках «природы». С разделением и отдалением «метафизики» и «физики», пришедшим в Новое Время, едва ли не полностью разделились и трактовки энергии, присущие этим сферам, причем философская история энергии сложилась заметно более бледной и скудной. В современной научной мысли происходит, по существу, утверждение и закрепление энергии в качестве ключевого концепта, вполне совершившееся уже в дисциплинах физического цикла и все более распространяющееся в науках о человеке. Исподволь, совсем по-иному и более имплицитно, переоткрытие-переосмысление энергии, ведущее к возрастанию ее места и веса, происходит и в современной философии. Наша тема — один из моментов в этом процессе; а избранный нами путь, обращение к аристотелевой триаде, отвечает классическому философскому способу вхождения в проблему через возврат к истоку. Способ оказывается эффективен: в триаде можно найти более богатую логику, которая способна вести не только к уже известным позициям, но и к новому неэссенциалистскому дискурсу.
Почему энергия как «себя-в-действии-имение» должна быть в жестком подчинении предзаданной цели, телосу, энтелехии? Это — лишь одна из логик, заложенных в триаде. Почему не должны эти понятия мыслиться так, что умный телос сообразуется с энергией, с «ресурсом действования», так что их связь обоюдна, телос не только определяет энергию, но и определяется ею? И даже гораздо радикальней: почему действие и энергия не могут вообще ничему не служить и не подчиняться? не могут быть свободными и первоисточными началами, которые из себя полагают все остальные принципы, полагают развертывание философского рассуждения? Понятно, что это всецело исключено в онтологии единого бытия; но в онтологии бытийного расщепления, где сущность окрашивается апофатичностью, а ткань явлений проникается бесконечностью (в смеси с конечностью, конечно) — не окажется ли именно этот радикальный предел деэссенциализации передающим специфику подобного бытия? — Вот три основных возможности; и можно охватить их все воедино в наглядном образе. Если условно представить оптическую дистанцию, отстояние между Возможностью и Энтелехией как некий наглядный интервал, в котором находится Энергия как посредствующее звено, — то в строгом аристотелевом эссенциализме, где сущность доминирует над всем, энергию можно представлять пребывающей в центре интервала. В случае обоюдной связи, взаимозависимости и равносильности энергии и сущности, телоса, наглядным образом служит положение энергии, смещенное к энтелехии, почти слившееся с ней. И наконец, радикальной «отвязке» энергии от сущности отвечает смещение противоположное, когда энергия — предельно вблизи возможности.
Охарактеризуем бегло эти три типа понимания энергии. Случай первый — классический эссенциализм. Доминирующим началом в триаде — а затем и во всем развертываемом дискурсе — служит энтелехия, а равно с нею и сущность, поскольку оба начала связаны прямою и обоюдной связью (по Аристотелю, «сущность как форма есть энтелехия» (О душе. 412 а 21), а энтелехия, в свою очередь, есть «сущность, находящаяся в состоянии осуществленности» (Мет. 1039 а 17)). Как производящий и смыслополагающий принцип системы понятий, сущность-энтелехия составляет вершину этой системы; все прочие категории дискурса, включая потенцию и энергию, дистанцированы от нее и подчинены ей. Примеры подобного чистого дискурса сущности можно видеть в системах Спинозы, Лейбница, Гегеля; в соответствии с ним может трактоваться и метафизика Аристотеля (хотя аргументированно выдвигалась и отличная трактовка этой метафизики, о которой скажем ниже). Здесь онтическая триада представляет событие как замкнутую и завершенную, самодовлеющую цельность. Самым характерным свойством такого дискурса является тотальная охваченность реальности сетью закономерности: все вещи, явления, события не только реализуют определенные сущности-энтелехии, но также подчинены целой системе эссенциальных принципов — началам цели, причины, формы и т. п., действие которых носит характер законов.
С развитием подобного понимания, как его углубление и усовершенствование, формируется дискурс, в котором энергия предельно приближена к энтелехии. В истории мысли, и древней, и современной, ему принадлежит крупная роль. Здесь энтелехия и сущность по-прежнему определяют собой реальность и философскую речь, однако при этом они имеют энергию ближайшим и равносильным, в существенном, даже равнозначным себе принципом. Главным, фундаментальным предикатом сущности и энтелехии утверждается их энергийность: необходимость энергии для них, их наполненность, обеспеченность энергией. В отличие от чистого эссенциализма, абстрактно постулирующего власть эссенциальных принципов, здесь учитывают, что реализация этой власти необходимо является действием и нуждается в энергии: всякая сущность энергийна. Но принимается и обратное: примат сущности требует, чтобы всякое действие и энергия служили реализации известных законов и эссенциальных начал, т. е. всякая энергия сущностна. Два эти тезиса в совокупности могут рассматриваться как дефиниция определенного философского дискурса, который естественно называть эссенциалъно-энергийным дискурсом. Чистый и яркий пример его — неоплатонизм. Как сам Плотин, так и ученики его усиленно и многообразно выдвигают и разрабатывают оба полюса этой дефиниции, как энергийность сущности (ср. Энн. II, 5, 3, 4: «все первые принципы суть энергийно-данные»; также Энн. II, 5, 3, 5 е. а.), так и сущностность энергии (по Плотину, энергия есть «полнота смысловых сил»; ср. также Энн. II, 5, 2, 4 е. а.). Два других примера данного дискурса мы найдем в творчестве позднего Хайдеггера: это, во-первых, его собственное учение (где в центре стоит событие, Ereignis, трактуемое как характерно эссенциально-энергийный концепт, «освоение» сущности или реализация взаимопринадлежности человека и бытия), а во-вторых, его реконструкция метафизики Аристотеля (по Хайдеггеру, и эта метафизика, и в целом древнегреческая философия стоят на понимании сущности как энергии).
Наконец, перейдем к последней и противоположной трактовке — такой, в которой энергия отдаляется от энтелехии и сближается с потенцией. Энтелехия при этом оказывается в структуре события отделенною от его основного ядра, оказывается как бы дополнительным и произвольным привнесением. Тем самым, ее присутствие может теперь рассматриваться как «приумножение сущностей», излишнее и устраняемое бритвой Оккама. Иными словами, энтелехия устраняется из события или, возможно, «удаляется на бесконечность», сохраняет свое присутствие лишь как чисто апофатическое начало (что, в свете вышесказанного, только доводит до предела некоторые изначальные тенденции европейского философского процесса). Напротив, энергия теперь концентрирует в себе все существенное содержание события; она освобождается от подчиненности сущности-энтелехии и отнимает у нее роль доминирующего начала в структуре события — а затем, соответственно, и роль производящего принципа философского дискурса. Заодно с сущностью, она утрачивает связь и со всеми примыкающими к ней принципами:
де-эссенциализируется. Если прежде энергия была «энергией исполнения», энергией достижения определенной сущности, цели, формы... — то теперь она делается «энергией почина», начинательного усилия, исходного импульса выступления из возможности в действительность; приближаясь к δύναμις, она становится чисто динамическим принципом. Поскольку же она обрела доминирующую роль, то событие, а следом за ним и общая картина реальности, воспринимают основные свойства и предикаты энергии, как прежде они воспринимали таковые сущности и энтелехии. Им перестанут быть свойственны самодовлеющая замкнутость и завершенность — и станут присущи динамичность и открытость вовне; они будут описывать чисто энергийную динамику свободной актуализации, не заключенную в сеть предсуществующих целей, причин и форм и допускающую множественность сценариев и вариантов. Став
дискурсом энергии, философский дискурс в любой теме будет развертываться, в первую очередь, в горизонте энергии и как прослеживание того, что совершается с энергией. Историческая судьба такого дискурса своеобразна. В философии он практически отсутствовал до сих пор (если не считать подходов, в той или иной мере коррелативных — дискурсов воли, любви, желания и т. п.). Однако его главные принципы, примат энергии и деэссенциализованная трактовка последней, выдвигались и полагались в основу в двух областях чрезвычайно разного рода: в некоторых древних школах мистико-аскетической практики (включая православный исихазм) и в современной квантовой физике и космологии.»
{12}.
ИСИХАСТСКИЙ ОРГАНОН
Возникающий философский дискурс – дискурс энергии, трактуемой новым и обобщенным образом, – может быть адекватно понят и развернут лишь в контексте антропологии, и притом – при отведении центральной роли в этом контексте определенному роду опыта человека: опыту целостного устремления к Инобытию. Соответственно, следующий крупный этап формирования синергийной антропологии составляет систематическое исследование данного рода опыта. Исследование проводится на конкретном материале православного исихазма; затем в рассмотрение включается весь реперторий главных мировых традиций духовной практики; и в заключение вырабатываются общие выводы о природе и структуре духовной практики как феномена антропологии. Ключевой особенностью феномена оказывается его методологический аспект: аутентичный опыт (мета-)антропологического трансцендирования с необходимостью имеет в своем составе полный органон, т.е. практико-теоретический канон организации, проверки и истолкования опыта. Сам же процесс практики имеет восходящую ступенчатую структуру, основные элементы которой несут универсальный антропологический смысл.
«Для современного сознания понятие мистического опыта так расплывчато и настолько засорено, что заведомо не является «понятием» в настоящем смысле. В представлениях о нем царят две крайности: на одном полюсе, он превозносится как высший род опыта, сугубо исключительный, непередаваемый и невыразимый, на другом – отбрасывается как иллюзия или патология; причем оба взгляда крайне редко подкрепляются сколько-нибудь серьезным и конкретным анализом. Не присоединяясь ни к одному из этих полюсов, мы предлагаем некоторый путь концептуализации данной области, намечая вехи философского понятия мистического опыта, рассматривая его структуру, аспекты и коррелятивные явления. Существенно, что в этой концептуализации мистический опыт представляется не частным или тем паче аномальным явлением, а необходимой и универсальной разновидностью человеческого опыта…»
{13}.
«Мистический опыт в нашей трактовке – род опыта, выделенный своим онтологическим содержанием и характером. Это – опыт «событий трансцендирования», которые образуют особый онтологический горизонт в бытии, взятом в энергийном аспекте или измерении – как «бытие-действие». Такой опыт онтологичен: является «опытом бытия», выражением первичной бытийной установки, глобальной антропологической ориентации; имея же энергийную, деятельностную природу, он наделен возможностью практического претворения, развертывания этой ориентации и установки во всех, вообще говоря, существующих формах: что и есть самоосуществление человека. Поэтому всякий развитый, проработанный род мистического опыта есть порождающее ядро определенной антропологической стратегии, или же сценария самоосуществления человека, кратко - определенной антропологии. (Выскажем и обратный тезис: всякая состоятельная и состоявшаяся антропологическая стратегия или модель имеет своим порождающим ядром некоторый мистический опыт. Однако это ядро или генеративный пласт может быть глубоко скрытым, так что его выявление будет достаточно затруднительно, а сам опыт априори может принадлежать некоему неизвестному, неописанному роду.) В свою очередь, реализация определенного антропологического сценария, концепции или модели человека - широкий, многомерный процесс, в котором, в частности, конституируются адекватные данному сценарию версии, изводы различных дисциплин, связанных с антропологической сферой: наук о духе и человеке.
В своей генеративной способности мистический опыт уникален. Хотя бытие-действие включает в себя еще два горизонта, отвечающие «виртуальным событиям» и «событиям наличествования»
[14], и опыт таких событий, также будучи деятельностным «опытом бытия», равно может служить порождающим ядром некоторой антропологии, однако в этом случае могут возникать лишь антропологии редуцированные, не обеспечивающие полноты самоосуществления человека. В строении бытия-действия есть упорядоченность, вызываемая тем, что всякое событие связано с актуализацией (выступлением, изведением) некоторой возможности. Данная связь может быть троякой: выступление может достичь наличествования, пребывающего присутствия, здесь-бытия; оно может не достичь их, оказаться недостаточным для них: выступлением не в наличествование, а только в «недоналичествование»; и оно может также превзойти их, быть выступлением в «сверх-наличествование», преодолением и превосхождением здесь-бытия. Последнее и есть событие трансцендирования. Оно являет собой предельную полноту, совершенную исполненность бытия-действия - и, соответственно, лишь из опыта трансцендирования может развертываться полнота самоосуществления человека»
{15}.
«…Мистико-аскетическая традиция Православия, исихазм… – классический пример высокоорганизованного, проработанного мистического опыта. Находимая здесь соединенность данного опыта с аскезой, духовной практикой отнюдь не является случайной или частной чертой. В нашей трактовке, как опыт событий трансцендирования, мистический опыт существенно холистичен. Он относится к человеку в целом и в полноте своего выражения не может остаться чисто интеллектуальным, спекулятивным опытом, охватывая все уровни человеческой организации; вместе с тем, имея строго определенное бытийное содержание, он сам должен обладать известной организацией, выстроенностью – и за счет этих особенностей он естественно, органично сопрягается с целенаправленными холистическими практиками. Как и обратно, холистическая практика аскезы в своем сущностном ядре и своей имманентной телеологии всегда есть
практика трансформации, в развитых целостных реализациях, как правило, мыслящейся онтологической трансформацией. – В итоге, не утверждая покуда жесткой, не знающей исключений связи, мы все же находим, что для обоих видов опыта, мистического и аскетического, зрелой развитой формой, доставляющей полноту их выраженности, является их соединенность – мистико-аскетическая традиция, или же школа духовной практики. В рамках такой традиции, оба вида не делаются, однако, вполне идентичны: хотя грань довольно условна (завися от точных определений, каковые отсутствуют), можно все же сказать, что мистический опыт довершает аскетический, сообщая ему статус бытийного опыта, тогда как аскетический опыт - область которого в данном случае более обширна – служит руслом, вводящим в сферу мистического опыта, дающим средства его достижения и его поверки...»
{16}.
«Мы ставим широкую задачу – или скорее круг, комплекс задач: выявить и представить генеративные потенции исихастского опыта предметно-практически, в конкретном развертываемом из них содержании. Это означает, что мы должны эксплицировать, дешифровать антропологию, имплицируемую исихастской практикой – после чего интерпретировать реконструированную антропологию в качестве своего рода мета-науки или же базового дискурса, которым генерируются основные дисциплинарные дискурсы, связанные с антропологической сферой»
{17}.
«Традиция включает не только опыт в его первичной форме («сырой», или «эмпирический» опыт), непосредственные данные аскетической практики. Исихазм – развитая традиция, где опыт определенным образом выверен и выстроен, организован и структурирован; он подчинен определенным критериям, и вербальной передаче его служит особый жанр, или же «аскетический дискурс», представленный в обширном корпусе текстов от IV в. до наших дней. Этот дискурс не ограничивается простой дескрипцией данных, но осуществляет и истолкование опыта, для чего в нем тоже созданы определенные принципы и правила.
Таким образом содержание Традиции составляет не просто «опыт», но опыт
проработанный; в нее входит и некоторый комплекс принципов, указаний и процедур, касающихся организации и истолкования опыта»
{18}.
Мы же попытаемся представить как «внутренний», так и «участный» органон.
«Есть несколько общих отличий, в которых находит выражение различие позиций Внутреннего и Участного органона. Прежде всего, мы предполагаем, что оба они относятся к одному и тому же предмету – к Традиции, к исихастскому опыту; но это тождество предмета требует важной оговорки. Опыт не может быть в полном смысле одним и тем же для внутренней и для внешней, вненаходимой позиции. Как мы указывали, предмет Внутреннего органона – живой опыт духовной практики: именно он организуется, квалифицируется и истолковывается самою традицией внутри себя как самодостаточного Универсума Общения. Участному же органону дана, ближайшим образом, именно Традиция как исторический и культурный феномен, скорей чем опыт как таковой. Опыт, тем не менее, остается предметом органона, однако теперь он выступает как содержание Традиции, как опыт, письменно зафиксированный в корпусе текстов. (Прямые соприкосновения с живым опытом и непосредственною жизнью Традиции, конечно, не исключены, они происходят, и выше мы обращались однажды к их свидетельству; но для задач исследующего сознания их роль заведомо не является преобладающей.)
Далее, речь Участного органона, говоря о явлениях религиозного и мистического опыта, может лишь фиксировать их как феномены, однако не может включать в себя весь конфессионально-обусловленный (догматический, богословский, вероучительный) контекст, в какой вставляет и в каком толкует их Внутренний органон. Сознание традиции описывает мистический опыт в рамках конфессионального и теологического дискурса, включающего обширный круг понятий, положений и представлений, относящихся к горизонту Божественного бытия как такового (ad intra, an sich). В отличие от этого, вненаходимое сознание, строящее Участный органон, может говорить о Божественном бытии лишь в его отношении к здешней реальности, усматривая и описывая проявления, отпечатки этого отношения в исихастском опыте - но при этом не квалифицируя их как таковые, не утверждая их связи с иным онтологическим горизонтом»
{19}.
«Следует отметить еще один герменевтический принцип, связанный с диалогической природой исихастской герменевтики и также заметно умеряющий степень невыразимости и несообщаемости исихастского опыта. Вот этот принцип:
условием, предпосылкой способности
верного понимания опыта служит обладание некоторым сходным (близким, родственным)
опытом. Обычно это условие называют необходимым (ср. у Софрония: «Некоторая аналогия опыта должна наличествовать, иначе навсегда мы останемся вне истинного познания духовных реальностей»
[20], но по контексту можно чаще всего увидеть, что его полагают и достаточным. Будучи в очевидном родстве с античным эпистемологическим принципом «подобное постигается подобным», этот «принцип общности опыта» всегда присутствовал в Традиции, и различные выражения его можно найти во все периоды и у многих авторов. Так, авва Софроний говорит, что нужно «быть поставленным в ту же духовную перспективу»: например, св. Силуан «говорил и писал о данных ему состояниях простыми словами, понятными, однако, только тем, кто и сам жил в той атмосфере, в какой и Силуан»
[21]*.
В этом принципе - ничего странного или неожиданного, и тот же Софроний указывает на его естественность: «Если области науки или искусства, чтобы достойно оценить гений артиста или ученого, нужно быть не слишком далеко от него, то то же самое и в сфере Духа»
[22]**.
Но при всем том, нельзя его относить в разряд универсальных и безусловно верных положений; скорей, это – допущение, постулат, принятие которого указывает на определенный тип и характер исихастской герменевтики. Чтобы увидеть это, достаточно вспомнить, что данный принцип отнюдь не свойствен естественнонаучному органону, где понимания достигают не «общностью опыта», а сугубо аналитическими методами. Нетрудно увидеть и то, к какому же типу герменевтики тяготеет принцип общности опыта. Исходная почва известной общности, разделенного опыта есть именно то, что требуется для общения; и то истолкование, что требует такой почвы и опирается на нее, – тоже оказывается, тем самым, сродни общению, строится в диалогической парадигме. Поэтому наиболее адекватно указанный принцип раскрывают понятия диалогизма. Толкующее сознание должно соучаствовать – не столько в самом толкуемом опыте, сколько в его «духовной перспективе», его ориентациях и бытийных установках - т. е. оно должно обладать структурой участного сознания (что в терминах дискурса энергии означает обладать «насколько-то сходным» строением энергийного образа). И мы естественно обнаруживаем, что принцип общности опыта есть, собственно, то же что принцип участности, участного мышления – выступающий в исихастском органоне многообразно, в том числе, в роли герменевтического принципа.
Данный принцип очерчивает не такие уж скудные положительные возможности для герменевтики мистического опыта. Участность отнюдь не требует иметь в точности тот же, полностью идентичный опыт: «стоять в той же духовной перспективе» можно и пребывая на более низких ступенях Духовного Процесса; вообще говоря, и полномерное прохождение этого процесса, всецелое погружение в сферу подвига не является абсолютной необходимостью. Однако точная мера, «количество» требуемой общности не определены ни- каким единым и общим образом, они конкретны и изменяются - в зависимости от толкуемого опыта. Опыт этот структурирован по ступеням Процесса – и так же структурируется необходимая для его понимания общность: она тем значительней, чем выше, трудно доступнее стоит опыт. Так отражается этот методологический принцип у Паламы: «О чем-то здесь знают только испытавшие, но другое явно и глядящим извне»
[23] »
{24} ...
ПАРАДИГМА ДУХОВНОЙ ПРАКТИКИ
«Универсальная природа Духовной практики, очевидная из нашего описания, заставляет ожидать, что, помимо православного исихазма, эта общеантропологическая парадигма должна иметь и другие исторические реализации. Разумеется, наш выбор термина не был случайным: “духовными практиками” издавна принято называть психосоматические или холистические методики, развитые в ряде религиозных традиций, прежде всего, на Востоке. Самый известный пример их — йога, имеющая целый спектр разновидностей (как то классическая йога, тантрическая йога и др.); другие примеры доставляют дзэн, даосизм, суфизм… Как нетрудно увидеть, эти методики можно, действительно, считать реализациями парадигмы Духовной практики в нашем смысле; но при этом некоторые черты парадигмы требуют обобщения. Безусловно необходимой общей чертой следует считать тип явления в целом: любая реализация должна представлять собой холистическую практику Антропологической Границы, т.е. процесс, ориентированный к Границе и затрагивающий все уровни организации человеческого существа. Далее, путь восхождения к Границе всегда структурирован, пролегая от исходного этапа вхождения в процесс — резкого рубежа, “духовных врат”, — до некоторого телоса, “высшего духовного состояния”, не принадлежащего уже горизонту наличного бытия человека. Наконец, столь же непременным элементом надо считать создание в центральной части процесса специфической динамики восхождения, включающей одновременные фокусирование внимания и концентрацию энергии (“структура токамака”), причем ведущую роль в концентрации должна играть спонтанная энергия, исток которой вне горизонта опыта человека.
С другой стороны, во многих существенных аспектах духовные практики могут иметь глубокие различия меж собой. Важнейшее из всех разделений — альтернатива, касающаяся природы “высшего духовного состояния”: тот иной (по отношению к наличному бытию) онтологический горизонт, которому оно принадлежит, может иметь природу бытия личного или же безличного, имперсонального. Любая христианская практика должна, очевидно, отвечать первому из полюсов этой альтернативы, и в опыте исихазма телос его практики, обожение, раскрывается, в полном соответствии с тринитарным богословием, как вхождение в план личного (ипостасного) бытия-общения. Другой же полюс реализуют восточные практики, где телос представляется как растворение и утрата идентичности, достигнутость имперсонального бескачественного бытия, неотличимого от небытия (нирвана, Великая Пустота и т.п.). Это радикальное различие телоса необходимо сказывается на многих сторонах пути восхождения. Укажем всего один, но важный пример. Путь исихастского “умного делания” развертывается в диалогической парадигме как
возведение себя (к Личности, Ипостаси); в соответствии с этим, требуется устранять из сознания все образы, лишь отвлекающие от диалога, однако культивировать, “возгревать” чувства, нравственно-эмоциональные реакции: они в диалоге органичны. Напротив, в восточных практиках путь развертывается в элементе отрешенного созерцания как
разравнивание себя (к Нирване, Пустоте); в соответствии с этим, требуется устранять все эмоции, однако культивировать образную медитацию, которая содействует отрешенности, но с приближением к телосу должна прекращаться, так же как вообще все виды активности»
{25}.
«С умеренным упрощением и огрублением, можно считать, что все рассмотренные покуда явления соответствовали некой обобщенной «парадигме духовной практики», которая может быть определена следующими главными чертами:
А. Общий тип явления в целом — «духовный процесс на антропологической границе», носящий холистический характер (т. е. задействующий все уровни организации человека, физические, психические и интеллектуальные), осуществляемый сознательно и активно и ставящий онтологически значимую цель (т. е. затрагивающую фундаментальные предикаты человеческого существования, природу и способ бытия человека).
В. Духовный процесс (правильней, антропологический процесс) имеет восходящую природу, обладая членением на выраженные ступени, ведущие от начально-предварительных состояний — точней же, не статичных «состояний», но активностей, энергийных конфигураций — к некоторому «высшему духовному состоянию», несущему в себе смысл, телос всего процесса и отражающему специфику данной традиции, ее уникальность.
Г. В духовном процессе выделяется начальная часть, содержание которой в той или иной форме носит характер приуготовляющего очищения. Последнее также холистично, включая элементы телесного воздержания, душевного отрешения и духовной решимости.
Д. Ядром своим духовный процесс имеет некоторую «практику», систему медитации и (или) молитвы как своего рода «онтологический аутотренинг», основанный на той или иной методике одновременной, параллельной
концентрации внимания и
фокусирования энергии, носящий кумулятивный (накопительно-поступательный), углубляющийся и интенсифицирующийся характер и содействующий продвижению к «высшему духовному состоянию»
[26].
Е. Сама по себе «практика» неспособна обеспечить полноту достижения «высшего духовного состояния», и эта полнота обретается лишь действием некоторых факторов, не доставляемых и не управляемых человеком. При отсутствии этого условия, духовная практика теряет онтологическое содержание (см. условие А) и принимает редуцированную форму
психотехники»
{27}.
КОНЦЕПТ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ: ОТ АНАЛИЗА ДУХОВНЫХ ПРАКТИК – К ПОЛНООХВАТНОЙ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Дальнейшее философское продумывание феномена духовной практики выводит к необходимости нового важного понятия антропологии: понятия Антропологической Границы. Введение этого понятия – шаг научного обобщения, дающий возможность перейти от описания некоторого класса предельных антропологических стратегий к описанию достаточного набора таких стратегий: достаточного в том отношении, что он доставляет полную, в определенном смысле, характеризацию феномена человека.
«Классическая европейская антропология, идущая от Аристотеля, есть эссенциалистская метафизика, рассматривающая человека как сущность и систему разнообразных сущностей и стремящаяся выделить из них некие основополагающие начала или же базовые элементы человеческой природы – своего рода неизменное порождающее ядро, которое определяет собой сложное многообразие человеческого существа во всех его проявлениях. Такой подход к человеку естественно соотносится с интуицией центра, он предполагает наличие некоего сущностного ядра, центра человеческого существа и ориентирован на его отыскание и изучение. Как мы видели, опыт современности ставит под сомнение, если не прямо отрицает это наличие неизменного сущностного центра – и проблема человека не может более ставиться как проблема отыскания и изучения такого центра. Однако интуиция «центра человека» сразу же подсказывает и альтернативу себе. Если человека нельзя более характеризовать «центром» – его остается характеризовать «периферией», а точнее – границей. Такая характеристика уже не может отсутствовать и, кроме того, она заведомо является не менее определяющей, нежели «центр». По классической философской логике, общий способ определения предмета состоит в указании его Иного, того, что отлично от него и тем самым, конституирует его предел, границу; определить предмет равносильно тому, чтобы описать его границу. Соответственно, антропология может развиваться как описание «антропологической границы» – границы сферы всех проявлений и возможностей человека, границы горизонта человеческого существования.
Подобная переориентация антропологии, от сущностного центра, который оказался фикцией, – к Границе Человека, – есть не просто возможность, допускаемая общей логикой; она настойчиво диктуется современным опытом».
«Признавая несостоятельность старой эссенциалистской антропологии, строящей описание человека в терминах сущностей, принципов, составляющих субстанциальных элементов, мы не должны мыслить Границу Человека как сущностную концепцию или конструкцию. Начинать следует с начала, ab ovo, на чистом месте, вводя на каждом этапе лишь минимум заведомо необходимых понятий.
По обычным представлениям, Граница есть нечто, сопоставляемое предмету и отделяющее его от всего окружающего, внешнего, «иного» этому предмету. Тем самым, в своей семантической структуре, Граница есть некое «Третье», по отношению к Предмету и его Иному, которое служит для этой диады промежуточным, посредствующим, разделяющим. Говоря об Антропологической Границе, следует обобщить эти представления. Прежде всего, нежелательно с самого начала характеризовать Человека, философские очертания и философский статус которого нам еще долго предстоит выяснять, старым метафизическим понятием предмета; речь о Человеке, развиваемая как речь о Предмете, рискует оказаться неоправданным сужением антропологического дискурса. Кроме того, предметный дискурс тяготеет к статичности и потому плохо пригоден для передачи современной антропологической реальности, главные особенности которой – резкая динамика, радикальные изменения. Современный антропологический опыт фиксирует многообразные проявления человека и ставит на первый план, как наиболее важный и характерный, определенный род этих проявлений, которые называются обычно «предельными проявлениями», «феноменами Границы», «феноменами трансгрессии» и т.п. Основания и критерии, по которым выделяются эти проявления, точно не формулируются, они, как правило, довольно размыты, полуинтуитивны – и тем не менее, в них есть своя последовательность и обязательность: как нетрудно увидеть, «предельность», «принадлежность Границе» проявлений человека всегда понимается как выход за рамки горизонта «обычного», «нормального» эмпирического человеческого существования – к таким проявлениям, в которых исчезают или меняются те или иные определяющие признаки, предикаты этого существования.
Эти опытные ориентиры ценны для нас. Они говорят, что в диаде «Человек и его Иное» человек может выступать не как «предмет», но как «горизонт существования», характеризуемый определенным набором основных признаков, предикатов (как, скажем, обладание сознанием, конечность, смертность...); Иное же, в свою очередь, определяется по отношению к этому набору. Граница Человека – «Третье», «промежуточное и разделяющее» для этой диады – тогда будет пониматься в терминах проявлений человека, складываясь из тех самых «предельных проявлений», о которых говорит современный опыт, и из подобных им, т.е. из таких проявлений Человека, в которых исчезают или меняются определяющие признаки и предикаты человеческого существования, и которые поэтому могут уже рассматриваться как проявления не только Человека как такового, но и его Иного. Так возникает предварительное рабочее понятие Границы Человека: Граница Человека (Антропологическая Граница) есть полная совокупность его предельных проявлений.
Ясно, что в таком понимании Антропологическая Граница трактуется не эссенциально (и тем более, не субстанциально-вещественно), не отвлеченно-метафизически; ее составляют определенные человеческие проявления. Соответственно, именно «человеческие проявления» оказываются исходным понятием для развития антропологии Границы. Чтобы избежать всех редукций, произвольных постулатов, ограничений старой антропологии, это должно быть максимально общее и широкое понятие. Мы нисколько не предопределяем, какой облик Человека должен возникнуть из наших рассмотрений, но мы заведомо знаем, что человек сложен, многомерен, полифоничен, и его проявления – необычайно разнообразная, богатая и подвижная стихия. Мы знаем, в частности, что для антропологической реальности характерны тонкие эффекты типа «взмаха крыла бабочки» в синергетике, когда самые незначительные, неуловимые проявления могут приводить к важнейшим последствиям, в том числе, и к феноменам Границы. И это значит, что к «человеческим проявлениям» следует относить не только законченные, выполненные акты и действия человека, но также и всевозможные зачаточные явления – побуждения, помыслы, внутренние движения, которые представляют собой всего лишь зарождения, начатки, «ростки» актов, возможно, так и не вызревающие до актов в полном смысле. Если старое метафизическое понимание человека в терминах субстанций и сущностей попросту неверно, то понимание его в терминах актов недостаточно, грубо. Нельзя понять человека, рассматривая одни его акты; необходимо уметь видеть и анализировать «пред-акты», ту тонкую, сокровенную стихию, в которой акты зарождаются».
«Принятие языка энергий для описания Человека, в том числе, и для его предельных проявлений, образующих Антропологическую Границу, влечет многие следствия. Прежде всего, если феномены Границы, как мы говорили, могут рассматриваться как проявления не только Человека, но также и Иного, то энергийный язык должен переноситься и на эти проявления Иного; и отношение Человека и Иного должно описываться в энергийном дискурсе
[28]».
«Горизонт человеческого существования – разнородная, многомерная, многоаспектная реальность. Поэтому Иное Человека также многообразно; по отношению к различным определяющим предикатам и признакам горизонта человеческого существования конституируются различные роды Иного. Так, по самому определению, Бессознательное есть Иное сознания; и если обладание сознанием мы (как это твердо принято) включаем в круг определяющих предикатов Человека, то Бессознательное есть и Иное Человека – определенный род Иного, не исчерпывающий собою его многообразия. Отсюда явствует, что Антропологическая Граница, как Третье, разделяющее-соединяющее по отношению к диаде Человек – Иное, есть сложное образование: каждый род Иного Человеку конституирует и определенный род Границы или точней – чтобы сохранять понятие Границы в топологическом дискурсе – определенный участок, ареал Границы. Граница же в целом обладает, таким образом, некоторым строением, некоторой топикой; и первая большая задача антропологии Границы заключается в полном описании, реконструкции этой топики.
Как следует из сказанного, один из ареалов Границы Человека порождается Бессознательным: это – те проявления Человека, в которых обнаруживается воздействие Бессознательного и энергии человека взаимодействуют с энергией Бессознательного; иными словами, данный ареал составляют антропологические процессы или паттерны, которые индуцированы присутствием Бессознательного, его энергиями. Но сразу же очевидно и наличие, по меньшей мере, еще одного ареала, который более важен для философского понимания Человека, ибо прямо связан с его онтологическим статусом. В онтологическом подходе к феномену человека, Человек рассматривается как определенный род или горизонт бытия. Классический современный пример – философия Хайдеггера, где Человек представляется как «бытие-присутствие», Dasein; классический древний пример – христианская мысль, для которой Человек как «микрокосм» есть «тварь», бытие, сотворенное из Ничто. Ясно, что в таком случае Иное Человека – иной образ или горизонт бытия, Инобытие (Sein – у Хайдеггера, Бог как Пресвятая Троица – в христианстве). Граница же Человека, определяемая как энергийное Третье, промежуточное для этой диады, есть совокупность таких проявлений Человека, в которых совершается его претворение в Инобытие – онтологическое трансцендирование, означающее актуальное изменение, преодоление, трансформацию именно онтологических характеристик Человека, то есть, прежде всего, фундаментальных предикатов конечности и смертности. Так, в Православии назначение Человека определяется как обожение, энергийное соединение с Богом, достигаемое на вершине пути духовного восхождения; и мы можем сказать, что с позиций антропологии Границы, Православие утверждает в качестве Антропологической Границы онтологическое трансцендирование, тематизируя его в формах аскетической практики и богословия обожения). Данный ареал Границы принципиально отличен от ареала, определяемого Бессознательным («топики Бессознательного»). За Бессознательным не утверждается статуса Инобытия, и граница Человека, конституируемая им, проходит в том же онтологическом горизонте, что и эмпирическое человеческое существование. Обычно этот горизонт называют горизонтом наличного бытия или же сферой сущего; и, следуя хайдеггеровскому различению категорий сущего и бытия как, соответственно, онтических и онтологических категорий, мы будем называть топику Бессознательного онтической Антропологической Границей. Граница же, конституируемая Инобытием, есть, очевидно, онтологическая Антропологическая Граница. Как мы ниже увидим, каноническая диада онтологическое – онтическое должна быть дополнена: существует – и притом, очень важен для современного опыта – такой вид реальности, который нельзя отождествить ни с бытием, ни с сущим; это – виртуальная реальность, представляющая собой недовоплощенное, не полностью актуализовавшееся сущее. Существует и обширный класс человеческих проявлений, в которых осуществляются выходы в виртуальную реальность; по отношению к горизонту человеческого существования, они представляют собой предельные проявления – и поэтому виртуальная реальность также порождает определенный ареал Границы, или же топику виртуальности. Мы также убедимся, на основании энергийной интерпретации Границы, что Граница Человека исчерпывается этими тремя ареалами (включая при этом также их сочетания, или «гибридные топики»).
Структура всего из трех ареалов не кажется на первый взгляд особо разнообразной и сложной. Но это – лишь на самый поверхностный взгляд. В действительности, возникающая модель описывает Человека как предельно полифоническое существо, способное меняться в поразительном диапазоне, быть совершенно разным во всех мыслимых отношениях. Надо учитывать, что прежние антропологические концепции, когда они занимались Границей Человека, практически всегда предполагали в ней лишь какую-либо одну топику. Различия же между топиками радикальны. Именно отношения с Границей конституируют (само)идентичность человека, и поэтому каждая топика порождает свой тип, свою модель идентичности
{29}. Анализ этих типов идентичности, их способов конституции – наиболее систематичный путь поиска альтернативы давно критикуемой декартовой концепции субъекта, путь к ответу на остро стоящий в современной мысли вопрос:
Кто приходит после субъекта?{30}. Подобно идентичности, многие базовые предикаты существования человека также глубоко различны в разных топиках. В каждой из них свой тип темпоральности: как следует ожидать, топике духовных практик должна соответствовать стрела времени, топике бессознательного – время циклическое, а виртуальной топике – «недо-время», недоформировавшаяся темпоральность, не имеющая некоторых конститутивных элементов непрерывной длительности. В каждой топике также и своя икономия смерти: в топике духовных практик, как мы ниже увидим, развертывается «первоимпульс неприятия смерти»; для топики бессознательного, напротив, характерно влечение к смерти (согласно Фрейду), а в топике виртуальности, как мы разбирали в цикле «Шесть интенций», возникает икономия эвтанасии, имплицитного согласия на приятную смерть со скрытым от сознания приближением. Уже из этих примеров возникает изумленный вопрос: как единое существо способно объять все эти модусы существования? какое единство оно может при этом сохранять? Требуется долгое рассмотрение, чтобы отчетливо увидеть, что же за облик Человека рисуется в намечаемой
энергийной предельной антропологии»
{31}. С введением круга понятий Антропологической Границы, ее основных и гибридных топик, синергийная антропология обретает концептуальную завершенность, включая в свою орбиту весь комплекс отношений человека с его Границей и складываясь в полноохватную концепцию человека.
Библиография
Ахутин А.В. По поводу Третьей интенции. Продолжение диалога // Журнал наблюдений. М. 2001. 1. 73-92.
Василюк Ф. Е. На подступах к синергийной психотерапии // Моск. психотерап. ж-л. 1997. 2. 5—24.
Лосский Вл.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Богосл. труды. 1972. 8. (И др. изд.).
Meyendorff J. Byzantine Theology. Historical trends and doctrinal themes. N. Y. 1974. Рус. пер.: Прот. Иоанн Мейендорф. Византийское богословие: исторические направления и вероучение. М. 2001.
Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия / Ред. Хоружий С. С. М. 1995.
Хоружий С. С. Исихазм, Богочеловечество, ноогенез — и немного о нашем обществе // Русский космизм и ноосфера. М. 1989. 1. 152—162.
Хоружий С. С. Диптих безмолвия (Аскетическое учение о человеке в богословском и философском освещении). М. 1991. 136.
Хоружий С. С. Исихазм и история // Человек. 1991. 4; 5. 74—83; 71—78.
Хоружий С. С. После перерыва. Пути русской философии. СПб. 1994. 447.
Хоружий С. С. Концепция Совершенного Человека в перспективе исихастской антропологии // Совершенный Человек. Теология и философия образа / Ред. Шукуров Ш. М. М. 1997. 41—71.
Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. М. 1998. 352.
Хоружий С. С. Философия и аскеза. Lewiston, etc. 1999. 490. (Российские исследования в гуманитарных науках. Russian Studies in the Humanities. 9).
Хоружий С. С. О старом и новом. СПб. 2000. 475.
Хоружий С. С. К антропологической модели III-го тысячелетия // Вестник РГНФ. 2000. 3. 18—36.
Хоружий С. С. Практика себя // Искусство кино. 2000. 12. 148—157.
Хоружий С. С. Глобальная динамика Универсума и духовная практика человека // Связь времен. Историко-философский альманах. М. 2001. 41—58.
Хоружий С. С. Шесть интенций на бытийную альтернативу // Журнал наблюдений. М. 2001. 1. 58—107.
Хоружий С. С. Ницше и Соловьев в кризисе современного человека // Вопросы философии. 2002.2.52-68.
Хоружий С. С. Православное покаяние как антропологический феномен // Зборник радова петог, шестог, седмог философско-богословског симпосиона у дане светих Кирила и Методиjа (1999, 2000, 2001) / Приред. еп. Jоаникиjе (Мићовић), С. Лаушевић, jеромонах Jован (Ћулибрк), ћакон Борис Браjовић. Никшић; Цетиње 2002. 86—94.
Хоружий С. С. Человек и его три дальних удела: Новая антропология на базе древнего опыта // Вопросы философии. 2003. 1. 38—62.
Комментарии
1
Этот текст, представляющий собой краткую хрестоматию по синергийной антропологии, был подготовлен С.С, Хоружим специально для настоящего издания. Авторские сноски, относящиеся к цитируемым фрагментам, отмечены звездочками.– Прим. сост.
2
С.С. Хоружий После перерыва. Пути русской философии. СПб. 1994.. С. 277-278.
5
Там же. С. 281-283.
7
Там же. С. 284-285.
9
Там же. С. 287-289.
10
Там же. С. 290-291.
11
Там же. С. 292-293.
12
С.С. Хоружий. О старом и новом. СПб. 2000. С. 318-324.
13
С.С. Хоружий. К феноменологии аскезы. М. 1998. С. 5.
15
Там же. С. 6-7.
16
Там же. С. 8-9.
17
Там же. С. 11-12.
18
Там же. С. 191.
19
Там же. С. 265-266.
24
Там же. С. 259-261.
25
С.С. Хоружий. К антропологической модели Третьего тысячелетия // Вестник РГНФ. 2000. 3. С. 18-36.
27
С.С. Хоружий. О старом и новом. СПб. 2000. С. 382-384.
29
Модели идентичности, отвечающие разным топикам границы, обсуждаются нами в цикле «Шесть интенций на бытийную альтернативу» (Журнал наблюдений, № 1, 2001. С.57-108).
30
См. сборник: Who comes after the Subject? Ed. by E.Cadava, P.O’Connor, J.-L.Nancy. N.-Y.,1991.
31
С.С. Хоружий. Человек и три дальних его удела Новая антропология на базе древнего опыта // Вопросы философии. 2003. 1.
СИНЕРГИЯ. Статьи для Энциклопедии философских наук
СИНЕРГИЯ (греч.συνεργεια — совместное, согласованное действие) — концепция православного богословия, утверждающая необходимость соработничества, сообразованности, согласованного лада между Божественной энергией (благодатью) и энергией человека (волей) в деле спасения, соединения человека с Богом. В своей природе и генезисе концепция отражает характерный для православной мысли синтез патристики и аскетики, одновременно и взаимосвязанно формируясь в сфере богословского умозрения и аскетического опыта. Она явилась одним из первых расхождений между богословием Восточного и Западного христианства. В полемике о благодати и свободе воли в начале V в. между блаж. Августином и брит. монахом Пелагием, последний утверждал решающую роль человеческих усилий в спасении, тогда как Августин, чья позиция была принята Западной церковью, отводил всю полноту действий одной благодати. Позиция же вост. патристики, представленная аскетом и богословом св. Иоанном Кассианом, корректируя обе крайности, дала первое отчетливое выражение синергии: «В деле спасения нашего участвует и благодать Божия и свободное произволение наше… оба согласно действуют и в деле спасения нашего равно необходимы» (Св. Иоанн Кассиан. Собеседование XIII. 10,11 // Писания. Св. — Троицкая Сергиева Лавра. 1993.С. 408, 410).
Позднее, идея синергии была детально обоснована в Православии, получив базу в Св. Писании и догматике. В Новом Завете отношение человека к Богу характеризуется производным термином от синергии: «Мы соработники (συνεργοι) Бога» (1 Кор 3,9). Но главные примеры и прототипы синергии усматриваются непосредственно во Христе и Богоматери. В силу вольного согласия, активного соучастия Марии в событии Боговоплощения (см. Лк 1,38), «Матерь Божия — высший пример синергии» (T.Ware. The Orthodox Church. Penguin Books.1975.P.227). VI Вселенский Собор (681) принял догмат о совершенном соединении во Христе двух воль (энергий), Божественной и человеческой, трактуемый в Православии как прямое утверждение синергии: «Онтологическую основу синергии составляет отношение двух энергий во Христе» (J. Meyendorff. Byzantine Theology. Mowbrays.1975. P.164). Богословие синергии, развитое, прежде всего, свв. Максимом Исповедником (VII в.) и Григорием Паламой (XIV в.), включает в себя православную трактовку благодати как нетварной Божественной энергии и, в свою, очередь, включается в учение об обожении, стоящее в центре антропологии Православия (см.). В его рамках также строится православное учение о свободе человека, стоящее на вводимом у Максима Исповедника различении понятий «воли выбирающей» и «воли природной": первая относится к решениям и действиям человека в эмпирическом мире, тогда как вторая выражает его отношение к собственной природе и бытийному назначению. Лишь «воля природная» является онтологически значимой, и, осуществление ее совпадает с синергией В ХХ в. идея синергии заняла центральное место в современной трактовке православно-патристического учения, намеченной богословами рус. эмиграции (о. Георгий Флоровский, В.Н. Лосский, о. Иоанн Мейендорф и др.) и интенсивно развиваемой в наши дни; базируясь на концепциях энергийного соединения Бога и человека, эта трактовка часто именуется «православным энергетизмом".
Особое воплощение идея синергии получает в аскетике, в духовной практике исихазма (см.). Здесь синергия выступает как опытная реальность: ее осуществление совпадает со «стяжанием благодати Св. Духа», которое утверждается как девиз и цель исихастского подвижничества. К обретению синергии и обожения ориентируется так называемое «умное делание», или «Метод» исихазма: тщательно разработанный духовный процесс, имеющий своим ядром непрерывную молитву и последовательно преобразующий все множество человеческих энергий к синергийному устроению — так что вся исихастская аскеза может рассматриваться как практическое искусство синергии, которая присутствует лишь зачаточно на низших ступенях процесса, на средних — формируется с помощью спец. приемов типа «сведения ума в сердце», и становится господствующей — на высших. Крайне существенно, однако, что в этом процессе сама совершающая сила отводится благодати, и достижение синергии не может быть сведено к психотехнике, выполнению заданной серии операций и упражнений.
Литература
Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия. Научный сб-к под ред. С.С.Хоружего. М.1995. В.Н. Лосский. Мистическое богословие Восточной Церкви // Богословские труды. Т.8.М.1972.
СОВРЕМЕННАЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СВЕТЕ СИНЕРГИЙНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Развиваемое мной научное направление, синергийная антропология, отличается специфической, если угодно, парадоксальной структурой. Его главные связи — с двумя противоположными областями опыта: с антропологическим опытом глубокой древности и новейшей современности, наших дней. Синергийная антропология вырастала из продумывания опыта древних духовных традиций — в первую очередь, православного исихазма, а затем, вслед за ним, также и всего спектра классических духовных практик, созданных человечеством. Сюда входят классическая йога и позднейшие школы йоги, как то тантрический буддизм; входят даосизм, дзен, суфизм; учитывались также и смежные, родственные сферы опыта, такие как неоплатоническая мистика и иные школы спекулятивной мистики. Все это многообразие тщательно изучалось с позиций целого ряда дисциплин, анализировалось в своих базовых концептах, структурах, методиках организации и истолкования опыта. Но с самого начала эта аналитическая реконструкция древних практик преследовала отнюдь не исторические, а вполне современные цели. Мы предполагали — и наши выводы подтверждали это — что те антропологические открытия, которые делались в духовных практиках, те подходы к феномену человека, которые вырабатывались в них, являются актуальными сегодня. Мы предполагали, что эти открытия и подходы можно будет применить к сегодняшней антропологической ситуации, и они существенно помогут ее понять.
На чем основывались подобные ожидания, отчего мы считали, что для понимания современных антропологических процессов необходимо привлечение этих новых (и одновременно древних!) средств? — Разумеется, такая позиция несла в себе отрицательную оценку прежних методов и подходов, прежней антропологии — классической европейской антропологии, стоящей на учениях о человеке Аристотеля, Декарта, Канта. Она была оправданной лишь в том случае, если бы эта классическая антропология сегодня оказывалась более непригодна или, по крайней мере, недостаточна. Но можно ли, в самом деле, утверждать это? Ответ на такой вопрос дает, если угодно, тот курс, который я только что прочел здесь, на вашей кафедре: ибо предметом этого курса как раз был критический анализ учений классической антропологии. В нем были детально развернуты критические аргументы в адрес этих учений: я показывал, что в них постепенно накапливались, усиливались элементы «антиантропологизма» — расчленяющего, участняющего и редуцирующего взгляда на человека, взгляда, для которого отсутствует человек как целое, в полноте своих целостных, интегральных проявлений. В большинстве своем, эти аргументы отнюдь не выражали лишь мою личную позицию, не принадлежали мне лично, а были вполне известны в истории философии; так, одна из главных их линий, критика Декартова субъекта, развивавшаяся издавна, уже в недавнее время завершилась окончательным выводом о «смерти субъекта». Наряду с субъектом, основательной, кардинальной критике постепенно подверглись все базовые концепты, установки, структуры классической антропологической модели — субъект-объектная эпистемологическая парадигма, основы нормативной этики, концепты субстанции и сущности и т. д. У современных мыслителей мы найдем сегодня обоснования и такой решительной позиции, что понятие сущности человека должно быть не модифицировано каким-то образом, а попросту нацело отброшено: человек должен трактоваться как образование, не обладающее какой бы то ни было сущностью.
Итак, в истории философской и антропологической мысли все более накапливался критический материал; классическая европейская антропологическая модель подвергалась все более глубокой и решительной критике изнутри самой европейской философской традиции. В новейший период, когда ведущими направлениями стали постмодернизм и постструктурализм, эта критика достигла своего апогея, став полностью категоричной и разрушительной. Но эта внутренняя и теоретическая критика — не более чем половина причин, которые заставляют сегодня говорить об уходе старой, классической модели человека и о необходимости поисков новой антропологии. Другая половина — практическая. Ее аргументы не из науки, а из жизни, из практик антропологических и социальных, и вся совокупность их коренится в том, что с человеком ныне происходят резкие и малопонятные изменения. Антропологическая реальность меняется не в деталях, а в самих определяющих чертах, в ней возникают явления и процессы некой новой природы; и эти глубинные перемены и превращения, происходящие с человеком, со способами его репрезентации, не поддаются объяснению посредством понятий и теорий классической антропологии. Отсутствие понимания означает и отсутствие способности предвидеть и контролировать, рождает практические опасности и риски. И в итоге, эта логика практической жизни влечет те же выводы, что и логика теоретического развития: выводы о необходимости новых антропологических концепций и моделей.
Какие требования, однако, должны предъявляться к этим новым концепциям и моделям? На каких основаниях они могут создаваться? Чтобы ответить на такие вопросы, нужно, в первую очередь, обозреть наличную антропологическую ситуацию, обозреть весь репертуар новых антропологических явлений. Затем, выделив важнейшие, определяющие из них, следует проанализировать их свойства и отыскать адекватные для их описания концептуальные средства.
Что же происходит сегодня с человеком? Мы укажем сейчас лишь главные вехи из всего обширного спектра антропологических новаций.
Глубокие перемены охватывают все стороны, все измерения человеческого существа, вплоть до биологической основы. Сама основа основ, генетическая программа человека, еще едва познанная, становится полем для экспериментов, и подобные эксперименты могут, в принципе, вызвать самые фантастические и гибельные эффекты. Генная катастрофа как следствие неконтролируемого развития генной инженерии, сочетаемого с крайне пока незрелым ее уровнем, сегодня обсуждается как реальная опасность. Гендерные революции, идущие на Западе, резкий рост численности и активности сексуальных меньшинств несут с собой новые, искусственные механизмы деторождения и ставят под вопрос будущее всей критически важной сферы биологической репродукции. В сфере феноменов сознания не менее радикальный характер носит «психоделическая революция», породившая на Западе целые особые субкультуры и проповедующая использование любых средств — наркотиков, галлюциногенов и иных препаратов, психотехник, духовных практик — для достижения измененных состояний сознания. С ней вплотную смыкаются научные и паранаучные методики, ведущие к сходным целям, такие как холотропная терапия Грофа или приемы вызова пренатальной памяти. Родственную антропологическую и социокультурную роль играют и виртуальные практики, которые сегодня становятся все более массовыми, постоянно расширяя свой спектр. Наконец, еще одно крайне характерное явление современности — постоянный рост популярности и разнообразия так называемых практик трансгрессии, в которых человек преступает тот или иной запрет, норму, закон. Трансгрессия означает буквально — преступание. Сюда входят самые различные вещи — открытые нарушения норм морали, акты религиозной профанации и кощунства, садомазохистские извращения, насилия и кражи, делаемые ради острых ощущений, и т. д., вплоть до актов суицида и терроризма. Человек выступает здесь как «существо преступающее»: существо, имеющее тягу, одержимое желанием и влечением преступить все возможное, любую черту, которую перед человеком провела реальность или даже сама его природа; и преступание как таковое возводится в фундаментальную антропологическую установку.
Во всем этом ярко выступает одна черта, никогда прежде не заявлявшая о себе с такой силой: неудержимая тяга современного человека ко всякому необычному, экстремальному опыту. Человеком практикуются любые, в том числе, рискованные и гибельные, методики достижения экстремальных, лежащих на границе возможного, ощущений и состояний. Мы почти сразу видим, что у всего множества названных явлений, процессов, практик имеется своего рода общий знаменатель, и это — стремление к предельному опыту: такому, в котором человек достигает границ горизонта своего существования и опыта.
Из нашего беглого описания антропологической ситуации намечаются два взаимосвязанных вывода, негативный и позитивный. Негативный вывод заключается в подтверждении несостоятельности классической антропологии: описанные явления в самом деле не укладываются в ее принципы и постулаты, находятся в противоречии с ней. К примеру, человек как «существо преступающее» — прямейшая противоположность человеку Канта, который своей природой предопределен исключительно к тому, чтобы следовать Нравственному Закону и устремляться к Высшему Благу. Вывод же позитивный достаточно очевиден: первым заданием искомой новой антропологии должно стать систематическое исследование предельного антропологического опыта.
С исполнения этого задания и начиналось развитие синергийной антропологии как самостоятельного антропологического подхода. При этом, успех исполнения достигнут был именно за счет того, что предшествующие, подготовительные этапы этого развития были посвящены изучению духовных практик. Именно их общий подход, их базовые концепты оказались способны стать исходной основой для выработки современной концепции предельного антропологического опыта. Такая концепция должна была описать область предельного опыта — т. е., иначе говоря, границу горизонта человеческого существования — не используя при этом дискурса классической антропологии, ее понятий и методологических средств. Следуя за духовными практиками, мы взяли в основу антропологического описания дискурс энергии, в котором человек рассматривается как энергийная формация и соответственно, характеризуется не какими-либо эссенциальными и субстанциальными понятиями, как в классической антропологии, а исключительно — своими энергиями, действиями, активностями и иными всевозможными проявлениями. По многим причинам, в качестве основного понятия и термина синергийная антропология избирает именно «антропологическое проявление» — как самое широкое, общее понятие, и одновременно — гибкое, допускающее множество конкретизаций, видов и типов (проявления внешние и внутренние, физические, психические, интеллектуальные и т. д. и т. п.).
Стоит сопоставить возникающую здесь «антропологию проявлений» с хорошо известными в советский период научными направлениями, которые базировались на понятиях действия, акта, деятельности, представляя собой разные варианты того, что называлось тогда «деятельностным подходом» к изучению общества и человека. В широком смысле, к ним принадлежал и сам господствовавший марксизм, поскольку он рассматривал человека как существо действующее, определяемое именно деятельностью. Для сопоставления с ними надо учесть, что, по классической аристотелевской трактовке деятельности, любые акты и действия как таковые имеют в своей смысловой структуре, конституции, аспект законченности, завершенности (выражаемый знаменитым понятием энтелехии) и актуализуют те или иные сущностные содержания. Однако современный антропологический опыт и опыт древних духовных практик общи в том, что оба эти вида опыта демонстрируют важность принципиально иных антропологических проявлений — таких, которые заведомо не обладают законченностью и завершенностью, не актуализуют никаких сущностей, а вместо этого представляют собой лишь некие зачинательные импульсы, начатки или «ростки» настоящих актов. Такую природу, к примеру, имеют все виртуальные практики: по самому определению виртуальности, никакие сущностные содержания не могут в них достигать полной актуализации. Современная мысль имеет вполне достаточно оснований для твердого вывода: характеризовать человека только совокупностью законченных действий недостаточно, это — слишком грубая характеристика. В том, что совершается с человеком, принципиально важны также и недовершенные акты, такие, которые зарождаются, но, возможно, не станут никогда никакими законченными действиями, актуализациями определенных сущностей.
К сходным выводам приходил, в частности, Выготский еще в 30-е годы. В его анализе связей между мыслью и языком, словом, впервые, пожалуй, возникло представление, важное не только для психологии и лингвистики, но и для общей мысли о человеке: представление о некоторой довербальной протостихии, которая существует в сознании и в которой зарождаются, формируются вербальные содержания. Из всего, что зарождается в этой стихии, до законченного выражения, в слове, языке, мысли как таковой доходит лишь некоторая часть. Это значит, что в лоне этой стихии именно и решается — какие сущности окажутся актуализованы, какие начатки актов станут законченными актами и какие слова будут произнесены. И если научное описание игнорирует эту протостихию, оно не сумеет ничего этого объяснить.
Строясь как «антропология проявлений», синергийная антропология активно использует ресурсы всех областей опыта, где возникали тонкие антропологические понятия, углубляющие и обобщающие дискурс действий и актов. В первую очередь, здесь учитываются концепции сознания, созданные в духовных практиках на базе культивируемого в них необычайно зоркого, пристального наблюдения за сознанием в его работе. Как пример оригинальных и ценных элементов таких концепций стоит упомянуть, скажем, понятие «помысла», выработанное христианской аскетикой: охватывая всевозможные проявления мысли в ее генезисе, зарождении, оно является более тонким и изощренным, чем средства дескрипции сознания в дискурсе классической европейской философии.
Как сказано уже выше, задача синергийной антропологии заключалась на первом этапе в том, чтобы дать общее описание всей сферы предельного опыта человека. Центральным понятием, на базе которого строилось это описание, стало естественно понятие «предельного антропологического проявления» — такого, в котором определяющие свойства, предикаты антропологической реальности начинают испытывать изменения. Согласно этому определению, предельные антропологические проявления — именно те проявления, в которых достигается предельный опыт; и вся область предельного опыта описывается полной совокупностью этих проявлений. Поэтому совокупность всех предельных антропологических проявлений, которой дается название Антропологической Границы, становится центральным понятием синергийной антропологии; и поставленная задача сводится к описанию структуры Границы.
Как мы показываем, при всем разнообразии предельного опыта человека, Антропологическая Граница складывается всего из трех главных областей, или «топик». Их точное определение потребовало бы введения новых понятий, характеризующих отношения человека с его «Другим» — с реальностью, лежащей за пределами горизонта человеческого существования. Отсылая за таким определением к моей последней книге «Очерки синергийной антропологии», я ограничусь сейчас простым перечислением этих областей.
Первая область, именуемая Онтологической топикой, соответствует опыту духовных практик. Составляющие ее предельные антропологические проявления достигаются в мистико-аскетическом опыте, в стратегиях, где реализуется устремленность человека к иному горизонту бытия, к Богу.
Другая из главных областей, именуемая Онтической топикой, связана с бессознательным: составляющие ее проявления отвечают тем формам опыта, в которых действуют энергии бессознательного. Сюда принадлежат процессы, которые описывает психоанализ; и, соответственно, при изучении Онтической топики синергийная антропология оказывается в теснейшем соприкосновении с психоаналитической философией — прежде всего, с теориями и концепциями Делеза и Лакана. Рабочее сотрудничество с этими теориями не является, однако, полным согласием, поскольку психоаналитическая философия весьма склонна к собственной абсолютизации: к такой позиции, согласно которой все предельные антропологические проявления исчерпываются лишь теми, что индуцируются из бессознательного, — т. е., в нашей терминологии, Антропологическая Граница исчерпывается Онтической топикой. В рамках синергийной антропологии мы находим, что такая позиция попросту не выдерживает проверки опытом: на Антропологической Границе реально присутствуют и другие области. Процессы в Онтологической топике включают в себя такие явления и обнаруживают такие закономерности, которые заведомо не могут быть отнесены к области бессознательного. Помимо Онтологической топики, существует также и еще одна область, третья и последняя из главных областей Антропологической Границы, в которую входят антропологические проявления, отличные от феноменов бессознательного. Это — Виртуальная топика, объединяющая виртуальные антропологические практики.
Знание полной структуры Антропологической Границы, достигаемое с описанием топик этой границы (а также взаимных перекрытий этих топик, которые мы называем «гибридными топиками»), — антропологическая информация принципиального значения. Мы получаем немедленную возможность оценивать природу современных антропологических процессов, давая их «антропологическую локализацию», т. е. соотнесение с нашими топиками Границы. Ряд таких приложений нашего подхода уже разработан в настоящее время. В дальнейшей же перспективе, на этом пути существует и возможность построения цельной антропологической модели.
Дискуссия
Сорокин А.И., доцент кафедры философии: Почему вы называете Ваш подход синергийной антропологией?
Хоружий С.С.: Данный термин отсылает к концепции синергии, которая была создана в византийском богословии. Концепция описывает гармоническую сообразованность, соработничество, которое при определенных условиях устанавливается между энергиями человека и Божественными энергиями. Как я показываю, возможно далеко идущее обобщение данной концепции, при котором она трансформируется в универсальную парадигму «антропологического размыкания» и описывает динамический механизм, лежащий в основе всей сферы предельного опыта человека.
Сорокин А.И.: Вы сказали, что современная западная модель человека не работает. Может быть, она не работает в нашей, а также в некоторых других определенных культурах, а не вообще?
Хоружий С.С.: Я говорил, прежде всего, о том, что эта модель была подвергнута радикальной философской критике, аргументы которой устанавливают несостоятельность модели именно «вообще», а не в частных ситуациях. Что же до критики практической, то я описал вполне конкретный круг явлений, не согласующихся с классической моделью; и можно видеть, что эти явления — тоже достаточно общего характера.
Сорокин А.И.: На мой взгляд, тяга к трансгрессии была всегда — в разных понятиях.
Хоружий С.С.: Вы совершенно правы — конечно, была. Явление было всегда известно — но современная мысль находит, что сегодня оно изменило свои масштабы, приобрела иную роль и иное место. Оттого и возникла целая философия трансгрессии, которая пытается охарактеризовать современного человека именно изменившимся местом феномена трансгрессии в конституции этого человека.
Сорокин А.И.: Вы назвали механизмы трех практик и сказали, что понятие антропологической границы исчерпываются ими, а куда же делись рациональные практики?
Хоружий С.С.: Речь шла о предельных практиках. Но существует и мир обыденного опыта с самым обширным ассортиментом своих, не-предельных практик.
Гореликов Л.А., доцент кафедры философии: В действительности виртуализация жизни: Интернет и т. п. не является ли это продолжением театрализации жизни. (Раньше был театр, была определенная система поведения в обществе). Или это нечто иное?
Хоружий С.С.: Определенная связь виртуальных практик с театральным искусством, безусловно, имеется; эстетика этого искусства всегда включала в себя многообразные приемы использования недо-актуализованных, т. е. виртуальных явлений. В этом смысле, сегодняшнее небывалое разрастание сферы виртуальных практик можно, если угодно, рассматривать и как «продолжение театрализации жизни». Но всегда были также и другие элементы виртуальной реальности — ибо эта реальность необозримо широка, любое актуальное явление окружено, как в физике выражаются, целым «виртуальным облаком», которое состоит из всевозможных неполных актуализаций, недо-актуализаций этого явления.
Кузьмин А.А., декан философского факультета: Синергийная модель человека — это не христианская модель человека, и не религиозная, не так ли?
Хоружий С.С.: Это научная модель, которая существенно учитывает религиозный и, более всего, христианский опыт, однако описывает феномен человека как в тех случаях, когда человек является верующим, так и в тех случаях, когда он им не является.
Кузьмин А.А.: Классические антропологические модели предполагали какое-то социокультурное пространство для своего воплощения. Синергийная модель может вписаться в современное социокультурное пространство?
Хоружий С.С.: Уже в ходе своего создания синергийная антропология существенно исходила из запросов сегодняшней социокультурной ситуации — из актуальных проблем современного человека. Она дает конструктивную альтернативу устаревшим антропологическим концепциям и доставляет способы понимания явлений сегодняшнего антропологического кризиса. Тем самым, она изначально вписана в современное социокультурное пространство. Если же вопрос имеет в виду, какой антропологической и социокультурной реальности наиболее адекватны ее понятия и методы, то на этот вопрос я ответил в самом начале: ей наиболее близок опыт древности, опыт с древности создававшихся духовных традиций, и опыт новейшей современности, культурных и иных практик сегодняшнего человека. Это — две неклассические эпохи, а между ними посредине оказывается лежащей, как Серединное Царство, эпоха классическая, когда пригодна была классическая модель человека.
Девяткин С.В., заведующий кафедрой философской антропологии: Какие практики являются виртуальными?
Хоружий С.С.: Таких практик сейчас необозримое множество. В качестве главного вида их выходит на первый план компьютерная реальность. Происходит все большее погружение человека в компьютерные практики, компьютерный мир, который захватывает все больше антропологических измерений. Чтобы показать, насколько широк их спектр, можно привести и совсем другой пример виртуальной реальности. Виртуальная реальность издавна применялась в качестве полезного метода в эргономике, в исследованиях трудовых процессов. Виртуальной практикой было уже моделирование трудовых процессов (например, деятельности авиадиспетчеров) на специальных установках, которое применялось в эргономике с весьма давних пор. Абсолютно любой сфере деятельности можно сопоставить область связанных с ней виртуальных практик.
Сорокин А.И., доцент кафедры философии: Можно ли сказать, что тяга к трансгрессии — это одна из сущностных характеристик человека?
Хоружий С.С.: Сегодняшние новые подходы к феномену человека, к которым, в частности, относится и синергийная антропология, и разработки Ж.Л..Нанси и др., — принимают как установленный факт, что человеку нельзя сопоставить никакой сущности. Поэтому в этих подходах нельзя говорить о сущностных характеристиках, но можно — о существенных, конститутивных и т. п. Соответственно, в синергийной антропологии тяга к трансгрессии выступает как одна из существенных характеристик человека — однако не человека вообще, а «человека в топике бессознательного», т. е. конституируемого энергиями бессознательного.
СОЕДИНИТЬ ПОЧИТАНИЕ И ПОНИМАНИЕ: ПРАВОСЛАВНЫЙ ПОДВИГ КАК ПРЕДМЕТ И ЗАДАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ МЫСЛИ
Доклад на Третьей ежегодной всероссийской научно-богословской конференции «Наследие Серафима Саровского и судьбы России». Тема конференции «Возрождение православных монастырей и будущее России». Сергиев Посад - Саров. 28 июня – 1 июля 2006 г.
Общая тема нашей конференции - «Возрождение православных монастырей и будущее России». В согласии с такой темой, мы будем рассматривать духовный феномен православного монастыря, в первую очередь, в контексте отечественной истории, в русле русской духовной и культурной традиции. Как история, так и современность дают для такого рассмотрения изобильный материал: наряду с богатой монастырской культурой прошлого, сегодня в России вновь, после очередного и далеко не первого гонения, налицо активное монашеско-монастырское движение, рождающее широкий спектр как новых, так и старых, вечных проблем. Но все же, начиная нашу работу, естественно и уместно вспомнить также и общие черты явлений православного монастыря и монашества, напомнить, в чем их природа и суть. Задавшись же такими вопросами, мы неизбежно перейдем от обсуждения монастыря и монашества как таковых, – к рассмотрению более широкого и универсального явления: христианской аскезы, подвижничества. Что это за явление, как оно возникает и в чем его значение для Церкви, для христианского сознания и христианского общества? Вслед за этим общим вопросом, нас особо будут касаться проблемы отношений православной аскезы с обществом и его культурой: ибо именно эта проблематика наиболее актуальна и важна в связи с судьбами монастырского движения в России, а также и судьбами того святого места, Сарова, где нам предстоит быть.
I. Православный подвиг и культура: принципы отношений
Место аскезы в христианском сознании и, в наибольшей степени, в православном сознании, - высокое и особое. С самой эпохи зарождения христианского подвижничества, церковное сознание признало путь подвига и подвижническую традицию той сферой, где хранится во всей его полноте и передается с тою же полнотой, с точностью, опыт христоцентрического Богообщения и обожения. Как истинный путь к обретению цели христианской жизни, путь подвига, таким образом, виделся и признавался в качестве прямого преемства пути апостолов в эпоху земной жизни Христа и пути мучеников в пришедшую за ней эпоху гонений. В верующем сознании, место подвига оказывалось в ближайшем соседстве со святостью; и понятно, что в церковном обществе по отношению к такой сфере складывалась, в первую очередь, реакция и позиция почитания. В целом, однако, роль явлений аскетизма и подвижничества в христианском социуме была весьма многосторонней, объемной. Постепенно, трудами многих поколений подвижников, сфера христианской аскезы выросла в обширную, высокоорганизованную духовную традицию, в крупное антропологическое и духовное, а также, несомненно, социальное и культурное явление. В Православии главным содержанием этого явления стало то, что в позднейший период получило название исихазм. В последние годы, данный термин и обозначаемое им духовное течение становятся все более известны в России, и мы поэтому можем не останавливаться на определениях. Напомним лишь, что суть и внутреннее ядро исихазма - духовная и антропологическая практика, основанная на непрестанном творении Молитвы Иисусовой; и эта практика, или школа молитвы, издавна, с древнего периода, называется Умное Делание, πςϹψικͰξοεςϳ.
Исихастская практика - одно из самых тонких и сложных антропологических и религиозных явлений. В ней человек стремится раскрыться, разомкнуться всем своим существом навстречу Божественной энергии, благодати Св.Духа, дать благодати действовать в себе. Он стремится достичь синергии, соработничества собственных своих тварных энергий и нетварной благодати; и в этом стремлении, с решающим произволением и участием благодати, выстраивается Духовная, или Райская Лествица (но названию классического исихастского трактата преп. Иоанна Лествичника): ступенчатый духовно-антропологический процесс, в котором все существо человека, не только его сознание, но и всецелое естество, последовательно переустраивается в своих энергиях и восходит к совершенному соединению всего их множества с нетварной Божественной энергией. Сие соединение - премирная цель, телос всего процесса, именуемая православным богословием обожение, теозис.
Для нас важно заметить, что, направляясь к цели обожения – премирной, отсутствующей в горизонте опыта человека, – процесс практики необходимо требовал выработки неких правил продвижения, требовал путевых инструкций: ибо с самого начала аскеты знали по опыту, что возможность иллюзии, самообмана, ошибок на пути к столь особой, непостижимой цели, возможность сбиться и принять совсем иной, ложный опыт за опыт восхождения к Богу, есть реальнейшая опасность. Поэтому с самого начала исихазм должен был создавать для своей практики особый аппарат организации и проверки, осмысления и истолкования опыта. Это была углубленная интеллектуальная работа, в ходе которой выковывались новые понятия, строились методики наблюдения и контроля содержаний сознания, вырабатывались приемы управления вниманием и всей внутренней реальностью человека. Эта опытная наука о человеке и сознании создавала и свою литературу, которая была столь духовно насыщенной и содержательной, что даже выборка небольшой части исихастских текстов, сделанная в конце 18 в. и ставшая известной как «Добротолюбие», стала при ее публикации огромным событием, породившим новое широкое обращение к исихазму.
Итак, исихастская традиция изначально оснащалась интеллектуальными измерениями и строилась не просто как школа опыта, но школа опыта, точно и продуманно выстроенного, глубоко отрефлектированного и осмысленного. Православный подвиг здесь выступал как предмет и задание для мысли. Прежде всего, как мы видим, требуется работа мысли самих подвижников; но очевидно также и то, что, как сфера, хранящая определенные знания, создавшая определенные понятия и учащая определенным принципам, установкам, - аскетическая традиция в отношении к себе требует работы мысли также и со стороны окружения, христианского социума. К первичной реакции, первичной форме отношения христианского и церковного сознания, которая выражалась в почитании, оказывается нужным присоединить и другую, более зрелую форму отношения, которая выражается в усилии и работе понимания. При этом, отношение к традиции обретает характер уже не простой реакции, но осмысленной рецепции духовного явления; и эта рецепция, отнюдь не умаляя и не вытесняя почитания, стремится к гармоническому сочетанию двух форм - синтезу почитания и понимания.
Если подобного гармонического сочетания удается достичь, аскетическая традиция занимает в христианском сознании и обществе положение, несущее далеко идущие возможности. Понятно уже, что она приобретает связь с культурой, становится фактором культурного воздействия, но важно заметить, что она становится отнюдь не рядовым таким фактором. Осуществляемая в подвиге стратегия человека - никак не частного рода, она мыслится как реализация бытийного назначения человека. Поэтому проблематика, непосредственно связанная с осмыслением исихастской практики и традиции, объемлет весь комплекс ключевых тем, входящих в Проблему Человека, философско-богословских, психологических, эпистемологических и др. – таких как проблемы конституции личности, природы опыта, метода познания и т.д. и т.п. Эта проблематика также органически связывается с положениями христианской догматики, формулирующими главные свойства фундаментального отношения Человек – Бог. И, как вытекает отсюда, культуротворческие потенции рефлексивно развитой аскетической традиции, в принципе, таковы, что она заключает в себе потенциальную способность выступать в качестве центральной, стержневой кулътурообразующей силы в христианском обществе. (Хотя при этом действие ее в культуре может быть далеко не прямым и нормативным, но глубинным и опосредованным.) Есть известное высказывание о. Иоанна Мейендорфа (он завершает им свою знаменитую книгу о Паламе) о том, что богословие Паламы - или, можно равносильно сказать, исихазм - «способен дать конструктивный ответ на вызов, брошенный христианству Новым Временем». Легко согласиться, что это высказывание о. Иоанна верно лишь потому и за счет того, что исихазм дает конструктивный ответ на вечный вопрос о пути исполнения Человека, о стратегии его полной бытийной самореализации. А это, по существу, и значит, что исихазм потенциально способен быть культурообразующей силой.
Понятно, что реализация описанных потенций должна быть культурным творчеством, в результате которого возникнет некий специфический тип культуры, специфическая культурная парадигма. Она должна быть заведомо отличной от глубоко секуляризованной парадигмы Западной культуры Нового Времени: ее бытийные позиции, этические установки, ценностные ориентации, характерные для нее личностные структуры - все это тем или иным образом должно быть проникнуто излучающим воздействием исихазма, выступающего как питающий источник ведущих интуиции и направляющих линий миросозерцания и жизнеотношения. Используя понятия развиваемой мною синергийной антропологии, можно сказать, что в данной парадигме культурная традиция должна строиться как примыкающая или участная традиция по отношению к духовной традиции, к руслу исихазма. Осуществление такой парадигмы представляло бы собой своего рода «Православно-исихастский культурный проект», или же цивилизационный проект. Принципиальную почву для него доставляют свойства исихазма; однако практическая возможность его осуществления зависит от целого спектра конкретных вопросов: о механизмах связи, механизмах взаимодействия аскетической традиции и сферы культуры, культурных практик; аскетической традиции и социума, социальных институтов; и т.д. Равным образом, она зависит и от внешних обстоятельств, от исторических и социальных условий, предпосылок. И это значит, что обсуждение Православно-исихастского культурного проекта не должно развиваться как начертание некой очередной абстрактной утопии. Утопии нанесли уже довольно вреда и русскому сознанию, и русской жизни. Необходимо вернуться на почву опыта, что значит - выяснить, проследить судьбу Проекта на опыте реальной истории православного мира.
II. Православный подвиг и культура: исторический опыт отношений
Византийский этап
Как ясно из сказанного, исходным условием и необходимой предпосылкой Исихастского культурного проекта является развитие рефлексивных измерений аскетической традиции: решая задачи интерпретации и оценки опыта, наблюдения и контроля процессов в сознании и, в целом, направленного и отрефлектированного самоизменения человека, – традиция приобретает культуротворческие потенции. В истории исихастской традиции, таким созданием предпосылок стал период так наз. Синайского исихазма 7-10 вв.
[1] , о котором до сих пор слишком мало еще известно. Синайский исихазм можно считать своего рода залогом, а равно и прологом, предысторией Исихастского культурного проекта, Действительным же его началом, этапом, дающим серьезные основания говорить о реальности проекта, явилось исихастское Возрождение, которое зачинается в конце 13 в. и обрывается крушением Византии.
Феномен Исихастского Возрождения дает нам возможность наблюдать как бы постепенное расширение, экспансию воздействий исихастской традиции - выход этих воздействий последовательно во все более широкие сферы социокультурного пространства. В этом выходе исихазма вовне, за внутренние пределы традиции, подобных концентрических сфер выделяется три: во-первых, сфера самой традиции, где еще шли существенные завершающие шаги ее самоосмысления; во-вторых, сфера церковной жизни; и наконец, сфера жизни византийского общества в целом.
Центральный исторический эпизод Исихастского Возрождения, так называемые Исихастские споры, послужил окончательному формированию исихазма, в том числе, и в его интеллектуальных аспектах. Полемика о природе световых созерцаний в исихастской практике кардинально углубила понимание высших ступеней этой практики, где все явственней проявляется преображающее и обоживающее действие благодати. Осмысливая опыт этих ступеней, мысль подвижников должна была давать ему богословскую оценку, и в возникавшем тесном союзе аскетики с догматикой и с отеческим Преданием создавалось богословие нетварных Божественных энергий и складывалось то, что в современном православном богословии получило название «Паламитский синтез». Его выражением является не только богословие самого Паламы, но, наряду с ним, и Томос Поместного Собора 1351 г., одобривший это богословие, и творения других исихастских учителей и богословов эпохи, таких как свв. Григорий Синаит, Филофей Коккин или Николай Кавасила.
Паламитский синтез, заключающий в себе соединение аскетического и догматико-богословского дискурсов, уже представляет собой выход исихазма в более широкую сферу церковного бытия. Но, когда исихастская практика была соборно признана истинным осуществлением христоцентрического Богообщения, а потому и истинным ядром православной духовности, - это признание привело к многообразным переменам, которые выражали внедрение исихастского влияния во все главные сферы церковной жизни. Богословие было лишь одной из таких сфер. Перемены были заметны и в сфере личного благочестия, религиозного поведения, где ориентиром служили исихастская молитва и исихастская жизнь, и в сфере богослужения, где было создано «Постническое, или Скитское исследование», с крупными переделками и дополнениями многих служб
[2] . Специалисты прослеживают изменения и в стиле церковного управления, церковной организации; и т.д.
Но важнее всего для нашей темы - распространение исихастского влияния на жизнь всего византийского общества, включая и его культуру. Факт такого распространения, как и его необычайный масштаб, совершенно неоспоримы; влияние исихазма в этот уникальный период коснулось действительно всех сторон византийской жизни - не только религии и культуры, но также и социальной, государственно-политической, даже военной сферы. Однако в оценке характера влияний наука до сих пор не пришла к единству. Старые школы либерально-позитивистской науки создали прочную традицию, в которой монашество и аскетизм третировались и разоблачались как антикультурные, враждебные культуре явления; в частности, трактовка византийской культуры выдвигала в центр оппозицию Исихазм - Гуманизм. Уже из нашей характеристики исихазма, вскрывающей его культуротворческие потенции, ясно, что эти позиции требуют коренного пересмотра, и он постепенно происходит (хотя надо учитывать и то, что за старыми позициями - не только силы инерции и идеологии, но также и определенный исторический материал).
Корректная позиция должна зафиксировать и признать, что исихазм несет в себе несомненные стимулы интеллектуального и культурного развития, и эти стимулы в определенной мере действовали, проявляли себя в Исихастском Возрождении. Сначала на чисто практическом, функциональном уровне, но затем продвигаясь и к продумыванию, исихазм создавал собственную науку о сознании, антропологию, эпистемологию, даже герменевтику. Постепенно сопряженная с ним интеллектуальная проблематика получала выход, и не столь малая ее часть нашла отражение в обширнейшей исихастской литературе, рожденной в эпоху Споров. Освещение этой проблематики, как правило, было оригинальным, прочно основанным на опыте; и в целом, мы можем сделать вывод, что мысль Исихастского Возрождения несла в себе зерна некоторой новой парадигмы познания и культуры: парадигмы, базирующейся на исихастском опыте и развертывающей дисциплинарные дискурсы, отправляясь от исихастского образа человека. Имея в своей основе Паламитский синтез, такая парадигма должна сопрягать опыт и богословие; и потому она является альтернативной по отношению к секуляризованной культурной парадигме Нового Времени.
Как видим, намечавшаяся в истории парадигма вполне отвечает тому образу, который описан выше в качестве Исихастского культурного проекта. Поэтому Проект не является простой утопией - Исихастское Возрождение демонстрирует начатки его реализации. С другой стороны, помимо этих начатков, он так и не стал реальностью. Исихастское Возрождение было оборвано крушением Византии, и навсегда открытым будет вопрос о том, сумело ли бы оно воплотить Проект, не будь этого крушения.
Российский этап
Как часто и не без основания говорят, исихазм нашел вторую родину на Руси; подвижническая традиция в исихастском русле начала развиваться у нас в первые же десятилетия христианизации страны. Но из всей богатой истории отечественного исихазма мы затронем сейчас лишь один аспект, касающийся судеб Культурного проекта. Черты новой, русской ветви духовной традиции в значительной мере определялись особенностями процесса передачи, трансляции традиции из ее исходного византийского очага. Как многократно отмечалось исследователями, эта трансляция на русскую почву отнюдь не была одинаково полной (или неполной) по отношению ко всем сторонам и всем содержаниям исихазма; причем главное ее отличие было в том, что наиболее неполно, урезанно оказались представлены именно те содержания традиции, которые отвечают ее интеллектуальным измерениям и концентрируют в себе ее культуротворческие потенции.
До относительно недавнего времени в науке считалось, что все стороны исихазма, связанные с богословским и эпистемологическим анализом опыта и с подобною интеллектуальной проблематикой, вообще почти не получали трансляции в Россию. Однако за последний период процессы трансляции были заново тщательно исследованы трудами русских ученых (Г.М. Прохорова, В.В. Милькова, Н.Н. Лисового и др.), и эта картина несколько изменилась. Как выяснилось, в эпоху Исихастского Возрождения деятели Русской Церкви, в том числе, сам преподобный Сергий, митрополит Киприан и др., прилагали совсем небезуспешные усилия к тому, чтобы исихастская литература, паламитское богословие были адекватно и полно представлены на Руси. Но эти усилия, предпринимаемые сверху, не находили нужной поддержки снизу, не получали активного восприятия - и в результате, уже вскоре оказывалось, что тексты богословско-аналитического характера почти не распространяются, но зато огромное внимание получают чисто аскетические, аскетико-поучительные, нравственно-аскетические темы и соответствующие сочинения. Имела, таким образом, место относительная скудость интеллектуальных измерений русского исихазма, и создавалась она за счет не столько трансляции как таковой, сколько особенностей ее дальнейшего усвоения - т.е., тем самым, за счет особенностей и предпочтений самого русского религиозного сознания. Богословская, аналитическая, интеллектуальная линия в исихазме не прививалась на русской почве. Вплоть до преп. Паисия Величковского, в русском исихазме почти не создавалось оригинальных текстов; исключением (подтверждающим это правило) служит лишь преп. Нил Сорский. Бытовавшая исихастская литература практически исчерпывалась переводами. И в итоге, возвращаясь к используемым нами понятиям, можно сказать: русское сознание проявило выраженную наклонность более к почитанию, нежели к пониманию.
Отсюда следует, что Исихастский культурный проект не получал осуществления в России (хотя справедливо указывалось, что в эпоху Московской Руси исихастские влияния отчасти все же достигали культуры, главным образом, в иконописи). Однако последствия шли и дальше. Не получая питающего, центрирующего и ориентирующего воздействия духовной традиции, сфера культуры неизбежно начинала воспринимать иные источники влияния; и постепенно главным таким источником – а с Петровской эпохи, безраздельно господствующим – стала секуляризованная культура Запада. Так складывалась специфическая деформация общественного и культурного сознания: социокультурный раскол между низовой, народной религиозностью и вестернизованной, секуляризованной культурой образованного слоя. Для Церкви и Православия в целом, подобный раскол влек за собой отчасти разрыв между Православием и просвещением, культурой, а отчасти – усвоение вестернизации и самим Православием в его определенных сторонах: что о. Георгий Флоровский назвал «западным пленением русского богословия». При этом, исихастская традиция, став предметом почитания без понимания, питала народную религиозность и в ее составе обильно смешивалась с элементами религиозных фантазий и суеверий. Подобная деформация стала специфическим отличием типа культуры, структуры религиозного и культурного сознания, не только в российском, но и в других православных обществах (а равно и во многих странах Третьего мира, которые также не сумели развить культуротворческие силы своих аутентичных духовных традиций).
Феномен социокультурного раскола ответствен за многие негативные события и процессы русской истории последних веков. Он был замечен уже при своем формировании и с тех пор много анализировался и активно обсуждался. Однако, раскрыв и выделив его связь с духовной традицией и духовной практикой, мы можем глубже увидеть как его генезис, так равно и пути его преодоления, изживания. В нашем освещении, эти пути также связаны с судьбой исихазма, и более конкретно – с уровнем развитости его понимания: ибо этим уровнем определяется степень активизации его культуротворческих потенций. В этом отношении, последние этапы русского исихазма чрезвычайно своеобразны. Выход в свет греческого и славянского «Добротолюбия» в конце 18 в. стал прологом нового исихастского возрождения – «Филокалического Возрождения». В России оно выросло в крупнейшее явление религиозной жизни, прерванное, подобно Исихастскому Возрождению 14 в., только крушением империи. Но два возрождения имеют и существенные отличия; облик Исихастского Возрождения в России несет явственную печать социокультурного раскола.
Как в Греции, так и в России Филокалическое Возрождение зарождалось снизу, из народной религиозности, и первое время оставалось народным движением, чуждаясь вестернизованной культуры просвещенного слоя. Однако уже в своем истоке оно было явлением книжной культуры, имея своим исходным импульсом – живительное влияние раннеисихастских текстов, а своим ядром, главной своей работой – возвращение этих текстов православному сознанию своего времени. То был некий синтез исихастской аскезы и книжных, филологических трудов, и основные центры, где он осуществлялся, являли собой своеобразные «аскетико-филологические школы», по принятому в науке выражению. Важнейшими примерами таких школ были сообщества вокруг старца Паисия Величковского в конце 18 в. и в Оптиной Пустыни в середине 19 в. Поэтому с полным основанием развитие Филокалического Возрождения может рассматриваться как постепенное углубление связей исихазма с культурой и постепенное же возвращение, восстановление всей полномерной «икономии понимания» исихазма. Восстановление проходило нескоро и нелегко, поскольку взаимодействие со сферой культуры в ситуации социокультурного раскола было, разумеется, далеко от гармонии и взаимопонимания. Тем не менее, в наши дни оно, пожалуй, уже состоялось полностью – хотя эта полнота была достигнута лишь в недавнее время. Существенную роль сыграли в этом усилия не только самих подвижников, но также и богословов русской диаспоры, таких как еп. Василий (Кривошеин) и прот. Иоанн Мейендорф.
Восстановление синтеза почитания и понимания, как мы говорили, означает и возврат культуротворческих возможностей исихазма. Когда же исихазм вновь оказывается фактором культурного воздействия, устраняются причины и корни социокультурного раскола, и возникают предпосылки его преодоления. Наконец, в качестве следующего шага, исихазм, вновь ставший культурным фактором, может постепенно утверждаться и в качестве стержневого, культурообразующего фактора – что, в свою очередь, означает возвращение к Исихастскому культурному проекту.
Итак, мы видим, что современная ситуация исихастской традиции в России и православном мире вновь открывает принципиальную возможность осуществления культурной парадигмы, базирующейся на православно-исихастском образе человека. Приложить усилия к реализации этой возможности – одно из самых масштабных и глубоких заданий для православной мысли сегодня.
28 июня 2006 г.
СОФИЯ — КОСМОС — МАТЕРИЯ: УСТОИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ ОТЦА СЕРГИЯ БУЛГАКОВА
Следуя настоятельной потребности общества, философия в России как будто берется наконец за серьезное освоение своего поруганного и заброшенного наследства — творчества крупнейших русских мыслителей. Одною из первых же задач этой работы должно, несомненно, стать основательное изучение творчества Сергея Николаевича Булгакова, мысль и деятельность которого, как в России, так и позднее в изгнании, всегда находились в центре философского процесса, оказывая на этот процесс немалое влияние. Глубина, обширность, разнообразие творчества о. Сергия делают эту задачу нелегко исполнимой. В качестве одного из начальных подступов к ней, возможно, будет небесполезен и нижеследующий текст «из стола», написанный в 1982 году и разбирающий главные темы и мотивы философской мысли Булгакова.
Напомним сначала важнейшие вехи жизни и творчества о. Сергия. Он родился в 1871 году в старинном небольшом городке Ливны Орловской губернии, в семье кладбищенского священника. Окончив юридический факультет Московского университета (1894), он с успехом занимался научной работой в области политической экономии, преподавал в Киеве и Москве. В ту пору его воззрения соответствовали позициям легального марксизма; однако уже с начала 1900-х годов они постепенно эволюционируют в направлении ортодоксально-христианского миросозерцания. Не оставляя своих занятий социологией и политэкономией, он активно участвует в общественной и идейной жизни России: выступает в числе главных авторов сборников «Проблемы идеализма» и «Вехи»; является одним из инициаторов и основных сотрудников журнала «Вопросы жизни», Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, книгоиздательства «Путь» и др.; избирается депутатом Второй Государственной думы (как беспартийный «христианский социалист»), В 1917 году Булгаков избирается членом Всероссийского Поместного Собора, восстановившего патриарший строй в русской церкви. В июне 1918 года он принимает священство. В период гражданской войны он находился в Крыму, и в декабре 1922 года был выслан оттуда за пределы СССР. Годы эмиграции он провел в Праге и (с 1925 года) в Париже, где и скончался летом 1944 года. В Париже он был деканом и профессором догматического богословия Православного Богословского Института; принимал деятельное участие в экуменическом движении и в духовном руководстве Русским Студенческим Христианским Движением. Его творчество в зарубежный период посвящено в основном догматическому богословию, где он развил самостоятельное «учение о Софии», подвергнутое формальному осуждению в решениях Московской Патриархии и Архиерейского Собора в Карловцах (1935).
Обширное наследие Булгакова не заключает в себе законченной философской системы. Оригинальные философские разработки, предпринятые им главным образом в 1910-х годах (и собранные в книгах «Философия хозяйства», «Свет Невечерний» и «Трагедия философии»), позднее получили свое идейное завершение уже в богословском горизонте. В то же время все содержание его философии отличается цельностью и единством; в нем всюду выступает одна главная тема, один основной движущий мотив. Этот основной мотив философской мысли Булгакова есть оправдание мира — убежденное, нередко эмоциональное, утверждение ценности и осмысленности здешнего бытия и материального космоса. И этот пафос утверждения отнюдь не относится у Булгакова лишь к каким-либо высшим, избранным началам или сторонам здешней реальности. Полемизируя с традицией германского спекулятивного идеализма, Булгаков решительно отказывается рассматривать мышление и разум человека в качестве подобного высшего начала, приписывать им исключительную прерогативу причастия Абсолютному. Напротив, предмет его утверждения есть здешний мир, взятый во всей конкретной наполненности своего материально-телесного бытия, включая сюда и сферы пола, хозяйства, социального устроения. Таким образом, оправдание мира у Булгакова имеет одною из главных своих сторон оправдание материи; и тип своего философского мировоззрения он сам иногда определяет взятым у Вл. Соловьева сочетанием «религиозный материализм». Однако при этом задача «оправдания» с самого начала мыслится им в рамках ортодоксально-христианского миропонимания, предполагающего, что залог и источник оправданности, осмысленности и ценности всего сущего обретается лишь в Боге, каким Он открывает Себя человеку в христианском откровении Ветхого и Нового Завета. Поэтому реализация философской задачи «оправдания мира» не сводится попросту к построению учения о мире, а складывается, в свою очередь, из двух задач или же двух больших разделов, из коих первый и главный должен раскрыть связи мира и Бога, и лишь второй, на основании этих связей и в свете их, сможет трактовать собственно о мире — о материи, о телесности и других предикатах существования природы и человека. Таков логический порядок учения Булгакова; но исторический был обратным ему: философия Булгакова развивалась «снизу», от экономической проблематики и философского учения о хозяйстве («Философия хозяйства») к общему учению о материи и о мире, уже въявь опирающемуся на определенные онтологические и теологические постулаты о связи мира и Бога, но еще не делающему сами эти постулаты предметом углубленного анализа («Свет Невечерний»), — и, наконец, к развернутой богословской системе, притязающей быть новым, едва ли не всеохватным, опытом догматического богословия, дающим окончательное решение исходной задачи оправдания мира: прочно укореняющим мир в Боге, верно следуя в то же время краеугольным догматам христианства.
Преследуя сейчас прежде всего философские цели, начнем прямо с философского средоточия системы Булгакова — с его учения о мире. В свою очередь, ядром этого учения служит оригинальная концепция материи, соединяющая Афины и Иерусалим: концепции древнегреческой философии привлекаются тут для истолкования библейской доктрины творения.
«Миру не принадлежит его бытие — оно ему дано» гласит исходный тезис Булгакова. В этом тезисе уже заключен неявно целый костяк онтологической структуры: премирное Начало, от Которого мир получает бытие (Бог); начальный акт — творение мира Богом; сам мир — отличный от Бога онтологический горизонт, характеризуемый своим первым и главным предикатом, тварностъю (сотворенностью, созданностью). Следующий шаг — кардинальный вопрос, помогающий увидеть суть тварности: из чего создан мир? Ответ Булгакова ортодоксально следует библейской традиции: творение мира — творение из ничто, чистого небытия и несуществования. Этой позиции, как он находит, возможна единственная альтернатива: принять, что сам мир божествен — либо прямо тождествен Абсолютному, либо, если и сотворен Им, то из собственного Его существа. Такому решению следуют, по Булгакову, не только открыто пантеистические системы (Бруно, Спиноза), но и вообще все монистические системы спекулятивной мистики и философии (Плотин, Беме, Шеллинг, Гегель и др.). Но характерно, что, споря с этою линией, о. Сергий по сравнению с нею не только низводит, но и возвышает тварное бытие. Напоминая известное догматическое положение: акт творения принципиально отличен от неоплатонической эманации, — он видит в нем указание на определенную автономию мира, его собственные внутренние возможности — коль скоро мир не есть лишь пассивное «истечение» Единого. Отрицая божественность мира, он в то же время утверждает его (относительную) самостоятельность и творческую активность, признает за ним «собственное задание и смысл».
Онтологический горизонт, обладающий такими чертами, не есть ни чистое бытие, ни чистое ничто, но их специфическое соединение: ничто, наделенное бытийными, рождающими потенциями, или же бытие, подверженное уничтожению. Подобное соединение Булгаков описывает в категориях античной мысли. Именно, тварное бытие как ничто, чреватое бытием, соответствует платоновскому и неоплатоническому понятию мео-на или относительного небытия μη ον; чистое же ничто, всецелая противоположность бытию, передается понятием укона, радикального отрицания бытия оох ôv. Таким образом, возникает (уже выдвигавшаяся у позднего Шеллинга в «Изложении философского эмпиризма») философема о творении мира как превращении или подъятии укона в меон творческим актом Бога.
Отсюда, опираясь на космологию платоновского «Тимея», Булгаков приходит и к понятию материи. Как бытие, погруженное в водоворот возникновения и уничтожения, являющее собой непрерывную цепь переходов и превращений, тварное бытие есть «бывание» (τό γιγνό μεν ον). Но за множественностью и многоликостью бывания приходится с необходимостью предполагать некую единую подоснову, в лоне которой и из которой только и могут совершаться все возникновения и превращения тварных феноменов. Эта универсальная подоснова (οποδοχή, «субстрат») бывания, из которой непосредственно возникает все возникающее, все вещи мира, и есть материя. Булгаков принимает положения античной традиции, касающиеся материи. Материя — «третий род», необходимо присутствующий в картине бытия наряду с вещами чувственного мира и их идеальными первообразами, идеями. Она есть неоформленная, неопределенная, неуловимая «первоматерия», materia prima — потенциально сущее, способность выявления в чувственном. Наконец, в своем онтологическом существе она, как и тварное бытие вообще, есть, очевидно, меон, «бытие — небытие». Однако многие из важнейших для Булгакова свойств и сторон материи далеко не охватываются этими общими представлениями. Они связаны в первую очередь с рождающею, производящей ролью материи. В этом своем аспекте она выступает как «Великая Матерь-Земля» — мифологема, присущая древним языческим культам Греции и Востока (Деметра, Иштар, Кибела), а, по Булгакову, также и библейскому креационизму («земля» первых стихов Книги Бытия). «Земля» и «мать» — ключевые определения материи у Булгакова, выражающие ее зачинающую и родящую силу, ее плодотворность и плодоносность. Земля «насыщена безграничными возможностями»; она есть «всематерия, ибо в ней потенциально заключено все»
[1]. Конечно, лишь после Бога и лишь ьследствие неточного Божия «да будет», но все же материя в своих пределах сама есть некое творческое начало: вслед за Григорием Нисским Булгаков утверждает, что после изначального творческого акта Бога дальнейшее развертывание всего многообразия тварного бытия совершается при непременном и творческом участии уже самой материи, самой «земли». Как мы увидим ниже, эти творческие потенции материи находят у Булгакова особое обоснование в учении о Софии, а их специфический характер раскрывается глубже в его метафизике пола, через отождествление материи с женственной, женской стихией, оплодотворяемой мужским началом — Логосом — и зачинающей от Него.
Признание либо непризнание самостоятельных творческих потенций в материи проводит глубокий водораздел между различными учениями и в древней, и в новой философии. Понятно, что учения материалистические и идеалистические лежат по разные стороны этого водораздела; позиция же Булгакова весьма характерным образом оказывается ближе к материализму. В этом важном пункте Булгаков отходит от платоновского учения о материи, отвергая присущее ему представление о пустой, бескачественной «материи вообще», и одновременно сближается с позицией орфиков и стоиков
[3]. Он полагает, что греческий идеализм, равно как идеализм позднейший, знают лишь обедненное, чисто негативное понятие материи как ущербности и «убыли» бытия, «бытийного минуса», а отсюда приходят и к ложному принижению материи, как бы гнушаясь ею, что характерно в особенности для неоплатонизма и что Булгаков в свете российских дискуссий эпохи «Вех» расценивает как «интеллигентски-декадентское» отношение к материи и к жизни. В противоположность этому «материализм… живым чувством земли («материи») выгодно отличается от идеализма»
[4].
Теперь нам вполне понятно, что же стоит за характеристикой мировоззрения Булгакова как «религиозного материализма». Ему присущ подлинный пафос материи, благоговейное возвеличение ее как живоносного, глубоко положительного начала. И, однако же, акцент на первом из членов этой характеристики, несомненно, еще более важен. Ибо свой подлинный смысл возвеличение материи у Булгакова получает лишь в религиозном контексте, а наиболее глубокий, сокровенный смысл — в контексте мистическом. Земля-мать не просто рождает из себя, изводит из своих недр все сущее, все живое. На вершине своего рождающего и творческого усилия, в его предельном напряжении и предельной чистоте, она потенциально является «Богоземлей» и Богоматерью. Из недр ее происходит Мария — и земля становится готовою приять Логоса и родить Богочеловека. Земля становится Богородицей — и только в этом истинный апофеоз материи, взлет и увенчание ее творческого усилия. «Богородица — великая мать сыра земля есть, и великая в том заключается для человека радость». В этом прорицании, которое передает тайновидица — Хромоножка у Достоевского, скрыт мистический ключ не только к учению о материи, но и ко всему «религиозному материализму» Булгакова (как равно и к христианскому почвенничеству самого Достоевского).
* * *
Учение о материи-«земле» составляет один из важнейших узловых пунктов философии Булгакова, от которого протягиваются нити ко всем ее остальным главным темам. И мы уже подошли вплотную к самой существенной из них — к пресловутой «софиологии» о. Сергия. Ибо, как выше уже подчеркивалось, учение о мире как таковом не мыслится у Булгакова замкнутым и самодовлеющим; его необходимым продолжением должно явиться учение о связи мира с Богом. Притом эта связь не должна быть просто генетической или субординационной связью, которая уже заключена в факте творения мира Богом и зависимости мира от Бога. Она должна обеспечивать ценность и смысл мира, а это возможно только одним путем — путем утверждения реальной причастности мира Богу как источнику всякого смысла и всякой ценности. Именно это утверждение и осуществляет софиология Булгакова: ее можно определить как метафизическое учение о причастности мира Богу, соединяемое с богословским учением о догматических предпосылках такой причастности.
Причастность мира Богу a priori может носить весьма различный характер. И выдвижение в центр религиозно-философского учения символа или мифологемы Софии (объединяющее между собою все опыты христианской софиологии) есть с философской точки зрения
онтологический постулат, которым утверждается весьма определенный род и способ этой причастности. Согласно данному постулату, у мира имеется некий «идеальный первообраз» в Боге — близкий аналог платоновского мира идей. «Мир… в своем первообразе, в своей идее… предвечно есть в Боге»
[5],— и связь, соответствие между тварным миром и его идеальным первообразом и составляет причастность мира Богу. Сам же этот первообраз или «Божественный мир, сущий в Боге «прежде» творения», «предвечное человечество в Боге», «мир умопостигаемых идей» и есть «София», «премудрость Божия» (греч. σοφία, мудрость) — понятие-символ со сложной историей в древней и средневековой мысли, как в эллинской, так и в иудейской духовной традиции выражавшее интуитивные представления о смысловой наполненности и гармонической сообразности мироздания.
София не только единый первообраз мира, тварного бытия в целом, но в то же время собрание аналогичных первообразов, или идей, или «божественных замыслов», отвечающих каждой из вещей и явлений в мире. В ней неотъемлемо присутствует аспект множественности и единства множества: она есть «всеорганизм идей», «единое и всё» — т. е., иначе говоря, Всеединство — основная онтологическая парадигма эллинской античности и всей духовной традиции платонизма. Таким образом, всякая христианская софиология с сеемого начала строится в русле христианского платонизма и по своей философской сути представляет собой попытку совмещения, объединения безличной платонической онтологии Всеединства и остро личностной христианской онтологии Трехипостасного Бога. При этом данная попытка является весьма радикальной: речь идет не об использовании отдельных мотивов или понятий платонизма (что вполне обычно в истории христианской мысли), но о том, чтобы непосредственно ввести платоновский мир идей в недра и жизнь, в «таинственную инаковость» христианской Троцы. Неудивительным образом на этом пути возникает целый ряд трудностей и препятствий, как философского, так и догматического порядка. За много веков теологической и философской работы в Православии сформировался вполне четкий корпус фундаментальных догматических представлений, согласно которым в сфере Божественного признаются лишь следующие внутренние различения: Сущность (Усия), Ипостаси (Лица) Отца, Сына и Духа и Энергии, принадлежащие сущности. Поэтому «онтологический постулат» софиологии немедленно встречает прямой вопрос: ка-кое же место София может занимать в Боге? В каком отношении ежа находится к указанным внутренним различениям в Нем? Убедительного ответа на этот вопрос не найдено ни в одном из доныне известных опытов софиологии; и софиология Булгакова, будучи наиболее развитым и систематичным из всех этих опытов, вызвала в то же время и наиболее сильные возражения.
Первый набросок собственного учения о Софии дан Булгаковым еще в «Свете Невечернем» (1917). Затем его разработка была продолжена в ряде статей 20-х годов (из коих особо существенна «Ипостась и ипостасность», 1925); отдельные аспекты, затрагивающие мариологию, ангело-логию и др., развивались в книгах этого периода; и, наконец, появляются в свет тома знаменитой «большой трилогии»; «Агнец Божий», 1933; «Утешитель», 1936; «Невеста Агнца», 1945,—дающей полное изложение догматических основ богословской мысли Булгакова. Выход в свет «Агнца Божид» вызвал активную полемику с новым софианским учением, достигшую кульминации в упомянутых осуждениях 1935 г. На всей этой динамике нам ясно виден сегодня отпечаток эпохи. Не только в Россия, но и по всему миру тридцатые годы — время ожесточенья и розни, корень которых — в острой идеологизации и политизации сознания. Сочтем ли случайным, что разделения в «споре о Софии» в точности совпадали с границами юрисдикций, церковно-политических группировок? Булгаков был убежденным противником традиционной связи, сращения русской церкви с русским самодержавием; активнее, и раньше всего против его софиологии выступили «карловчане» — сторонники Карловацкого Синода, возводившего эту связь в нерушимый принцип. Редкие выражения поддержки его позиции всегда исходили от «евлогианцев» — православных, находившихся, как и сам Булгаков, в окормлении митрополита Еэлогия. И все же — в цервую очередь благодаря усилиям богослова и философа В, Н. Лосского (живщего в Париже, но принадлежавшего к юрисдикции Московского Патриархата) — в этой полемике удалось наглядно выявить суть трудностей и сомнений, рождаемых учением о, Сергия.
Главный фокус проблемы и узел всех трудностей софиологии — в соотношении между Софией и Ипостасью (лицом). Софиология здесь, казалось бы, попадает в тупик. София не может быть Ипостасью, ибо тогда она, пребывая в Боге, либо оказывается четвертым лицом в Троице (что и допускал Булгаков на ранней стадии своего учения
[6]), либо попросту совпадает с одним из Трех Лиц, тем самым теряя статус несводимого и самостоятельного начала. Но она не может и не быть Ипостасью, ибо по всем своим признакам она отнюдь не есть предмет апофатического подхода, Бог в Его сверхбытийной и сверхсущностнои сокровенности, а, напротив, представляет собою Божественное в его самораскрытии, самоосвещении; ей присуще бытие, присуща любовь, которые в сфере Божественного принадлежат исключительно к «икономии» ипостаси, а не Усни и не энергии. Учение Булгакова выходит из этого затруднения лишь с помощью весьма неясных и искусственных построений, По окончательной догматической формулировке Булгакова София есть «Усия в откровении»; но при этом вопреки кардинальному положению, о котором напоминает и сам Булгаков: «В Боге нет такого самоопределения, которое не было бы ипостасно»
[7],~- это самооткровение и самоопределение Усии не есть Ипостась. Последнее достигается за счёт вводимого Булгаковым различения между понятиями «ипостасного» и «ипостазированного»: такое различение дает ему возможность отделить Софию от Ипостаси, не войдя в то же время в противоречие С тем, что в любом своем самоопределении (а стало быть, и в Софии) Божественное всецело ипостазировано. И, однако, как само это различение, так и возникающую на его базе конструкции трудно счесть убедительными. По итоговым формулам Булгакова София есть «неипостасное, но ипостазировашие начало»; она «не есть ипостасное бытие, однако она есть живое и живущее существо»
[8], В частности, любовь Софии к Богу — «неипостасная любовь»: пассивная, «самаотдающаяся», «женственная»; и на это Указ Московской Патриархии (составленный по материалам В. Н. Лосского) замечает резонно, что любовь, целиком лишенная ипостасного, личного начала, может быть только бессознательным, бессловесным движением — инстинктом. Что ж есть тогда это безипостасное «живое и живущее существо» — как бы некое sui generis Божественное животное?.. Защитников и последователей такого взгляда практически не нашлось. Утверждая не только в тварной, но и в Божественной сфере некую неиностасную любовь и жизнь, о. Сергий явно отступает от чисто личностного типа онтологии, и В. Лосский делает вывод: «Смешение личности и природы — основное догматическое заблуждение о. Сергия Булгакова»
[9]. В целом же на сей день в православном богословии можно уже считать сложившимся определенный consensus, согласно которому для Софии как самостоятельного начала нет места ни в тринитарном, ни в христологическом учении церкви, но нет и таких проблем, которые для своего разрешения с необходимостью нуждались бы в этом начале. По суждению одного из авторитетных современных авторов, «София…
не нужна, и не нужна прежде всего самому богословию о. Сергия. Она воспринимается., как какой-то чуждый и надуманный элемент в его писаниях… ибо все то, о чем он пишет, что составляет тему и вдохновение его творчества… все это не нуждается в Софии»
[10].
* * *
Напротив, в сфере учения о мире, не обставленной догматическими преградами, софиологические теории обретают уверенность и свободу. Как правило, они развертываются в широкую панораму тварного бытия, рассматриваемого в свете своей причастности Софии. Свойство причастности отдельного явления или всего тварного мира Софии как своему идеальному первообразу традиционно именуют софийностъю или же софийными корнями, истоками, потенциями явления либо мира в целом. И главный труд при создании софиологической картины мира заключается в том, чтобы последовательно вскрыть эти софийные потенции в каждой из областей тварного бытия, отделяя «софийную основу бытия» от «внесофийной оболочки бывания». Для этого, однако, нужно сначала отыскать какие-то общие критерии софийности, и в решении этой проблемы различные софиологические учения далеко расходятся между собой. Комплекс прочно признанных представлений о Софии и софийности, диктуемых общими позициями христианского платонизма и метафизики Всеединства, совсем небогат и заведомо недостаточен для того, чтобы на его основе произвести полный суд и рассечение, бесповоротностью отделить в живой ткани тварного бытия «софийные» элементы от «несофийных», (Добавим; если такое рассечение вообще возможно!). По существу, в этот комплекс входят лишь главные имена или дефиниции Софии: Благо, Истина, Красота, — и общие интуиции, согласно которым софийность есть некий гармонический лад вещей, принцип закономерности и сообразности, «универсальная связь мира», противостоящая «несофийным» тенденциям вражды, хаоса, распада. На этой канве еще могут возникать весьма разные картины. В итоге, каждое из русских софиологических учений имеет свою трактовку софийности, и в каждом эта трактовка довольно субъективна, в большой мере определяясь личностью автора, особенностями его духовного склада и духовного опыта. Спиритуалистическая и визионерская софиология В. Соловьева учит об «обманчивости мира» и о софийности, резко отделенной от материи, от «грубой коры вещества» как некой «личины». Софиология Флоренского, являющаяся сознательной транспозицией античного мироощущения и платоновской онтологии на почву христианского вероучения, учит о прямо противоположном: о «правде и красоте самого вещества», о софийности, непосредственно заключенной в любом явлении и превращающей его в наполненный смыслом символ. Эклектическая софиология Е. Трубецкого составляет обширные реестры вещей софийных и несофийных, почерпая критерии для их разделения из множества разношерстных интуиций. Собственный подход к проблеме софийности присущ и учению Булгакова. В своей отличительной особенности подход этот может быть назван «литургическим», ибо, по существу, не чуждым софийности у Булгакова признается все то, «за что можно молиться», что благословляет и освящает церковь в своем богослужении. А сюда принадлежат отнюдь не одни только благие и прекрасные, «возвышенные» стороны и устремления тварного бытия. Церковная молитва — не об идеальном, а именно о грешном и падшем мире, и она обнимает собой все неотъемлемые измерения его жизни: узловые вехи земного существования — рождение, продолжение рода, смерть; нужды поддержания этого существования — труд, хозяйство; узы, соединяющие людей на путях этого существования, — семью, отечество, законные власти. Все эти измерения Булгаков делает темами своей софиологии, и все они у него приобщаются софийности. Само же тварное бытие, тварный мир, взятый в аспектах своей софийности, наделяется у него именем «тварной Софии». Это понятие, нередко смущавшее ортодоксально-православных критиков, в действительности вполне органично в контексте софийной мысли: коль скоро София есть «Божественный мир», то, стало быть, и наоборот — мир, тварный образ своего божественного первообраза, может рассматриваться как «София в творении» — «тварная София». Такое понятие имеет свои аналоги в большинстве софиологических учений и восходит к платоновскому различению Афродиты Небесной и Простонародной. Но Булгаков идет и дальше: различая в соответствии с библейской мифологемой грехопадения тварное и падшее тварное бытие, Булгаков также и за последним утверждает повсюду проникающую софийность (слитую теперь, однако, с ничто, в согласии с онтологией Булгакова) и усваивает ему имя «Софии падшей».
Характерное для падшего мира «меональиое» переплетение софийности и ничтожности, быть может, нагляднее всего выступает в сфере хозяйства, пребывающей в центре внимания Булгакова с первых шагов его творчества. Хозяйство — куда Булгаков относит и экономическую, и научно-техническую деятельность человека — самая показательная стихия падшего бытия; здесь наиболее полно выразился специфический образ существования, присущий тварному миру после его падения. В своем истоке оно совсем не порождено лишь падшим состоянием мира (как порождены этим состоянием зло и смерть). Согласно Булгакову, существует и «райское хозяйство» как бескорыстный любовный труд человека над природой для ее познавания и усовершенствования, раскрытия ее софийности»
[11]. Отсюда следует, что «хозяйство софийно в своем метафизическом основании»
[12], и
это его оефийное основание — в том, что независимо от падения раскрытие и реализация софийности природы, космоса есть миссия человека, лежащий на нем «груд познавания и действия». Однако в падшем состоянии мира смысл и мотивы хозяйства радикально меняются. Оно приобретает теснейшую связь с коренными отличиями падшего бытия — нуждой, ущербностью, ограниченностью. Оно требует теперь усилия, является тяжким бременем; и оно служит теперь не раскрытто софийности мира, но «природной необходимостью», нужде человека в простом поддержании своего существования. Поэтому «хозяйство подвержено власти ничто»
[13]; однако и в этом положении оно еще сохраняет некие «низшие формы» софийности. В своей хозяйственной функции человек утверждает свое центральное и главенствующее положение в мироздании — и это соответствует его софийному первообразу. Еще более существенно, что «хозяйство есть творчество… как всякое человеческое делание»
[14]; начало же творчества, по Булгакову, есть печать образа Божия в человеке и один из главных элементов его софийности.
«Любовный труд» свободного развертывания человеком софийных потенций тварного космоса (каким предстает, по Булгакову, хозяйство в непадшем модусе мира) является в равной мере не только хозяйством, но и искусством, ибо одно из главных имен Софии — Красота, и осуществление тварью своей софийности есть ее «рождение в красоте», выявление красоты тварного мира — что ex definitione и есть искусство. «Райское хозяйство» и «райское искусство» тождественны друг другу и представляют единую, синтетическую активность, которая включает в себя узрение, распознание софийного первообраза твари и действенное раскрытие его, достижение тождества с ним. Следуя мистико-теософской традиции в христианстве и непосредственно Вл. Соловьеву, Булгаков называет эту активность софийного преображеиия мира теургией (от гр. θεοο εργον, богодействие). Однако в падшем модусе мира это изначальное единство хозяйства, искусства и теургии разрушается, раскалывается, и они делаются в корне различны между собой. Хозяйство и искусство оказываются теперь только ущербными подобиями теургии, утрачивая важную часть ее свойств. При этом ими утрачиваются, в определенном смысле, противоположные стороны теургии, так что они становятся как бы дополнительными друг к другу. Хозяйство, сохраняя способность действенного изменения, преобразования мира, утрачивает ориентир софийности, способность созерцания Софии. Искусство же сохраняет способность видеть софийность, но утрачивает возможность ее осуществить, достичь преображения твари. Его отношение к Софии (как Красоте) теперь выражается понятием Эроса, т. е. влечения, устремления, которое, однако, не достигает полного соединения со своим предметом. Невозможность достичь Софии составляет трагедию искусства, заложенную в самой его сущности.
Надо заметить далее, что ни начало Эроса, ни начало трагедии не являются специфичными для искусства; они лежат в природе всякого человеческого творчества. Свою тщету, неспособность достичь Софии, искусство разделяет со всеми без исключения сферами тварного бытия и человеческой активности. Но есть одно, что выделяет его и ставит на высшее место между ними: это его способность увидеть и показать софийность (как красоту). Если хозяйство, по Булгакову, есть средоточие, центральный узел всего устройства или «домостроительства» падшего тварного бытия, то искусство — вершина этого домостроительства, наибольшее приобщение к теургии, доступное силам человека. Булгаков решительно утверждает за искусством «исключительное значение» и несравнимую «иерархическую высоту». Этот усиленный эстетический акцент, разделяемый и другими опытами русской софиологии, отражает глубокую и традиционную черту русской духовной культуры. Она видна уже в известной легенде о выборе Владимиром Святым христианства для Руси под воздействием красоты богослужения — и затем проходит сквозь всю историю русской духовности, вплоть до Вл. Соловьева и Достоевского с его девизом «Красота спасет мир» (пршшмадмым и в софиологии Булгакова). Теоретическое же основание для этого «православного эстетизма» лежит, согласно Булгакову, в том, что из всех имен и ликов Софии именно Красота всего непосредственней и бесспорней проявляется в нашем мире. Но что есть Красота? По Булгакову, она выражает присущий Софии аспект идеальной, сублимированной чувственности и телесности: необходимо «понимать идеи как наделенные всей полнотою реальности, т. е. и чувственностью или телесностью., платоновские идеи имеют тело… идеи не только знают себя, но и чувствуют. И эта духовная чувственность, ощутимость идеи есть красота» Если в целом софиология искусства Булгакова строится в общем русле эстетики платонизма, то в данном мотиве «чувственности идей» он воспринимает интерпретацию платонизма, развитую Флоренским.
Софиологический анализ хозяйства и искусства дополняется у Булгакова целым рядом других частных софиологии, относящихся к различным сферам тварной реальности. Назовем первой софиологию пола. Начиная с древности метафизика рола оставалась одною из классических тем мистико-теософской спекуляции, зачастую решавшейся в духе принижения и осуждения сферы пола; и сам феномен вола нередко относили к числу проявлений мирового зла, к стигматам грехопадения, Булгаков же, по стойкому обычаю, выступает и здесь с апологией земной реальности, утверждая ее софийные корни. Аспект пола или двуполости присущ тварному бытию вне зависимости от грехопадения, и «дол, есть положительная и благая сила»
[15] (хотя в падшем состоянии мира он деформируется и «затемняется» привнесением сексуальности, похоти). «Мужское» и «женское» выступают в философии Булгакова как два универсальных софийвых принципа, отражения которых прослеживаются им во множестве самых разнообразных явлений, В частности, на базе этих принципов им развиваются софиология творчества и софиология власти. Творчество, по Булгакову, возникает иэ соединения дара гениальности и дара талантливости, из которых первый — способность зачатия, открытия новых идей — составляет «мужскую сторону творчества», тогда как второй способность вынашивать, развивать уже данные идеи — есть «женская» сторона. Что же до феномена власти, то в нем Булгаков усматривает тесное единство заложенных в человеческой природе двух противоречивых стремлений — к господству и к подчинению. Первое из этих стремлений, как нетрудно догадаться, он расценивает как проявление «мужского», а второе — как проявление «женского» начала. Софийность же этих начал сообщает софийную укорененность и феномену власти. Более того, снова явственно обнаруживая литургическую подоснову своей софиологии, Булгаков утверждает «религиозную и мистическую» природу власти, ее харизматический характер, и высказывается против секуляризации власти, в частности и против современной демократической государственности — в пользу идеала
теократии (привлекавшего также Достоевского и Вл, Соловьева).
В этой сакрализации власти отражается свойственная софиологии Булгакова (а отчасти и русской софиологии вообще) тенденция к признанию благой софийной основы почтя во всех явлениях земной жизни. Существуют у него и более крайние проявления этой тенденции — например, софийные корни усматриваются им и в войне. Бесспорно, что это не противоречит его литургическому критерию софийности, в такой позиции прямая связь с церковными молитвами за христолюбивое воинство и о покорении йод воги сущих властей всякого врага и супостата. Однако настолько ли уж бесспорен сам этот
литургический критерий, когда хотят вынести твердое суждение о причастности здешнего явления горизонту божественного бытия — суждение, в своем существе
догматаческое? Для Булгакова (по крайней мере в период «Света Невечернего») литургика имеет несомненное первенство перед догматикой; она «может осветить вопрос глубже и жизненнее, нежели рассудочные определения догматики»
[16]. И все же: не выражает ли молитва парадоксальную, на грани реального живущую надежду, истовое упование, скорей чем жесткое утверждение? И вряд ли возможны два разных мнения о том, где сильней неизбежные наслоения исторического и относительного — в составе ли православного молитвословия и молитвенной практики или же в корпусе православной догматики. Те же церковные молеция о еже покорити под ноаи… — за успех каких только деяний не возносились они за долгие века истории «христианского мира» и его «христолюбивых воинств»! И не отмечает ли сам о. Сергий в своих поздних трудах примеры догматических ощибок в литургических текстах
[17]?
Наряду с материей коренная принадлежность здешнего бытия — время. Предикат временности налагает резкий, решающий отпечаток на существование человека, но вовсе не столь же резкий — на существование природы. Соответственно время играет весьма незаметную роль в космосе Флоренского, где на первом месте природа, и самую существенную — в антропоцентрическом космосе Булгакова. Острое чувство времени и истории — яркая черта о. Сергия, сближающая его с Бердяевым и ограничивающая влияние Флоренского. С нею связан ряд важных разделов его софиологии, рассматривающих проявления временности (конечность, смерть), равно как и противостояние человека времени, историю.
В 1939 году, перенеся рак горла, о, Сергий продолжительно побывал на краю кончины; и вскоре же после этого он пишет «Софиологию смерти», сочетание богословия и уникального прямого свидетельства, доставленного, как говорит он, «вестником
оттуда». Человек перед лицом смерти — классическая тема экзистенциализма, и некоторая с ним близость явственна здесь. Среди общих моментов — важное положение; опыт смерти, осознание своей смертности — единственный путь к открытию человеком собственной сущности. Однако различие глубже сходства. Как «вестник», о. Сергий свидетельствует, что вопреки экзистенциалистам в умирании одиночество и отъединенность от людей не абсолютны, любовь побеждает их: «Я любил братьев своих, и всех любил… гармония любви прорывалась чрез диссонансы моего смертного дня»
[18]. Онтология же смерти Булгакова и вовсе ничем не напоминает аналитику Sein zum Tode. Прежде всего он различает умирание и смерть, даже противопоставляет их. Первое — лишь дурная, безысходная длительность, застывший миг смертного страдания и мрака; но вторая — истинное завершение человеческого существования, несущее в себе «законченность, исход и освобождение от умирания»
[19]; и о. Сергий говорит даже о «свете смерти», «радости смерти». Ибо и в ней человек остается связан с Богом: своею смертью каждый участвует, включается в крестную смерть Христа — «все смерть», тождественную «множеству всех личных человеческих смертей», — и благодаря этому включается и в Его воскресение. Итак, победа над смертью, чаемая по вере христиан, предстает у Булгакова не изгнанием смерти, но как жизнь-чрез-смерть, что расходится с учением Федорова и совпадает с метафизикой смерти Карсавина. И видим также, что, кроме названия сочинения, софиология едва ли вообще присутствует у Булгакова в теме смерти, все освещение которой является у него глубоко личным, мистическим и христоцентрическим.
В известной мере это же верно о темах истории и эсхатологии. Софиологические понятия используются тут активно, но, следуя духу христианского историзма, Булгаков наделяет их новыми чертами, явно не свойственными платонической философии.
Исходный тезис христианского историзма — признание онтологической ценности истории. Булгаков принимает, что существование тварного мира, по самой сути, — процесс, не статичная неизменность, но динамика, превращение; и существо этого процесса — «соединение Софии тварной с Софией Божественной». Сие значит, что София тварная (софийность) не есть неподвижный атрибут тварного бытия: она раскрывается, развертывается, приобретает в тварном бытии все большее место и значение и, наконец, всецело преобразив его природу, делается его главным оформляющим принципом. Этот существенно новый динамический аспект софийности вводится у Булгакова через известное святоотеческое истолкование библейской формулы об отношении человеческой природы к Богу: «по образу и подобию». В этой двучленной формуле «образ» интерпретируется как статический принцип — сходство по некоторым неизменным признакам, скажем, по форме или строению (так, к элементам образа Божия в человеческой природе богословы часто относят усматриваемые в ней черты троичности, тройственного строения). Подобие же понимается как динамический принцип — развертывание образа до отождествления с Первообразом. В итоге образ и подобие соотносятся между собою как данность и задание, потенциальность и актуальность. Софийность же как целокупная причастность человека Богу есть вместе и образ, и подобие, и поэтому она совмещает в себе оба аспекта, обладая и неизменностью образа и динамизмом подобия. Ее присутствие сказывается как «непрестанный зов», и она выступает в качестве динамического принципа тварного бытия, силою которого существование мира превращается в его «ософиение» — онтологический процесс его соединения со своим Божественным Первообразом или же «Богочеловеческий процесс», по популярному в русской философии выражению. Учение об истории как Богочеловеческом процессе, онтологической динамике восхождения мира к Богу, развивал Вл. Соловьев, за ним — Е. Трубецкой, Бердяев, Карсавин. В этом русле, как видим, лежит и софиология истории Булгакова.
В Богочеловеческом процессе, по Булгакову, критически важно сочетание божественного действия и человеческого усилия. Уже в «Свете Невечернем» он подчеркивал, что в падшем мире собственная активность человека бессильна достичь Софии и действенное раскрытие софийности твари доступно лишь Богу, проявляющемуся в мире своею благодатью, божественными энергиями. Отстаивая это положение, Булгаков входит в полемику с учениями Вл. Соловьева и Η. Ф. Федорова, где упускается из вида решающая роль благодати в софийном преображении мира. В данном аспекте эти учения как бы взаимно дополнительны: Соловьев отождествляет теургию с искусством, когда оно стремится воздействовать на жизнь, преображать жизнь; напротив, по убеждению Федорова, преодоление падшего состояния мира — миссия хозяйства. Булгаков же, отвергая обе эти позиции, утверждал, что задача теургии «неразрешима усилиями одного искусства», а назначение хозяйства ограничивается экономическою и социальною сферой. В поздней «Невесте Агнца» положения о благодатном, а не «рукотворном» характере Богочеловеческого процесса принимают окончательную форму, связываясь с церковным учением о «синергии» — соучастии, сотрудничестве человека с благодатью. «Ософиение твари есть принятие благодати»
[20] — и есть, таким образом, по преимуществу действие Бога, божественных энергий. Однако роль человека не сводится к пассивности: надобно, чтобы он и хотел, и мог воспринять благодать, сделался бы «открытым сосудом» для нее, и достижение этого — тонкий и кропотливый духовный труд, знаменитое «духовное художество» православной аскетики.
С признанием благодатной природы Богочеловеческого процесса в центре последнего оказывается Церковь, поскольку подание благодати тесно связано с таинствами и со всею сферою церковного культа. Благодаря этому «Церковь действует в истории как творящая сила» она «закваска», истинный движитель Богочеловеческого процесса и потому центральное понятие всей историософии Булгакова. Как движущая сила процесса ософиения, она в ближайшем отношении к Софии: по Булгакову, это один из обликов Софии, и именно тот, в котором София предстает в своей главной роли соединительного звена между Богом и миром. «Церковь… есть София в обоих аспектах, Божественная и тварная, в их взаимоотношении и в их единении, причем это единение есть богочеловечество in actu»
[21]. Но ведь в Богочеловеческом процессе участвует не какая-то избранная часть тварного бытия, это глобальный процесс, «субъект» которого — весь мир. Поэтому движитель этого процесса, Церковь, также с необходимостью должен иметь вселенский и космический масштаб, космическую природу. И этот космический аспект Церкви активно утверждается у Булгакова: «Границ Церкви не существует… Церкви принадлежит все мироздание, которое есть ее периферия, ее космический лик»
[22]. В данном аспекте, очевидно, содержание Богочеловеческого процесса заключается в том, что весь космос вбирается, вовлекается в Церковь и сам становится Церковью.
Наконец, глобальность и всеохватность Богочеловеческого процесса обнаруживается не только в пространственно-космическом измерении, но и в отношении ко времени. Богочеловеческий процесс не только обнимает собою весь космос; он переходит рамки времени и истории, простираясь за их пределы и включая в себя трансцендентный истории «метаисторический» этап или «эон», решающий для его смыслового содержания. Но это еще не специфическое отличие системы Булгакова, а непременная особенность всех христианских концепций мировой истории, прямо коренящаяся в радикальном эсхатологизме Нового Завета. История мыслится там как замкнутое целое, проникнутое смыслом, который отождествляется с итогом, финальным «исполнением» истории, так что история получает свой смысл от своего финала; но финал этот, дабы он мог напоить смыслом всю историю, в каждом ее моменте, уже не может сам быть только одним из таких моментов — он должен разыгрываться «не на земле, а на небе», в некоем метаисторическом горизонте. Данная эсхатологическая структура или модель представлена в Новом Завете посредством мифологем Всеобщего Воскресения и Второго Пришествия (парусии). Что же до эсхатологии Булгакова, то, развиваясь скорей в богословском, нежели в философском русле, она весьма близко следует этой канонической новозаветной модели (значительно ближе, чем большинство других эсхатологических учений в новой русской философии, к примеру, Соловьева или Карсавина, не говоря уж о Федорове). И наша задача здесь — уловить, что же в этой модели особенно акцентирует, выделяет о. Сергий как нечто близкое и важное для себя? Или, напротив, в чем его мысль все-таки отклоняется от нее? Прослеживая такие индивидуальные отличия эсхатологии Булгакова, мы увидим, пожалуй, два наиболее существенных: резкое отрицание доктрины исторического прогресса и апокатастасис, учение о конечном спасении всех.
Для первой из этих тем корни личного и обостренного внимания к ней прозрачны: спор с либерально-позитивистской, прогрессистской идеологией — одна из главных идейных линий «Вех» и всего дореволюционного творчества Булгакова. По существу же, эта тема имеет под собою прочную почву в Писании и в церковном учении: достаточно ясно, что позитивистская доктрина бесконечного прогресса и совершенствования человека и общества идет вразрез с новозаветным эсхатологическим мироощущением, И нельзя не отметить, что Булгаков в сильнейшей степени был проникнут этим новозаветным эсхатологизмом. Сквозь все его творчество проходит апокалиптическая напряженность, истовое чаяние Конца, Второго Пришествия, не раз заставлявшее его заканчивать свои труды апокалиптическим призыванием: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Вце этого мистического Конца для него немыслимо истинное исполнение бытия и истории. Поэтому совершенно закономерно, что в противовес обычному «эволюционному прогрессу» он выдвигает понятие «трагического» или «эсхатологического» прогресса — внутреннего созревания мира к своему концу — и утверждает полярную непримиримость обоих понятий. Возможно, он даже слишком категоричен тут, утверждая полную неизбежность неудачи, крушения истории в эмпирическом плане и настаивая на предрешенности именно катастрофического, а не «благополучного» конца истории. Но диво ли это? О. Сергий всегда был необычайно чуток к своему времени, и эсхатологическая тема возникала у него поистине в эсхатологические времена: «Свет Невечерний» писался во время первой мировой войны, а «Невеста Агнца» — во время второй…
Напротив, тема апокатастасиса у Булгакова уже не восходит к прочному ядру евангельской и церковной эсхатологии, а принадлежит к числу многих «теологуменов», частных богословских мнений присутствующих в его творчестве. Учение об апокатастасисе (греч. άη;οκατάστασις, восстановление), т. е. конечном спасении всей твари, включая и осужденных на вечные муки и падших ангелов во главе с Сатаною, впервые выдвинутое Оригеном и принимавшееся также свв. Климентом Александрийским и Григорием Нисским, было анафематствовано Константинопольскими Соборами 543 и 553 годов и с тех пор защищалось лишь в ряде сект некоторыми отдельными богословами (в частности, Шлейермахером). Булгаков же был издавна убежден в истинности этого учения, и долгое время оно оставалось у него одной из «заветных» тем, упоминаемых вскользь и слегка загадочно; пока наконец в «Невесте Агнца» он не выступил с его открытой защитой. Говоря очень вкратце, в истолковании Булгакова вечность адских мучений должна пониматься лишь в смысле некоторого одного «мирового эона», тогда как обетование искупления и спасения имеет, напротив, всеобщий и абсолютный смысл; так что в итоге утверждается перспектива «постепенного «апокатастасиса»… всеобщего спасения без всяких ограничений и исключений, а только с многообразием и многостепенностью»
[23]. И слова ап, Павла «будет Бог всяческая во всем» Булгаков толкует как «пророчество о всеобщем обожении и апокатастасисе».
Однако нам более интересна сейчас не богословская проблематика апокатастасиса, а те движущие пружины, которые стоят за его настойчивым утверждением у Булгакова. Нетрудно увидеть, что тут явственно проступает одна из глубоких и типических черт русской мысли и русского религиозного сознания; присущий им нравственный и религиозный максимализм. Позднее он был оболган и оплеван, еще позднее — прочно забыт; однако он был духовной реальностью — и это именно для него оказывалась органически инородна и нравственно неприемлема идея вечного наказания, вечных мучений. И эта неприемлемость выражалась открыто и у Достоевского, и у Владимира Соловьева (назвавшего учение о вечных муках «гнусным догматом»!), и почти во всех построениях русской религиозной философии, пускай мы и не найдем в них разбора доктрины апокатастасиса. В ту ушедшую пору для нравственного и религиозного чувства русского философа, русского интеллигента, русского человека ясно было и так, без богословских дискуссий, что единственный идеал, который оно без колебаний готово принять, — это именно «всеобщее спасение без всяких ограничений и исключений». И, кстати, какое сходство звучания в этой богословской фразе Булгакова с языком русской революции (в корне отвергаемой им)! Спасение — всеобщее, равное и тайное! Без аннексий и контрибуций! Тут невозможно обмануться: перед нами собственною персоной русский максимализм… Итак, неприятие вечных мук — один из исконных мотивов русского Ренессанса, глубоко близкий и сродственный всей духовной атмосфере его, всему его этосу. И защита апокатастасиса, предпринятая о. Сергием в своем заключительном, уже посмертно вышедшем сочинении, — последнее свидетельство его пожизненной верности этому этосу.
* * *
В нашем беглом обзоре софиологии Булгакова мы высказали попутно немало оценок и замечаний, относящихся, собственно, к более широкому контексту всей русской софиологии в целом. Это естественно и неизбежно, ибо в этом контексте и развивалось учение о. Сергия: черпая из общих истоков, преодолевая, как выражались тогда, Владимира Соловьева, но признавая авторитет Флоренского и многое у него заимствуя на первых этапах… Поэтому общая оценка учения Булгакова неотделима от оценки всего «софийного» русла в российской философии, и сейчас, подводя итоги, мы с необходимостью должны задаться вопросом о такой глобальной оценке. Итак, что же такое софиология? Можем ли мы сформулировать некоторый цельный взгляд и единую оценку ее? Ответ на эти вопросы мы бы начали с утверждения о том, что софиологический подход имеет под собой реальные основания, обладает «софийными корнями», если воспользоваться его собственным словарем. Но эти основания лежат не в сфере спекулятивной мысли; в своих истоках софиология менее всего есть головное учение, родившееся из обстоятельств развития теоретической философии. Более того, эти истоки вообще не принадлежат какому-то определенному философскому руслу, даже и руслу платонизма (хотя можно сказать, что они родственны истокам платонизма, и это объясняет тягу софиологии к последнему). Настоящий исток софиологии — знакомое многим натурам особое «софийное чувство», которое словами бедными и приблизительными можно было бы передать как дар непосредственного переживания непреходящей красоты и рассудком недоказуемой ценности, таинственно заключенной в вещах мира, вопреки их видимой скудости, эфемерности, дисгармонии. На почве этого чувства вырастает цельное «софийное мироощущение», «восприятие мира в элементе софийности». Оно близко родственно художественному, поэтическому, мистическому видению мира, и наиболее адекватные его выражения нужно искать в поэзии или в мистической традиции. Так, подлинною и точною поэтической декларацией софийного чувства является тютчевское:
Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса
Не все, что здесь цвело, увянет,
Не все, что было здесь, пройдет!
И далеко не случайно, что тонкая чуткость к искусству, художественная одаренность — едва ли не единственная черта, соединяющая между собою всех русских софиологов, которые почти во всем остальном были натурами поразительно, диаметрально различными. С этой художественной стороной софийного чувства неразрывно переплетается религиозный мотив радования и умиления перед раскрывающейся со-фийному взгляду духовной красотой мира, религиозное побуждение воздать этой красоте преклонение и хвалу. Но это преклонение не бездумный восторг, готовый предать прекраснодушному забвению всю тяжкую косность и безобразие окружающего. Отнюдь нет, подлинная софиология — это «преклонение вопреки всему», позиция, требующая и мужества, и глубины. И снова поэзия дает нам совершенную формулу этого нелегкого и непростого взгляда на мир. Это девиз Рильке: «dennoch preisen!» — «И все же — восславим!»
Однако философское претворение софийного мировосприятия на путях христианской мысли оказывается весьма трудной задачей, к тому же связанной, как мы видели, с изощренной теологической проблематикой. И мы вынуждены констатировать, что наличные опыты русской софиологии не нашли убедительного решения этой задачи. Пытаясь превратить «софийное чувство» с его тонкими художественными и религиозными гранями в жесткий метафизический принцип, софиология насилует и обедняет его или, напротив, привносит в него чуждые, искажающие мотивы. Таким искажением является в софиологии Вл. Соловьева ее спиритуализм, резко противопоставляющий софийное начало земной реальности. Наоборот, в софиологии Флоренского «софийное чувство», по существу, отождествляется с тягой к сакрализации, освящению всего земного миропорядка — одною из древнейших родимых черт языческого сознания, в корне чуждой изначальному, доконстантинову христианству. Наклонность к сакрализации земного не чужда, мы видели, и софиологии Булгакова. (Да это и неизбежно, ибо отчасти она заложена уже в священническом служении как таковом, в самой позиции священника, а о. Сергий, как и друг его, о. Павел Флоренский, оба были в жизни прежде всего священниками.) Но тем не менее в целом именно литургическому мироощущению Булгакова наиболее удается сохранить подлинность и чистоту софийного чувства, живою реальностью которого веет на нас со многих страниц его книг. За эту мистическую чуткость учение Булгакова платит, однако, тем, что оно оказывается наименее искушенным в философском отношении, по существу, оставаясь еще за порогом методической философии, а принадлежа скорей к жанру «свободной теософии», классическим образцом которого служат работы позднего Шеллинга. Впрочем, некоторая философская недоработанность — почти что родовое свойство русской мысли…
* * *
Итоговая оценка творчества Булгакова должна отметить, что его главное значение заключено, скорее всего, не столько в глобальности его размаха или в конкретных решениях тех или иных тем, сколько в некоем особом и уникальном положении, которое оно занимает в духовной панораме своей эпохи. Хотя по своим масштабам, по широте охвата богословской и философской проблематики и даже по единству идей, учение Булгакова имеет, казалось бы, все признаки «больших систем» христианской философии, каковы были в древности и средневековье, скажем, учения Оригена или Эриугены, а в Новое время — Шеллинга и Владимира Соловьева, тем не менее было бы известным преувеличением относить его к такому разряду. Чтобы стать в ряд с этими классическими системами, ему все же многого недостает. Со стороны профессионально-философской учение Булгакова едва ли возможно отнести к наиболее сильным и оригинальным достижениям русской мысли его периода. Оно не имеет законченной философской формы: определенная — и существенна я — часть его идей разработана лишь в сугубо богословском горизонте. Его философский стиль вопиюще эклектичен: помимо главных слагаемых, в лице православной догматики и платонической онтологии, мы обнаружим здесь фрагменты кантианского метода и понятийного аппарата, теософские идеи позднего Шеллинга, влияние «Столпа и Утверждения Истины» Флоренского и еще многое другое. Это учение ощутимо уступает, скажем, философии Карсавина в логике и смелости рассуждений, философии Флоренского — в новизне и самостоятельности, философии Франка — в выдержанности метода и безошибочности философского чутья. Но в то же время — и отчасти даже благодаря своим слабостям — оно сумело выразить дух и проблемы своей эпохи гораздо полнее и ярче., чем любое из перечисленных учений. На разных его этапах мы находим в нем все главные темы, волновавшие в то время русскую общественность и философскую мысль: о путях экономического развития России, о сущности и задачах интеллигенции, о поисках общественного и религиозного идеала, об освобождении русской философии от западного диктата и отыскании для нее собственного пути, укорененного в отечественной духовной традиции. Творчество Булгакова — чистопробнейший образец мысли русского Ренессанса. В нем предстает как в зеркале неповторимый облик этого единственного в своем роде периода — с его духовными поисками и метаморфозами, его смятениями и обращениями, его ученичеством и эклектизмом в делах строгой философии и его культом Достоевского и Владимира Соловьева как предтеч и учителей. Связь со временем дополняется связью со страной: творчество Булгакова лежит на скрещении множества традиционных тем русской мысли, и все главные темы его, все питающие истоки глубоко национальны. В российской философии Булгаков — один из самых русских философов, и, как проникновенно раскрывает он сам в «Автобиографических заметках», все глубинные интуиции его творчества были ему навеяны еще в детстве — жизнью с русской природой, церковными службами в бедном кладбищенском храме родного городка… И еще обязательно, говоря о Булгакове, сказать, что роль его и значение существенно шире, нежели роль и значение одного его творчества. Наряду с творчеством еще была его деятельность, которую он всегда направлял на самые насущные проблемы духовной жизни России: организуя сборники, по которым потомки измеряют сейчас идейный путь русской интеллигенции; участвуя в Церковном Соборе, глубоко изменившем уклад русского православия; и, наконец, стоя во главе Парижского Богословского Института, ставшего крупнейшим центром русского религиозно-философского творчества. Пройденный им путь делает его, по нашему мнению, одною из ключевых фигур в духовной жизни России нашего века. Его творчество и его судьба и сам его человеческий облик, отмеченный редкой нравственной высотой, глубокой искренностью и благородством, остались незабываемым воплощением лучших и светлых черт эпохи русского Ренессанса.
ТЕАТР СИТУАЦИЙ
Situations – так некогда называл Сартр выпускавшиеся им сборники своих реакций на окружающее. Название – универсальной пригодности, одолжим его. В этом тексте мы будем говорить о ситуации, которая, как Галлия у Юлия Цезаря, делится на три части: ситуация философии – ситуация России – ситуация человека. Можно считать, что сей порядок частей отвечает принципу от общего к частному: ибо человек для нас, как для Кьеркегора, – единичный, сингулярный, частный. Заметим еще, что текст происходит из одного старого интервью, отчего сохранил налет облегченно-журналистского стиля. Но не стоит отсюда заключать об облегченном характере его тем. Итак – к первой ситуации.
Ситуация философии
Философия утратила порождающее ядро. Временно?
Разговор о философии сегодня носит иной характер, чем прежде, и содержание у него тоже иное. Выражается это в разных вещах, но за большинством изменений улавливается один общий знаменатель: ныне в сознании водворился иной образ предмета. Прежний образ включал в себя, прежде всего, некое порождающее ядро, смысловое и ценностное, из которого – как предполагалось – раскручивается всё многосложное, многовековое содержание предмета. И это ядро, в котором всё самое философское в философии, ее истоки и корни, концы и начала, назначение и цель, оно – как опять же предполагалось – настолько ценно, безусловно, возвышенно, что им с лихвою и на все времена оправдывается существование философии и почетное ее место в универсуме знания. Но вот – с неких пор с этим ядром начались неприятности, всё крупней. Сперва с ним происходила «переоценка», это был очень популярный род философской деятельности; потом пошли уценка, утруска… а сейчас уже налицо и осознание, констатация утруски. Что раньше, как мы сказали, «предполагалось» – перестало предполагаться. Образ предмета изменился: порождающее ядро исчезло. Философия больше не мыслит себя так построенной: конституируемой и организуемой неким особого статуса ядром, сверхценным и сверхвозвышенным.
Раз так – как же продуцируется, чем держится и движется философствование? – С утруской и усушкой ядра в центр начали выдвигаться всевозможные периферийные области – разделы предмета, что раньше пользовались репутацией прикладных, вторичных, нижестоящих в ценностной иерархии: периферия стала вторгаться в центр. Это – заметная черта ситуации, одна из преобладающих тенденций. Те концепции философствования, что сегодня громче всех заявляют о себе, настойчивей всех внедряются в массовую аудиторию, в публику – именно такого рода: концепции, утверждающие центральность, первенство, первородство той или другой сферы того, что считалось раньше вторичным, считалось периферией. И по известному закону, чем маргинальней, полярней эта периферия по отношению к отвергаемому высокому ядру и дискурсу, тем активней и радикальней она заявляет свои права. Поэтому из самых популярных сегодня – позиция, согласно которой философствование и философское сознание по своей природе управляемы попросту – законами рынка, конъюнктурой спроса и предложения философского продукта. То, что у философской деятельности имеются и такие, рыночные аспекты, философия знала и признавала искони, со времен софистов. По мере роста институционализации, эти аспекты – как вообще вся социология и экономика философии – привлекают больше внимания; к примеру, они весьма занимали философское сообщество в эпоху схоластики, когда сообщество было уже высоко институционализировано. Но взгляды, утверждающие, что в них-то и кроются истинные доминирующие начала философского разума, до сих пор высказывались скорей в порядке иронии или эпатажа, кинического или цинического вызова…
Антракт. Пустая сцена
Что можно считать показателем активно идущего философского развития, показателем подъема или упадка философии? Вопрос звучит советски-казенно, но для оценки ситуации задать его надо. Ответ тоже не будет оригинален. Тут нового не придумаешь: если разум осиливает свои практики, наделяющие реальность качеством присутствия, и, тем самым, дело философии исполняется – оно исполняется в лицах и в сообществе. Оба полюса необходимы: масштабные фигуры, рождаемые ими масштабные идеи, концепции – и живая среда восприятия, отклика, трансляции. Лишь при наличии обоих есть процесс, есть самовозрастающий логос. Мы же сегодня в наличии имеем нечто иное. Масштабных фигур практически нет в поле зрения. Сообщество как среда во многом важном ущербно (хотя все же на Западе менее, чем у нас). И будет справедливо сказать, что перед нами не столько «активно идущее философское развитие», сколько – пустая сцена.
Раз так, осмыслить ситуацию значит понять природу пустоты. Для этого необходимо на шаг отступить – взглянуть, как она создалась, как сцена пустела. Здесь нам придется, увы, войти в самую затрепанную сегодня тему. Как общеизвестно, сцена опустела после – и в итоге – периода господства пост-модернистского и пост-структуралистского мышления. Это был период с высоким творческим зарядом, редкостно высоким, не уступающий хорошим эпохам философского продуцирования в старые времена, но отличие было в том, что творческий импульс, которым двигался этот период, был определенно – и совершенно осознанно – негативистского рода.
Работа велась в элементе деконструкции и демонтирования прежнего философского способа во всех его измерениях и аспектах – онтологических, эпистемологических, герменевтических…. На сей предмет были выработаны эффективные орудия, развита убедительная аргументация – и исполнение оказалось не на уровне замысла. Обычно это выражение подразумевает, что уровень исполнения – ниже; но тут редкий случай, ситуация обратная: исполнение отменное, меж тем как замысла – такого глобального, по крайней мере – пожалуй, вообще не было.
Все основания классического философского способа были по кирпичику разобраны на глазах публики, итоги, в духе гипер-иронии пост-модерна, представлены в виде серии повальных смертей – смерти Бога, субъекта, автора, истории и проч. и проч. – и таким образом было успешно проведено закрытие философии. Сцена, как мы и сказали, опустела.
Конечно, заметят нам, абсолютной пустоты не бывает. Знаю, сам физик; но и наличная пустота – вполне серьезного градуса. Во-первых, на сегодня нет, нельзя указать ничего такого, что бы могло притязать на титул «магистрального русла мирового философского процесса». Во-вторых, нам не удастся увидеть и меньшего, не столь капитального: какого-либо определенного вектора развития, вектора продвижения, который вырисовывался бы из всего происходящего в философской сфере. И наконец, мы, пожалуй, не обнаружим даже следующего, уже минимального, уровня организации и конституции творческого философствования: отдельных самоопределившихся и успешно действующих направлений философской мысли – направлений, которые было бы можно считать не вчерашними, а завтрашними.
Наличие же отсутствия всего названного означает, что если выразиться красиво – в драме философского разума имеет место антракт. В этом антракте мы и находимся.
Понятно, что вся эта характеристика относилась к глобальной, мировой философской ситуации. Происходящее на российской философской сцене обладает большой спецификой, к которой мы еще обратимся. Но в крупных чертах, grosso modo, как скажет итальянец, это происходящее не расходится с глобальной ситуацией.
Перерождение философии. Предельная открытость ситуации перерождения
Начнем углубляться в природу пустоты. Прежде всего, надо заметить следующее: тот процесс, в итоге которого сцена философии опустела, не был действием внешних сил, но был совершенно внутренним и органическим процессом. Скажем, в России при большевиках философская сцена также опустела, но было это осуществлено путем чисто внешних мер, включая знаменитый философский пароход. Сейчас же пустая сцена образовалась по абсолютно внутренним причинам. Состоявшийся полный демонтаж проделывался не какими-то мейерхольдовскими арапчатами, слугами просцениума, которые прибегают откуда-то и уносят все, что на сцене было. Нет, все это проделали сами же действующие лица, причем, в основном, главные. Силы, производившие демонтаж и опустошение, были плоть от плоти всего предшествующего творческого процесса, и демонтаж был существенно – ауто-демонтаж, который неотрывно, интимно входил в творческий процесс, продолжая его и создавая некую единую большую драматургию.
Драматургия, выстроенная самими протагонистами и включающая их смерть… нечто уже вычурное, декадентское. Правильней тут сказать иначе: выстроена была некоторая аутентично философская практика, упражнение с вечным предметом философии, смертью; танатопрактика. Такие практики вводят смерть в бытийный контекст, где исход открыт, где смерть может вести и к воскресению, быть жизнью-чрез-смерть. В дискурсе же драмы это значит, что пустая сцена – еще не все драматическое пространство. Это лишь то, что видно из зала, а между тем что-то существенное может совершаться за сценой. И это существенное, в силу участия в сюжете смерти, должно носить характер перерождения философии: глубокого внутреннего перерождения, к которому философия вынудила себя своей смертью. За сценою – змея мудрости меняет кожу.
Здесь, я надеюсь, мы набрели на адекватный, достаточно крупномасштабный концепт – такой, что позволяет продолжить анализ дальше простой констатации «пустой сцены». Перерождение – предельная практика, это изменение, которое способно быть глубже и крупней очередной смены этапов или даже эпох философского процесса, смены методов и моделей, онтологических парадигм, может быть, даже эпистем всей гуманитарной сферы. Мы можем допускать для происходящего перемены самого крупного ранга, носящие характер выхода не только в эмпирическую, но и в бытийную открытость, распахнутость истории. Распахнутость может быть либо буддийская, распахнутость в тотальное ничто (несомненно, постмодернизм тяготел именно к ней, но «нет того закону», скажем мы с дедушкой Крыловым) – либо же христианская распахнутость: к энергийно наполненному бытию, у коего есть Лицо, и мы, путем общения приобщаясь сему Лицу, в поте лица своего выстраиваем, конституируем свою личность.
Эта бытийная альтернатива – единственный жесткий элемент, инвариант реальности. Все же прочее, не исключая и философии, – может быть или не быть, Гамлет прав.
В антракте – номера иллюзионистов и клоунов
Разумеется, наше описание ситуации, с пустой сценой и танатопрактиками разума, отвечало смысловым, сущностным измерениям – меж тем как в измерениях эмпирических кипит жизнь, и философская сцена – какое там пуста! на сцене не протолкнуться. Однако если взглянуть пристальней на эту жизнь, у нас появится опасение, что антракту суждено продлиться навеки, и помимо этого вечного антракта никогда уже ничего не возникнет. Ибо кипучая философская жизнь ныне, увы, глубоко не творческого, скорее – анти-творческого характера.
Основное ее содержание двояко. Во-первых, отлично развита и процветает институционализация философии. Философия как социальный институт успешно заботится о себе, расширенно воспроизводит себя, как выражались марксисты, и делать это умеет. Я, впрочем, не специалист в этих материях; тут у меня не столько анализ, сколько примеры из жизни. Примеры российские и мировые в моем скромном опыте выглядят по-разному, но суть имеют одну. Вот – Всемирный философский конгресс в Стамбуле. Огромен и представителен. Готовится тщательно, установка – объять всю панораму, весь философский небосвод, ничего существенного не упустить. Но при всем том – ничего существенного видно не было. Во всем гомерическом говорении не удавалось уловить что-либо принадлежащее не к антракту, а к самому действию философской драмы, позволяющее надеяться на конец антракта. Зато шла бурно институционализация, притом на двух уровнях – у господ и у простых. На верхнем этаже лидеры любомудрия решали задачи руководства сообществом; на нижнем – тысячи любомудров решали задачу своей индивидуальной институционализации: отметиться, вписаться в сообщество. К тому, чтоб вписаться, никаких критериев качества, уровня, существенности философствования не предъявлялось (в эпоху политкорректности их не положено) – и потому событие развернулось в великий съезд и праздник мелких, но шустрых, всемирный парад рьяных инвалидов мысли. Пример отечественный. Я приезжаю читать курс в губернском городе С.; и после первой лекции, за чаем, мне сообщают: в С. за последнее время стало 45 докторов философских наук (дело было лет 5 назад, сейчас их, возможно, уж 90). Вспоминаю, что в требованиях к докторской диссертации стоит: она должна «открывать новое научное направление» – т.е. то, чего в ситуации антракта, как мы выше сказали, вообще практически не имеется. И заключаю, что понять феномен города С., в одночасье открывшего больше «новых направлений», чем вся Древняя Греция, можно лишь исключительно в стамбульском смысле – как феномен не философии, а только институционализации философии, которая, как тень у Гофмана, оторвалась от своего предмета.
Тут могут сказать: а что в том дурного? Разве сообщество не должно уметь поставить себя, утвердиться в социуме достойным образом? Должно; и эти задачи и не надо смешивать с задачами творческого порядка, они – другие, отдельные. – С этим можно не спорить, однако гипертрофия институционализации весьма сказывается и на внутренней жизни философии. Мы уж заметили, что сегодняшняя институционализация сопряжена – в общем духе эпохи – с крайним снижением, если не снятием критериев творческого уровня и качества. И это – настоящая опасность! Это ведет не просто к гала-парадам, а к засилью мелких, но шустрых, к диктатуре когорт «докторов философских наук». Появление других, не таких, тех, кто может напомнить, чтó есть философия на самом деле, – угрожает их благоденствию, и они просто вынуждены этих «других» отталкивать, устранять, давить – делать так, чтобы антракт, открывший им доступ на авансцену, никогда бы не кончился.
Кроме институциональной, весьма активна и еще одна сфера – сфера пиара и сенсаций, рекламы и саморекламы, философского, так сказать, гламура. Она с первой связана, но все же и отличается от нее, здесь играют по другим правилам. Занимаются здесь тем же, чем в любых видах гламура: создают моду, демонстрируют ее звезд и принцесс, а в данном случае – демонстрируют с помпой самое новое! самое смелое! самое знаменитое! в мировой мыслильне. Современный человек приучен уже, что такая сфера непременна везде, и дело идет успешно. Фигуры и события, пригодные для занятия первых страниц, продуцируются и продаются бесперебойно; и если гламур делается качественно, их совершенно не отличишь от настоящих. Россия заметно здесь отстает, ибо у нас, как известно, вообще отставание в области гламура.
Так нынче философия обозначает себя.
И если бы было только это, пришлось бы действительно заключить, что антракт, вернее всего, – навечно.
Пытаясь заглянуть за сцену
Здешнее бытие – род смешанный, из бытия и небытия, в нем не бывает чистых форм. Пустота, обрыв дела философии, тоже не могут быть чисты, абсолютны. Описанные «антрактные» формы – да, доминируют; но рядом с ними есть и зерна существенного, ростки продуктивных практик самопознающего разума. Порою они даже не рядом, а внутри этих форм. Скажем, в мирке философского гламура действуют, по определению, симулякры, настоящей сути не требуется; а тем не менее, в явлениях из этого мирка – к примеру, в теориях Б.Гройса о рыночной природе искусства, философии и всего на свете – можно вдруг встретить серьезную (хоть в некой мере) основу, усилие мысли, выстраивающей себя… Это присутствие мысли, не требуемое условиями игры, – обнадеживает, дает впечатление неистребимости аутентичного философствования. А кроме того – эти разрозненные ростки и зерна позволяют строить гипотезы, рабочие предположения о характере созревающего за сценой перерождения.
Те вехи его, которые можно уловить, не сулят философии большого торжества и могущества. Трудно сказать, чего больше в них – приобретения или утраты? Во-первых, я полагаю, философии предстоит окончательная утрата чистоты дискурса. В качестве автономной изолированной дисциплины (и даже комплекса дисциплин) она всегда, конечно, пребудет на учебном уровне, в школе; но как рабочий элемент в системе культурных, гуманитарных практик, она еще более закрепит тот смешанный характер, который активно начала принимать в ходе процесса, названного нами «вторжением периферии в центр». Процесс будет углубляться, и философский дискурс, вбирая смежные дискурсы – возможно, даже такие, что никогда не считались смежными с философией, – обретет синтетическую и полифоническую природу. Конечно, чистый дискурс, мысль о (философской) мысли, никуда не может исчезнуть, однако в постхайдеггерианской современности такие практики мысли носят характер скорее школьный, чем творческий, и не притязают на роль ядра современного философского способа. В виде порождающего ядра, квинтэссенциально философский элемент не вернется уже на место. Но его содержимое в своей классической и непреходящей ценности будет востребовано в ином виде, претворенном и рассеянном по всей фактуре дискурса – тем самым, также пройдя перерождение, по Гетеву принципу Stirb und werde!
Прообразы такой трансформации дискурса намечаются во многих линиях, многих типичных трендах современного философствования. Начиная с Барта, усиливаясь у Деррида, подпитываясь Бахтиным, достигая, пожалуй, доминантного положения в американской мысли, – проходит обширное русло, в котором делом философии становится по преимуществу исследование феноменов текста и письма, структур поэтики. Здесь «квинт-эссенциально философский элемент» слит полностью с эстетическим, «философия входит в свой эстетический вираж», как выразилась Н.Автономова о философии Деррида. Другое влиятельное русло синтетического характера породил психоанализ. И, может быть, наиболее синтетичен-полифоничен дискурс Фуко, по-разному на разных этапах его пути. (В поздний период, когда в центре его внимания – исследования «практик себя», синтезирующий принцип ему доставляет антропологическая ориентация мысли, видение всего проблемного поля в антропологической перспективе. Ту же стратегию развивает и синергийная антропология, которую мы будем обсуждать ниже.) Можно еще заметить, что к синтетической природе дискурса всегда тяготела и русская философия, а также и в целом Восточнохристианский дискурс, в котором, в силу его особого, не такого как на Западе, отношения к религиозному опыту, размежевание философской и богословской мысли зачастую оказывалось неразрешимой проблемой.
Это одна тенденция, и я думаю, что она останется. Можно выделить и еще одну. Она тоже как будто представляется утратой. Философский дискурс, который появится из горнила перерождения, не будет верховным, не будет занимать в сообществе дисциплинарных дискурсов, в эпистеме методологически приоритетного, законодательного положения. Прежде философия таким положением обладала – например, в эпистеме позитивистской науки, которая вся в целом базировалась на определенной философской парадигме (именно, субъект-объектной). С известным основанием, она могла себя видеть – и видела – в верховной роли по отношению к областям предметного знания: лишь она могла указать предметным специалистам смысл их методов и их деятельности. Но эта ситуация ушла, и тоже, я думаю, безвозвратно. Хотя сообщество гуманитарных дискурсов сейчас не организовано, увы, в какую-либо внятную эпистему, оно определенно становится (или уже стало) из иерархического – демократическим, равноправным. Классической эпистемы, отвечающей иерархическому принципу, больше не будет. И с верховностью, вознесенностью философского способа и дискурса по отношению к прочим – придется расстаться.
Заметим, что обе названные черты, и утрата верховности, и утрата чистоты, весьма перекликаются с идеей Джанни Ваттимо об «ослаблении» философской истины, утрате ею абсолютного основания и аподиктической очевидности. Перекликаются они и с критикой Рорти, направленной против признания философии эпистемологической основой гуманитарного знания и культуры и предсказывающей, что «вероятно, философия станет чисто наставительной». Нетрудно найти созвучные высказывания и у других авторов: здесь явственно налицо некий общий вектор, тренд в настроениях умов…
Антропологическая революция? Вы уверены?
Наконец, в заключение попробуем еще немного продвинуться, используя сценарный подход: набросаем один сценарий развития ситуации, который мне кажется из наиболее перспективных. К нему примыкает и моя собственная работа, так что он будет мостиком к нашей последней части.
Только что мы бегло отметили одну черту не философской уже, а более общей, научно-культурной ситуации: отсутствие определенной эпистемы гуманитарного знания. Отсутствует, тем самым, последний и весьма существенный уровень организации, смыслового единства этого знания. Ergo, вслед за отжившей структуралистской эпистемой, после антракта, эпистемного вакуума, будет формироваться – и наверняка уже невидимо для нас формируется – эпистема «следующего поколения». Наше рассуждение говорит, что производящий принцип ее не будет уже прямо из арсенала философии. Сегодня для плодотворной постановки проблемы основоустройства сообщества дискурсов нужен расширенный контекст, нужно некое раскрепощение от диктата философии, диктата Ума, занятого Умом и из этого к-себе-самому-отношения изводящего все эпистемы и все всем законы. Тем самым, должен возникнуть некий независимый, внеположный эпистемопорождающий центр, фокус. Но какой, где? – Вопрос этот только на первый взгляд таинствен. На самом же деле, взглянув под его углом на гуманитарную науку последних лет, мы найдем множество свидетельств, которые все указывают в одном направлении: в направлении к человеку.
В гуманитарном дискурсе последних 20-30 лет этот мотив мог бы уже стать навязчив, банален, и если не стал пока, то лишь потому что он возникает в разных и отдаленных контекстах, разных науках – философии, теологии, психологии, политике… Всюду звучат такие формулы как «антропологизация», «антропологическая революция», «антропологический поворот». Всюду имеют в виду необходимость, назрелость нового обращения к человеку, поставления человека в центр проблемного поля, признания решающей роли антропологических факторов, антропологических процессов во всей гуманитарной проблематике… И, стало быть, все согласны, что именно человек может стать искомым «эпистемопорождающим фокусом»; и не только может, но и должен.
Но тогда – за чем дело стало? Отчего же соответствующей «антропологической» или «антропологизированной» эпистемы до сих пор не возникло? Взглянув внимательно на весь современный «дискурс антропологизации», мы убедимся, что при всей его пестроте, в нем есть общее свойство: он практически весь декларативен, остается на уровне общих слов и размытых представлений. «Антропологический поворот» покуда – не в философии, а лишь в неком широком поле – в культурном сознании, в общей гуманитарной мысли, в восприятии реальности, питающемся интуицией, что корень всех острых, кризисных проблем дня – в человеке. В предметность дискурсов он явно еще не воплощен. Для одних антропологизация – то, что должно произойти, для других – то, что происходит сейчас, для третьих – то, что произошло уже. Последняя позиция представлена, например, у Игоря Павловича Смирнова: он находит, что «антропология – наука наук о человеке» (то бишь, мета-дискурс, обладающий эпистемостроительной потенцией), и почти все заметные сегодняшние философы, такие как Слотердайк, Жижек, Агамбен, это «мыслители, которые антропологизируют умозрение». С этим легко согласиться, но столь же легко увидеть, что здесь – лишь общее, мало к чему обязывающее суждение.
Так вырисовывается проблема. Автоматически, по одному заявлению, человек еще не становится эпистемопорождающим фокусом. Реальное продвижение к новой эпистеме требует не деклараций, а конституции: «антропологизация» должна стать не лозунгом, а полноценной эпистемологической позицией, установкой, пригодной для актуального концептуального строительства, для (пере)структурирования гуманитарного универсума. И конституция этой установки должна быть проделана и предъявлена в качестве вступительного взноса. Это – хорошо известная, можно даже сказать, архетипальная ситуация в истории мысли. Пред нами – одна из репрезентаций великой проблемы Начала. В данной репрезентации, решение проблемы состоит в том, чтобы обрести исходный минимальный плацдарм для концептуального строительства, «малейший спасенный клочок мира», как сказал Гуссерль о Декартовом Cogito, на котором дальше построилась вся классическая метафизика. Ближе к нашему времени, подобным клочком послужило хайдеггеровское Dasein.
Итак – необходим «спасенный клочок». Мы понимаем, что покуда этого нет, антропологизация пребудет риторикой; и заодно понимаем, что современная риторическая антропологизация входит, по сути, в известную, исконную линию философствования. Впервые лозунг антропологизации, обращения к человеку выставил Протагор, и как мы знаем, эпистемы из этого не появилось. Затем такой лозунг выдвигался еще много раз, и традиционно он играл роль не конструктивной, а скорее просто протестной установки, протеста против отвлеченного умозрения. Строились отвлеченные системы, и время от времени раздавался голос: да что вы разводите абстрактные построения, вот живой человек, от него надо отправляться, где он у вас? Такие речи вызывали сочувствие, однако эпистемы отсюда не происходило и произойти не могло. «Спасенного клочка» здесь не было.
Путь к нему появляется тогда, когда возникают начатки некоторого автономного антропологического дискурса, антропологического плацдарма, независимого от предметных дискурсов
[1] : к примеру, если бы мы «вдруг сами поняли», или нам совершенно достоверно сказали,
чтó есть человек. Христианское сознание может здесь поставить вопрос: Разве не является таким плацдармом Христос? Ответ, в известных аспектах, положителен. По самому определению, первый «антропологический плацдарм» – Адам. Христос же – второй Адам. Этот новый плацдарм принес понятие личности (напомним известную истину: личность есть открытие христианства), принес целую новую антропологию. Однако для философии это не дает еще готовых решений. Философия не должна быть конфессиональной, но в то же время и не должна игнорировать духовный опыт. Здесь тонкие отношения, в которые мы сейчас не можем входить. Немного ясней они станут в разделе о человеке, где мы увидим, как синергийная антропология пробует все же заполучить «спасенный клочок».
Но прежде у нас – интермедия о России.
Ситуация России
Византийский пролог
Итак, предполагаемое перерождение включает в себя утрату философией «чистоты», органическую и неразделимую переплетенность с другими дискурсами. Можно, пожалуй, ожидать, что в этом новом эоне философствования русская мысль естественней впишется в мировой контекст, коль скоро она, как выше уже замечено, традиционно отклонялась от чистоты, традиционно вбирала смежные дискурсы. Всегда отмечали, что она переплетается с богословием, но чтобы понять исток и природу этого переплетения, надо учесть еще третий элемент, который и был решающим в конституции того типа мысли, что был транслирован на Русь вместе с христианством из Византии. Этот элемент – опыт, некий специфический род опыта. Его можно определить как духовный опыт, понятый особым образом: как аутентично христианский опыт Богообщения, соединения со Христом, как опыт личного общения, ставшего духовной, онтологической практикой. Примат подобного опыта и есть определяющая черта Восточнохристианского видения и дискурса. Но это же – и главная черта отличия от западного миросозерцания, которое строилось на той же христианской основе, но направлялось иными интуициями. Западный разум ставил на первое место задачу создания цельного, всеохватного вероучения и таковой же церковной организации. Для византийского же сознания наиважнейшей виделась жизненная, экзистенциальная цель: обрести этот единственно нужный опыт. Но опыт – уникальный, мистический, и его обретение, хранение, культивирование оказалось громадной работой: надо было найти путь, ведущий к нему, средства продвижения по пути, развить способы его проверки и т.д. и т.п. И на этих задачах вектор главных усилий восточнохристианского разума оставался сконцентрированным в течение тысячелетия, с 4 века и по 14-й.
Плоды работы сложились в цельную сферу деятельности: деятельность создания-культивирования-трансляции (во времени и пространстве) духовной практики. Эта многомерная сфера включала и насыщенные интеллектуальные измерения, где были концепты, идеи, методы, техники сознания… – однако не автономные и самоцельные, а строго подчиняемые «единому на потребу»; богатое философское содержание было здесь интегрировано в весьма специфичный синтетический дискурс, крайне далекий от философского. Вследствие этого, отношения этой деятельности Восточнохристианского сознания с философствованием всегда плохо понимались. А отсюда, весьма плохо понимались и отношения с философским дискурсом византийской мысли как таковой. Эти отношения в самом деле не просты, но еще хуже то, что очень долго их сложности не видели, не считали, что их понимание есть проблема. Исток же сложности – разноприродность дискурсов. Давно признали, скажем, иноприродность буддийского дискурса западному, признали, что буддийский дискурс нельзя однозначно перевести в концепты западной мысли. Иноприродность же византийского дискурса не признавали. Меж тем, глубокие основания для нее лежали и в упомянутом уже примате опыта, и в ином, отличном от западного, понимании личности.
На Западе укоренилось понимание личности как индивида, субъекта, юридического лица, восходящее к Древнему Риму и относимое к человеку. На Востоке же укоренилось понимание личности как Божественной Ипостаси, созданное греческими Отцами Церкви, патристикой. В этом понимании, человек личностью не является, но личность должен приобретать; и достигается это в том же процессе духовной практики, в котором человек, меняя себя, восходит к общению и соединению с Богом. Византийская мысль, Восточнохристианский дискурс складывались, включая в себя богословие Отцов Церкви, патристику, и речь о проблемах духовной практики, аскетику; они были синтезом патристики и аскетики. Оба эти элемента твердо стояли на принципе примата духовного опыта, и оба далеко не были философией. Они несли в себе богатое, нетривиальное философское содержание, антропологическое содержание, но, как и в дальневосточных практиках, это содержание было закодировано в дискурс, иноприродный строю западной мысли.
Как же западная мысль воспринимала такой предмет? Долгие века в ней господствовала европоцентристская модель, считающая формы выражения западного разума универсальными и единственными интеллектуальными и культурными формами. В рамках такой модели, отсутствие умозрения в западных формах расценивалось как его отсутствие вообще. Жалкая Византия! – восклицал по-французски и следом за французами Чаадаев. Поэтому, например, когда в 19 в. наука решила, что она всё основное уже познала, и наступило время полных картин, полных историй разных сфер знания, в полной картине мировой философии была большая неясность с той клеткой, где надлежало быть философии византийской. Считать, что ее просто не было, казалось слишком радикальным, негуманным решением. Но что же к ней относить? Культурный материал был обилен, и скоро пришли к «естественному» решению выискивать, отбирать в нем то, что подходило под западные модели, западные представления о философствовании. И тем самым – не отвечало аутентичным формам Восточнохристианского дискурса. С такой сомнительной, мягко говоря, установкой византология, история византийской и восточноевропейской мысли существовали долго. Производили выборку фигур и явлений по принципу их соответствия неким чуждым образцам – и ее итоги называли важно историей византийской мысли, византийской культуры. Как при большевиках историю русской мысли сделали историей революционеров-демократов: та же методология.
Русский синтез
Издержки европоцентризма весьма сказались и на истории русского самосознания. Но ситуация русского культурного и духовного процесса была все же существенно иной, поскольку иной здесь сам тип культуры. Как все мы знаем, у нас реализовался синтетический тип: синтез византийского, или восточнохристианского дискурса и западноевропейского. Синтез, как полагается, в чем-то удался, а в чем-то не удался: подведем небольшой баланс. Начать необходимо с главного: безусловно, в главном синтез удался, ибо прямой плод его – классическая русская культура, неотъемлемый, хотя и недавний сочлен созвездия великих культур. Синтетическая природа ее вполне очевидна. Для успеха ее создания требовались определенные свойства, если угодно, таланты культурного субъекта, и я бы особо выделил два общепризнанных: дар общения и дар пластичности.
Дар общения – это способность к особой глубине, интенсивности общения, или даже к особой форме, стихии общения, встречаемой лишь в России. Эта пресловутая русская черта фиксируется, как правило, не самими русскими, а иностранцами, кому довелось окунуться в эту захватывающую стихию; она фигурирует постоянно в иностранных записках и впечатлениях. Черта эта не просто бытовая или психологическая, она прямо связана с православным фундаментом России – ибо этот фундамент отличает, как мы говорили, примат Личности и общения. Здесь общение – не обмен информацией, а обмен душевными содержаниями, глубинными, бесконечномерными, сверхрациональными; и это – экзистенциальное событие, через которое исполняется и сбывается человек.
Подобное отношение к общению как особой высокой ценности определенно не принадлежит к западным качествам, оттого-то оно и поражало западного человека при встрече. Как в любом достоинстве, в нем есть и непривлекательные, и опасные стороны. Экзистенциальная напряженность срывается в расхлябанность и расхристанность, неуправляемость душевной стихии; общительность переходит в навязчивость, нарушение границ суверенной психологической территории Другого. «Открытость ценят у нас выше чем воспитанность», – писал скептически Густав Шпет. И все же, вне всякого сомнения, ценные стороны в этом свойстве несравненно существенней, а польза его в деле синтеза очевидна.
Пластичность и артистичность русской натуры, русского культурного субъекта – не менее несомненная черта. Без этой черты культурный синтез, каким он состоялся в России, был бы совершенно немыслим, без нее Россия заведомо не могла бы ответить на вызов Петра явлением Пушкина. Опять-таки, и она в изобилии засвидетельствована иностранцами; ее, к примеру, усиленно подчеркивает маркиз де Кюстин, сам до мозга костей художественный человек, притом настроенный изначально антирусски. В русской классике, в культуре Серебряного Века неисчерпаемый материал, где перед нами – пластичность и артистичность вбирающего, воспринимающего русского культурного субъекта в работе. Очевидна связь этой черты с тем качеством, которое Достоевский назвал «всемирной отзывчивостью» русского человека. Но на другом полюсе, очевидны и ее риски: отзывчивое русское сознание в немалых слоях советского социума пластично и артистично впитывало людоедскую тоталитарную идейность, а в 90-е годы с легкостью включило в круг если не почитаемых, то вполне «нормальных» занятий человека бандитизм, проституцию, казнокрадство «черное», «серое» и всех мастей. Дар всегда требует хранения от злоупотреблений.
А в чем синтез не удался? Здесь тоже главное – на поверхности. Прежде всего, он не достиг полноты, не вобрал или почти не вобрал в себя целые слои российского социума – и тем породил в социуме опасные напряжения, разрывы, поляризации. Больше того, этот механизм или паттерн поляризации стал постепенно универсальной (и несомненно, нездоровой, опасной) моделью положения вещей в России. Чертой, не менее пресловутой чем дар общения, давно уже стала крайняя слабость середины, центра, умеренных конструктивных сил во всех сферах и измерениях национальной жизни. Тема эта банальна, и все-таки приведу пример, поскольку – из любопытного, малоизвестного источника: в царствование Александра II два высоких сановника выпустили за границей анонимно свою переписку с очень проницательным анализом русского общества. О поляризации они пишут много, в частности, и такое: «У нас между классической ученостью и полной безграмотностью почти нет середины». Бинарные оппозиции господствовали и в сознании людей, в идейной жизни, начиная, по крайней мере, со спора западников и славянофилов; и все это развилось, в итоге, в резко двуполярную модель, модель враждующих лагерей, если хотите, собачьих свор, что стоят и злобно облаивают друг друга: Власть и Общество, Революция и Реакция… – а те, кто делает великую русскую культуру, они в стороне обычно, им лаять некогда и не хочется.
Вот, кратко до неприличия, базовая структура русского синтеза. Но подчеркнем: никак нельзя эту структуру переносить с классического периода на наши дни. Слишком радикально все изменилось.
Русская революция, или особенности национальной эпилепсии
Итак, русский синтез в определенных крупных областях удавался, в других, также крупных, – не удавался. Это контрастное сочетание порождало разбалансированную динамику, развитие, характер которого скользил от конфликтного – к деструктивному, а затем и катастрофическому. Оно же окрашивало и обостряло все процессы, все ощущения, отношения, чувство жизни и создавало непередаваемую атмосферу, которую может выразить один Блок: над бездонным обрывом в вечность задыхаясь летит рысак…
Как мне давно кажется, весь этот ход событий имеет психологическую (или точнее, макро-, социо-психологическую) природу, а именно, природу очень определенного феномена: зарождения, а затем и протекания эпилептического припадка на общенациональном уровне, припадка культурного субъекта. Тут я не могу, конечно, развертывать аргументы, выскажу лишь идею.
Достоевский не раз описывает особое состояние, что бывает перед припадком, тогда оно называлось момент ауры. Человек переживает миг блаженства, и это не только эмоциональное блаженство, оно сопряжено с интеллектуальными прозрениями, когда, вырываясь из времени, в единый миг человек постигает вдруг все духовные глубины, которых раньше не мог постичь, и созерцает их единым взглядом, в едином образе, обретая полноту мудрости и счастья. В миг следующий наступает припадок.
Является довольно естественная метафора: культура Серебряного Века – своего рода момент ауры, пришедшие следом Революция и Гражданская война – эпилептический припадок. Но мне-то думается, что здесь отнюдь не метафора, а подлинное парадигмальное, научное соответствие. Весьма близкую идею развивал некогда Питирим Сорокин, опыт и компетентность которого в данном вопросе не оставляют желать лучшего. У него это называлось «поведенческой» теорией революции… В науке регулярно высказывалась мысль, что психические расстройства имеют свои аналоги на макро-уровне, уровне сообществ, и сам Фрейд предсказывал, что некогда психология будет изучать «неврозы наций». Материалы Русской революции сильнейшим образом подкрепляют эту мысль! В свое время я прилежно просмотрел под этим углом все тома Гессеновского «Архива Русской революции», сделав прочный вывод, что в них, действительно, – архив русской эпилепсии. Общее место «дискурса революции»: реальным действующим агентом здесь становятся «массы» – людская масса, толпа. Но толпа какая? С огромной легкостью приходящая в состояние беснования, одержимости (восторгом, ужасом, ненавистью, жаждой разрушения и убийства…). А самый яркий индивидуальный герой событий, революционный матрос, регулярно бьется в падучей… Кстати, наличие эпилептических черт, паттернов в социальных процессах отмечалось и в исследованиях Великой Французской революции.
Думаю, что проблема «Эпилепсия и революция» стоит внимания психологов (и не только их). В синергийной антропологии я намечаю некоторый подход к ней: здесь эпоха модернизма, блестящий образец которой – Серебряный Век, ассоциируется с антропологической формацией «Человека безумного», управляемого из бессознательного.
Истощение – Россия на рубеже 20-21 веков
После припадка организм обессилен, требуется реабилитация. Вместо этого, Россию ждали тоталитаризм, сталинский террор, Вторая мировая война. Трудно вообразить весь масштаб этой непрерывной серии катастроф, духовных, культурных, социальных, демографических, всю глубину ущерба от них. К чему могло это привести? Безграничен ли запас прочности, запас жизненного и творческого ресурса историко-культурного субъекта? К концу тысячелетия этот с виду абстрактный вопрос стал для России самым актуальным.
Неотъемлемой частью русского дискурса, «русской идеи» была всегда своеобразная мистика народной стихии, представление о необозримой, неисчерпаемой народной мощи и толще. В этот дискурс всегда входила метафора Антея: из всех непреодолимых трудностей, невыносимых испытаний, катастроф есть спасительный выход, и он – в обращении, припадании к этой толще, она – верный, вечный источник восполнения сил. Увы, именно эту часть дискурса наш опыт сегодня вынуждает – не скажу сразу, отвергнуть! – но с печальным вниманием пересмотреть. Похоже, что опыт нам говорит об иссякании этой толщи, ее воспроизводящей способности. И похоже, это и есть главный вывод из всей серии катастроф, главный итог, с которым Россия пришла к Третьему тысячелетию. Все прочее – следствия из этого.
Подчеркнем: это не утверждение об исчерпанности русской культуры, отнюдь нет. Речь не о культуре, а о том, что за ней, о ее предпосылках. И не об утверждении, а пока – о предположении, подозрении, на которое нас наталкивает реальность. Подозрении в том, что мифическая «народная толща», вечный и бесконечный источник жизненного и творческого ресурса исторического субъекта, – возможно, не так уж и бесконечен, являет признаки оскудения.
На тему этой ситуации есть две емкие метафоры. Одна – Пастернака: в одном из своих интервью на закате дней он сказал, что Россия начала 20 в. была «огромным родильным домом», где и родились все основные плоды, ценности мировой культуры 20 века.
Другая же – Джеймса Джойса. В «Улиссе» его герой размышляет о Палестине, и ему представляется, что эта древнейшая земля, колыбель народов, сегодня уже – самое безжизненное, иссякшее место в мире – тут его взгляду встречается старуха-карга, и в уме мелькает грубое матерное сравнение: «не может уже родить… Мертва – старушиная – седая запавшая пизда мира».
Вот – два полюса, между которыми пролегает путь родящей стихии. Эта стихия может быть, выразимся так, в метафоре Пастернака, а может – и в метафоре Джойса. Надо понять, где нынче мы на этом пути.
В одной беседе о современной России мне вспомнилась еще одна метафора: классик сказал, что Возрождение – время, которое нуждалось в титанах и породило их. Я же подумал, что Россия 90-х породила пигмеев – хотя, по масштабам бед своих, нуждалась тоже в титанах. История 90-х, процессы, фигуры этой поры таковы, что можно, действительно, говорить о пигмеизации. Облик эпохи укладывается, увы, в эту характеристику. Налицо были – огромная страна, пережитая цепь тяжких катастроф и исторический вызов выхода в новую эпоху, создания новых начал российского бытия. Каков же был ответ на вызов? Здесь разговор о России подобен разговору о философии: один из ключевых факторов, критериев для оценки ситуации – наличие масштабных фигур, таких, кто вровень с историческими процессами и задачами. (Кстати, это еще не великие фигуры, великие – не вровень, а выше. Но о таких уж не говорим!) И как в философии – имеем наличие отсутствия, имеем бесфигурный, безликий, пигмейский пейзаж. Пигмейский и в высшей мере гротескный, пейзаж, где по всему необозримому простору страны шустрят, шныряют микроскопические чиновнички, снабженные исполинскими зобами, пазухами, карманами, куда они бешено запихивают здания, города, леса, рудники… Нам, однако, не до этюдов в стиле Босха, мы должны делать выводы. Фигур нет уже долгий срок, весь период исторического вызова, лет 20. При этом, внешних неодолимых препятствий к их появлению, какие были при тоталитаризме, тоже нет («трудности» есть, конечно, но они всюду есть, на них личность и растет). И значит – они не нарождаются! почва – та самая пресловутая толща, производящее лоно – не производит их. За 20 лет из этой толщи произошел ноль. Вот этот факт, показывающий, где ж мы есть в пространстве между двумя метафорами, – в нем для меня и сидит самое страшное.
Тут вот, на этом месте, в том интервью, что было истоком текста, мне в качестве контраргумента указали на «феномен Путина». Я не политолог, для перехода в практически-политический дискурс у меня – ни компетенции, ни желания; однако на общеисторическом уровне тут нет, пожалуй, большой неясности. Историческая параллель вполне очевидна: это в чистейшем виде то, что с легкой руки Константина Леонтьева называется подмораживанием. Главные плюсы и минусы такой стратегии довольно ясны. Прежде всего, даже большие ее поклонники не скажут, что она может быть долгосрочной стратегией процветания. Против этого – сам сезонный смысл термина: чудесно, господа, подмораживайте, а весну и лето – что ж, запретите? С другой стороны, после того апофеоза лжи, грязи и грабежа, которым были 90-е годы, ельцинщина, мы, безусловно, не можем не ощущать определенного оздоровления. В первую очередь, на обыкновенном житейском уровне, в повседневности, окружающей нас и касающейся всех и каждого. Нельзя спорить, что это – важная часть ситуации и что, тем самым, существует известный коридор, известный диапазон, в котором можно говорить о происходящем как об оздоровлении. Но ситуация многомерна, многоаспектна и чтобы по-настоящему оценить этот «коридор оздоровления», необходимо взглянуть на прочие аспекты. И тут оценки сразу делаются проблематичны. Повторю, я не политолог, я не хочу и не могу входить в них всерьез, выскажу лишь одно-два замечания «простого интеллигента».
В сфере культуры и политики свобода выражения, свобода мысли уже стеснена заметно – а меж тем, власть, притязая указывать обществу, притязая на патерналистскую роль, в сфере культуры и духа еще явно не дозрела до этой роли, не доросла до того, чтобы, как при Николае Павловиче, быть «единственным европейцем» в стране. Сомнительно в качестве «оздоровления» и получение почти полной власти в стране людьми из тайной полиции. Если же вспомним язвы ельцинщины, которые мы назвали, то, пожалуй, только с уборкой грязи нет сомнений в прогрессе. Уже грабеж – ясно, что ушли самые брутальные, чикагские, так сказать, его формы, но много ли мы знаем о бизнес-аферах и казнокрадстве? Можем лишь уповать, что и тут прогресс. А что касается лжи, тут и упований особых нет… Так что коридор есть, конечно, но – ох, не особо широк этот коридор!
Если же сослаться на фактор времени, сказать, что де нужен целый период реабилитации, – возникает другой вопрос. Сегодня важная деталь ситуации в том, что наши хронологические шкалы, к которым мы привыкли, не работают больше. «Период» – сейчас мы не знаем, что это такое, 6 месяцев, или 6 лет, или 60? не знаем, что такое «быстро» и «медленно». Социоисторическая динамика сейчас неизвестна сразу по двум крупнейшим причинам: во-первых, внешней – связь с мировой ситуацией ныне тесней, активней, и ее механизмы иные, новые; во-вторых, внутренней – все старые конструкты и мифологемы России, все модели русского общества, вообще говоря, больше не применимы. Не обязательно их все следует отбросить, их так не выкинешь, они все имели свое наполнение и составляли вкупе, что называется, универсум русского сознания. Но их заведомо нельзя и употреблять в прежнем виде – это предельно вредно! все необходимо пересмотреть в свете реального опыта. Скажем, известную способность к выживанию имеют концепты Святой Руси и Великой России. Феномен России явно способен дать им реальное содержание, но это содержание надо заново определить, отделив его от безудержной национальной мифологии, какой они начинялись прежде. Напротив, заведомо уже не пригодны конструкты России как западников, так и славянофилов. Бердяев еще в 1915 г. писал: «Мы уже не славянофилы и не западники, ибо мы живем в небывалом мировом круговороте», – и был прав.
Особо же стоит сказать про известный уваровский конструкт, триаду
Православие-Самодержавие-Народность, что стала официозным конструктом имперской России. Как о теории, о ней много незачем говорить, глубин мысли тут никто никогда не находил. Однако сегодня власть, а отчасти и Церковь, пытаются ее реанимировать, с примитивной модернизацией в виде замены (с сожалением) Самодержавия на… не очень ясно на что, некую Законную Власть, лучше в форме Лица, чем коллективного органа. Что об этом сказать? Попытка не от хорошей жизни и не от большого ума. Троичный конструкт конструктивен, не является пустым лозунгом лишь в том случае, если для всей триады предполагаются некие единые эмпирические рамки, которые может доставить лишь государственный механизм. Иначе говоря, идея эта может реально проводиться в жизнь лишь так, как она единственно и проводилась – как идея тотального огосударствления, оказенивания и «Православия» и «Народности»
[2] . Идея глубоко не православная, и не русская, а – прусская, вульгаризация Гегеля. Покорно благодарим.
То, что такие стратегии предлагаются, а отчасти и воплощаются сегодня, вновь обращает нас к самому главному, что мы заметили в ситуации, к истощению толщи. В них проявляется в очередной раз все то же, неспособность к новому творчеству. Притом, из старого, уже бывшего, в истощении выбирается самое тривиальное, шаблонное, косное – как патриотизм уваровского розлива. А в довершение, в истощенной среде не выдвигается и каких-либо иных идей, моделей, стратегий, которые могли бы составить основательную альтернативу продуктам официоза. Вспоминая, что мы характеризовали ситуацию России пред катастрофой как резкую двуполярность, можно сказать, что ситуация сегодняшняя может быть охарактеризована как однополярность. Очередной симптом истощения: российская реальность не дотягивает уже до формирования второго полюса, полюса «общества», которое вовсе не обязательно должно быть антагонистом власти, но непременно должно быть полноценным партнером, со своей позицией и своей мыслью. В отсутствие же его, сегодняшняя однополярная Россия – это не «власть и общество», это «власть и челядь», «власть и ее дворня».
Воспроизводство самого косного в российской жизни естественно включило в себя и воспроизводство гипертрофированной бюрократии. Тут это явно было «расширенное воспроизводство», засилье чиновника сегодня, видимо, превышает все показатели имперской России. Это – тяжелая и опасная проблема в силу многих причин; я укажу всего одну, о которой редко говорят. Бюрократизированным системам всегда сопутствует то, что называется негативный отбор – продвижение людей в системе по специфическим критериям, нужным бюрократической корпорации, но вредным для дела и для общества (отбор по связям, по классовому происхождению, по послушности и безличности, готовности участвовать в махинациях и коррупции и т.п.). Это – хроническая язва всех российских структур; в цитированной выше переписке сановников 19 в. читаем: «В государственной жизни явно происходит подбор характеров негодных и недоброкачественных». И эта язва тоже успела расширенно воспроизвестись сегодня.
Из сказанного можно сделать кое-какие выводы о возможностях и перспективах линии «подмораживания». Во всем нашем обсуждении звучит, по сути, единственный лейтмотив: насущная, срочная нужда в творческом усилии российского разума и российского человека, в пробуждении родников творческой активности. Но может ли подмораживание обеспечить это? – Нет, к этому оно не направлено, при нем родники замерзнуть могут, но бурно забить – едва ли. Далее, как мы уж знаем не из теории, а из жизни, подмораживание не уничтожит и засилья чиновников, они при нем разве что получат небольшую «острастку» (сакраментальное словцо чиновника), а в целом приспособятся и вполне процветут. И самое важное, наконец: оно не направлено и на содействие тяжелой, но необходимой работе осмысления, нравственной проработки страшного пройденного опыта – прежде всего, опыта тоталитаризма.
Под разнообразнейшими видами, этот опыт проникает и определяет постсоветского человека. Его сознание (притом не одних старших поколений, но уже и новых) насыщено «пережитками» тоталитаризма. (Этот термин антропологии обозначает, как известно, опыт прошлого, отложившийся в народной памяти в форме смутных, мифологизированных и мистифицированных содержаний, где не только не отличить истину от лжи, но и само это различение неприложимо.) Каждый из нас, ежедневно, в каких-то своих проявлениях и реакциях, мнениях и поступках платит дань Партии, ее Ленинскому ЦК и тов. Сталину лично. Если мы не умеем распознать и осмыслить эти «пережитки» – они сохраняют над нами власть и могут привести нас куда угодно. Если пережитый опыт не делается осмысленным опытом – он делается опасным опытом, а в случае опыта тоталитаризма –вдвойне опасным. По отношению к такому опыту необходимо не просто осмысление, но более того, очищение. И сегодня, увы, явственно видно, что выход к осмыслению-очищению не облегчается обществу, а затрудняется. Из массы примеров на эту тему – вот мелкий, но показательный, со страниц журнала (весьма проправительственного), что попал под руку
[3] . Тут – статья в назидательном тоне, именно об отношении к нашей недавней истории. Правильное отношение преподают дедушка и бабушка автора. От них, повествует автор, «я узнала гимназические частушки… Про нэпманов получались самые веселые истории… Но если я начинала спрашивать о войне, о голоде, о Сталине, бабушка с дедушкой мрачнели, говорили: «Страшное было время», – и всё. Что было, то прошло». Перед нами в чистейшем виде – линия на дебилизацию национального сознания. Работа осмысленья и очищенья ему возбраняется. Что было с бойцами или страной? а – «частушки» и «самые веселые истории»!
Итак, подмораживание – не очищение. Это разные стратегии, вторая из них болезненна, но ведь отчего-то не в одном христианстве, а во всех религиях очищение – первая ступень подлинного оздоровления человека. Обе стратегии не будут в конфликте лишь тогда, если подмораживание будет ориентироваться на очищение, иметь его в перспективе. Оно обретет свой настоящий положительный смысл, лишь если сумеет стать подготовкой к очищению.
Ситуация человека
Знаете, он так меняется!
Наше обозрение философской ситуации завершилось на том, что мы подошли к стоящему заданию «антропологического поворота», полноценная современная реализация которого мыслится как преобразование, претворение всего универсума гуманитарного знания в антропологическую эпистему. Разговор о таком претворении актуален, его следует продолжить – но далее он не может уже вестись лишь в рамках методологии и эпистемологии. Конкретно-предметное рассмотрение проблемы антропологической эпистемы требует прямого обращения к предмету, «к самим вещам» – zur Sachen selbst, как учит феноменологическая установка Гуссерля. Углубление понимания ситуации философии сегодня необходимо выводит к ситуации человека; и обращение к феномену человека – наш следующий шаг.
Входя в контекст сегодняшней антропологической реальности, мы немедленно видим: то, что здесь происходит, ставит в порядок дня задачу кардинального переосмысления феномена человека. Прежние средства и модели дескрипции этого феномена становятся явно непригодны. С человеком начали совершаться резкие, неожиданные изменения, он стал предметом некоторой интенсивной, революционной динамики, в которую вовлекаются все уровни его существа, от духовного мира до генетического материала. Пассивный залог в этой фразе, очень характерным образом, одновременно верен и не верен: человек вполне активно, сознательно развивает целый репертуар новых антропологических практик, которые и порождают указанную динамику; но в то же время, он не предвидит и не понимает всех следствий этих практик, оказываясь их пассивным предметом. Мы не будем входить в обсуждение этого репертуара, который сегодня уже почти необозрим; лишь обозначим его основные слагаемые, восходя от уровня биологического к духовному. Здесь – генетические эксперименты (уже на пороге изменений генетической программы человека), гендерные революции и трансформации (включающие новые техники репродукции человека), экстремальные эксперименты с телесностью человека в «трансавангардном» искусстве, психоделические практики, психотехники расширения и изменения сознания, разнообразнейшие практики трансгрессии (в том числе, отдельные виды суицида и терроризма), виртуальные практики, включающие глубокое погружение в виртуальную реальность, «жизнь в киберпространствах»… Отдельно укажем тренды, ведущие к Постчеловеку и предполагающие превращение Человека в совершенно иное существо или компьютерную программу. Из этого простого списка ясно без доказательств: существо, которое реализует себя во всем перечисленном, есть кто угодно, но только не старый добрый человек, описываемый классической антропологией Аристотеля-Декарта-Канта, человек, чья природа, по Канту, «предопределена стремиться к Высшему Благу». Многие практики в списке затрагивают сами основания личности человека, и ясно, что в поток изменений вовлечена также и «природа» или «сущность» человека; больше того, при этом характере и диапазоне изменений само ее существование становится крайне сомнительным. Мораль отсюда проста: назревшее переосмысление феномена Человека требует отказа от классической антропологии со всем, вообще говоря, фондом ее базовых концептов.
Синергийная антропология, разрабатываемая мной, – одна конкретная стратегия переосмысления. Как любая подобная стратегия, она прежде всего должна была отрефлектировать свои опытные основания: сформировать свою концепцию антропологического опыта и определить свою опытную базу. Решающую роль тут играли уроки современности, говорящие, что Человек глубоко историчен. Классический Человек, на котором базировалась классическая антропология, – всего лишь некоторая антропологическая формация, лишь часть Пути Человека. Она вполне обоснованно заняла особое положение, стала выделенным и во многом нормативным образом Человека. Однако некогда Человек был неклассическим – и недавно, почти на наших глазах, он неклассическим стал снова. Поэтому новое осмысление Человека обязано сменить перспективу, выйти в расширенный контекст. Оно должно опираться на неклассическую опытную основу и с ее помощью охарактеризовать «неклассичность» Человека содержательно, а не привативно-негативно, не посредством частицы «не».
Неклассический антропологический опыт доставляют древность и современность, а также неевропейские культуры. Однако сегодняшние антропологические новации являют собой слишком пестрый, неоднозначный материал, притом продолжающий без конца меняться, – так что выводы на его основе ненадежны. Что же касается прочих антропологических формаций и явлений, отличных от Классического Человека, то во всем их кругу определенно выделялся опыт духовных практик, ибо это был опыт тщательно организованный и очищенный, выстроенный и даже отчасти отрефлектированный. И в итоге, для синергийной антропологии базовым массивом антропологического опыта стал опыт духовной практики Православия – древней исихастской традиции.
Исихазм – школа нового антропологического мышления
Опыт исихазма был органической частью Восточнохристианского дискурса и выражал его принципы, примат личного духовного опыта и личного общения – в первую очередь, молитвенного Богообщения. Сама же практика исихазма строилась как процесс преобразования себя человеком – аутотрансформации, последовательно продвигающейся к соединению всех человеческих энергий с Богом. Процесс разделялся на ступени, образующие знаменитую лестницу духовного восхождения, и имел сложную, насыщенную структуру, включающую множество изощренных методик и приемов – психофизических, психологических, интеллектуальных, духовных… Выработка его полной и зрелой формы потребовала тысячелетних усилий: от раннего египетского монашества 4 в. до поздневизантийского Исихастского возрождения 14 в.
Долгий и непростой этап работы посвящен был тому, чтобы систематизировать и понять этот специфический род опыта. Собственно, это была герменевтическая проблема, и решением ее стала двуединая структура, диада из двух «органонов» исихастского опыта, внутреннего и внешнего. Внутренний органон – это реконструкция системы опыта изнутри, каким его понимает сама исихастская традиция; понятно, что он – весь на источниках, на свидетельствах аскетов, вмешательство ученого минимально. Но внешний – совсем иное, он представляет этот опыт с позиций современной науки. Здесь опыт и предстает в желаемом эвристически продуктивном виде, как богатый антропофонд, способный служить основой для неклассической антропологии. Важно, конечно, с каких именно позиций, в каких понятиях строится «внешний органон». Прежде всего, он не может быть только «внешним»: внешний наблюдатель с позитивистскими установками познания не может увидеть истинного содержания опыта духовной практики. Наш органон принимает установку участности, предполагающую гибкую аккомодацию к познаваемому опыту. Но одна эта установка недостаточна. В конечном итоге, имелось в виду прийти к некоему новому подходу и даже – чем черт не шутит – новой эпистеме; но на исходном этапе изучения исихазма неизбежно было использование какой-то готовой эпистемологической парадигмы. Таковой послужила феноменологическая парадигма, Гуссерлева теория интенционального опыта: я убедился, что именно феноменологическая трактовка опыта, с концепцией интенциональности, наименее связана со специфическими ограничениями классической эпистемы и несет в себе наибольшие потенции неклассических обобщений.
Базовая антропологическая парадигма, или спасенный клочок
Внешний органон исихастского опыта далеко не был сводом эмпирических данных, он был антропологическим построением с обширным комплексом новых неклассических концептов, парадигм, установок – словом, уже был неклассической антропологией, антропологическим дискурсом. С одним уточнением: это был дискурс исихастского человека, человека, который конституируется в исихастской практике. Цель же наша – прийти к антропологии общей, без этого уточнения-ограничения. В качестве ближайшего шага, мы совершаем снова конкретную, «полевую» работу: проводим аналогичный систематический анализ других основных духовных практик, благо они наперечет: классическая йога, буддийская Тантра, дзен, даосизм, суфизм. При наличной базе исихастских органонов, это уже легче; и в итоге, мы достигаем понимания (и описания) того, что такое духовная практика вообще, как антропологическая стратегия, способ самореализации человека.
А далее – решающий шаг. Пристально обозревая полученный нами дискурс духовной практики, мы выделяем в его концептуальном арсенале такие элементы, которые являются или же могут быть сделаны универсальными, относящимися не только к специфической антропологии духовных практик, но и к общеантропологическому контексту, к Человеку как таковому. И это – не попытка наобум, наудачу! Анализ духовных практик нам показал, что это отнюдь не обычные практики в ряду других, а выделенный род практик, наделенный онтологическим содержанием, актуализующий отношение Человека к иному горизонту бытия. Поэтому в их дескрипции мы с уверенностью ожидаем найти универсальные элементы – и их находим.
Укажем сейчас лишь главное: в духовных практиках обнаруживается фундаментальная антропологическая парадигма, способная стать основой цельной неклассической концепции Человека. Это парадигма «размыкания человека», описывающая, как на границе горизонта своего существования и опыта, в своих предельных проявлениях, человек входит в контакт с Иным: тем, что уже вне этого горизонта. Ведь если «входит в контакт» – значит, оказывается открытым, разомкнутым по отношению к Иному. Именно так человек реализует, конституирует себя в духовных практиках; и как уясняется в дальнейшем анализе, данный способ конституции универсален. Меняется Иное, к которому человек разомкнут, меняется механизм, антроподинамика размыкания, но при этом размыкание всегда остается способом конституции человека. И тогда мы вправе сказать, что наша парадигма есть, по существу, дефиниция: Человек может быть понят как существо, которое конституируется в размыкании себя, актуализуя свое отношение с Иным.
Впервые эта парадигма была открыта на опыте в исихастской практике и описана византийским богословием. Там она носила имя синергии и трактовалась как согласный лад, гармония, соработничество двух разноприродных энергий, Божественной и человеческой. Как свойственно византийской мысли, она рассматривалась более в своем богословском содержании, «со стороны Бога». Но понятие двусторонне, бинарно, и если мы взглянем на него с позиций антропологии, со стороны человека – мы должны будем заключить, что как антропологическая парадигма, синергия есть не что иное как размыкание человека. Поздней она спорадически появлялась в европейской философии, всякий раз не слишком заметно, за единственным крупным исключением, которым был Кьеркегор. Он утверждает: долг человека – «сделать себя открытым» Богу и бытию, и эта установка (явно совпадающая с нашим «размыканием») – единственный способ конституции истинного Я, «самости» и личности человека. Лишь непреодоленная зависимость от Гегеля и классической метафизики помешала ему развить эту позицию в цельный опыт неклассической антропологии.
Когда антропологическое размыкание обосновано и утверждено в статусе дефиниции Человека, оно, как легко видеть, доставляет первое зерно или краеугольный камень независимого антропологического дискурса (см. часть 1). Тем самым, для нашего замысла неклассической антропологии, вырастающей в антропологическую эпистему, оно дает исходный плацдарм, или же «спасенный клочок». Коль скоро первым явлением этого клочка в истории мысли, первым описанным примером антропологического размыкания была византийская синергия, то адекватным названием для той антропологии, которая вырастает на его базе, должно быть синергийная антропология. И рядом с византийцами свв. Максимом Исповедником и Григорием Паламой, в галерею предшественников синергийной антропологии должен войти Серен Кьеркегор.
Синергийная антропология: суть и путь
В классической антропологии человек определялся своею сущностью. Обретая роль дефиниции человека, размыкание выступает, тем самым, как альтернатива «сущности человека», этого верховного понятия классической антропологии. Но быть такою альтернативой – огромная претензия! «Сущность человека» была не формальной дефиницией, а производящим принципом, из нее развертывалось полное описание – в понятиях – человека и всего, происходящего с ним. Мы ее покидаем полностью: в исихазме, во всех духовных практиках, а следом и в синергийной антропологии, концепта сущности человека нет, как нет и всего шлейфа тянущихся за ним реалий, всего основоустройства классического эссенциализма. И значит – на базе размыкания нужно создать новое основоустройство и новое концептуальное описание антропологической реальности.
Синергийная антропология – недавнее направление, она еще в довольно начальных стадиях. Но ясно уже, что ее базовая парадигма размыкания обладает достаточной продуктивностью. В отличие от сущности, это энергийная, деятельностная, процессуальная парадигма. Базирующийся на ней дискурс детализирует и концептуализует размыкание как процесс, вскрывает его механизм, выделяет его ступени – и так выстраивает антропологическую дескрипцию, концептуально и содержательно не уступающую классической. А поскольку это совсем другая дескрипция, на других началах, то она охватывает и новые антропологические явления, процессы, которых не объясняла классическая антропология, которые привели к ее краху. К примеру, существуют уже приложения синергийной антропологии к актуальному искусству, некоторым экстремальным практикам, явлениям религиозного экстремизма и др.
Вслед за созданием этого фундамента, мы можем вернуться и к эпистемостроительному замыслу. Здесь от базовой парадигмы требуются новые потенции, методологические. Может ли антропологическое размыкание выступить как некий общий метод для всей сферы наук о человеке? Выясняется – может. Совсем кратко говоря, те действия и проявления человека, которыми занимается данная наука, можно, в принципе, связать с предельными проявлениями, в которых реализуется размыкание. Можно потому, что эти предельные проявления конститутивны, они определяют личность и идентичность человека. И когда установлена связь рабочей сферы данной науки с размыканием человека, с понятиями и структурами синергийной антропологии – затем можно производить трансформацию дискурса этой науки на базе этих понятий и структур: производить ее (синергийную) антропологизацию.
Прежде всего, этот универсальный прием применен был к истории. Для этого всего лишь потребовалось взглянуть на разные способы размыкания в диахронии. Каждый такой способ (всего их очень немного) задает определенный тип личности и идентичности человека, определенную антропологическую формацию; и в каждый исторический период человек реализует отнюдь не все возможные способы, всегда какой-то из них является доминирующим. Так возникает новый принцип членения истории: мы начинаем трактовать ее как историю смены антропологических формаций, историю человека. Тем самым, исторический дискурс антропологизируется, и история начинает соответствовать антропологизированной эпистеме. Надо лишь уточнить, что такой принцип членения не столь нов: в иной логике, с иным набором формаций, но он проводится и в работах Фуко (что особенно выявил и подчеркнул Делез).
В случае философии, проведение антропологизации требует бóльших усилий, ибо в философском дискурсе антропологическая подоснова гораздо более имплицитна. Классическая метафизика в своем развитии следовала по пути де-антропологизации, становилась все более анти-антропологичной (что я стараюсь показать в особом цикле работ с анализом ее основных учений – Декарта, Канта и др.
[4] ). Но это не отменяет универсальности нашей процедуры. Итогом же ее явится некоторая форма того «перерождения философии», о котором шла речь вначале. Перерождение будет заведомо существенным: «антропологизированная философия» – альтернатива традиционной «философской антропологии», ибо в антропологизированной эпистеме не антропология должна быть философской, а философии предстоит стать антропологической.
Но здесь мы уже входим в область предположений и ожиданий. Закончим же на этом – чистосердечно признав, что синергийная антропология сегодня лишь переходит к реализации своих эпистемостроительных замыслов. Будучи уже вполне развитой как антропологическая модель, как эпистема она пока скорее проект, которым хотелось бы заинтересовать население.
2008 г.
Theatre of Situations
Sergey Horujy
The text is a meditation in a free style reviewing and analyzing the current situation in the three spheres: Philosophy – Russia – Anthropology. Philosophical situation is seen as an “empty scene”, the break in the philosophical process and hidden trends to transmutation of philosophical discourse taking place “behind the scene”. Ideas of Vattimo, Rorty and Foucault close to the presented view are adduced. The transmutation in question is expected to bring forth eventually the transformation of all the field of the humanities into an anthropological episteme. As for the situation of Russia, it is considered in historical perspective, relying on basic structures of Eastern-Christian discourse and Russian consciousness. It is demonstrated that principal features of the current situation make one to suggest that generative and creative capacity of national organism is near to exhaustion. In the anthropological part, the chronotope of Man is regarded as an area of Classical European Man surrounded by nonclassical anthropological formations taking place both before and after the classical one. Basic ideas of synergetic anthropology, a nonclassical anthropological model developed by the author and drawing upon the experience of spiritual practices, are presented. Properties of synergetic anthropology, due to which it can serve as the core of an anthropological episteme are pointed out.
ФИЛОСОФИЯ И ТЕОЛОГИЯ: СТАРЫЕ И НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ ОТНОШЕНИЙ
Проблема отношения философии и теологии могла бы послужить неплохой иллюстрацией гегелевского тезиса о тождестве логического и исторического. Подойдя к ней систематически, было бы вполне возможно построить некое подобие древа Порфирия, логической схемы, где размещались бы все мыслимые виды данного отношения, — и затем удостовериться, что в ходе истории европейской мысли все эти виды без исключения доподлинно оказались воплощены. В этом небольшом тексте мы, конечно, не думаем задаваться такою капитальной академической задачей. Однако мы все же попытаемся проследить генезис отношения философии и теологии (во многом уже решающий для всего дальнейшего), систематизировать основные виды или же парадигмы этого отношения и выделить определенную современную тенденцию в его эволюции. Затем, в заключительной части, мы бегло попробуем наметить некоторую новую -или относительно новую — перспективу, которая подсказывается структурами православного миросозерцания, как они выступают в его стержневой мистико-аскетической традиции.
1.
Как известно, идея разделения сфер философии и теологии, а с тем и проблема их взаимного отношения, берут начало с христианской эпохой. В античном сознании эта идея разделения, идея двух различных (не по степени совершенства, но по самому существу) и даже конкурирующих отношений Разума к Божественной реальности не возникала никогда. Даже в финальный период неоплатонизма, когда античное сознание умирало, оно умирало как цельное сознание; и отношение к Божественной реальности мыслилось также цельным, целиком объемлемым сферой философии. Конечно, существовала отдельно сфера религии как культа, не умственного, а жизненно-практического устроения отношений с богами. Но даже и тут была стойкая тенденция к синтезу, и синтез достигался не раз — у пифагорейцев, орфиков, в неоплатонизме. У Ямвлиха и у Прокла философствование выступает как литургия и теургия; и все, что можно было бы обозначить словом теология (,) — оно иногда употреблялось для некоторых аспектов или разделов высшего познания, скажем, у Аристотеля им обозначалось учение о Перводвигателе — заведомо находит себе место внутри философии как единой стихии Ума, осуществляющего себя в когнитивной или ауто-когнитивной установке. Ибо как же еще Уму осуществлять себя, если не в Любви к Мудрости?
Трудно не согласиться, что феномен разделения философии и теологии отражает в себе исконную новоевропейскую раздвоенность и конфликтность сознания. Вместе с этими свойствами, его истоки восходят к самому генезису христианства, к его двуполярным эллинско-иудейским корням. В точном смысле и в окончательных терминах, оппозиция философия — теология оформилась лишь в зрелом Средневековье, но есть все основания вести историю их отношений еще со времен раннего христианства. Христианское богословие тогда еще далеко не было отрефлектировано как особая область и дисциплина, однако оно уже существовало и сознавало себя как особый род мысли, принципиально отличный от эллинского философствования. Философия отождествлялась со специфическою стихией языческой мысли, которая не знает и не может знать Христа. Но во Христе, по Писанию, "обитает вся полнота Божества" — так что, когда философия притязает вести речь о Божественном, эта речь — либо формальные словеса, либо прямой обман; и христианское Богомудрие должно заведомо строиться иначе, быть иной речью. Эта логическая дедукция оппозиции философии и христианского Богомудрия проделана уже в Новом Завете Павлом, и в Послании к Колоссянам мы находим ее первую формулировку: "Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением" (Кол 2,8; философия и "пустое обольщение", , тут по контексту синонимичны). В эпоху апологетов этот мотив устойчиво повторяется, становясь привычным, и у Тертуллиана он находит знаменитое афористическое выражение: "Что общего у Афин и Иерусалима? У Академии и Церкви?" Обычно тертуллиановы афоризмы считают чрезмерным и слишком односторонним заострением; но в данном случае серьезные основания к суждению налицо, и сам Тертуллиан в этом месте своего трактата "О прескрипции против еретиков" ссылается на приведенный нами стих Павла.
Итак, еще до полного становления христианского богословия уже наметилась четкая оппозиция этого богословия и философии. Мы не можем сейчас входить в ее анализ по существу, но все же я укажу две главные стороны этого существа. Во-первых, в христианском Богоотношении радикально сдвигались задания и установки мышления: на место установок (Бого)познания вставали установки (Бого)общения, устремления к Богу как Живому и Личному, — то есть специфические установки сферы личного бытия. Отсюда, во-вторых, менялось и само отношение к мышлению. Античная культура мысли, культивирование мысли как таковой, как стихии чистого Ума, искусства познания и самопознания, — все это переставало быть особой целью и ценностью, и покидалось в пользу каких-то еще неясных иных начал, которые стояли за формулами "устремление ко Христу" и "единение со Христом". И в итоге, философия и богословие противостояли друг другу как Афины и Иерусалим; как познание и общение; и как чистая мысль и цельная духовно-душевная устремленность ко Христу.
Таким было исходное отношение. Затем наступает этап патристики, когда это отношение в известной мере меняется. Характер изменений довольно тонок, и существенно, что в западной и восточной мысли он видится и оценивается весьма по-разному. Именно отсюда берет начало водораздел Восточной и Западной богословской традиции, и становление глубоких типологических различий духовности христианского Востока и Запада. На Западе в последние полтора века знаменитые школы протестантской теологии, преемственно сменяясь (и при особой роли одной из последних в ряду, школы К. Барта), создали концепцию, в которой патристика характеризовалась как "острая эллинизация" и "эллинистическая прививка" к христианским началам. Тут утверждалось, что в итоге патристического этапа христианская мысль усвоила структуры греческой и эллинистической мысли и стала, собственно, ветвью этой мысли, влилась в традицию платонизма и неоплатонизма. Отсюда вытекали многие выводы, из коих нам важны сейчас два. Во-первых, христианское Богомудрие утратило свою изначальную противоположность философии; оно стало христианской теологией, и эта теология, по общему свойству античной мысли, сделалась частью сферы философии как универсальной стихии умозрения. Во-вторых, возникала пресловутая оппозиция, противопоставление Первохристианства как единственно подлинного, аутентичного христианства, — и патристики, а равно и всей в целом позднейшей, постконстантиновой Церкви.
В Православии же всегда был существенно иной взгляд. Здесь никогда не смотрели на патристику как на чисто теоретическую, эллинизированную речь — ибо не упускали из вида, что в ту же эпоху, в том же позднеантичном мире и той же церковной среде, а порой даже теми же людьми, помимо теоретического текста патристики, создавался еще и практический жанр аскетики, то есть школа духовной практики христианства. Вся эта сфера духовной и мистической практики была истово и наглядно воодушевляема непосредственной устремленностью ко Христу, так что в отношении к ней было заведомо неверно и невозможно говорить об утрате или хотя бы ослаблении христоцентризма и аутентичного первохристианского пафоса. При этом, аскетика создавала и свою речь, которая постепенно восходила от практически-прикладного характера к развитому мистико-деятельному дискурсу, что несколько поздней получил имя мистического богословия. Поэтому в плодах патристического этапа здесь усматривается не одна теоретическая теология (о степени эллинизации которой тоже еще можно спорить), но равно и мистико-аскетический дискурс, за которым для краткости нам удобно закрепить название богословия (что вполне отвечает традиционному православному значению этого термина). Вполне эксплицитное различение двух сфер, двух дискурсов можем найти, например, у Григория Паламы. И очень важно, что обе сферы, теология и богословие, были не изолированы, но тесно связаны, причем в их связи именно богословие играло ведущую роль: роль проверенного опытом духовного ориентира и стержня (хотя эта роль в собственно теологическом дискурсе оставалась нередко скрытой). В итоге, для православной позиции, учитывающей все указанное, патристика -отнюдь не измена первохристианству и не эллинизированная теология, но некоторый синтез теологии и богословия, как двух разных способов богословской речи. В свете этого, проблема отношения философии и теологии здесь заметно усложняется, становясь проблемою отношения уже не двух, а трех различных дискурсов, причем дискурсу теологии присущи скорей тенденции сближения с философией, а дискурсу богословия — тенденции отталкивания от нее. Это сочетание противоборствующих тенденций объясняет, отчего в Православии отношение к философии никак не могло сложиться в такие же отчетливые парадигмы, как на Западе, а вместо этого перманентно оказывалось спутанным и противоречивым.
2.
Мы несколько задержались на раннем этапе становления христианской мысли, поскольку он в большой мере предопределил все развитие занимающей нас проблемы. Прослеживать это развитие не позволяют нам рамки данного текста; мы ограничимся беглым резюме. На Западе не создалось описанной усложняющей корреляции, глубинной и непростой связи между теологией и духовной практикой. Сферы теории и практики Богоотношения тут оказались гораздо более разнесены. Не имея зависимости от аскетического опыта и мистического богословия, теология развивалась попросту как одна из теоретических дисциплин в общекультурном контексте, где и была в ближайшем соседстве с философией. По своему строю и методу, она как будто не имела никакой особенной исключительности — но в то же время, в силу ее прямой связи с догматикой и вероучением, религиозно-ориентированное мировоззрение Средневековья не могло не наделять ее выделенным статусом. Поскольку же внутренних оснований для этой выделенности не было видно, разум начинал бунтовать, оспаривать ее, и отношение философия -теология становилось предметом интенсивной рефлексии; постоянно продуцировались, опробовались, исследовались разнообразные сценарии и парадигмы этого отношения. Как только в схоластике, начиная с Абеляра, были окончательно и отчетливо конституированы обе дисциплины, — так вскоре же вслед за тем выдвигаются и почти все основные варианты их отношения. У Сигера Брабантского появляется парадигма взаимоисключающего отношения: положения философии и теологии с необходимостью приходят ко взаимному противоречию. В Шартрской школе Иоанн Солсберийский предлагает парадигму независимого отношения: философия и теология, напротив, не могут противоречить друг другу, ибо они не имеют общего предмета и общей почвы. Именно, сфера философии — опытное знание, дискурсивная логика и рациональная методология, сфера теологии — домостроительство спасения, что подчиняется, в первую очередь, не естественным, а сверхъестественным законам. И наконец, господствующим и ортодоксальным становится, как известно, третий вариант, парадигма включающего отношения, утверждаемая в томизме и выражаемая знаменитым девизом Philosophia est ancilla theologiae.
После этого, на долю всей позднейшей истории европейского разума оставалось, в принципиальном аспекте, не слишком много. В последующие эпохи пути и сферы философии и теологии расходятся между собою все дальше, а проблема их отношения все больше утрачивает остроту, так что нет оснований числить ее в разряде центральных или узловых для новоевропейской мысли. В нашей гипотетической таблице возможных парадигм оставалась, по сути, всего одна незаявленная позиция, причем и та не полностью новая. Это была древняя эллинская парадигма, о которой мы уже говорили: парадигма, вбирающая теологию в философию и рассматривающая философию как универсальную стихию и способ мысли о сверхчувственном и трансцендентном. Понятно, что в средневековом мышлении она оказалась вытеснена и оставлена; и столь же понятно, что в Новое Время, с развитием и усилением секуляризации мышления, она неизбежно должна была вновь возникнуть. Как известно, наиболее последовательно и основательно эту парадигму
обратного включающего отношения воплотил Гегель. После сложной эволюции на ранних этапах, в своей зрелой системе он возрождает классические позиции античной метафизики: "Философия сама есть также богослужение, религия" и "религия состоит именно в познании Бога".
[1] На высшей стадии религия имеет, по Гегелю, задачу стать "научной религией", раскрыть свое содержание в мыслительных формах — и эта задача может быть исполнена только философией. Теология же может обращаться с мыслительными формами несовершенно, по произволу, а если сумеет избавиться от этого, то всего лишь поднимется до философии. "По существу, ортодоксальной теперь является философия... именно она утверждает и сохраняет те положения, те основные истины христианства, которые всегда имели силу".
[2] Поскольку эта гегелева позиция прямо противоположна томистскому решению, то полемика томизма, а затем и неотомизма с Гегелем и гегельянством становится постоянным элементом в теме отношения философии и теологии на Западе.
Разумеется, все перечисленные парадигмы в Новое Время были не раз выдвинуты и проработаны заново и в иных терминах. При этом, после долгого преобладания конфликтных
парадигм взаимоисключения и несимметричных, неравноправных
парадигм взаимовключения, в нашем столетии наметился явственный поворот к преобладанию
парадигмы независимости философии и теологии. Именно к этому разряду принадлежит решение Хайдеггера, которое он представил в своем докладе "Феноменология и теология" (1927), посвященном Рудольфу Бультману, своему близкому собеседнику тех лет. Как некогда у Иоанна Солсберийского, философия и теология здесь не имеют общей почвы и общего пространства, на котором они могли бы встретиться и войти в конфликт. Хайдеггер размещает теологию в сфере
онтического, той же, где пребывает научное познание, — ибо теологию он определяет как "науку веры" (вкладывая в эту формулу целый ряд смыслов: это наука и о том, во что веруют, и о том, как действуют, веруя; это также "понятийная интерпретация христианского существования", и т.п.). Сфера же философии —
онтологическое, и в этой сфере — радикально иная конституция и иная речь. Раскрывая иное измерение предмета, речь философии может действовать как "онтологический корректив онтического содержания основных теологических понятий" — однако такая функция для нее не является необходимой и не создает какой-либо внутренней связи между философией и теологией; напротив, "не существует ничего такого, как "христианская философия", это было бы попросту деревянное железо".
[3] [
3] В русской литературе эту позицию Хайдеггера анализирует и поддерживает В.В.Бибихин; со стороны же теологии (протестантской) к ней присоединяется П.Тиллих. По Тиллиху, "философия занимается строением бытия в его отношении к себе; теология занимается значением бытия для нас",
[4] — и в этом тезисе нетрудно опознать вариацию на заданную Хайдеггером тему "Философия и теология как онтологическое и онтическое". Итоговым же выводом Тиллиха служит четкая формулировка парадигмы независимости: "Итак, между философией и теологией не существует ни столкновения, ни синтеза, ибо ... отсутствует общая основа".
[5] Можно, впрочем, уловить в позиции Хайдеггера (и за ним Тиллиха) также и элемент, оттенок античного включения теологии в философию — ибо есть несомненное ценностное и сущностное первенство онтологического перед онтическим, "бытия в себе" перед "бытием для нас"; второе может рассматриваться как своеобразный вторичный, "прикладной" аспект первого. Необходимо также напомнить в связи с данной позицией, что и у Хайдеггера, и у Тиллиха характеристика теологии имеет в виду, разумеется, западный и, прежде всего, протестантский образец; она никак не учитывает особенностей мистического богословия Православия и не может быть вполне ему адекватной.
Наконец, надо упомянуть, что, помимо всех названных парадигм, в европейской мысли бытует издавна и еще одна, которой мы уже не найдем на древе логических отношений — поскольку она принципиально уклоняется от точной формулировки того, как же трактуются в ней философия, теология и их отношение. Тем самым, это есть парадигма
размытого отношения; принадлежность же к ней составляет одно из характерных отличий гностической традиции и гностического типа мысли. Как известно, гностицизм выдвинул идеал синтетического знания, которое не ограничено рамками ни философии, ни теологии, но выступает по отношению к ним как "третий род", как соединяющий их высший синтез. Такой идеал находится в явной связи с античным идеалом цельного знания (и сознания), о котором мы говорили. Однако важное различие в том, что, если античность органически создавала свой тип цельного знания ab ovo, то гносис исходит из уже состоявшегося разделения. Он хочет вернуть ушедшую цельность как утраченный Рай; и, стремясь к этому, он берет готовые продукты разных традиций и разных эпох, разных мыслительных способов — и принимается их соединять: что и есть, по определению, "синкретизм", главный родовой признак — а, если угодно, то и родовая травма — гностической мысли. (Конечно, на спаде и распаде традиции, в синкретизм впадает и неоплатонизм, так что на практике грань меж ними тонка и порой стирается.) Понятно поэтому, что и философия, и теология равно находят несостоятельным это притязание гносиса на место высшего синтеза. В своих реально наличных формах, гносис — не столько посредствующий или тем паче высший, сколько промежуточный род знания: промежуточный в силу недоопределенности своих понятий и принципов, не дающей их отнести ни к философии, ни к теологии. По своей типологии, гностическое мышление — паранаучная и парафилософская форма мысли, к сути которой принадлежит отказ от метода и от отгранения понятий, отсутствие критериев, отличающих достоверно выведенное или усмотренное от привнесений фантазии и произвола. В таких оценках едины издавна все исследователи, начиная с Гегеля, который в "Лекциях по истории философии" определяет мысль гностиков как "смутные и фантастические построения" и утверждает, что "гностицизм... облекал свое представление в формы, подсказанные воображением".
[6] За счет сливания всех границ, проблема отношения философии и теологии, собственно, не получает в гносисе никакой постановки; можно лишь говорить о некоем неопределенном сближении, перекрывании или смешивании двух сфер.
Вместе с тем, подобные тенденции возникают в истории мысли устойчиво и периодически, усиливаясь в эпохи кризисов и больших изменений. Вслед за классическим гностицизмом поздней античности, к гностическому типу принадлежат весьма многие течения и отдельные явления, выстраивающиеся в совокупности в некоторый пунктир, в одну из сквозных маргинальных линий европейского философствования. Сюда можно отнести целый ряд учений средневековой мистики, мистическую теософию и натурфилософию Ренессанса, религиозную философию круга немецких романтиков, во главе с учениями Новалиса и Баадера, свободную теософию и философию откровения позднего Шеллинга и наконец, очень значительною частью, — русскую религиозную философию Серебряного Века, к которой мы еще вернемся в п.5 (разумеется, перечень не претендует на полноту). Вплотную к этой линии всегда примыкали уже откровенно маргинальные и внефилософские движения, бесчисленные сектантские и оккультные доктрины, школы и школки, от манихеев древности до чающих Эры Водолея в наши дни.
3.
Для Восточного христианства последние десятилетия оказались этапом углубленного продумывания и переоценки своих концептуальных основ и привычных способов их выражения. Начало складываться новое понимание православной мысли как особой интеллектуальной традиции, особого дискурса в универсуме европейского разума, ведущего свою историю от классической патристики. В рамках этого понимания (кратко описанного в первой из статей книги) должна, вообще говоря, возникнуть и новая постановка темы об отношении философии и теологии: данное отношение должно определяться особенностями заново реконструируемого "восточнохристианского дискурса". Однако, как указывалось выше, тема здесь весьма усложняется, становясь темой об отношении уже трех сфер, причем ведущая из них, "богословие", теснейше связана с духовной практикой и крайне удалена от всего строя и способа европейской метафизики. Вследствие этого, проблема до сих пор остается весьма мало понятой и исследованной; и мы сейчас лишь наметим несколько вех, в порядке беглого наброска и отчасти гипотезы.
В книге "К феноменологии аскезы" мы проводим мысль о генеративной природе мистического опыта. В нашей теме мысль эта преломляется приблизительно следующим образом. В начале был — опыт. В начале же опыта был непосредственный бытийный опыт: опыт глобальной ориентации, первичного самоосознания-вопрошания человека. Подобный опыт может быть не только различной глубины, но также различного рода и содержания: здесь отнюдь не имеется полного единства и универсализма в масштабе всего "феномена человека". Но общим является определяющий предикат — генеративность, производящая потенция опыта. И первое ее действие, "первая эманация" — в том, что данный опыт имплицирует, производит определенную онтологию и онтологику (логику сущего и бытия) — которые, соответственно, также не универсальны, но разнятся в зависимости от рода и содержания опыта. В духовной истории европейского мира участвуют, совокупно складывая (и исчерпывая собою) ее, две онтологии и онтологики: античная онтология единого бытия, онтологика бытия — мышления, и христианская онтология личного бытия, или же бытийного расщепления, онтологика бытия — общения. Каждая онтологика находит свое первичное и чистое выражение в определенном дискурсе: онтологика бытия — мышления в дискурсе греческой философии, онтологика бытия — общения — в дискурсе патристики или точней, в совокупном патристико-аскетическом дискурсе. Эти два дискурса обладают особым отличительным качеством единства (цельности) и полноты. Выше мы уже говорили, что это качество присуще греческой философии: в едином способе организации мысли, философском, она полностью определяет, используя термин Хайдеггера, основоустройство соответствующей онтологики — фиксирует основные позиции, проблемы, апории, при этом, не участняя и не ограничивая себя передачей какой бы то ни было части этого задания — теологии или иному способу выражения. Но этими же единством и полнотой обладает и патристико-аскетический дискурс, в его современном понимании.
В своем строении, это сложный, синтетический дискурс, который соединяет в себе обычную, "теоретическую" речь силлогистических построений, высокоспециализированную, апорийную речь догмата и речь опытного свидетельства, передающую опыт Богообщения (как мистико-аскетической практики). За этою разнородностью обнаруживается, однако, внутреннее единство. Речь мистико-аскетической практики Богообщения есть богословие, в древнем православном смысле термина, так раскрываемом одним из современных учителей этой практики: "Богословие не есть домыслы человеческого ума-рассудка или результат критического исследования, а поведание о том бытии, в которое действием Св.Духа человек был введен".
[7] Речь же догмата коренится в
богословии Соборов, причем весьма важно, что и в этом случае в термине можно видеть тот же смысл, опытный. Специфический способ речи догмата раскрывается через
феномен Собора. Онтологика, выражаемая патристико-аскетическим дискурсом, характеризуется открытостью: способ бытия человека (бытия-присутствия, бытия-сознания) не имеет здесь самозамкнутого, самодовлеющего определения, но конституируется некоторым открытым, вовне выводящим отношением — отношением к Внеположному Истоку (см."Род или недород?"), или же "Богочеловеческим отношением". "Богословие" есть речь бытийного опыта как опыта конституирующего Богочеловеческого отношения; и в феномене Собора это конституирующее отношение — а точней, опыт, отвечающий таковому, —
выводится в горизонт интерсубъективности, при этом приобретая новую природу, претворяясь в новый род опыта: соборно-церковный опыт Богочеловеческого отношения. Определяющий предикат этого нового рода опыта фиксируется в сакраментальных терминах как
Богодухновенность, и выражением этого опыта становится речь догмата. В итоге, мы заключаем, что патристико-аскетический дискурс имеет единую опытную основу, включая в себя опыт соборный и (личный) опыт мистико-аскетический, связанные меж собою так, что первый род опыта есть интерсубъективное расширение и претворение второго. — Далее, обладая единой природой, единым способом организации, данный дискурс обладает и свойством полноты, в вышеуказанном смысле полного определения и закрепления основоустройства онтологики. В отличие от источного опыта античности, христианский источный опыт есть опыт бытийной ситуации общения и, соответственно, основоустройство порождаемой им онтологики конституируется как
онтодиалог. Патристико-аскетический дискурс охватывает и эксплицирует этот онтодиалог во всем его диапазоне, как единый онто-антропологический процесс, развертывающийся в плане энергии (что то же, "бытия-действия") и направленно, через целый ряд посредствующих ступеней, трансформирующий "естественные" энергийные структуры повседневности в "сверхъестественные" энергийные структуры синергии и обожения.
Итак, патристико-аскетический дискурс выступает аналогом и параллелью дискурса античной философии: по отношению к другому источному опыту и другой онтологике, он так же фиксирует основоустройство онтологики в определенном едином способе выражения и организации. Благодаря этому, каждый из двух дискурсов закрепляется для соответствующей ему онтологики в качестве ее непреходящего истока, начала, для всего (последующего) умозрения, эксплицирующего, толкующего, развивающего данную онтологику, он конституирует определенную археологию. Такой вывод прямо примыкает к трактовке, предложенной о. Георгием Флоровским в его концепции неопатристического синтеза (см. "Неопатристический синтез и русская философия") и представляющей патристику как христианский, или воцерковленный эллинизм, в противоположность трактовке протестантской теологии, трактующей ее как эллинизацию христианства: первое есть дискурс того же выделенного, найденного Древней Грецией типа, но выражающий новый опыт и его новую онтологику; второе — искажение и утрата нового опыта, за счет попытки описать его старыми понятиями и в старом дискурсе.
Но, разумеется, различия источного опыта имплицируют и достаточно глубокие, кардинальные различия двух "архических" дискурсов. Наша тема, отношение Философия — Теология — Богословие, оказывается в самом фокусе этих различий. Единый способ организации, в каком строится дискурс, для античной мысли есть философия, для патристико-аскетической речи -богословие; как греческая философия — единая стихия ума, так (патристическое) богословие — единая стихия Личности и (Бого)общения. По приводившейся дефиниции — впрочем, явственно вытекающей из его генезиса -богословие есть, собственно, "поведание", рассказ об общении, который, не переставая быть речью (об опыте) общения, лишь усложняется в своем способе необходимым выведением общения в интерсубъективный горизонт — что осуществляется посредством догматического дискурса. Такой род речи в высокой степени "нетерминологичен", его слова-понятия активно сопротивляются перекодированию в мета-язык науки, ибо их лексико-семантические поля наделены сложным многоуровневым строением, включая многочисленные ассоциированные и индивидуальные смыслы, коннотации, референции, репертуар которых высоко специфичен и во многих случаях неожидан. И эта речь (об опыте) общения, еще далее усложняемая интерсубъективным догматическим элементом, чрезвычайно далека от речи (об опыте) мышления, философии. Они несводимы друг к другу, и никакого прямого, наглядного отношения или соответствия меж ними установить нельзя. Некорректно было бы говорить, что в патристике философия включена в богословие, либо подчинена ему, или что в греческой мысли богословие включено в философию, либо подчинено ей: ибо два дискурса относятся к разным онтологикам и разным родам бытийного опыта. (Хотя теология, как дискурс не-опытный, может строиться в разных онтологиках и быть в разных отношениях включения или подчинения как с философией, так и с богословием.) Можно лишь знать, что, в силу своей полноты, оба способа избегают противостояния, при котором они оспаривали бы друг у друга основоустройство онтологики.
4.
В свете набросанной схемы, путь западной мысли представляется своеобразно. Влияние мощного интеллектуального мира греческой философии, стремление использовать его концептуальный арсенал присущи были и классической патристике, однако на Востоке, с помощью сразу наметившегося союза с аскетикой, твердо удерживался примат опыта; и, коль скоро этот последний был, в ядре своем, христоцентрическим опытом Богообщения, философская тенденция не могла получить особо значительного развития. Напротив, на Западе (бесспорно, не без влияния особенностей латинского разума) гораздо большее значение придавалось логической правильности и концептуальной отчетливости дискурса — и примат опыта, также почти сразу, сменился приматом этих критериев, что соответствовали конститутивным нормам философии, но не богословия. С подобной сменой критериев, магистральной тенденцией развития стало решительное приближение дискурса к философскому типу. На этом пути дискурс осваивал обширную и содержательную проблематику, которую богословие отнюдь не спешило или же вовсе не считало нужным рассматривать, — но одновременно удалялся все более от выражения опыта Богообщения. Невзирая на это, весьма долго еще продолжали считать, что дискурс принадлежит и должен принадлежать онтологике христианского опыта — и гарантировать это призван был догмат, который также стал трактоваться не в качестве особого интерсубъективизированного (соборного) опыта, а в качестве спекулятивной конструкции, "догматической формулы". Но в таковом качестве догмат немедленно выступал чем-то ущербным, странным: он был темным, апорийным, недоказуемым, однако при этом строго ограждался от любых прояснений, поправок, "улучшений", какие неизбежно захотела бы внести исследующая мысль. Исследующей мысли было естественно отбросить его. — Так складывалось разделение на два русла, имеющие одну предысторию, почти одни критерии и даже, в крупном, одни онтологические позиции — и расходящиеся лишь в том, что в русле "теологии" рассуждение обязывалось учитывать догмат, а в русле "философии" оно не обязывалось к этому.
Таков, весьма упрощенно, логический генезис той ситуации зрелого Средневековья, когда западная мысль начинает выдвигать и анализировать всевозможные варианты соотношения философии и теологии. В свете сказанного, эта ситуация представляется как своеобразная ситуация расщепленного дискурса, когда основоустройство онтологики разделено между двумя способами выражения, не столь, по сути, далекими друг от друга, однако имеющими сложные и запутанные отношения — многовариантные, нередко конфликтные и явно не поддающиеся полному выяснению. В целом, основательней были позиции философии, которая выступала как естественная стихия и способ саморазвертывания разума, прочно укорененный в античных истоках умозрения. Напротив, позиция теологии выступала довольно межеумочной и противоречивой, держащейся, к тому же, скорей искусственно, силою внешнего авторитета. Причиной и почвой для такого соотношения служило, в конечном счете, то, что в ходе уже длительного процесса редукции теология все более отдалялась от богословия как опытного патристико-аскетического дискурса, утрачивая связь со своими действительными основаниями в христианском опыте. Конечно, сфера религиозного опыта продолжала существовать, и, в некой мере, теология признавалась связанной с нею; но тут необходимо добавить, что и само представление об опыте также существенно редуцировалось и подверглось расщеплению. Религиозный опыт все более третировался познающим разумом как опыт сугубо субъективный, недостоверный, неотличимый от иллюзии и воображения, и противопоставлялся научному опыту, который удовлетворял критериям строгости и достоверности (однако был, на поверку, лишь узким и частным, достаточно специальным видом опыта). В итоге, позиция, представленная в наше время Тиллихом и Хайдеггером, — признание за теологией статуса науки, то есть некоторой частной дисциплины, заведомо не дающей полного выражения основоустройства онтологики, — оказывается, возможно, наиболее положительной из всех, какие допустимы для объективного суждения в ситуации расщепленного дискурса.
Другой характерной чертой этой ситуации, которую следует отметить, служит возникновение онтологической проблемы. Обе исходные онтологики являются, что почти тавтологично, и вполне определенными онтологиями, так что оба первичных дискурса, представляющие основоустройства этих онтологик, стояли перед заданием экспликации онтологии, но отнюдь не поиска или выбора ее. Разум отнюдь не предполагал никакой неопределенности или незаданности, вариативности онтологии, обладая непосредственной связью с конкретным источным бытийным опытом. Но в ситуации расщепленного дискурса подобная неопределенность и незаданность появляется с неизбежностью — коль скоро европейский разум отказывается от примата опытных критериев и пытается совмещать философский строй, связанный многими нитями с античной онтологией единого бытия, и принятую изначально задачу выражения основоустройства христианской онтологики личного бытия — общения. Основоустроительная роль концептов общения и личности не слишком осознавалась, однако не терялась из вида более наглядная и простая (отчасти и упрощающая) характеристика христианской онтологии как онтологии бытийного расщепления. И нетрудно заметить, что в построениях западной философии онтология выступает, типичным образом, как предмет — если и не обычного выбора, то исходного фундаментального постулата, Satz vom Grund; причем избираемые пути чрезвычайно разнятся между собой, заполняя обширный спектр позиций, располагающихся от онтологии радикально слитного бытия до онтологии бытия, радикально расщепленного.
5.
Эта неопределенность онтологии — один из факторов, отразившихся и на ситуации русской мысли. Как мы не раз говорили (и убеждались конкретно), формирование русской мысли, ее типология определялись совокупным воздействием мысли западной и восточнохристианского дискурса. Это наложение и смешение довольно разнородных пластов препятствовало чистоте дискурса, располагало к неопределенности, синкретичности; и то, что один из этих пластов, в свою очередь, обладал принципиальной неопределенностью, усугубляло эту предрасположенность. Существенно, далее, что патристико-аскетический дискурс, выражающий основоустройство христианской онтологики, не вошел в русскую культуру и мысль в достаточной цельности и полноте. Культура и духовность России активно восприняли и развили творчески традицию православной аскезы; однако патристика с ее тонким методом и концептуальным аппаратом осталась мало освоенной и не получившей развития. Базовый дискурс Православия оказался усвоенным лишь преимущественно в практических формах, отчего стал действительно базовым лишь для монашеской и народной среды, недостаточно затрагивая культуру и просвещение страны (хотя случались и важные, яркие исключения из этого правила). В отсутствие же полномерной основы, религиозная и культурная жизнь традиционно оставалась ареной разноречивых тенденций и влияний. Так, в середине XIX~в. в России еще господствовала, с одной стороны, старая парадигма взаимоисключения, по которой всякая философия есть только обольщение и вред; но в то же самое время Юрий Самарин уже утверждал решительно в своей диссертации, что православное богословие обладает органическим сродством с философией Гегеля и должно в необходимом порядке базироваться на этой философии.
Такие особенности культурной истории в полной мере сказались на последнем крупном явлении русской мысли, метафизике Религиозно-философского возрождения. При несомненной масштабности явления, методы этой метафизики, ее специфическая типология, стилистика всегда создавали трудности для историкофилософской квалификации, и спектр оценок был пестр и противоречив, включая и резкие отрицания, и неумеренные восторги. Набросанная нами схема позволяет, в известной мере, преодолеть эти трудности, выявив структуру дискурса русской религиозной философии и проследив происхождение основных элементов этой структуры. Как легко видеть на конкретном материале, этот формировавшийся дискурс вобрал в себя элементы всех трех дискурсов, в которых развертывались источные онтологики европейского сознания, — богословия, теологии, философии; но, смешиваясь и налагаясь, взаимно подрывая друг друга, все три дискурса оказывались, в результате, представлены разрозненно и неполноценно.
Стержневой для Православия элемент, патристико-аскетическое богословие опыта личности и общения, участвовал вообще скорей опосредованно, косвенными отражениями и отголосками. Как мы отмечали много раз, паламитское продумывающее вхождение и углубление в аскетический опыт отнюдь не совершалось тогда в русской мысли. Однако, с другой стороны, православный подвиг наложил глубокую печать на сам "дух русской культуры", ее общую типологию, менталитет, атмосферу дискурса... Эти воздействия, весьма часто подспудные, неформальные и концептуализуемые с трудом, находили вербальное выражение, прежде всего, в литературе — и лишь затем, через влияние литературы и народной религиозности, косвенными путями входили в орбиту мысли Серебряного века, сказываясь не столько на теоретическом фонде, сколько в поэтике, стилистике и тематике русской философии, в ее тоне, строе, акцентировке... Концептуальное же религиозное содержание появлялось в этой философии преимущественно в форме теологем, которые лишь меньшею частью непосредственно принадлежали, либо восходили к патристическому дискурсу, а большею частью приходили из западной теологии. И наконец, философский элемент, которому предназначалось здесь быть ведущим, не мог корректно и полно осуществить себя, провести в цельности философский метод и достичь чистоты философского дискурса — в силу неустранимого и значительного присутствия других элементов, весьма ему инородных. Вдобавок к этому, следуя за западной философией, он воспринимал от нее — напомним начало пункта — промежуточность онтологической позиции, ее колебания между античным пантеизмом, деистической гипертрофированной расщепленностью бытия и новозаветной онтологией личностного Богообщения. И еще вдобавок, весь совокупный, сборный дискурс по отношению к разнородным элементам в своем составе проводил, как правило, установку их слияния, сплава, сращения до неразделимости и неразличимости — а не отчетливого методологического разграничения. — Итак, анализ под углом темы о философии и теологии приводит нас к подтверждению уже многократно высказывавшихся оценок, что находили в философии Серебряного Века следы синкретизма, гностические тенденции и "александрийскую" типологию (ср.выше п.2). Подчеркнем, однако, что эти огульные оценки, достаточные нам по общности темы, заведомо недостаточны в анализе конкретных явлений, который обязан учесть значительную неоднородность и неравноценность материала, а также имевшуюся тенденцию философского процесса к постепенному преодолению слабостей (см., напр., "Философский процесс в России").
6.
В развертывании онтологики личностного бытия — общения патристико-аскетический дискурс служит непреходящим истоком, однако отнюдь не исчерпывает собой этого развертывания и не решает всех встающих в ходе него проблем. Наша тема естественно подводит нас к некоторым из этих проблем; и прежде всего очевидно, что в связи с нею встают вопросы о соотношении с онтологикой бытия — мышления. В отличие от пути западной философии, речь не идет о переходе или соскальзывании в эту онтологику — но о том, чтобы понять, воспроизвести из своей основы, в своей перспективе ее главные понятия и ее проблематику, постановку главных вопросов. Указанная проблематика есть, как известно, "крупный разговор" о бытии и небытии, мышлении, природе и сущности... (Soph. 246 a) — и достаточно ясно, что подступы к решению поставленных задач можно искать в русле — или отправляясь от русла -феноменологии. В фокусе всей проблематики — проблема мышления; и признанным свойством феноменологии является высокая общность созданной в ней концепции мышления, ее пригодность и эффективность в разных и далеко отстоящих областях. В полном согласии с устойчивым стремлением Гуссерля сохранять феноменологию скорей как метод, не превращая ее в определенную онтологию, феноменология может, до известной степени, послужить методологическим мостом между двумя европейскими онтологиками. (Сходную роль для нее в свое время намечал Макс Шелер.)
В центре для нас оказывается концепт
мира-как-опыта: трактуя опыт как опыт сознания в установке, определяемой феноменологической редукцией, и опыт мышления, осуществляющего себя в интенциональном акте, этот концепт вполне, разумеется, отвечает онтологике бытия — мышления; но, как мы раньше уже показывали,
[8] при определенном обобщении горизонта опыта и понимания опыта, он соответствует также и онтологике бытия — общения, какою она развертывается в исихастском дискурсе. Отправляясь от этого связующего концепта, возможно дать постановку проблемы мышления, адекватную указанной онтологике. (По существу содержания, такая задача близка к задаче установления взаимосвязи между феноменологией и диалогикой — однако близость умеряется, а задача усложняется тем, что в нашем случае речь идет об общении крайне специфичном, онтодиалоге.) Ключевую роль здесь играет другой связующий концепт,
трансцендирование. В классическом философском дискурсе он непосредственно раскрывает природу мысли, тогда как в онтологике бытия -общения он столь же непосредственно выражает ее онтологическую динамику: согласно нашей дескрипции (см."Род или недород?"), в измерении бытия-действия эта динамика представляется как "событие трансцендирования". Однако трактовка трансцендирования в этих двух контекстах различна, и притом кардинально; и наша задача существенной частью сводится к сопоставлению двух трактовок, начатому уже в цит. статье. "Феноменологический мост" оказывается при этом необходимостью, ибо конституция событий трансцендирования осуществляется именно в мире-как-опыте, который и образует собою необходимое пространство и перспективу сопоставления. Конкретный, и отнюдь не простой сопоставительный анализ выходит далеко за рамки нашего наброска, и мы укажем лишь общую особенность, которая достаточно очевидна: в онтологике бытия — общения феномен мышления является по самой природе не автономным и не замкнутым в себе. Как "радикальное трансцендирование", в отличие от "трансцендирования когитативного" (см. опять "Род или недород?"), событие трансцендирования обладает холистической икономией, и лишь в холистической перпективе этой икономии мышление существует и осуществляет себя, выступая как "ум-епископ". Помимо того, событие трансцендирования предполагает особую, спонтанную динамику, осуществляемую "энергиями Внеположного Истока", которые имеют исток вне сознания, однако существенно захватывают сознание и мышление. — В итоге, мы обнаруживаем, в качестве его конститутивной черты,
двоякую незамкнутость мышления, так сказать, "сверху" и "снизу": имманентную соотнесенность и включенность его в холистическую антропологическую икономию и спонтанную (благодатную) мета-антропологическую динамику.
Развив трактовку феномена мышления в рамках онтологики бытия — общения, мы расширяем язык и концептуальный фонд этой онтологики, получая возможность рассматривать в ее пределах, с ее позиций центральные концепты и проблематику онтологики бытия — мышления — чем, в принципе, достигаются поставленные цели сопоставления. Две онтологики обретают общий язык и возможность диалога; и естественно, что, в первую очередь, диалог констатирует наличие диалогической ситуации, факт неидентичности сих двух: конститутивное для второй онтологики парменидово тождество бытия и мышления, предполагающее онтологию единого бытия, должно радикально трансформироваться в онтологике бытия — общения, предполагающей бытийное расщепление и имеющей прототипом общения — онтодиалог. Одновременно обретают возможность диалога и дискурсы, выражающие основоустройства двух онтологик и представляющие собой источные первообразы, соответственно, богословия и философии: возвращаясь к исходной теме статьи, можно извлечь из возникающей диалогической ситуации "новые парадигмы их отношений". Но сейчас мы не будем пытаться сделать этого; ограничимся лишь одним общим наблюдением, которое поможет понять характер складывающегося соотношения.
Как мы видели, специфическая черта мышления в событии трансцендирования — его вовлеченность в открытую стратегию онтодиалога, где ключевой действующий фактор — спонтанная динамика восхождения, осуществляемая энергиями трансцендирования как энергиями Внеположного Истока. Сама по себе, эта спонтанная динамика может представляться чистым и радикальным отличием, создающим барьер глубочайшего несходства и несопоставимости между двумя онтологиками в самом их источном бытийном опыте. Отличие действительно радикально, но можно увидеть его генезис и, благодаря этому, при всем несходстве достичь содержательного сопоставления источного опыта. Генезис же заключается (напомним вновь "Род или недород?") в акте обращения, или экстериоризации энергий, осуществляющих событие трансцендирования. Первоначально они никак не выделяются из всего многообразия разнородных, разнонаправленных энергий сознания и не создают никакой спонтанной динамики — так что мышление в таком модусе вовсе не обладает отмеченною спецификой. Затем совершается — либо не совершается, необходимость отсутствует -"опознание или полагание Внеположного Истока", акт обращения, в котором энергии трансцендирования, экстериоризуясь, обретают особый статус, и тем создаются предпосылки конституции события трансцендирования. Именно обращение, таким образом, создает предпосылки и полагает начало новой антропологической — а точнее, уже мета-антропологической — стратегии, в которой совершающим агентом выступают энергии Внеположного Истока. Но надо усиленно подчеркнуть, что понятие обращения в нашем употреблении никак нельзя прямо отождествлять с обычным понятием религиозной психологии: это разве что глубоко особый, "онтологизированный" вид его, входящий в онтологику личностного бытия — общения как ее специфическая принадлежность. И наше финальное наблюдение состоит в том, что в так понятом событии обращения мы можем точно локализовать ту точку, ту онтологическую бифуркацию, откуда берет начало возможность драстической спонтанной динамики и мета-антропологической стратегии, и где коренится расхождение двух онтологик, сложивших универсум европейского разума.
1995/98.
ШАГ ВПЕРЕД, СДЕЛАННЫЙ В РАССЕЯНИИ
I. Исход русской мысли
II. Философия и богословие в рассеянии: Панорама процесса [Берлин и Германия. – Прага. – Париж. – Американский финал]
III. Логика и смысл процесса. Итоги, уроки и вопросы
Уникальность феномена русской эмиграции, его масштаб, его огромный творческий и духовный потенциал с самого начала заставляли предполагать в нем и некий особый духовный смысл. Все обсуждения, дискуссии этого феномена сопровождает традиционный вопрос о «духовной миссии» и «духовных задачах» эмиграции, ее значении для духовных судеб страны. Однако предлагавшиеся ответы большею частью оставались на уровне публицистики или проповеди, без конца варьируя очевидные общие моменты: трагичность и глубина русской катастрофы, насильственная природа власти большевиков и долг противостояния ей, «хранения заветов» русской духовной и культурной традиции. Пути же и цели противостояния, сущность «заветов», конкретное выражение верности им – всё это виделось чрезвычайно по-разному, и за всю историю существования диаспоры здесь так и не возникло хотя бы подобия консензуса. Меж тем, исторический путь диаспоры – а точней, первой эмиграции, которая лишь одна может притязать на духовную значимость, – сегодня уже полностью завершен, и пришло время дать основательный, научный ответ на сакраментальные вопрошания о «смысле» и «миссии». Ниже мы попытаемся наметить некоторые очертания, тезисы такого ответа. Мы убедимся, что вполне оправданно говорить если и не о миссии, то, во всяком случае, о подлинном духовном свершении эмиграции, имеющем принципиальную важность для судеб русской культуры. И мы покажем, что главной, ключевой составляющей в этом свершении явилось философское и богословское творчество диаспоры.
Подобный итог был подготовлен многими особенностями культурного процесса в России. Когда совершился большевистский переворот, российская культура переживала расцвет Серебряного Века. Вкупе со своими завершающими фазами в революционные двадцатые годы, это – великая культурная эпоха, когда Россия, по слову Пастернака, была «огромным родильным домом», в котором непрерывно рождались новаторские идеи, культурные начинания, художественные направления, ярчайшие произведения искусства... – во многом определившие пути развития европейской и мировой культуры. Нам важно заметить структурное строение и структурную динамику этого процесса бурного культурного творчества. В период, предшествующий ему, лидирующая роль в российской культуре неоспоримо была за литературой. Появление русской классики и всего связанного с ней русла создало литературе беспрецедентный, почти неограниченный авторитет в обществе, доставило ей невиданную силу воздействия на умы и породило в общественном сознании особую харизматическую фигуру «писателя-наставника», наделенного «учительной миссией». Однако в предреволюционную эпоху сознание общества отличалось весьма интенсивной, ускоренной динамикой изменений; и в культуре Серебряного Века складываются уже заметно иные соотношения областей, иные расстановки творческих сил. Ядром, стержнем культурного процесса теперь выступает происходящее в философии – необычайный философский подъем, поздней получивший имя Религиозно-философского возрождения. Важные новые движения рождаются в поэзии, в пластических искусствах; их создание сопровождается активной теоретической рефлексией, которая ищет для себя базу, концептуальный арсенал опять-таки в философии, примыкая к ведущимся философским поискам. Сюда добавляется «персональный фактор»: вся в целом культура Серебряного Века стоит под знаком глубокого влияния Владимира Соловьева, его мысли, личности, и это влияние также обращало к философии, повышало ее значение. Безусловно, нельзя сказать, чтобы ко времени катастрофы русская философия успела уже полностью утвердиться в ведущей, центральной роли – но столь же безусловно, она продвигалась к ней. «Целый ряд признаков свидетельствовал непреложно о том, что надвигается эпоха философского расцвета в России».
[1] Описанные обстоятельства не могли не отразиться и на культуре диаспоры. Возросшее значение философии своеобразно проявилось уже на стадии формирования эмиграции, в процессах изгнания и исхода из России: именно о нем говорит исторический эпизод, широко известный сегодня как «философский пароход». Новая власть обратила особое внимание на философов, проведя спецоперацию по высылке из страны, на двух пароходах, целой группы виднейших русских мыслителей (а также ученых и общественных деятелей). В рассеянии сразу начала складываться деятельная философская и богословская жизнь, включавшая все формы активности развитого профессионального сообщества: выпуск книг и периодических изданий, устройство педагогических и научных институций, проведение юбилейных и прочих мероприятий... Но еще важней было внутреннее содержание этой активности. Как мы постараемся показать, философская и богословская мысль диаспоры сумела добиться нового и принципиального продвижения. Это продвижение складывалось из усилий многих, в разных местах – на Афоне, в Париже, в США, и носило неожиданный характер: оно заключалось не в развитии учений, ранее выдвинутых деятелями Религиозно-философского возрождения (хотя они пользовались успехом и, казалось, отнюдь не исчерпали себя) – но, напротив, в отходе от этих учений, от всей метафизики Серебряного Века.
Приблизительно с середины тридцатых годов обозначается новое направление, в котором мысль строится на иных основаниях и выдвигает в центр иную тематику и проблематику. Она вводит себя в рамки ортодоксальной православной церковности, принимая принципы следования святоотеческому Преданию и обращаясь к постижению опыта православной аскезы, исихазма. На первый взгляд, такой поворот был выражением чисто консервативных, ретроградных тенденций, возвращая мысль вспять, от философии к богословию, из современной стихии автономного самопознающего разума – в стихию разума средневекового типа, скованного догматическими и другими ограничениями. Однако действительная его природа была иной. Здесь русская мысль обращалась к своим истокам, заново переосмысливая отношения современного разума с духовной традицией. В этом переосмыслении, суть данного отношения оказывалась творческой и опытной: пребывание в лоне духовной традиции означает приобщение к определенному аутентичному духовному опыту, тем самым, предполагая тождественную передачу, трансляцию духовного опыта; и осуществление такой трансляции есть творческий акт, требующий от сознания всех его ресурсов, включая, если угодно, и методы современного мышления. Верность святоотеческому Преданию раскрывалась как принцип творчества – и этот вывод влек важные историко-культурные следствия. Здесь намечалась перспектива разрешения застарелого коренного конфликта российского культурного развития: конфликта между Православием и просвещением, творческим развивающимся разумом. В старой формалистической интерпретации, увы, в России привившейся, верность Преданию трактовалась как запрет всякого духовного творчества, движения, и жизнь в стихии православной церковности выступала чуждой творческому началу, урезанной и скудной, ущербной в своих интеллектуальных измерениях. Соответственно, творческий, культуростроительный разум мог находить для себя почву и пищу только на Западе. Культура строилась всецело вестернизованной, тогда как православная духовность, питаемая из источников аскетического и молитвенного опыта, пребывала замкнутой в сфере низовых, простонародных культурных форм; и этот разрыв служил перманентным разрушительным фактором российского бытия.
Идеи, выдвинутые мыслью диаспоры, указывали, что можно и должно преодолеть этот пагубный стереотип. Прежде всего, в них были основоположения православного богословия культуры; они утверждали возможность и необходимость православной культуры, новой культурной парадигмы, в которой верность Преданию выступала бы не как принцип запрета, но, напротив, как принцип и даже метод творческого постижения реальности, со всеми современными вызовами. Затем, что не менее существенно, они показывали, что православный опыт Богообщения, опыт исихастской аскезы ставят трудные и высокие проблемы, открывая для разума обширное поле деятельности. Плодотворным началом такой деятельности было развитие богословия Божественных энергий в Византии; и прямым долгом православной мысли является ее продолжение, направляющееся к созданию цельного исихастского богословия и исихастской антропологии. Целый ряд разработок такого рода уже был выполнен богословами диаспоры.
В итоге, идейный поворот, осуществленный мыслью рассеяния, оказывается необычайно насыщен смыслом. Его значение – сразу на многих уровнях:
– прежде всего, он служит примером достижений диаспоры, демонстрацией ее творческого потенциала;
– далее, он открывает новую проблематику и, больше того, новый этап для русской философско-религиозной мысли, возвращая ее в русло святоотеческого Предания и обращая к сфере непосредственного духовного опыта – однако при этом не вынуждая к отказу от норм и методов современного теоретического мышления. В этом аспекте, он оказался актуальным и ценным для всей православной мысли как таковой и был активно подхвачен богословами православной ойкумены. В результате, сегодня этот новый этап – общеправославное явление;
– кроме того, как мы заметили, он обладает ценностью для русской культурной традиции, открывая возможность преодоления ее старого, затянувшегося конфликта – разрыва между православной духовностью и миром творческого познающего разума;
– наконец, последний аспект выводит к наиболее общему, глобальному уровню, относящемуся уже к общемировой культуре. Возникает вопрос: а не могло ли бы развитие и углубление этих идей и установок православного разума привести к появлению новой оригинальной парадигмы культурного развития, отличной от западноевропейской секуляризованной парадигмы?
Это перечисление красноречиво говорит о ценности и масштабе обсуждаемых плодов творчества диаспоры. Согласимся, что в них действительно можно видеть свершение, в котором диаспора с успехом выполнила миссию насущной важности для России. Ниже мы с подробностью восстановим, как добывались эти плоды – иными словами, покажем структуру и реконструируем развитие религиозно-философского процесса в русском рассеянии.
Как явствует из намеченной цели, в нашу задачу отнюдь не будет входить анализ творчества отдельных философов. Мы будем рассматривать философское и богословское творчество диаспоры как явление и процесс, имея в виду показать общий ход этого процесса и описать его эмпирическое, фактическое содержание – дабы затем, на этой основе, вскрыть его внутреннюю логику, внутренние закономерности: «понять смысл и извлечь уроки», как сказали бы в старину. При таком подходе, отдельные мыслители выступают как факторы процесса, и мы лишь будем бегло указывать характер их деятельности, их место и значение в процессе.
I. Исход русской мысли
Как русская культура встретила октябрьский переворот? Этот сакраментальный вопрос задавался множество раз и получал самые разные ответы, часто диаметрально противоположные. Долгое время здесь было невозможно ожидать беспристрастного, взвешенного ответа – ни от советских ученых, ни от деятелей диаспоры, ни даже от иностранных исследователей, которые, как правило, бывали либо тоже необъективны, либо некомпетентны (а чаще, то и другое вместе). Но сегодня наконец к такому ответу нет препятствий. Мы можем невозмутимо констатировать, что, разумеется, отношение было необычайно разным, от пылкой, беззаветной поддержки до ярой ненависти. Был спектр отношений, и этот спектр можно и нужно исследовать, описывать по множеству показателей, политических, идеологических, социологических, личностных... Из всего этого нашу тему затрагивает только один аспект – однако немаловажный и до сих пор недостаточно осмысленный: различие преобладающих позиций в разных секторах культуры.
По хрестоматийным описаниям, после победы переворота в революционном Петрограде, в штаб заговорщиков, Смольный, сразу же начали наносить визиты: приходили деятели культуры, готовые или хотя бы расположенные к сотрудничеству. И уже в этих визитах, в первые дни и недели, с ясностью обозначились те различия, о которых мы говорим. Нам незачем описывать всю их пеструю и непростую картину. Было немало секторов, сфер культуры, где произошло расслоение, и заметное число сторонников находили все три режима, рухнувшая монархия, свергнутая республика и новая диктатура. Так было, к примеру, в российской школе, в частности, и в высшей школе. Но были и противоположные примеры, когда можно было по праву говорить об определенной позиции, занятой той или иной областью культуры в целом (с неизбежными исключениями, подтверждающими правило). Некоторые области сделали свой определенный выбор; и в двух случаях этот выбор оказался особо важен, глубоко отразившись на всей дальнейшей судьбе, на всем облике российской культуры. Авангардное искусство России приняло и поддержало большевистскую революцию. Русская мысль, русская философия отвергли ее.
Блок, Мейерхольд, Хлебников, Филонов, Эйзенштейн, еще многие и многие... – русская философия не дала ни одного имени, которое можно было бы добавить в список великих соблазненных. Философы не наносили визитов в Смольный. Большевизм не был для них соблазном, ибо у них была своя история отношений с революционным сознанием и его философской базой, упрощенным марксизмом. Многие из мыслителей, в чьих трудах возникал Религиозно-Философский ренессанс (в частности, Бердяев, Булгаков, Франк), серьезно занимались марксизмом, были его сторонниками – но затем нашли, что он не выдерживает профессиональной критики. Для них, как и для европейской мысли в целом, это был пройденный этап: отнюдь не зачеркиваемый целиком, однако преодоленный и найденный непригодным в качестве базы дальнейшего творческого развития философии (и уж тем паче – в качестве непререкаемой истины). И на Западе, и в России философия развивалась интенсивно и ко времени революции успела уже выдвинуть целый ряд перспективных новых направлений, оставив марксистский этап далеко позади. Этот ход развития отношений творческой философии с революционным сознанием отчетливо резюмировал Бердяев: «Идеи, которые потерпели поражение в творческой мысли, в то же самое время побеждали – и победили – в массовом движении»
[2]. Наряду с собственно философским сознанием, представители творческой русской философии были наделены и развитым, отрефлектированным этическим и правовым сознанием; и, как ясно отсюда, философское сообщество было достаточно подготовлено, чтобы дать зрелую оценку происшедшим событиям. Такой оценкой стал знаменитый сборник «Из глубины» (1918). Замышленный как продолжение «Вех» и подготовленный той же группой ведущих русских философов, он собрал 11 авторов, объединив их задачей «дать принципиальное обоснование своего отрицания большевизма» (С.Л.Франк). Задача была выполнена с честью. Многие статьи сборника поражают глубиною и зоркостью; практика большевизма квалифицируется как «грандиозный и ужасный по своим последствиям эксперимент», который уже принес «катастрофу великого государства... разгул погромных страстей... разрушение социальных связей и культурных сил» (П.Б.Струве) и в будущем сулит еще худшие испытания, ибо всецело основан на разжигании «разлагающих идей классовой ненависти и зависти» (С.Л.Франк). Однако сборник не вышел в свет – и этот вердикт мыслителей, вынесенный большевизму сразу же после его прихода к власти, остался полностью неизвестен, не оказав никакого влияния...
Но важно отметить и другое. Заняв вполне определенную позицию неприятия большевизма, русская философия в своем большинстве не поддержала и вооруженных противников его (хотя в данном случае меньшинство, ставшее на сторону белых, было весомым и количественно, и качественно, включая такие фигуры как П.Б.Струве, Е.Н.Трубецкой, И.А.Ильин). Эта установка воздержания, в известном смысле напоминающая будущее эмигрантское «непредрешенство», прямо перекликается с позицией русской церкви: здесь также налицо четкое неприятие большевизма в его духовной природе, сочетаемое с отказом одобрения и другой стороны в вооруженной борьбе (напомним отказ патриарха Тихона в благословении белому движению), – но при наличии заметного меньшинства, все же выбирающего сторону белых (поздней это меньшинство станет ядром Карловацкой церкви). И русская мысль, и русская церковь равно полагали должным – остаться со страной и народом, даже когда – а может быть, в особенности когда! – они находили губительным, трагическим происходящее с ними и резко осуждали победившие, господствующие силы.
Таковы общие обстоятельства, определявшие развитие философской ситуации в России революционных лет. Конечно, исход в рассеяние, начавшийся сразу же вслед за большевистским переворотом, уже и в первый период захватил некоторую часть философского и богословского сообщества. Другая, более значительная часть оказалась в рассеянии в ходе перипетий Гражданской войны. В уже цитированном обзоре «Десять лет русской философии (1914–1924)» (мы будем к нему обращаться еще не раз) Б.В.Яковенко дает следующий перечень «философов, добровольно удалившихся из России»: Л.Петражицкий, Ф.Зелинский, В.Зеньковский, Н.Алексеев, Б.Вышеславцев, Л.Шестов, Е.Спекторский, С.Гессен, А.Ященко, Б.Яковенко, Г.Ланц, М.Шварц, В.Сеземан, Д.Чижевский, А.Лазарев, А.Штейнберг, Г.Гурвич, П.Сорокин, Г.Флоровский, А.Койре, И.Степанов, кн. Н.Трубецкой, Г.Ландау, И.Геллер. К этому списку автор присовокупляет: «и др.»
[3]; и в качестве хотя бы основных имен из оставшихся в сем разряде, необходимо назвать Вяч. Иванова, П.Струве, П.Савицкого, Н.Арсеньева, Г.Федотова, В.Н.Ильина, В.Вейдле, Л.Зандера; надо также уточнить, что П.Сорокин был в числе высланных (см. ниже), а не «добровольно удалившихся». Для характеристики ситуации русской философии к началу ее эмигрантского бытия существенен и другой перечень, приводимый Б.Яковенко: «приблизительный перечень умерших за это время философов или мыслителей, имевших близкое отношение к философии: В.Савальский (1873–1915), оставивший фундаментальный труд «Государство как предмет возможного опыта»; Е.Де-Роберти (1843–1915); М.Ковалевский (1850–1916); В.Эрн (1880–1917), оставивший незаконченное исследование о Платоне; М.Каринский (1840–1918); В.Розанов (1856–1919); Д.Викторов (1874–1918); В.Хвостов (ум. в 1918); А.С.Лаппо-Данилевский (ум. в 1918); Н.Дебольский (1842–1918); Г.Плеханов (1858–1918; Я.Озе (1860–1919); кн. Е.Трубецкой (1863–1920); О.Розенберг (1888–1920); Д.Овсянико-Куликовский (1853–1920); Л.Лопатин (1855–1920); Б.Кистяковский (1870–1920), оставивший в рукописи ценный труд, который будет опубликован Украинской Академией в Киеве; Ф.Батюшков (1857–1920); Н.Ланге (ум. в 1920); Д.Болдырев (ум. в 1920); Н.Самсонов (ум. в 1921); П.Кропоткин (ум. в 1921), оставивший незаконченной систему этики; П.Новгородцев (ум. в 1924), оставивший незаконченным второй том «Общественного идеала»»
[4]. Неизбежным образом, оба списка весьма неполны, как все попытки описей и подсчетов, делаемые еще по горячим следам событий; но и они вкупе содержат около 50 имен – число, очень внушительное для любого философского сообщества в любую эпоху (тем паче если учесть, что «философы народ штучный»).
Тем не менее, при всем масштабе утрат, философская жизнь в России была лишь ослаблена, однако нисколько не парализована ими. В известной мере, можно даже говорить об обратном, об активизации. Преобладающей частью, русские философы остались на родине, и необычайность переживаемого исторического момента, сознание присутствия в мире «в его минуты роковые» побуждали их к напряженному осмыслению событий. Вопреки лишениям и разрухе, для подавляющего большинства революционные годы – время интенсивного творчества. Пишется очень многое, и хотя далеко не всё удается издать, в свет выходит немало важных трудов: большие итоговые сочинения Евг. Трубецкого «Смысл жизни» и П.Новгородцева «Об общественном идеале», новаторская работа И.Ильина о Гегеле, «Душа России» Н.Бердяева и «На пиру богов» о.Сергия Булгакова (первоначально – в сборнике «Из глубины»), первые философские тексты Карсавина, последние статьи Розанова, включая «Апокалипсис нашего времени»... Активности творческой сопутствовала организационная. Здесь созидание успешно соперничало с разрушением, и наряду с прекращением старых изданий, объединений, обществ непрерывно возникали новые, пускай эфемерные. Важной чертой явилась активизация культурной и творческой жизни в провинции, как в старых центрах, так нередко и в новых, неожиданно возникавших по обстоятельствам бурного времени. Так, в 1921–22 гг. действуют Философские общества – Петроградское, Киевское, Костромское, Донское; Саратовское Философско-историческое общество, Московское Психологическое общество, Вольная Философская Ассоциация (Вольфила) в Петрограде и Москве, Вольная Академия Духовной Культуры в Москве и мн. др. Выпуск же обширной печатной продукции философского или околофилософского содержания, всевозможных сборников, альманахов, журналов начинавшихся и закрывавшихся, по всей территории России едва ли поддается учету.
Все сказанное означает, что все первые годы нового режима русская мысль, в целом, сделав выбор не в пользу эмиграции, усиленно и добросовестно пыталась наладить творческую работу в изменившихся условиях. Однако достичь этого оказалось невозможно. Новый режим неуклонно продвигался к законченно тоталитарному устройству общества, нормой которого является идеологический террор, а философия, уничтожаясь в своей истинной природе, восстанавливается в дегенеративной форме, как часть машины террора. Благодаря прохождению через этап нэпа (который справедливо был назван Пастернаком «самым фальшивым из всех советских периодов»), движение к тоталитаризму шло не вполне прямолинейно и несколько затянулось, что породило необоснованные иллюзии в обществе. Тем не менее, уже к весне 1922 г. в сфере идеологии и культуры это «временное отступление», по выражению Ленина, отчетливо завершилось, сменившись широким наступлением (хотя в сфере искусства, изначально весьма революционизированной и даже большевизированной, процессы шли несколько иначе – при том же, конечно, общем направлении). Ликвидировались последние очаги свободной мысли, последние возможности независимого духовного выражения. Ликвидация сопровождалась одиозными кампаниями публичной травли. Широкие меры репрессий, введения тотального идеологического контроля шли сплошною волной в печати и журналистике, в сфере образования, студенческой и педагогической среде. В эти же месяцы, под флагом известной кампании по изъятию церковных ценностей, в сфере религии и церковной жизни осуществлены были гораздо более жестокие, кровавые репрессии. Здесь ликвидация независимых духовных очагов достигалась решительней и надежней, методами прямого террора; однако по отношению к представителям философской мысли, из которых многие пользовались европейской и мировой известностью, власть на такие действия не решалась. Следствием этой ситуации стал уникальный эпизод в истории русской философии: эпизод, которому я в свое время дал название «философский пароход».
«Философский пароход» завершил собою исход русской мысли, став важным историческим рубежом. Детальная реконструкция этого эпизода проделана в моей книге
[5], к которой я и отсылаю читателя. Здесь же лишь вкратце напомним основное. «Философский пароход» – операция высылки за рубеж, в Германию, ведущих философов России. Высылались, однако, далеко не одни философы. Список изгоняемых насчитывал несколько менее сотни имен, и помимо философов, туда входили многие видные представители небольшевистской общественности – профессора различных наук, литераторы, журналисты, экономисты, кооператоры. Начиная с весны 1922 г., этот список тщательно готовился ГПУ по указаниям верхушки большевиков, начиная с самого Ленина. По завершении подготовки, все намеченные деятели науки и культуры, не только в двух столицах, но и в других городах (Казани, Харькове и др.), были арестованы одновременно, в ночь с 16 на 17 августа. Затем, после запланированных (псевдо)юридических процедур, основное ядро изгнанников было выслано за пределы России на двух пароходах, направлявшихся из Петрограда в Штеттин (Шецин, принадлежавший тогда Германии). 30 сентября с парохода «Обербургомистр Хакен» в Германии высадились с семьями 30 высланных из Москвы и Казани; 18 ноября с парохода «Пруссия» – 17, высланных из Петрограда.
Высланные представляли весьма значительную, ценную интеллектуальную и культурную силу, и их изгнание, несомненно, стало тяжким ударом для России. «Философский пароход» ускорил ломку общества, его нравственное и духовное падение, расчистил путь для полного воцарения тоталитаризма. Но отдельную, особую важность имел он для философии. Группа философов выделялась в общем составе высланных, обладая наибольшим весом и значимостью. Перечислим тех, кто входил в нее: Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, Н.О.Лосский, С.Л.Франк, Л.П.Карсавин, И.А.Ильин, Ф.А.Степун, И.И.Лапшин, П.А.Сорокин (уехавший не пароходом, а поездом); с Н.О.Лосским выехал также его сын, В.Н.Лосский, ставший затем выдающимся православным богословом. Этот список имен – основа русской мысли двадцатого столетия; большая часть его – фигуры мирового масштаба. После высылки, из всего круга известных, крупных философов на родине остались только Флоренский и Шпет, притом оба – лишь в силу особых обстоятельств: о.Павел, как математик и физик по университетскому образованию, после революции активно работал в области электротехники, столь нужной большевикам, и был для них ценным специалистом; что же до Г.Шпета, то он был назначен к высылке, однако освобожден от нее по неким высоким ходатайствам. Оба они в дальнейшем были лишены возможности философского творчества, подвергались гонениям и в тридцатые годы были физически уничтожены.
Итак, с «философским пароходом» для русской мысли не только заканчивался революционный период, но, по сути, и обрывалась жизнь на родине. Начиналось же существование в изгнании и рассеянии. По самой своей природе, это существование было неизбежно сопряжено с лишениями и бедствиями. Однако история русской мысли в рассеянии – не только история трудных испытаний, но и история больших достижений, история творческого роста.
II. Философия и богословие в рассеянии: Панорама процесса
В свой зарубежный период русская мысль вступила с незаурядными, мощными творческими силами, и они отнюдь не были бесплодно расточены. Почти во всех описаниях и анализах бытия российской диаспоры возникает привычно тема о бесконечных спорах, раздорах, междоусобицах в эмигрантской среде – и о том, как эти раздоры вели к упущенным возможностям, неудавшимся планам, сорвавшимся начинаниям... Отчасти подобные черты присущи любой диаспоре, и нельзя отрицать, что в жизни российской эмиграции они, действительно, расцвели пышным цветом. Однако начальный период этой жизни был в значительной мере исключением. Здесь может скорее поразить противоположное: мы видим, как во всех очагах рассеяния с великой скоростью возникают всевозможные русские объединения и учреждения, издательства и печатные органы, организационные структуры культурного и научного сообщества. Эти бесчисленные организации довольно успешно координируют свою работу, о чем можно судить по весьма скорому возникновению уже «структур второго порядка», разнообразных объединений: таковы, скажем, Объединение русских эмигрантских студенческих организаций (ОРЭСО), Союз русских академических организаций за границей, Русский эмигрантский комитет (куда в 1925 г. входили более 300 русских организаций во Франции) и др. Уже в 1921 г. проходит первый съезд академических организаций русского зарубежья, а осенью 1922 г. в Берлине, по инициативе В.В.Зеньковского, собрался и съезд русских философов, на котором было учреждено Философское общество – по всей видимости, первое философское объединение в рассеянии. Неизбежным образом, многие организации и предприятия вскоре рассыпаются, но некоторые оказываются устойчивыми, а отдельные начинают долгую, плодотворную жизнь, обретая широкую известность и славу (достаточно здесь назвать хотя бы Русское Студенческое Христианское Движение, Свято-Сергиевский Богословский Институт в Париже, издательство YMCA-Press, журналы «Путь», «Современные записки», «Вестник РСХД», «Новый журнал»). Мы охарактеризуем эту обширную активность в общих чертах, и более подробно – в части, относящейся к философскому и богословскому творчеству диаспоры. При этом, сразу напомним, в качестве предварительного замечания, что в числе главных социокультурных отличий эмигрантского общества была заметно возросшая роль Церкви, церковной культуры и церковной жизни. Уже в ранний период, когда исход в рассеяние еще продолжался, обозначилась важная собирательная роль православных храмов. Для людей в изгнании, храм, помимо своего главного назначения, сразу оказывался нужен, незаменим еще и во многих дополнительных отношениях. Храмы – места сбора, куда стекались отыскивающие своих, очаги общения, центры формирования эмигрантского социума... В той или иной мере, эта их роль закрепилась на все время существования эмигрантского общества. Новый вес, новую глубину в рассеянии приобретало и то духовное единение, что дается участием в богослужении. И конечно, повысившееся значение церковной жизни находило отражение и в культуре диаспоры.
БЕРЛИН И ГЕРМАНИЯ
Как известно, первым из главных культурных центров русского рассеяния стал Берлин. Целый ряд факторов способствовал этому; важнейшими из них были фактор политический (сближение побежденной, разрушенной Германии с Советской Россией, породившее большую легкость и активность контактов между ними; а также слабость всяческого контроля, всепозволительная атмосфера Веймарской республики) и фактор финансовый (огромная инфляция, падение немецкой валюты весьма облегчали для иностранцев как быт, так и деловую деятельность). Сегодня феномен Русского Берлина, города-в-городе, со всеми сторонами и атрибутами полномерного существования, с самой бурной культурной жизнью, исследован и описан подробно
[6]. Если не бурной, то, по меньшей мере, весьма интенсивной была здесь и философская активность. Основные формы ее начали создаваться сразу же с завершением исхода русской мысли, по прибытии в Берлин группы высланных.
Пассажиры второго «философского парохода», петербуржцы, достигают Берлина в воскресенье 19 ноября 1922 г.; и уже в следующее воскресенье, 26 ноября, происходит торжественное открытие Религиозно-Философской Академии, с речами Бердяева, Карсавина, Франка. Основанная Бердяевым в послереволюционной Москве, Академия продолжала действовать под его руководством и в зарубежье – в Берлине
[7], а затем в Париже, куда Бердяев переехал в 1924 г. Но главным звеном в структуре научных и культурных организаций «русского Берлина» стал Русский Научный Институт, открывшийся в феврале 1923 г. и успешно функционировавший до своего закрытия в 1932 г. (по другим источникам – в 1934 г.). Это было крупное научно-учебное заведение, имевшее связи с ведущими немецкими вузами (Берлинским Университетом, Высшей Технической Школой и др.) и подразделявшееся на 4 отделения: духовной культуры, правовое, экономическое и сельскохозяйственное. Первым ректором Института был избран один из высланных, московский профессор-путеец В.И.Ясинский, проректором – С.Л.Франк (остававшийся в руководстве Института все годы его существования и бывший его последним ректором). При Институте был также создан Кабинет по изучению современной русской культуры. Курсы читались и на русском, и на немецком языке. Заметную часть среди них составляли философские предметы, и в число профессоров и преподавателей Института вошло все основное ядро философов русского Берлина: помимо Франка, также Бердяев, Карсавин, И.А.Ильин, Вышеславцев, С.И.Гессен и др. Из этого же ядра, по преимуществу, складывался и состав лекторов Религиозно-Философской Академии.
Важнейшую сторону научной и культурной жизни русского Берлина составляла журнальная и книгоиздательская активность. Здесь роль ее была особенно велика. Для творческих сил диаспоры Берлин явился первым пристанищем после бурного периода революции и Гражданской войны, после тягот подсоветского существования. Этот период испытаний обогащал уникальным опытом и стимулировал творческую мысль; почти все люди творчества в России тех судьбоносных лет немало писали. Однако лишь в редких случаях они находили и возможность печати. Многие изгнанники, как вольные, так и невольные, прибывавшие в Берлин, имели готовые или отчасти подготовленные писания; много писалось и в самой диаспоре; ввиду несложности контактов, немало присылалось для публикации из Советской России. Возможности же издательской деятельности были облегчены упомянутою финансовой ситуацией – и в итоге всего, русская печать в Берлине 1921–23 гг. достигает небывалых пропорций. В известной мере, Берлин послужил первой крупной возможностью свободного выражения, выхода для всего потока накопившегося за революционные годы опыта. Каков был масштаб этого потока, мы можем приблизительно оценить хотя бы по 23 грузным томам «Архива русской революции», выпущенным И.В.Гессеном и вобравшим лишь некую долю наличного материала.
Весьма значительна, весома была и философская составляющая потока. В 1922–24 гг. Берлин – бесспорная столица русской философии; и хотя это была столица всего лишь на эфемерный промежуток времени, однако издательская продукция этого промежутка сегодня составляет полноценный начальный этап философского творчества диаспоры. В первую очередь, необходимо указать, что оказавшиеся в Берлине ведущие мыслители России привезли сюда свои наработки революционных лет и выпустили здесь в свет многие свои труды, целый ряд из которых стали классикой русской мысли. Н.А.Бердяевым в Берлине были опубликованы книги: «Философия неравенства» (1923), «Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы» (1923), «Новое средневековье» (1924). Последняя работа – небольшой культурологический этюд, ставший одной из первых попыток европейской философии творчески осмыслить свежепережитый опыт мировых катаклизмов, наметив новую глобальную модель или парадигму исторического процесса. Бердяев толковал этот опыт как свидетельство конца эпохи Нового времени и перехода к новой эпохе, типологически родственной Средним векам; его анализ сосредоточивался на проблемах глобализации, констатировал беспрецедентное усиление интеграции Востока и Запада и предсказывал России ключевую роль в наступающей эпохе. Этюд вызвал самый широкий интерес, был переведен на многие языки и послужил началом мировой известности автора. Целую серию книг выпустил и Л.П.Карсавин: «Философия истории» (1923), «Джордано Бруно» (1923), «Диалоги» (1923), «О сомнении, науке и вере» (1925), «О началах» (1925). Прежде он был известен как историк западного Средневековья, и эта серия, в которой первая и последняя из названных книг были капитальными монографиями, впервые представила его как философа и автора самостоятельной метафизической системы. Ряд книг опубликовал и С.Л.Франк: «Живое знание» (1923), «Религия и наука» (1924), «Крушение кумиров» (1924), «Основы марксизма» (1926), «Смысл жизни» (1926). Но в его творческой биографии период русского Берлина не стал критически важным; главные произведения его зрелой мысли были им созданы позднее. Отметим, что три последние книги из перечисленных вышли в свет в Париже, в издательстве YMCA-Press, в числе первых философских публикаций этого издательства.
Деятельность YMCA-Press – лишь одна из сторон тесного сотрудничества между общественными и, в первую очередь, церковными силами диаспоры и крупной международной протестантской организацией YMCA (Young Men Christian Association, Христианская Ассоциация Молодых Людей). После окончания Мировой войны YMCA занималась помощью русским военнопленным и беженцам в Европе, и на этой почве происходили встречи ее руководителей, в первую очередь, председателя Всемирного Комитета YMCA д-ра Дж.Мотта (1865–1955), с представителями общественных и церковных кругов диаспоры – митрополитом Евлогием (Георгиевским), получившим от патриарха Тихона полномочия по управлению приходами русской церкви в рассеянии, о. Сергием Булгаковым, А.В.Карташевым, Б.П.Вышеславцевым и др. Контакты привели к развитию разностороннего и необычайно плодотворного сотрудничества, которое включало в себя следующие главные направления:
— содействие YMCA в организации и работе Русского Студенческого Христианского Движения (РСХД);
— спонсорская поддержка работы Религиозно-Философской Академии в Берлине и Париже, а также журнала «Путь», финансовая помощь в устроении Сергиевского Подворья в Париже, а затем в деятельности Парижского Богословского Института преп. Сергия Радонежского;
— предоставление издательства YMCA-Press для выпуска религиозно-философской литературы эмиграции.
Два первые направления будут рассмотрены нами ниже, при описании Парижского очага философско-богословской жизни диаспоры. Что же до издательства YMCA, то оно размещалось в Берлине, занимаясь выпуском учебников и научно-технической литературы. После прибытия в Берлин высланных профессоров и философов, профиль издательства вскоре же решительно изменился: оно перешло на публикацию религиозно-философских сочинений. Первым изданием, ознаменовавшим этот поворот, стал сборник «Проблемы русского религиозного сознания» (Берлин, YMCA-Press, 1924), составленный из статей ведущих философов русского Берлина – Н.Бердяева, Л.Карсавина, С.Франка, Б.Вышеславцева, Н.Арсеньева, а также Н.Лосского и В.Зеньковского, живших тогда в Праге. В 1925 г. издательство переместилось в Париж; в 1959 г. оно перешло в ведение РСХД. В течение многих лет и десятилетий, вплоть до самого краха коммунистического режима в России, оно оставалось главным и основным центром по изданию произведений русских религиозных мыслителей и, в первую очередь, философов диаспоры. Роль его в этой сфере невозможно переоценить; в YMCA-Press выходили первые издания почти всех важнейших трудов русской религиозной мысли, созданных после 1925 г., а кроме того, и многие важнейшие периодические издания: «Путь», «Новый Град», «Вестник РСХД», «Православная мысль». В последние десятилетия существования власти большевиков, продукция издательства в растущем количестве достигала пределов России, копировалась здесь кустарными способами, распространялась и играла весьма заметную роль в крушении коммунистической идеологии.
Возвращаясь же к философской литературе русского Берлина, отметим издания других ее ведущих авторов. И.А.Ильин выпустил книги: «Религиозный смысл философии. Три речи, 1914–1923» (1925), «О сопротивлении злу силою» (1925); Б.Вышеславцев – «Русская стихия у Достоевского» (1923); Ф.А.Степун – «Жизнь и творчество» (1923); Лев Шестов, живший в Париже, опубликовал в берлинском издательстве «Скифы» важный труд «Potestas clavium. Власть ключей» (1923). Появился и ряд интересных работ, авторы которых не были профессиональными философами: здесь можно, в частности, указать книги Г.А.Ландау «Сумерки Европы» (1923; книга широко обсуждалась, будучи сравниваема со знаменитым трудом Шпенглера) и А.Шрейдера «Очерки философии народничества» (1923). И, конечно, необходимо отметить, что в русском Берлине увидели свет почти все издания евразийцев первого, до-парижского периода Евразийского движения: сборники «На путях. Утверждение евразийцев» (1922), «Россия и латинство» (1923), «Евразийские временники» с номера 3 по номер 5 (1923–27), отдельные выпуски «Евразийской хроники». Хотя колыбелью Евразийства была София 1920–21 гг., а в первой половине 20-х гг. Движение было также активно связано с Прагой, тем не менее не подлежит сомнению, что вплоть до середины двадцатых годов, главный центр Евразийского движения – русский Берлин.
Однако столицей диаспоры Берлин пребывал недолго. Имелась очевидная связь: финансовая стабилизация Германии, наметившаяся с конца 1923 г., несла финансовую дестабилизацию эмигрантского сообщества, мало интегрированного в реальную экономику страны. В результате, численность русской диаспоры в Германии сократилась с приблизительно 240.000 в 1922 г. до 90.000 в 1930 г. И ясно, что в рамках культурного слоя эмиграции процесс сокращения протекал с наибольшею активностью. Как пишут издатели сборника «Русский Берлин», уже осенью 1923 г. здесь происходит «общий кризис в русском книгоиздательском деле... финансовый крах»; и кризисный процесс, расширяясь, быстро охватывает все стороны жизни здешней диаспоры. В декабре 1923 г. Б.Вышеславцев пишет в одном письме: «Происходит настоящее бегство русской молодежи во Францию»
[8]. По оценке того же сборника, «русский литературный Берлин пережил неожиданный, стремительный конец».
В то же время, русский философский Берлин, равно как и русское философское присутствие в Германии в целом, не имели такой решающей зависимости от издательской конъюнктуры. Соответственно, спад этого присутствия, хотя также происходил, но не был столь резким; и в течение всего периода между Мировыми войнами в Германии оставались заметные русские философские силы. Продолжал свое существование Русский Научный Институт, и из крупных философов, в его стенах вплоть до закрытия оставались Франк и Ильин, а до 1931 г. – Н.Н.Алексеев (1879–1964), видный философ государства и права, деятель евразийского движения. Остались в Германии также Федор Степун, который в 1926 г. получил место на кафедре социологии Высшего Технического Училища в Дрездене, Н.С.Арсеньев, преподававший в Кенигсбергском университете, Н.Н.Бубнов (Гейдельберг), переводчик многих текстов русских философов на немецкий язык. С другой стороны, присутствовал и несомненный, даже активный интерес немецких культурных кругов к России, русской культуре и русской мысли. Как часто отмечают, в 20-е годы невероятным вниманием и влиянием у немцев пользовался Достоевский, немалую известность всегда здесь имел Вл.Соловьев, и т.д. Все эти обстоятельства создали почву для примечательного эпизода в философской истории диаспоры – основания и выпуска в Германии, в 1929–31 гг., русского философского журнала на немецком языке.
Журнал «Der russische Gedanke» («Русская мысль») начал выходить в свет в Бонне в 1929 г., усилиями русского философа-неокантианца Б.В.Яковенко (1889–1949), который и стал его редактором-издателем. Плодовитый, хотя и не весьма крупный философ, Яковенко отличался организаторскими наклонностями и был причастен ко многим философским предприятиям и проектам. Из них до революции самыми заметными стали издание библиотеки «Новые идеи в философии» с переводами и обзорами новинок западной мысли и выпуск международного философского журнала «Логос», вошедшего в идейную летопись Серебряного Века: как часто считают, позиции, представлявшиеся «Логосом» и московским книгоиздательством «Путь», воспроизводили для своего времени старую оппозицию западничество – славянофильство. В эмиграции Яковенко пытался возобновить «Логос», однако сумел издать всего один выпуск, в Праге, в 1925 г. (ценный обзор «Десять лет русской философии (1914–1924)», помещенный им в этом выпуске, мы неоднократно цитировали). Новый проект его представлял собой, согласно вступительной декларации в первом выпуске, «русский философский журнал, который будет выходить не на русском языке в центре Европы»
[9]. Подобный проект был по-своему уникален: журнал должен был стать органом русской философской диаспоры, но обращенным не к диаспоре, а к европейскому и мировому профессиональному сообществу. Тем самым, это была попытка профессиональной интеграции, попытка позиционировать философов диаспоры как определенное сообщество и как культурный факт в универсальном, общеевропейском философском контексте.
Как явствует из раздела «Исход русской мысли», профессиональные и творческие ресурсы философской эмиграции были весьма серьезны, и априори план Яковенко отнюдь не был безнадежен. К тому же, ему удалось привлечь к участию большинство крупных авторов: хотя выпуски журнала были невелики (110–120 стр.), в первых двух номерах мы находим целое созвездие известных и весомых имен – Н.Лосский, Бердяев, Франк, Карсавин, Степун, Лапшин. Но, несмотря на это, жизнь журнала оказалась очень недолгой: он прекратил существование уже в 1931 г., после всего лишь пяти выпусков. Современный обзор деятельности «Der russische Gedanke» указывает несколько причин неудачи: трудности боннского издательства, выпускавшего журнал, безуспешность попыток привлечения европейских авторов («к сотрудничеству в журнале ни историки культуры, ни философы не проявляли никакого интереса»
[10]), неопределенность аудитории, к которой был непосредственно обращен журнал. Нет нужды отрицать, что все эти факторы оказали воздействие; но основную причину, думается, надо всё же искать в самой сути дела – в философской ценности предприятия. Журнал не выдвинул никакой философской программы, не заявил себя органом какого-либо творческого движения и не возвестил со своих страниц каких-либо ярких новых идей. Тем самым, он не вносил заметного вклада в философский процесс, не был на острие продвижения европейской мысли. Не смог он занять и более скромной ниши, став одним из специализированных, профильных журналов: имея подзаголовок «Международный журнал русской философии, литературоведения и культуры», он помещал статьи и по современной философии, и по истории мысли, и по литературе, и единственным «общим знаменателем» его материалов была причастность к русской культуре. Сегодня это соответствует профилю «славистики» или «русистики», однако тогда этих дисциплин (рожденных холодной войной и довольно искусственных в своей сути, конституции) еще не существовало.
Еще не давая почвы для общих выводов, весь эпизод, тем не менее, позволяет предполагать, что философия диаспоры, и в ее лице, метафизика Серебряного Века в свой последний период – как целое, как философское явление – не имела достаточных потенций для целокупного, институционализированного включения в творческое движение и професиональное бытие европейской мысли (хотя, конечно, потенции полноценной интеграции могли быть – и были – у отдельных философов). В дальнейшем это предположение подтвердится и станет важною частью заключений всего нашего обзора. Как мы увидим, философия диаспоры – вновь подчеркнем, как целое – действительно, не стала явлением, которое бы заметно сказалось на развитии европейской и мировой мысли; но зато подобным явлением стало новое, сложившееся уже за рубежом, богословие.
В те годы, когда Яковенко осуществлял в Бонне свою попытку журнала, главный центр философской и богословской активности, как и общий центр эмигрантской жизни, давно уже переместился в Париж. Мы же, прежде чем перейти к характеристике этого центра, уделим некоторое внимание пражскому очагу рассеяния, также весьма важному.
ПРАГА
В Чехословакии положение культурного слоя русской диаспоры имело существенное выгодное отличие от других стран. Этим отличием была обширная, солидно финансируемая правительственная программа поддержки образования и культуры эмиграции – знаменитая «Русская акция» президента Томаша Масарика (который сам был известным философом, знал отлично русскую мысль и был знаком со многими ее представителями). Н.О.Лосский пишет о ней: ««Русская акция» в Чехословакии была в течение лет десяти поставлена очень широко. Несколько тысяч русских молодых людей получили стипендии и поступили ... в различные высшие учебные заведения. Многие профессора, доценты, писатели, вообще, многие русские интеллигенты были обеспечены правильно выдаваемыми ежемесячными пособиями»
[11]. Число студенческих стипендий было вначале определено в 1000 (ежегодно) и увеличено затем до 2000. Организовано было изрядное число русских научно-учебных заведений – даже русских университетов в Праге было два: Русский Университет, действовавший в 1922–28 гг. и Русский Народный Университет, открывшийся 16 октября 1923 г. и позднее переименованный в Свободный Русский Университет. С 1928 г. Народный Университет издавал сборники научных трудов; главой (председателем) его вплоть до 1939 г. был М.М.Новиков, биолог, бывший в послереволюционные годы ректором Московского Университета. Наиболее высокой репутацией пользовался Юридический факультет Русского Университета, учрежденный в мае 1922 г. по инициативе П.И.Новгородцева и под его руководством (после кончины Новгородцева в 1924 г. главой факультета стал Е.В.Спекторский, также крупный философ-правовед); в числе его профессоров были Н.О.Лосский, П.Б.Струве, С.Н.Булгаков, Г.В.Флоровский и др. В 1923 г. открылся также Русский Высший Педагогический Институт имени Я.А.Коменского, которым руководил В.В.Зеньковский, перебравшийся в этом году из Белграда в Прагу. Действовали Институт изучения России, открывшийся в 1924 г., Экономический Кабинет под руководством С.Н.Прокоповича (первоначально работавший в Берлине), Русский славяноведческий Институт; в 1925 г., после кончины в Праге крупнейшего византолога и исследователя православного церковного искусства, академика Н.П.Кондакова, ученики его учредили научный семинар (Seminarium Kondakovianum), затем преобразованный в Институт им. Н.П.Кондакова. Уже в 1923 г. в рамках «Русской акции» создан был Русский Заграничный Исторический Архив (РЗИА), во главе Совета которого встал А.А.Кизеветтер (1866–1933), известный историк России и кадет; и этот архив (с 1928 г. бывший в ведении МИД Чехословакии, а ныне находящийся в ГАРФ) стал крупнейшим и ценнейшим собранием материалов по русскому рассеянию. В 1935 г. усердием В.Ф.Булгакова открыт был также Русский Эмигрантский Музей.
В целом, пражский очаг был несравнимо скудней берлинского и парижского по литературной, художественной, издательской активности, но заведомо выдерживал сравнение с ними в научно-академической и образовательной сфере; что же до философии и богословия, то они пребывали на неком среднем уровне. В Праге и Чехословакии образовались весьма сильные сообщества российских историков, экономистов, филологов, славяноведов, включавшие немало крупных имен: так, из историков, помимо Кондакова и Кизеветтера, можно назвать Г.В.Вернадского, А.В.Флоровского, Е.Ф.Шмурло, П.Н.Савицкого, С.Г.Пушкарева. Сообщество же философов также обладало вполне развитой инфраструктурой: так, в Праге действовали Философское общество при Народном Университете (с 1923 г.), секция Берлинского философского общества (с 1924 г.), Студенческое Религиозно-Философское общество им. Владимира Соловьева при Юридическом факультете Русского Университета (с 1923 г.) и др.; философские курсы читались во всех вышеназванных научно-учебных заведениях. Однако крупные философы появлялись в Праге по преимуществу лишь на относительно небольшой срок: скажем, о. Сергий Булгаков был здесь в 1923–25 гг., В.В.Зеньковский – в 1923–26 гг., П.Б.Струве – в 1922–25 гг. и т.д. Н.О.Лосский в «Воспоминаниях» приводит следующий список тех, кто составляли ядро философского сообщества в Праге в начальный период «Русской акции»: И.И.Лапшин, С.И.Гессен, Г.Д.Гурвич, Г.В.Флоровский, о. Сергий Булгаков, В.В.Зеньковский, Д.И.Чижевский, П.И.Новгородцев, П.Б.Струве. Но вслед за этим вполне весомым списком он пишет: «Вскоре однако П.И.Новгородцев умер, Струве уехал в Белград, Гессен в Варшаву, Гурвич во Францию, Чижевский в Берлин, от. С. Булгаков, от. Г. Флоровский и Зеньковский основали в Париже Православный Богословский Институт; таким образом, из специалистов по философии в Праге остались лишь И.И.Лапшин и я»
[12]. Не приняло здесь никаких заметных масштабов и издание философской и богословской литературы. Издательство «Пламя», ориентированное на ее выпуск, просуществовало недолго; в его деятельности стоит выделить публикацию в 1925 г. возобновленного «Логоса», международного ежегодника по философии культуры по редакцией С.И.Гессена, Ф.А.Степуна, Б.В.Яковенко, игравшего видную роль в философской жизни Серебряного Века. Том «Логоса» за 1925 г., выпущенный прежнею редколлегией, стал, однако, последним. Можно отметить и выпуск в Праге некоторых евразийских изданий, как то «Евразийского сборника» в 1929 г. и отдельных номеров «Евразийской хроники», а также публикацию в трудах Института Н.П.Кондакова в 1936 г. основоположной богословской работы монаха Василия (Кривошеина), о которой у нас еще будет речь.
В заключение этой краткой характеристики Пражского очага диаспоры, стоит упомянуть один исторический эпизод, восстановленный исследователями лишь недавно. Осенью 1923 г., на Пшеровском съезде РСХД, к которому мы вернемся ниже, группою религиозных философов решено было создать, как пишет В.В.Зеньковский, «некоторое объединение профессоров, связанных с Церковью»
[13]. Бывший одним из инициаторов создания, Зеньковский описывает его так: «На съезде в Пшерове состоялось первое профессорское собрание (о.Сергий Булгаков, Новгородцев, Бердяев, Карташев и я), на котором, по предложению Карташева, было решено не создавать нового общества, а восстановить ... деятельность братства св. Софии, учрежденного в России в 1918 году и утвержденного патриархом Тихоном... Собрание приняло предложение Карташева, мы признали себя отделением Всероссийского братства во имя св. Софии; председателем был избран о. С.Булгаков, я – секретарем... Так возникло наше братство»
[14]. Согласно написанному Булгаковым Уставу, «главная задача братства состоит в обращении на служение православной Церкви преимущественно мирянских культурных сил двумя путями: 1) путем собирания в единый братский союз активных работников церковно-богословского просвещения и церковно-общественного делания и 2) путем объединения и организации их труда на ниве церковно-общественной»
[15]. Идея получила полную поддержку религиозно-философского сообщества; за Уставом следует список из 14 членов-учредителей Братства, включающий все основные имена: С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев, П.Б.Струве, В.В.Зеньковский, Н.О.Лосский, С.Л.Франк, А.В.Карташев, П.И.Новгородцев, Н.С.Арсеньев, Г.В.Флоровский, А.В.Ельчанинов, Г.В.Вернадский, С.С.Безобразов, Г.Н.Трубецкой. При всем том, новое объединение оказалось нежизнеспособным: как пишет исследователь, «неудачная попытка расширить это сообщество (1924) за счет деятелей Евразийства, а затем и ожесточенная полемика между Струве и Бердяевым в 1925–26 фактически раскололи Братство»
[16]. Реальной деятельности оно практически не вело.
Эпизод, таким образом, был краток и не оставил больших последствий. Поясним поэтому, отчего мы остановились на нем. Принципиально важной особенностью культуры диаспоры явилось творческое развитие опыта Религиозно-Философского ренессанса, быть может, самой характерной чертой которого был поиск сочетания, синтеза культурных и религиозных форм жизни и творчества. Основной формой сочетания для русской мысли стал созданный ею специфический дискурс «религиозной философии», стремившийся сочетать философию и богословие. Во многом он был уязвим для критики, ибо обе дисциплины утрачивали нечто в своем сочетании. Поэтому в период рассеяния русская мысль проделывала сложную работу. С одной стороны, ее ведущие представители, в трудах которых и создавался этот дискурс, небезуспешно продолжали творчество в его рамках; но в то же время происходило осознание его недостатков и его ограниченности; а параллельно не прекращался и поиск иных, новых форм синтеза. Все аспекты этой многогранной (и многотрудной) работы будут еще обсуждаться ниже. Здесь же мы только подчеркнем: именно в контексте этого непрестанного поиска форм и следует, несомненно, интерпретировать недолгую историю Братства Св. Софии. В данном случае поиск не привел к успеху. Ниже мы увидим, однако, что в диаспоре рождались и весьма удачные его примеры.
ПАРИЖ
Русский Париж – необъятная, феерическая тема – однако и разработанная уже с большою подробностью, под разными углами и во всех жанрах, в мемуарах, хрониках, систематических описаниях. И все же можно заметить, что еще далеко не все существенные стороны темы изучены и описаны с достаточной основательностью. Наибольшее внимание уделялось литературной и художественной жизни, ярким событиям и крупным фигурам, социологии и статистике, наконец, просто быту и нравам. Наш же предмет, философская и богословская работа диаспоры в Париже, до сих пор не получал цельного углубленного исследования, и дать общий обзор его будет небесполезно.
Для правильной перспективы стоит напомнить, что многими событиями, многими предприятиями Париж был вписан в историю русской мысли уже задолго до Октября. Можно, если угодно, сказать, что в Париже родилась и сама русская идея: именно здесь, в салоне княгини Сайн-Витгенштейн, 25 мая 1888 г. Владимир Соловьев прочел свою знаменитую лекцию под этим названием. (Кстати, здесь же будет написана Бердяевым и вторая, не менее знаменитая «Русская идея» – и эта, так сказать, постоянная парижская прописка русской идеи уже наводит на некоторые размышления). Затем перед Первой мировой войной здесь действует Русская Высшая Школа Общественных Наук – и этот факт определил, каким стало начало философской жизни в послеоктябрьском русском Париже: в «Хронике культурной жизни русской эмиграции во Франции, 1920–1930» первым философским событием служит цикл лекций некоего д-ра Шейниса, бывшего профессора этой школы, «Художественное творчество и наука». Д-р Шейнис – имя, неведомое истории; но уже вскоре это не слишком обещающее начало сменяется парадом звезд: с конца 1920 г. на страницах «Хроники» поселяются имена Мережковского, Струве, Карташева, Шестова
[17]. 30 мая 1921 г. открывается Русский Народный Университет, и с ним, в дополнение к многочисленным публичным лекциям, начинается чтение регулярных философских курсов. В частности, ряд курсов здесь читает Шестов – по античной философии, по творчеству Достоевского. Философские курсы входят в программу и Русского Историко-Филологического Отделения при Сорбонне. Также в 1921 г. П.Е.Ковалевским (1901–1978), в будущем известным историком и церковным деятелем диаспоры, основывается первое православное братство в Париже – Братство св. Александра Невского.
В целом, однако, вплоть до 1924–25 гг. ни в философской, ни в религиозной жизни русского Парижа не наблюдается большой активности. В этот период первенство еще безусловно за Берлином, и соотношение начинает изменяться лишь с развитием вышеописанного кризиса берлинской диаспоры. Для выработки самосознания диаспоры заметным событием явились собрания «Миссия русской эмиграции» 16 февраля и 5 апреля 1924 г., на которых выступили Бунин, Карташев, Шмелев, Мережковский, И.Я.Савич, Н.К.Кульман, Н.Ф.Соловьев; собрания открыл Бунин своим докладом «Миссия русской эмиграции», впоследствии получившим широкую известность. Со второй половины 1924 г. постепенно начинает приносить плоды происходящее перемещение культурных сил из Берлина. Открываются Русский Философский Семинарий, Литературно-философские беседы, Религиозные беседы. Первой же крупной вехой процесса можно полагать состоявшееся 8 октября 1924 г. открытое собрание общественности под председательством митроп. Евлогия: на нем впервые было объявлено о планах устройства Сергиевского подворья как нового центра церковной жизни парижской диаспоры, и организации на земле подворья Духовной Академии.
Затем 9 ноября происходит открытие Парижского отделения Религиозно-Философской Академии Н.А.Бердяева. Активно начавшаяся работа Академии складывалась из систематических курсов, которые читали Бердяев («Русские духовные течения (История нашего религиозного и национального сознания)» в 1924-25 акад. году, «Основы христианства» в 1925-26 акад. году и т.д.), Вышеславцев, затем также Булгаков. В.Н.Ильин и др., и из публичных заседаний, проходивших по традиционному обряду идейной жизни русской интеллигенции: основной доклад – общее пылкое обсуждение его – примиряющее чаепитие. Как и с самого начала в Берлине, спонсором деятельности Академии служила YMCA. В ноябре же начинается широкая программа Русских Лекций в Сорбонне, включающая курсы и на русском, и на французском языках. В ее религиозно-философской части – лекции Шестова, Карташева, А.В.Койре, в сезоне 1925-26 участвует Г.Д.Гурвич, читающий по философии права. В связи с последними именами пора указать, что наряду со старшим поколением маститых уже философов, деятелей Религиозно-Философского ренессанса, в русском Париже весьма заметно присутствие и более молодого философского поколения, многие члены которого поздней покинули русло эмигрантской культуры и стали видными фигурами в западной, преимущественно, французской философии и науке: тут могут быть названы Г.Д.Гурвич (1894–1965, один из крупнейших французских социологов), Л.А.Зандер (1893–1964, философ и богослов, ученик и последователь о.Сергия Булгакова), А.В.Кожевников (1902–1968, ставший знаменитым как Alexandre Kojève), А.В.Койре (1892–1964, один из крупнейших философов и историков науки), К.В.Мочульский (1892–1948), А.М.Лазарев, Б.Ф.Шлецер и др.
Затронув философские персоналии русского Парижа, мы здесь же бегло охарактеризуем фигуры, которые в дальнейшем сумели занять свое отдельное место в философской панораме ХХ в., внеся заметный собственный вклад в движение европейской и мировой мысли. Первым должен быть назван, безусловно, Бердяев, вполне справедливо сказавший о себе: «Я был первый русский христианский философ, получивший большую известность на Западе, бóльшую, чем Владимир Соловьев»
[18]. Бердяев в эмиграции – это особый феномен, поражающий своею активностью, равно бурной и в творчестве, и в культуртрегерской деятельности, и в культурных контактах, как в русской, так и в иностранной среде. В течение всего межвоенного периода на нем держится немалая часть всей философской работы эмиграции; с 1922 по 1940 г. он руководит Религиозно-Философской Академией, с 1925 по 1940 – философским журналом «Путь». О журнале мы еще скажем ниже, что же до Академии, то, помимо руководства, он сам и прочел в ней подавляющую часть курсов и отдельных лекций; а всё множество его публичных философских выступлений в рассеянии поистине неисчислимо. Далее, им постоянно пишутся философские тексты, и среди них такие, где его философия получает принципиальное углубление и развитие (из наиболее важных – «О назначении человека» (1931), «Опыт эсхатологической метафизики» (1947), «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого» (1952)). Не изменяя своих онтологических основ, заложенных в книге «Смысл творчества» (1916), в эмиграции эта философия принимает зрелую, окончательную форму: форму несистематичного, но внутренне цельного учения, где в вольном, необязательном дискурсе русской религиозной философии выражен комплекс оригинальных идей, близких к персонализму и экзистенциализму. Наконец, весьма важно и его – по его же выражению – «интенсивное общение с западными кругами». Он участвует во множестве философских встреч, собраний, симпозиумов, из коих некоторые, напр., «декады в Понтиньи», десятидневные собеседования на темы духовной культуры в 20–30-е гг., играют заметную роль в европейской культуре. Вкупе, его книги, активно переводимые уже в 30-х гг., его участие в европейской культурной жизни, создают ему влияние и вес, которые растут, достигая максимума в 40–50-х гг.; в этот период его известность вполне можно назвать мировой славой. В истории европейской мысли он занимает положение свободного христианского мыслителя, стоящего особняком, хотя при этом и служащего одним из виднейших представителей персоналистской и экзистенциалистской философии. В последние десятилетия ХХ в., с общим кризисом европейской метафизики, его философия теряет популярность и актуальность – но, несомненно, он продолжает оставаться для Запада, наряду с Соловьевым, самым громким именем из русских мыслителей.
По личному значению и роли в европейском философском процессе, Бердяеву разве что малым уступает Кожев, одна из оригинальнейших фигур в философии ХХ в. Хотя он занимался философией всю жизнь, он не был академическим мыслителем, а выстраивал свою судьбу по собственным идейным моделям, как художник жизни и авантюрист духа. Происходя из московского купечества, пережив драматические приключения в революционной России, он защитил в 1926 г. в Германии диссертацию по философии истории Соловьева и перебрался в том же году в Париж. Кратковременно он примыкал к евразийству, много занимался восточной философией и философскими проблемами только что возникшей квантовой физики (защитив по этим проблемам диссертацию в Сорбонне в 1933 г.) и в 1931 г. сочинил текст «Атеизм», который считал первым основательным выражением собственных философских позиций. В номенклатуре течений, взгляды Кожева относят обычно к неогегельянству – но, в значительной мере, философия Гегеля служила ему как язык для выражения собственных идей. Он публиковал мало, и не самые важные свои вещи, и главным полем, на котором создалось его влияние, стали лекции по философии Гегеля, читанные им в парижской Практической школе высших исследований в 1933-39 гг.
[19] В составе их слушателей были почти все будущие знаменитые лидеры интеллектуальной жизни Франции, отнюдь не только в философии, и все свидетельствовали о том, что лекции были уникальной школою мысли, оставившей самый глубокий след. Биограф одного из этих знаменитых учеников, Ж.Лакана, пишет: «Кожев... господствовал над целым умственным поколением силою своего устного учительства... занимая парадоксальную позицию в академической жизни Франции, одновременно ключевую и маргинальную»
[20]. В последний период жизни Кожев был, главным образом, политическим мыслителем и практическим политиком, крупным деятелем в происходившем создании объединенной Европы. Значение его мысли, его фигуры выявлялось не сразу, в большой мере, уже посмертно, и со временем все росло; его влиянием были наиболее затронуты экзистенциализм, структурный психоанализ, политическая философия. К нему восходят многие ведущие идеи последних десятилетий – о «смерти человека», «конце истории» и др., и в наши дни он (в отличие от Бердяева) продолжает быть современным и актуальным.
Руководясь критерием не российского, а универсального философского значения (см. в этой связи ниже, в разделе III, обсуждение стратегии «выхода в универсальный контекст» в философии диаспоры), мы выделим персонально еще только Льва Шестова (Шварцмана, 1866–1938). Он уже и до революции жил на Западе едва ли не более, чем в России, и окончательно обосновался в эмиграции, в Париже, с 1920 г. В эмигрантский период его философствование, ранее тесно связанное с русской литературой, полностью переходит на почву западной культуры. В 20–30-е гг. он пишет свои главные труды, которые по преимуществу посвящаются избранным героям западной духовной традиции – тем, в ком он видит близкий себе дух высшего экзистенциального напряжения, внутренней борьбы, непримиримого бунта против любой метафизики или теологии, утверждающей успокоительно закономерное устроение бытия. Эти его герои – библейский Иов, Плотин, Паскаль, Лютер, Киркегор. Труды Шестова получают известность и признание, создают ему крупное европейское имя. Он также активно следит за движением философской мысли, выступает проницательным критиком феноменологии Гуссерля и Хайдеггера, завязывает переписку и личное знакомство со многими мыслителями, в частности, Гуссерлем, Хайдеггером, Бубером, Карлом Бартом. Его собственные идеи оказываются весьма созвучны зарождающемуся в 30-е годы экзистенциализму, и в дальнейшем, когда экзистенциализм становится доминирующим философским течением в Европе, за Шестовым утверждается почетная репутация одного из его главных предтеч.
***
Выражаясь по-большевицки, можно сказать, что 1925 – Год великого перелома в формировании облика русского Парижа как уникального философского и богословского явления периода между двух мировых войн. В этом году здесь возникают две главные составляющие, две доминанты этого явления: Богословский Институт Преподобного Сергия Радонежского и религиозно-философский журнал «Путь», а также происходит перемещение в Париж издательства YMCA-Press, уже становящегося ведущим религиозно-философским издательством эмиграции. В этом же году Париж делается организационным центром стремительно развивающегося Русского Студенческого Христианского Движения – еще одного из определяющих факторов духовной и церковной жизни диаспоры. И наконец в этом же году в заметных масштабах достигает Парижа деятельность Евразийского движения – движения куда менее долговечного, чем РСХД, но во второй половине двадцатых годов бывшего, несомненно, важнейшим идейным течением в русском рассеянии.
Обозрение этих главных явлений целесообразно начать именно с евразийства, стоящего в данном перечне особняком. Все остальные явления образуют между собою определенное единство. Это – магистральное русло эмигрантской культуры и религиозности: начинания в сфере христианской мысли и Русской Церкви, органически продолжающие культуру Серебряного Века и Религиозно-Философского возрождения; помимо того, они связаны также и общим источником поддержки, которым для них всех служила YMCA. Евразийство же – заведомо вне этого русла. Оно было никак не связано с Церковью (хотя и заявляло о своей верности Православию), тем паче с YMCA, и весьма мало связано с метафизикой Серебряного Века (хотя имело близость к идеям поздних славянофилов). По своему характеру и природе, оно громко заявляло себя учением и течением нового, «пореволюционного» типа, разрывающего со старыми доктринами в философии и старыми традициями в общественно-политической жизни.
Но, стоя особняком от главного русла религиозно-философской жизни диаспоры, евразийство вместе с тем почти на всем протяжении двадцатых годов находилось в центре живейших интеллектуальных, идейных и политических дискуссий, а в апогее, в середине двадцатых, было и важнейшим идейно-политическим течением в рассеянии. За последние годы, ввиду необычайного всплеска интереса к евразийскому движению – интереса крайне разнообразного, включающего и попытки его практического возрождения – основная канва его истории описывалась множество раз и может считаться общеизвестной. Тем не менее, ради полноты изложения мы все же должны привести важнейшие сведения и факты.
Евразийское движение как культурфилософская платформа родилось в Софии в 1920-21 гг. в продолжительных собеседованиях кружка из 5 молодых эмигрантов, коими были: Н.С.Трубецкой (1890–1938), в будущем крупнейший лингвист, П.Н.Савицкий (1895–1968), экономист и географ, ученик П.Б.Струве, Г.В.Флоровский (1893–1979), позднее священник и выдающийся богослов, П.П.Сувчинский (1892–1985), философствующий публицист, позднее музыковед, и наконец кн. А.А.Ливен, позднее священник в Софии. Последний, хотя и был, по словам П.Савицкого, «инициатором первого евразийского сборника», однако не участвовал ни в сборниках, ни в иной деятельности движения; прочие же перечисленные выпустили в Софии в 1921 г. сборник четырех авторов: «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев». Составленный из аналитических статей на темы русской истории, культурной и духовной традиции, сборник заявлял отчетливую концепцию «России–Евразии»: России как особого этногеографического мира и этнокультурного типа, которому враждебен и чужд западный «романо-германский» тип, но родствен и дружествен мир восточный и, в первую очередь, степной, «туранский». Присутствовала здесь и оценка исторического момента: все авторы сходились в том, что западный мир, как и старая императорская Россия, исчерпали свои исторические возможности; Мировая война и революция открывают собой новую эпоху, в которую мировое лидерство должно перейти именно к Евразии.
Идеи сборника были новым словом по отношению к прежним, известным идейно-политическим и культурфилософским позициям; помимо того, они могли эффективно служить для выработки самосознания диаспоры, ее ориентации в современной реальности – и «Исход к Востоку» вызвал в ее кругах самую живую реакцию. В считанные недели и месяцы после выхода сборника во многих центрах диаспоры возникли группы, кружки сторонников его идей – так что можно было говорить о рождении нового идейного течения. За первым сборником в 1922 г. последовал второй, «На путях», вышедший в свет уже в столице диаспоры, Берлине, затем в 1923 г. там же были выпущены уже два сборника с различной тематикой, круг авторов существенно расширялся – и евразийство вступило в стадию громкой популярности и быстрого роста. За два-три года оно приобрело широкий масштаб, превратившись в сеть ячеек и групп во всех центрах рассеяния, с немалой общею численностью. К нему примкнули (хотя во многих случаях на недолгий срок) многочисленные деятели культуры – философы (в частности, Л.П.Карсавин, Н.Н.Алексеев, Н.С.Арсеньев, В.Э.Сеземан, В.Н.Ильин, А.В.Кожевников), историки, литераторы, люди искусства.
Успех и рост движения, его расширение немедленно ставили его перед необходимостью выбора стратегии. В первых статьях, полутеоретических, полупублицистических, новое учение было, разумеется, лишь бегло намечено, и оно обладало потенциями развития во многих и разных направлениях. Самым существенным был выбор характера и рода деятельности. Необходимо было решать: должно ли евразийство строиться и самоопределяться как движение преимущественно теоретическое или практическое, как культурфилософское учение или как сила, участвующая в политической жизни, борьбе? Первоначальный облик движения, его зарождение в философских собеседованиях, наконец, таланты и склонности молодых «основоположников», их исходные намерения – всё это располагало к первому, к культурному творчеству, а не к политике. Однако сразу же обозначилось, что ситуация и среда толкают в противоположную сторону. Первые отклики на выступление евразийцев можно усредненно охарактеризовать как неприятие, непонимание, нередко враждебность старшего поколения, его идеологов и политиков (что понятно в свете евразийского отрицания старой России, включая и все ее политические партии) и явную, вплоть до бурного энтузиазма, поддержку значительной части молодежи. Эти молодые сторонники Движения в большинстве своем были люди, сформированные опытом революции и двух войн, многие из них воевали, и на первом месте у них были, как правило, не духовные устремления (как у членов РСХД) и не философские интересы, а стремление к активной позиции, реальному действию. Вполне ощутим был и кризис старых политических сил и идеологий, побежденных в революции, и отсюда – потребность в свежей струе, в некой новой, «пореволюционной» (родившийся в те годы неологизм) идеологии и политике. В итоге, налицо был настоятельный спрос, «социальный заказ» на вступление в политику, шанс крупного успеха в этой сфере – и вскоре, уступив давлению обстоятельств, Движение приняло заказ. Как впоследствии признавали сами его основатели, то был ошибочный выбор, приведший к искажению изначального софийского евразийства, постепенной дегенерации и краху Движения.
Ближайшим образом, принятие заказа выразилось в том, что в руководстве Движением появились и стали играть крупную, часто решающую роль новые люди из числа молодых прагматиков-активистов. Прежде всего, это были два аристократа-гвардейца, П.С.Арапов и П.Н.Малевский-Малевич, из коих первый был с самого начала погружен в темные политические авантюры, имея связь с пресловутой организацией «Трест», подставной ловушкой ГПУ, тогда как второй, завязав знакомство с англичанином-меценатом Г.Н.Сполдингом, в 1924 г. договорился с ним о щедрой финансовой поддержке Движения (одна лишь начальная, немедленно предоставленная сумма составляла 10.000 англ. фунтов). Как позднее писал Савицкий, «на четыре года Евразийство стало «богато». Но деньги эти принесли нашему делу зло – главным образом, своим влиянием на психологию его участников»
[21]. Характер Движения необратимо менялся. Развернулся выпуск литературы с явным пропагандистским уклоном – создавались, в основном, уже не культурфилософские штудии, а манифесты, программы, брошюры с упрощенным изложением евразийства как идеологии и политической доктрины. С подачи Арапова, Движение все глубже втягивалось в контакты со своими мнимыми сторонниками в СССР, которые в действительности были агентами ГПУ. В нем также стали обнаруживаться и все заметнее проявлять себя пробольшевистские элементы, поклонники советского опыта. В итоге, во второй половине двадцатых годов основная часть евразийства представляла собою два крыла, одно из которых, включавшее Савицкого и Трубецкого, стояло на антибольшевистских позициях, однако в значительной мере было манипулируемо большевиками, другое же, к которому принадлежал Сувчинский, отличалось просоветской ориентацией. Последний же из основателей, Флоровский, не приемля происходившей эволюции Движения, уже в 1923 г. отошел от участия в нем, а в 1928 г. выпустил большую статью «Евразийский соблазн» с глубокой критикой евразийства в самих его принципах.
В конце 20-х годов наступает кризис. Просоветское крыло, где, помимо Сувчинского, были активны Л.П.Карсавин, Д.П.Святополк-Мирский, С.А.Эфрон, усиливало свою активность, направив, в частности, в 1928 г. письмо одному из крупных большевиков Ю.Л.Пятакову, бывшему тогда в Париже, с предложениями о встречах и о сотрудничестве. С ноября 1928 г. это крыло, получившее название «левого» или же «кламарского» евразийства (от парижского пригорода Кламар, где жили в то время его лидеры), начало выпускать в Париже еженедельную газету «Евразия» с открытым восхвалением советского строя и опыта и резкими поношениями западной демократии и русской эмиграции. Правое же крыло в ответ выпустило в 1929 г. брошюру-протест «Газета «Евразия» не есть евразийский орган», за подписями Савицкого, Н.Алексеева и В.Ильина. Этот раскол Движения был самым громким, но отнюдь не единственным; конфликты, междоусобицы, отпадения шли постоянно – и результате, евразийство вступило в тридцатые годы уже в стадии кризиса и упадка. Утратив лидерство в идейной жизни диаспоры, значительно сократившись, оно продолжало существовать до Второй мировой войны в форме небольших групп, разбросанных преимущественно по окраинам эмигрантского мира, как то в Прибалтике.
Итак, срок пребывания евразийства на авансцене эмигрантской политики и культуры был недолог; и все же оно оставило глубокий след. Политически, исторически оно оказалось эфемерным – однако ни его темы, ни его наследие не были эфемерны. Оно явилось очередным этапом творческого развития имманентной и коренной проблематики русского сознания – проблематики этнокультурной идентичности, самоопределения по отношению к базисным векторам культурного космоса, векторам обобщенных «Запада» и «Востока». В серии разработок начального, наиболее плодотворного периода оно предложило резкие, вызывающе спорные, но содержательные ответы на многие «русские вопросы», и неудивительно, что в пору очередной русской смуты эти ответы вновь всплыли в культурном сознании и возродился «евразийский соблазн», в еще более огрубленной и уродливой форме. Но евразийство также выдвинуло немало заслуживающих внимания идей в философии истории, философии культуры, и сегодня его теоретическое наследие продолжает по-прежнему нуждаться в основательном изучении.
Здесь же, следом за евразийством, мы кратко опишем и другие явления, причастные к богословско-философской активности парижской диаспоры, но не входящие в основное русло этой активности – русло, связанное с РСХД, YMCA и Свято-Сергиевским Богословским Институтом. Важнейшими из них являются два – журнал «Новый Град» и Братство Св. Фотия.
«Новый Град» стоит к евразийству ближе, принадлежа к тому же разряду «пореволюционных» идейных течений. Также подобно евразийству, деятельность журнала и связанной с ним группы отнюдь не носила чисто политического и публицистического характера; на страницах «Нового Града», в творчестве его авторов ставились и обсуждались проблемы религии, философии истории и культуры. Журнал начал выходить в Париже в 1931 г., нерегулярными выпусками небольшого объема; последний, 14 выпуск вышел в свет в 1939 г. Основателями и редакторами его были И.И.Фундаминский-Бунаков, Ф.А.Степун и Г.П.Федотов; из них два последних были также постоянными и главными авторами журнала. Отдельные статьи здесь также помещали Бердяев, Булгаков, Вышеславцев и другие известные философы. Обсуждение идейно-политической линии журнала не входит в нашу задачу; скажем лишь кратко, что «Новый Град» пытался в накаленной обстановке 30-х годов очертить и выдвинуть идеал некой обновленной христианской демократии, сочетающей свободу личности – и, прежде всего, духовную свободу – христианское служение и политическое действие. Сегодня задним числом мы можем сказать, что новизны, а равно и конструктивности, в этой линии было не слишком много; и журнал остался заметной, крупной страницей в идейной истории диаспоры скорее оттого, что и Степун, и Федотов, чьи статьи появлялись в каждом номере, обладали ярким эссеистическим даром. Философское содержание журнала было также довольно незначительно, и мы укажем лишь основные из проводившихся здесь культурфилософских идей. Степун, как и в других своих книгах и статьях, разбирал на страницах «Нового Града» типологию русской культуры и русской религиозной традиции, усиленно акцентируя глубинный конфликт между первою и второй и утверждая «культурное бессилие русской религиозности». При всей спорности и поверхностности его анализа, здесь открывались важные темы для размышления. Но, пожалуй, еще существенней был антропологический акцент, постоянно присутствовавший и у Федотова, и у Степуна. Они оба сходились в том, что главным заданием эпохи является задание антропологическое, «взращение нового человека... человека Нового Града», и в свете этого саму идею Нового Града в известной мере можно считать антропологическим проектом. Эта антропологическая чуткость была ценным, даже провидческим качеством их проповеди – однако излишне говорить, что контуры «нового человека», равно как пути к нему, оставались весьма туманны...
Фотиевское Братство, возникшее весной 1925 г., до сих пор получало гораздо меньше внимания историков, нежели «Новый Град»; однако для нашей концепции оно оказывается более важным явлением. В записках Н.М.Зернова оно характеризуется так: «Среди соперников РСХД особое место принадлежало братству св. Фотия, к которому присоединилось несколько видных членов Движения. Основателем братства был Алексей Владимирович Ставровский (р.1905), человек властный и боевого темперамента. Целью братства была борьба против внешних и внутренних врагов Церкви. Среди первых они считали самым опасным Рим, среди последних выделяли о. Булгакова, как экумениста и автора новых богословских идей. Братство было построено по образцу католических орденов. От братчиков требовалось полное подчинение главе братства. Заседания были закрытыми, решения тайными... Членами братства были Владимир Николаевич Лосский (1903–1958), Евграф Евграфович Ковалевский (1905–1970), впоследствии епископ Жан, Максим Евграфович Ковалевский (р.1903), отец Григорий Круг (1908–1969), один из лучших иконописцев эмиграции и многие другие»
[22]. Из числа «других» стоит также упомянуть Л.А.Успенского (1902–1987), известного иконописца, исследователя богословия и истории иконы. Поскольку симпатии Зернова были всецело отданы РСХД, его характеристика довольно пристрастна (дальше он обвиняет братство и в «доносе» на о. Сергия Булгакова), и облик братства представляется из нее не совсем верно. Как и в других лучших, чистейших движениях диаспоры, как и в РСХД, истинный пафос деятельности Фотиевцев был пафосом не вражды, а любви, пафосом истового и жертвенного служения.
Сутью и смыслом деятельности братства было служение идее Церкви, понятой по-своему глубоко и оригинально (помимо Вл.Лосского, в братство входили и другие талантливые богословы). Именно эта собственная, своеобычная идея или интуиция церковности лежит в истоке двух главных установок братства, соединение которых могло бы казаться странным и эксцентричным: твердая верность Московской Патриархии – и обращенность к Западу, стремление к созданию на Западе некоего автохтонного, здешнего «православия латинского обряда» с корнями в древней западной церковной традиции эпохи до разделения Церквей. К передаче этой идеи ближе, чем Зернов, подходит Н.О.Лосский, отец Вл.Лосского, когда он пишет: «Главная задача братства состоит в том, чтобы отстаивать и проводить в жизнь вселенскость Православной Церкви»
[23].
Вселенскость Церкви – эта идея в свое время была одною из важных, центральных и для Вл.Соловьева; но, в прямую противоположность Соловьеву, для которого гарантом и носителем вселенскости был папский престол, Фотиевцы утверждали вселенскость именно Православия, подчиняя этому утверждению всю стратегию братства. Отсюда, по их логике, вытекали обе указанные установки. Идея Православной Церкви как вселенской реальности, сущей превыше мирских стихий, естественно вела к мысли, что и церковное, каноническое подчинение также превыше этих стихий, незыблемо; как говорит Н.О.Лосский, братство «держалось убеждения, что нельзя отделяться от Матери-Церкви, руководясь политическими соображениями»
[24]. В итоге, стойкое пребывание Фотиевцев в юрисдикции Москвы рождало едва ли не каламбур: ревнуя о вселенскости Православия, братство отказывалось перейти во Вселенский Патриархат.
Столь же прямым путем идея вселенскости Православия могла вести и ко второй установке. Трактовка единства Церкви у Фотиевцев близка была к экклезиологии Хомякова, а также о. Г.Флоровского, который говорил на Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Амстердаме в 1948 г., что разделившиеся христианские конфессии не имеют права именоваться «Церквами». Но братство проводило подобный взгляд более категорично, чем Флоровский, находя с русским максимализмом, что вселенскость Православия должна осуществляться отнюдь не в экуменических контактах с западным инославием, а в возращивании – или же восстановлении, возрождении – на Западе его собственного, западного Православия. Однажды приняв этот вывод, братство ревностно воплощало его в жизнь. Им был разработан и представлен в Московскую Патриархию проект «православия латинского обряда» с богослужением, использующим сохранившиеся элементы литургики древней Церкви в Галлии. Начиная с 1937 г., проект реально осуществлялся в нескольких французских приходах, отпавших от Рима после одной из папских энциклик и выразивших намерение присоединиться к Православию. Возникшая церковная группировка была возглавлена Евграфом Ковалевским (который принял монашество с именем Жана де Сен-Дени, в честь Дионисия Ареопагита, и стал известен как «епископ Жан») и получила название «Кафолической Православной Церкви Франции» (Église Catholique Orthodoxe de France). К западной среде были обращены и другие начинания братства. Вл.Лосский (бывший главою братства в 1931–40 гг.) писал свои труды исключительно по-французски. В декабре 1944 г. братством был основан в Париже французский Православный Институт Св. Дионисия, деканом которого в течение длительного периода был П.Е.Ковалевский. Разумеется, выбор патрона этого богословского института не был случаен: в свое время, рукопись Ареопагитик была прислана византийским императором в дар королю франков, и (псевдо-)Дионисий стал одним из главных проводников Восточного богословия на Западе. При Институте выпускался богословский журнал «Dieu Vivant» («Бог Живой»); Вл.Лосский читал в Институте курсы церковной истории и догматического богословия.
Как ясно из нашего описания, в деятельности Братства Св. Фотия можно по праву видеть еще одну оригинальную попытку решения той же кардинальной проблемы духовного и культурного творчества в рассеянии: проблемы преодоления эмигрантской изоляции и включения в некоторый широкий, универсальный культурный контекст и процесс. Свое решение, стоявшее на своеобразно понятом лозунге вселенскости Православия, братство осуществляло твердо, не страшась трудностей, – хотя в кругах диаспоры плохо понимали тонкости его идейной позиции. В 1935–36 гг., когда братство приняло и исполнило поручение московской церковной власти представить разбор софиологии о. Сергия Булгакова, и этот разбор дал ее негативную оценку, – оно подверглось подлинной травле со стороны не только правых кругов, но и умеренных, евлогианцев
[25]; членов братства называли чекистами, большевиками, обскурантами, и все возможности объяснения своих взглядов в эмигрантской прессе оказались для них закрыты. Эхо этого «спора о Софии» (к нему мы еще вернемся) осталось в диаспоре надолго. Позднее и само сочетание двух идейных установок не выдержало испытания временем: в 1953 г. «Православная Церковь Франции» вышла из юрисдикции Московской Патриархии и оказалась в полной канонической изоляции, подобно Карловацкой РПЦЗ (впрочем, последняя все же сохранила общение с Сербской Церковью). Это было и внутренним расколом: Вл. Лосский остался в московской юрисдикции и прекратил преподавание в Институте Св. Дионисия (перейдя на парижские Пастырские курсы при Западно-Европейском Экзархате Московской Патриархии).
Итак, опыт братства едва ли можно назвать вполне успешным. Но будет несправедливо и назвать его неудачным. Линия братства отражала экклезиологические воззрения Вл.Лосского, и эти воззрения, вместе со всем его богословием, внесли важный вклад в развитие православной мысли. Следующее поколение богословов диаспоры, уже в Америке, не без успеха обосновывало идею поместной англоязычной Православной Церкви в США; и Orthodox Church of America, живущая и активно развивающаяся ныне, стоит на экклезиологических концепциях, во многом сходных с теми, что лежали в истоке Église Orthodoxe de France, пусть практика сей последней и оказалась неудачна. И мы заключаем, что видение Церкви, вдохновлявшее участников Братства Св. Фотия, не было заблуждением. Хотя, возможно, и нуждаясь в неких коррекциях (определить их – долг сегодняшней православной мысли), в своем существе оно обрело принятие и продолжение в жизни современного Православия.
***
Обращаясь же к магистральному руслу духовной жизни и философско-богословского творчества эмиграции, следует в первую очередь уделить внимание РСХД. Обладая молодым энтузиазмом и динамичностью, это движение играло оживляющую, поддерживающую, соединяющую роль для многих предприятий и многих сторон жизни диаспоры. Помимо того, именно РСХД было исторически первым и основным каналом русских связей YMCA – связей, что постепенно выросли в разветвленное сотрудничество, имевшее жизненную важность для эмигрантской культуры.
РСХД в своем генезисе – прямое детище YMCA
[26], ее дочерняя организация. Начав свою миссионерскую работу в России в последние годы XIX в., YMCA устраивала духовно-просветительские общества, называвшиеся «Маяки», а вскоре, по инициативе барона П.Н.Николаи (1860–1919), главного и активнейшего деятеля YMCA в дореволюционной России, обратилась к организации христианских студенческих кружков. Кружки включали любых верующих, принципиально не поднимали межконфессиональных вопросов и не имели никаких связей с Православною Церковью, к которой руководители YMCA в своем большинстве относились скептически и скорей негативно
[27]. Создание кружков развернулось особенно успешно после лекционного тура Дж.Мотта по России в 1909 г., и в 1913 г. сеть кружков, получившая название Русский Студенческий Христианский Союз, или же Русское Студенческое Христианское Движение, была официально принята в ВСХФ и, тем самым, в YMCA. После Октября работа кружков вскоре стала преследоваться большевиками и к середине двадцатых годов замерла окончательно; но целый ряд их руководителей, оказавшись за рубежом, начали активную деятельность по воссозданию РСХД в эмиграции. Усилиями этих ранних движенцев – Л.Н.Липеровского (1888–1963), А.И.Никитина (1888–1949), Л.А.Зандера (1893–1964), В.Ф.Марцинковского (1884–1971) – в замке Пшерове близ Праги, 1–8 октября 1923 г. состоялся первый зарубежный съезд РСХД. В составе его участников были члены молодежных религиозных и философских кружков из европейских центров рассеяния (основная группа, около 20 человек), группа «старших», где были виднейшие представители религиозной мысли (Булгаков, Бердяев, Новгородцев, Карташев, Зеньковский), выступившие с лекциями, а также группа иностранных наблюдателей от организаций – спонсоров съезда. Итогом съезда стало решение о создании Русского Студенческого Христианского Движения за рубежом. Председателем Движения был избран В.В.Зеньковский, секретарем Л.Н.Липеровский; учрежден был также руководящий орган для начального, организационного этапа – «Бюро объединения русских студенческих христианских кружков в Европе», с президиумом в Праге.
Эти организационные решения были важны, однако едва ли верно будет считать их главным итогом Пшеровской встречи. Как показали события, главное было скорей в другом: в неожиданно, спонтанно создавшейся атмосфере всеобщего духовного подъема и порыва, окрашенного совместным переживанием трагедии России и Русской Церкви. Одной из основных составляющих в работе съезда стала общая литургическая и молитвенная жизнь, «евхаристия заняла центральное место во всем, что происходило на конференции»
[28]; и всё вкупе породило редкую степень единения, стремления к общему творческому действию во имя общих ценностей Православия и России. «Подводя итоги Пшерова, следует подчеркнуть его необычайный творческий полет»
[29], – пишет Николай Зернов, активный участник съезда, а в скором будущем и активный деятель РСХД. Другой из активных участников, В.В.Зеньковский, отзывается о духе Пшерова и еще сильней: «Духовное состояние съезда... достигло такой температуры, что дальше, казалось, некуда было идти... прошли в душах такие глубокие, существенные сдвиги, которые в других условиях надо считать просто немыслимыми»
[30]. Н.Зернов отмечает также другой, не менее важный итог, явившийся прямым следствием достигнутого единения и подъема: в Пшерове осуществилось – и добавим, в дальнейшем было закреплено – то, что почти никогда не удавалось в России, – духовный и идейный
союз поколений. «Старшее и молодое поколение ... вместе искали новых путей для церковной деятельности в изгнании... Инициатива принадлежала студентам. Профессора с интересом и вниманием вслушивались в их голоса»
[31]. Конечно, то был лишь союз
эмигрантских поколений, и лишь в определенной их части; но это была самая творческая и деятельная часть, и союз оказался плодоносным.
Здесь в феномене РСХД обнаруживался существенный социокультурный аспект: ему предстояло стать решением проблемы преемственности, трансляции духовных ценностей и установок. Это – жизненная проблема для любого движения, любого духовного и культурного явления, и потому небесполезно провести некоторые сравнения. Как мы видели, в те же годы в диаспоре активно развивалось евразийство, которое, однако, относительно скоро пошло на спад, пережив острые кризисы и расколы; и в нашем контексте вполне возможно сказать, что причина краха – в неспособности решить проблему трансляции, выхода в более широкий круг и контекст. Опять-таки тогда же, в первой половине двадцатых годов, проблему решал и правящий большевицкий режим в России. Он успешно ее решил путем создания комсомольского движения – но то было весьма специфическое решение, средствами техники пропаганды и манипуляции сознанием, тоталитарной дрессуры человека. – Сравнения выявляют природу феномена: решение проблемы трансляции, возникшее в лоне русской религиозной культуры, полностью сохраняло свободу личности и при этом включало религиозное ядро, было
решением в стихии соборности. И то, что решение было найдено, в свою очередь, сыграло ключевую роль в том, что российская диаспора сумела стать не просто горсткой извергнутых и рассеявшихся культурных сил, а новым и цельным творческим явлением; в том, что она – как мы заявили в начале – сумела сделать очередной шаг в развитии русской мысли, русской и православной духовной традиции. Так пишет об этом Зернов: «В Пшерове нашли друг друга два поколения, одно пришедшее к вере накануне революции, другое обретшее Церковь в страшные годы гражданской войны. Преемственность была сохранена, и это имело решающее значение для всего будущего православной культуры»
[32].
Православность и церковность Движения означали также, что РСХД, каким оно воссоздавалось в рассеянии, уже больше не было обычною ветвью YMCA, одною из множества протестантских организаций, природной чертой которых является нечувствие, непризнание
примата глубинных элементов в религии – и отсюда, религиозная поверхностность, тривиальность, выхолощенность, тенденция к приравниванию и сливанию всех религий – во всяком случае, всех христианских конфессий – на базе их поверхностной общности. Самым определенным образом, эта протестантская типология, еще в большой мере присущая дореволюционным кружкам, заменилась на православную типологию. Изменение духовного типа выражалось и вполне наглядно; так, в Пшерове первоначальный распорядок съезда предусматривал «медитации», практикуемые в протестантском миссионерстве, – и В.В.Зеньковский пишет об их судьбе: «медитации... продолжались 4 дня, явно ненужные и постепенно отмершие»
[33]. РСХД делалось сообществом иного типа, близкого к типу православных братств. «Новое Движение сохранило старое название «христианского», осталось открытым как верующим, так и ищущим студентам, но вся его деятельность стала органически связана с Церковью... мы не только молились, но думали, спорили и жили в церкви»
[34]. К чести протестантских спонсоров, они вполне заметили этот принципиальный поворот, однако не препятствовали ему и не прекратили своей поддержки: хотя «между РСХД и центральными органами YMCA наблюдалось некоторое напряжение ... YMCA сделала уступку православным, разрешив образование de facto униконфессиональных групп»
[35]. Но, характерным образом, не пожелали увидеть поворота значительные круги в русской Церкви и, прежде всего, в ее консервативно-монархической карловацкой, или «синодальной» ветви, РПЦЗ. Архиерейский Собор в Сремских Карловцах в 1926 г. вынес следующее постановление: «1) Относительно американских интерконфессиональных организаций YMCA и YWCA [Христианская Ассоциация Молодых Женщин – С.Х.] подтвердить постановление... Собора 1921 года... признать эти организации явно масонскими и анти-православными и потому 2) не разрешать членам Православной Церкви организовываться в кружки под руководством этих и им подобных неправославных и нецерковных организаций и быть в сфере их влияний»
[36]. Эта позиция Собора отнюдь не разделялась, однако, основной церковной юрисдикцией диаспоры, возглавитель которой митрополит Евлогий полностью поддерживал РСХД, назначал духовников для него и в своих воспоминаниях написал: «Я стоял близко к этой организации»
[37]. Теснейшая связь с Церковью осталась незыблемым принципом Движения по сей день.
Пшеровский съезд открыл период стремительного развития и роста РСХД. В ближайшие годы проходит целая серия съездов, которые начали разделяться на общие (снова Пшеров, сентябрь 1924 г., Хоповский монастырь в Сербии, сентябрь 1925 г., Бьервилль, Франция, сентябрь 1926 г., Клермон, Франция, сентябрь 1927 г., Савэз, Франция, сентябрь 1928 г. и т.д.) и местные, по Франции, Германии, Чехии. Почти на всех этих съездах, как малое чудо, вновь и вновь возрождалась та атмосфера совершенного единения во Христе, всеобщей захваченности и духовного горения, которая для всех причастных делала эти события незабываемым духовным явлением – и благодаря которой раннее РСХД достойно стать особой страницей в истории русского религиозного сознания. Немалую важность имел местный французский съезд в Аржероне летом 1924 г., о котором Н.Зернов сообщает: «Собрался весь цвет русской церковной общественности... Главным событием было решение основать в Париже Духовную Академию... Движение было не только вовлечено в эти переговоры, но явилось той благоприятной почвой, на которой и зародилась сама идея создания высшей богословской школы нового типа»
[38]. В том же году было решено перенести секретариат Движения в Париж. Принято было и решение об издании печатного органа Движения. В декабре 1925 г. вышел в свет первый номер журнала «Вестник РСХД». Н.Зернов, ставший его первым редактором, пишет: «Этот журнал оказался одним из самых жизненных моих начинаний. Он продолжает выходить, когда я пишу эти строки (1972)»
[39]. Продолжает он выходить и когда пишу свои строки я (2004).
Особая, уникальная роль выпала на долю «Вестника» – а с ним и РСХД – в последние десятилетия коммунистического режима в СССР. Начиная уже с середины 60-х годов, устанавливаются контакты журнала (редактором которого был тогда, как и ныне, Н.А.Струве) с представителями свободной христианской мысли в России, в первую очередь, из окружения о. Александра Меня (1934–1990). Контакты вскоре приводят к активному двустороннему сотрудничеству: «Вестник» доставляется и распространяется в России, тогда как российские христиане делаются авторами журнала, подготавливают и присылают в редакцию самые разнообразные материалы о религиозной жизни в России, духовном противостоянии тоталитаризму. Сотрудничество крепло и расширялось, так что в 70-е годы «Вестник» стал в качестве мест своего выпуска указывать: Париж – Нью-Йорк – Москва. Присутствие и воздействие журнала в позднесоветской России – прежде всего, конечно, в столицах, но и не только в них – было столь заметно, весомо, что в последние годы советской власти «Вестник РСХД», без малейшего преувеличения, необходимо считать одним из самых влиятельных факторов формирования оппозиционного сознания. И, наряду с феноменом раннего РСХД, наряду с цементирующей ролью Движения во множестве религиозно-культурных начинаний, эта кардинальная роль «Вестника» в крушении коммунизма и содействии возрождению христианской мысли в России есть еще один вклад Движения в выполнение духовной миссии диаспоры.
***
Возвращаясь наконец к собственно философским и богословским начинаниям, напомним, что о неутомимой организационной активности Н.А.Бердяева в этой сфере мы уже говорили, описывая работу созданной им Религиозно-Философской Академии в Берлине (с ноября 1922 г.), а затем и в Париже (с ноября 1924 г.). Самым же важным и долговечным из бердяевских предприятий стал выпуск религиозно-философского журнала «Путь», который выходил в свет в Париже с сентября 1925 г. по март 1940 г. Издание осуществлялось на средства все той же YMCA, причастность которой к журналу обозначалась присутствием в редколлегии Г.Г.Кульмана (1894–1961), секретаря американского отдела YMCA, однако нисколько не была ни вмешательством, ни надзором; Кульман был тесно (в том числе и семейно, будучи мужем одной из сестер Н.Зернова) связан с русской диаспорой и предан русской культуре. Помимо него, в редакцию входил также Б.П.Вышеславцев. Журнал имел подзаголовок «Орган русской религиозной мысли», и он полностью оправдал его: он был истинным форумом русской религиозной мысли, и за годы его выхода трудно указать сколько-нибудь заметного участника философской и богословской жизни диаспоры, тексты которого не появлялись бы на страницах «Пути», либо не обсуждались на них. При этом, журнал успешно стремился не быть замкнутым в эмигрантском мире. «Хроника духовной жизни» освещала события, происходившие отнюдь не только в диаспоре; рецензии помещались как на труды эмигрантских авторов, так и на многие произведения западной мысли, в особенности, появлявшиеся во Франции и Германии. Первым в русской печати «Путь» обсуждал многие труды ведущих мыслителей ХХ в. – Гуссерля, Хайдеггера, Кассирера, Шелера, Бубера, Кейзерлинга, Н.Гартмана. Незыблемым правилом Бердяева как редактора были беспристрастность и беспартийность. Свобода слова и мысли была для него священна, и он не раз помещал на страницах «Пути» статьи, полемизировавшие с его собственными взглядами. Воинственный темперамент редактора сказывался и вообще в склонности к полемике; весь путь журнала отмечен чередой острых, вошедших в историю выступлений и дискуссий: полемические материалы вокруг евразийства в 1925–26 гг., дискуссия о книге И.Ильина «О сопротивлении злу силой» в 1926 г., материалы полемики о софиологии о.Сергия Булгакова (знаменитый «спор о Софии», о котором мы еще будем говорить) в 1935–36 гг., выступление в связи с конфликтом между Г.П.Федотовым и руководством Свято-Сергиевского Института в 1939 г. – и этот перечень еще далеко не полон. – В итоге всего, вышедшие книжки журнала –общим числом, их было выпущено 61 – являют собой разностороннюю и ценнейшую летопись религиозно-философской мысли диаспоры.
Стоит, впрочем, отметить, что при всей широте и беспристрастности Бердяева как редактора, та летопись, что им велась, явственно имела собственную линию и позицию. По характеру своей религиозности, Бердяев тяготел к вольному пониманию христианства – такому, которое видит в догмате и Церкви, в ее иерархии, канонах, правилах послушания, сковывающие начала, несущие опасность подавления личности, творчества и свободы. Подобный взгляд, унаследованный от эпохи Просвещения, был очень распространен среди приходящей к христианству интеллигенции: признавая и высоко ценя христианскую этику и мистику, вершины христианского умозрения, ее представители в то же время отделяли Церковь от этих вершин духовности, воспринимая ее как социальный институт, служащий частью механизмов господства и подавления. Разумеется, этот взгляд не разделялся большинством в церковной среде, однако это большинство не умело убедительно доказать несправедливость его – тем паче что практика русской Церкви синодального периода, предельно огосударствленной и бюрократизированной, давала изобилие фактов в его поддержку. Восстановление патриаршества, отделение Церкви от государства создали почву для перемен в устроении и жизни Церкви; и одновременно происходил процесс углубления экклезиологических представлений, очищения идеи Церкви от искажающих наслоений. Совершалось восстановление раннехристианского и патристического видения Церкви, в которое вносили вклад и определенные позднейшие продвижения экклезиологического сознания – прежде всего, идея соборности. В этом формировании обновленной православной церковности весьма существенную роль сыграли Церковь и богословская мысль в рассеянии; причем наиболее важным очагом его здесь стал Свято-Сергиевский Институт. Воззрения же Бердяева с их смутной и поверхностно-вольнодумной экклезиологией отвечали отходящему периоду русского религиозного сознания; и в той мере, в какой «Путь» служил их проводником, представляемая им линия христианской мысли была отлична от линии, представляемой Институтом. Две линии отнюдь не были антагонистичны, расходясь скорее в частностях и оттенках; и все же, чтобы понять направление философско-богословского процесса, важно учитывать их различие.
***
К нашему рассказу о русской мысли в Париже осталось добавить только последнюю страницу, но эта страница – главная для нашей темы: нам предстоит описать организацию, структуру, деятельность Православного Богословского Института. Выше мы уже бегло упоминали о его предыстории: на торгах, состоявшихся в день преподобного Сергия Радонежского, 18 июля 1924 года, митрополитом Евлогием была приобретена для русской Церкви в Париже довольно обширная усадьба с бывшею лютеранской кирхой, которая была в дальнейшем переустроена и освящена как православный храм во имя преподобного Сергия, тогда как усадьба получила название Сергиевского Подворья; сразу вслед за покупкою, на местном съезде РСХД в Аржероне (Нормандия), 21–28 июля 1924 г., принято было решение о создании на территории Подворья высшей богословской школы. Так описывает владыка Евлогий первые шаги организации будущего знаменитого института: «Богословский Институт образовался быстро – в первый же год существования Подворья. Сразу по возвращении с Конференции Христианского Движения мы приступили к разработке устава и программы. ... После Пасхи [1925 г.] приехали протоиерей Булгаков и другие профессора, и мы решили открыть прием студентов. Хотя была весна... мы приняли все же десять человек... С осени работа в Институте окончательно наладилась»
[40]. Весьма стоит привести и характеристику уклада и духовной атмосферы в Институте: «Внешний вид помещений: аудиторий, дортуаров, трапезной... был скромный, примитивный, граничивший с бедностью, но среди этого убожества веял подлинный церковный дух. Храм Подворья... стал центром институтской жизни. Ежедневное посещение церковных служб было для студентов обязательно. Богослужение ... отличалось строгостью церковного стиля, напоминая монастырские службы. Воспитанники были одеты в подрясники и походили на послушников. Трапезу они вкушали молча, слушая чтение прологов или житий»
[41], – и, резюмируя, владыка Евлогий говорит о «строго монашеском направлении институтской жизни». Без сомнения, это направление немало содействовало тому, что в дальнейшем Свято-Сергиевский Институт оказался теснейше причастен к новым исследованиям мистико-аскетической (исихастской) традиции Православия, имевшим принципиальную важность для всего православного богословия.
Высокая репутация, которую уже вскоре приобрела новая духовная школа, была достигнута, в первую очередь, незаурядным уровнем ее профессорского состава. Здесь собран был цвет русской религиозной мысли и богословской науки, и долгое время, в течение нескольких десятилетий, академическому сообществу Института удавалось удерживать общий уникально высокий уровень. Начальный состав был следующим:
прот. Сергий Булгаков (догматическое богословие и Священное Писание Ветхого Завета);
А.В.Карташев (история Церкви общая и русская);
Г.В.Флоровский (патрология);
С.Л.Франк, Н.О.Лосский, Б.П.Вышеславцев (философия);
С.С.Безобразов (Священное Писание Нового Завета; греческий язык);
Г.П.Федотов (история Западной Церкви; латинский язык);
Еп. Вениамин (Федченков), В.Н.Ильин (литургика);
Еп. Вениамин (Федченков), Н.К.Кульман (церковнославянский язык);
Л.А.Зандер (логика);
А.Г.Чесноков (теория церковного пения).
Из перечисленных лиц, Франк и Лосский были приглашены лишь для прочтения одного философского курса, тогда как все остальные вошли в постоянное ядро преподавательского сообщества Института (Флоровский, Федотов, Чесноков стали членами этого сообщества со второго (1926–27) учебного года). В ближайшие годы к постоянному ядру присоединились также: В.В.Зеньковский (после пребывания в США, в 1927 г. он стал профессором Института, постоянно читающим философию; долгое время он был и деканом Института), архим. Киприан (Керн) (пастырское богословие, впоследствии патрология), Н.Н.Афанасьев (каноническое право), В.В.Вейдле (история церковного искусства). Предметы, читаемые многими членами этого ядра, в разные годы сильно менялись; в те или иные периоды в числе преподавателей появлялись также многие другие лица – в частности, К.В.Мочульский (1892–1948, талантливый литературовед), иеромонах Лев Жилле (1892–1980, автор широко известных на Западе трудов о православной духовности и молитве). Иногда, аналогично приглашению Франка и Лосского, приглашались маститые ученые для прочтения отдельных курсов: так, Н.Н.Глубоковский (1863–1937, крупнейший историк Церкви, патролог, богослов, преподававший в Болгарии) прочел два курса по Священному Писанию Нового Завета, а С.В.Троицкий (1878–1972, один из авторитетнейших канонистов, обосновавшийся в Сербии) – курс церковного права
[42]. Академическое сообщество Института отличалось необычайной творческой продуктивностью
[43], и многие произведения его членов, созданные в довоенный период, вошли в классический фонд русской религиозной мысли. В первую очередь, здесь должны быть названы:
– серия основных богословских трудов о. Сергия Булгакова – «малая трилогия» («Купина Неопалимая» (1927), «Друг Жениха» (1927), «Лествица Иаковля» (1929)), «большая трилогия», или трилогия «О Богочеловечестве» («Агнец Божий» (1933), «Утешитель» (1936), «Невеста Агнца» (1945)), «Православие. Очерки учения Православной Церкви» (франц. изд. 1932, англ. изд. 1935, рус. изд. 1964) и ряд др.;
– первые труды о. Георгия Флоровского по патристике («Восточные Отцы IV века», 1931, «Византийские Отцы V–VIII веков», 1933) и его же знаменитые «Пути русского богословия», 1937;
– труды по агиологии и духовной литературе Г.П.Федотова («Филипп, митрополит Московский», 1930, «Святые Древней Руси», 1933, «Стихи духовные», 1935) и его же культурфилософская эссеистика, сложившаяся в цельную концепцию идейного развития России и феномена русской интеллигенции и ставшая поздней, уже в наши дни, широко популярной и влиятельной (см. сборники «Новый град», 1954, «Лицо России», 1967 и многие переиздания);
– капитальные сочинения А.В.Карташева по церковной истории («Очерки по истории русской Церкви» в 2-х томах, 1959, «Вселенские соборы», 1963).
Наряду со «звездным составом» профессоров, вскоре обозначились и другие ценные стороны нового института. Высокий научный уровень наставников соединялся с энтузиазмом к начатому делу; общая жизнь в Православии, в Церкви, и одновременно – вне родины, в изгнании, необычно прочно связывала студентов и педагогов, создавая атмосферу единения, преданности общим ценностям. «Большинство поступающих были люди убежденные, идеалисты, через Церковь пришедшие к решению посвятить себя церковному служению»
[44], – свидетельствует владыка Евлогий, бессменный ректор Института вплоть до своей кончины в 1946 г. Следствием этого был высокий уровень получаемого образования. Разумеется, главным назначением Института была подготовка священников для русской Церкви в рассеянии, и большую часть выпускников по окончании ожидала трудная участь пастырей разбросанных и бедных эмигрантских приходов. Однако наиболее одаренным студентам предоставлялись от Института или добывались со стороны стипендии для подготовки к ученому званию, и в дальнейшем они нередко становились преподавателями Института (что постепенно сделалось основным путем пополнения его кадров); а целый ряд из них стали известными и крупными православными богословами – назовем здесь хотя бы П.Н.Евдокимова (1901–1970, вып. 1928 г.), прот. Александра Шмемана (1921–1983, вып. 1945 г.), прот. Иоанна Мейендорфа (1926–1992, вып. 1949 г.). К тридцатилетию работы Института в числе его выпускников было также 6 епископов.
Складывавшаяся высокая репутация института постепенно переходила границы русской эмигрантской среды. Состав студентов с самого начала не был ограничен этой средой, и в дальнейшем все более выходил за ее пределы. Этот процесс принял особенно активный характер после Второй мировой войны. Так, в 1953-54 учебном году в числе 30 студентов Института насчитывалось уже всего 13 русских, и было 6 греков, 3 серба и 2 болгарина. Как ясно показывают эти пропорции, Институт уверенно превращался из эмигрантского – в общеправославный очаг богословского образования и церковной науки; и постепенно, в дополнение к прежней славе громких профессорских имен, он приобрел новое признание и славу как, по советскому выражению, «кузница кадров» для православного богословия во всем мире. Сегодня его выпускники играют заметную роль в богословии и церковной науке, церковной жизни почти всех православных стран. Некую часть студентов всегда составляли также представители западного мира, принявшие Православие. Доля таких студентов неуклонно росла, что неизбежно отражалось на порядке преподавания и учебы. Отчет о деятельности Института за 1952-53 гг. говорит об «увеличении числа иностранцев среди студентов» и отмечает в этой связи, что «ряд лекций и курсов читались и читаются на иностранных языках»
[45]. К настоящему времени эти тенденции еще значительно возросли.
Через десять лет своего существования, Сергиевский Институт оказался в центре богословской полемики, ставшей одним из ключевых и, если угодно, символических событий в развитии не только русской, но и вообще православной богословской мысли ХХ века. Этой полемикой был знаменитый парижский «спор о Софии» – спор о догматическом содержании и значении софиологического учения о. Сергия Булгакова, который со дня основания Института и до своей кончины в 1944 г. оставался центральной и самой почитаемой фигурою в Институте. О значении этого спора мы еще скажем ниже; предметная же суть его такова. Учение о. Сергия – одна из систем в русле софиологической метафизики всеединства, начало которому было положено Вл. Соловьевым. В первой половине ХХ в. это русло стало центральным для русской философии; системы, которые строились на концепции всеединства, использующей, в свою очередь, библейскую мифологему Софии Премудрости Божией, были развиты, помимо Булгакова, также о. Павлом Флоренским и Е.Н.Трубецким. Поставление Софии в центр онтологии и учения о Боге всегда вызывало вопросы и возражения со стороны христианской догматики (в особенности, в части догмата Троичности), однако прямые обвинения в еретичности раздались лишь тогда, когда в книге «Агнец Божий» о. Сергий представил свою софиологию не в философской форме, подобно предшествующим учениям, а в форме системы догматического богословия. Обвинения были сразу облечены в форму церковных осуждений, которые почти одновременно последовали с двух противоположных сторон: от монархической Русской Православной Церкви За Рубежом, или же Архиерейского Синода в Сремских Карловцах (решение от 30 окт. 1935 г.), и от Московского Патриархата (решение от 7 сент. 1935 г.). Московское решение было при этом вынесено на базе критического анализа учения Булгакова, проделанного в Париже В.Н.Лосским и представленного возглавлявшему Московскую Патриархию митрополиту Сергию (Страгородскому).
На оба осуждения о. Сергий представил богословские ответы-возражения; тогда как митрополит Евлогий, одновременно ректор Института, где Булгаков преподавал богословие, и глава церковной юрисдикции, к которой он принадлежал, учредил богословскую комиссию из 10 членов для рассмотрения и догматической оценки его учения. Комиссия вынесла решение, полностью оправдывающее софиологию Булгакова от обвинений в ереси; однако два ее члена, прот. Сергий Четвериков и о. Георгий Флоровский, выразили особое мнение, согласно которому обсуждаемое учение было богословски ошибочным, хотя и не было ересью в точном смысле, поскольку оставалось в границах богословского исследования и не притязало заменить собой учение Церкви. В аспекте путей развития русского богословия, в этом споре наиболее существенны позиции Флоровского и Вл. Лосского, которым в ближайшем будущем предстояло стать ведущими авторами нового богословского направления, созданного православной мыслью. То, что оба они приняли участие в споре о Софии, значительно и симптоматично: мы можем считать, что в негативной форме решительного неприятия софиологии вызревавшее направление возвестило впервые о своем появлении. Сам же спор, как мы заметили выше, получает значение важного и даже символического события: события встречи и столкновения старого и нового, уходящего и нарождающегося этапов русской религиозной мысли.
Следует, безусловно, сказать и о позиции Института – а с тем и всего основного русла русской Церкви в рассеянии – по отношению к прочим руслам, а также и к инославию. Различные ветви эмигрантской Церкви получили название «юрисдикций», что означало их самоопределение по признаку подчиненности той или иной высшей церковной власти, священноначалию. Исходное единство Церкви означало подчиненность всего ее клира Московскому патриаршему престолу, восстановленному решением Собора 1917-18 гг., и осуществлялось непосредственно в форме подчинения митроп. Евлогию, который назначен был Патриархом Тихоном (указом от 5/22 мая 1922 г.) управляющим всеми русскими заграничными приходами. Это единство постепенно разрушалось действиями Архиерейского Синода в Сремских Карловцах (Сербия), возглавлявшегося митрополитом Киевским и Галицким Антонием (Храповицким, 1864-1936) и тесно связанного с монархическими кругами эмиграции; уже в ноябре 1921 г. Карловацкий Собор принял политические заявления о восстановлении династии Романовых, впоследствии дезавуированные патриархом Тихоном. Митроп. Евлогий не воспользовался своими полномочиями во всем объеме, не распустив Синод и не взяв его под свой контроль. Синод же не объявлял о выходе из подчинения патриаршей власти, однако de facto осуществлял его – продолжал политическую активность и действовал отнюдь не в согласии с Евлогием; все более усугубляя эту линию, на очередном Соборе в январе 1927 г. он запретил Евлогия в служении и разорвал молитвенное общение с ним. То был первый раскол эмигрантской Церкви: в ней появились «евлогианцы» и «карловчане».
Вскоре последовал и другой раскол. В 1927 г. митрополит Сергий (Страгородский), управлявший русскою Церковью в (канонически весьма неясной) должности «заместителя местоблюстителя патриаршего престола», направил всем заграничным клирикам русской Церкви предписание дать письменное обязательство лояльности советскому правительству. Это требование Москвы еще не породило раскола: владыка Евлогий предложил смягченную формулировку требования как «обязательства не делать амвон ареной политики», и в такой форме обязательства были даны. Но несколько позднее раскол все же совершился. В 1930 г. Евлогий принял в Лондоне участие во всеанглийском молении о страждущей русской Церкви; вскоре после этого, указом Московской патриархии он был уволен от церковного управления, и его преемником был назначен митрополит Литовский Елевферий. Однако в подчинение Елевферию перешла лишь малая часть духовенства и мирян; а митрополит Евлогий достиг соглашения со Вселенским (Константинопольским) Патриархатом о том, что подчиненные ему приходы будут приняты в юрисдикцию Вселенского Патриарха в качество особого Русского Экзархата. Тем самым, эмигрантская Церковь оказалась разбита уже на три группировки-юрисдикции, не имевшие взаимного общения: «карловчане», управлявший которыми Синод не имел признания ни одной из православных Церквей, «евлогианцы», образовавшие Экзархат Вселенского Патриархата, и небольшая часть, сохранившая подчинение Московской Патриархии. В основе своей, подобное строение (или нестроение?) она сохранила и до сего дня.
Юрисдикция, представляемая экзархатом митрополита Евлогия, занимает в этом спектре центральное положение, сразу в ряде аспектов: она была наиболее многочисленна и, кроме того, придерживалась наиболее взвешенных, центристских позиций, стремясь соблюдать отделенность Церкви от политики. Сходной линии придерживалась и иерархия русской Церкви в США. Карловацкая юрисдикция, политизированная, резко антисоветская и монархическая, представляла правое крыло, тогда как малая часть эмиграции, оставшаяся в каноническом подчинении Московского Патриархата, может рассматриваться как левое крыло, хотя ее представители в подавляющем большинстве отнюдь не были сторонниками большевиков и сделали свой выбор по церковным, а не политическим основаниям, видя свой долг в сохранении единства Церкви. Весьма стоит указать, что при численной малости, московская юрисдикция включала в себя целый ряд крупных деятелей Церкви и богословов: к ней, в частности, принадлежали В.Н.Лосский (1903–1958), митроп. Вениамин (Федченков) (1880–1961), митроп. Антоний (Блум) (1914–2003), архиеп. Василий (Кривошеин) (1900–1985), архим. Софроний (Сахаров) (1896–1993), иконописцы о. Григорий Круг и Л.А.Успенский и др.
Что же касается Богословского Института, то он был основным средоточием духовных и культурных сил евлогианского экзархата, и юрисдикционные распри неизбежно отражались на его деятельности. В мемуарах владыки Евлогия читаем: «Немало нашему Богословскому Институту вредят карловцы, стараясь подорвать к нам доверие как среди русских, так и среди иностранцев»
[46]. Об отношениях с противоположным крылом пишет В.В.Зеньковский, другой руководитель Института: «Одно политическое направление... не допускается пребыванием в Институте, и при этом в равной мере для студентов и для профессоров. Речь идет о советской ориентации. По этому признаку не был принят в число студентов весною 1947 г. афонский иеросхимонах Софроний Сахаров... и должен был оставить преподавание в Институте осенью того же 1947 г. иером. Николай Еремин, после того как он занял пост настоятеля Трехсвятительского Подворья в Париже, юрисдикции патриарха Московского»
[47]. Еще ранее, вскоре после основания Института, по той же причине «советской ориентации», из Института были исключены члены Братства Св. Фотия, о котором мы говорили выше. Без сомнения, руководство Института искренне стремилось к тому, чтобы в Институте соблюдались принципы духовной свободы, и в обязательные нормы входила лишь верность Церкви и началам христианского благочестия. Но при всем том, в конце 30-х гг. оригинальная, свободолюбивая публицистика Г.П.Федотова вызвала в Институте открыто враждебную реакцию и до такой степени создала вокруг него атмосферу гонения, что, покидая Францию в начале ее оккупации, Федотов – один из основных профессоров Института, всегда любимый студентами, – «подав в отставку, хотя все будущее было еще не ясно, сказал: «Одно, слава Богу, с Богословским Институтом все кончено»»
[48]. И этот пример убедительно показывает, сколь трудно было держаться духовной широты в давящей атмосфере эмиграции.
Немаловажное значение для путей русской Церкви имела активность Института в контактах с инославием. Уже в Отчете о деятельности Института за 1927–30 гг. отмечалось, что «Богословский Институт... занял значительное место в междухристианском общении»
[49]. Развитие такого общения явилось новым элементом в церковной жизни, оно не отвечало прежней церковной политике. Владыка Евлогий пишет: «Русская Церковь [прежде] чувствовала себя самодовлеющей и слабо откликалась на попытки сближения с нами инославных Церквей... Нашему несчастью – эмигрантскому существованию – обязаны мы тем, что Русская Церковь, оказавшись в соприкосновении с инославной стихией, была самой жизнью вынуждена войти в общение с нею и тем самым преодолеть свою косность и обособленность»
[50]. Формы, в которых складывалось общение, были разнообразны, определяясь отчасти внутренними, сущностными соотношениями христианских конфессий, а отчасти обстоятельствами эпохи, исторического момента. Контакты обрели два главных направления или русла: сношения с Англиканской Церковью и участие в экуменическом движении; и можно сказать, что первое из этих русл стимулировалось более внутренними факторами, тогда как второе – внешними.
Вероучение англиканства, как известно, неоднородно: в нем издавна существуют два течения, которые именуются «Низкою» и «Высокою» Церковью и весьма различаются в своем отношении к Преданию и богослужению. Если в Низкой Церкви (Low Church) роль этих составляющих низведена, минимизирована не менее, чем в других ветвях протестантства, то Высокая Церковь (High Church), отвергая папизм, в то же время стремится сохранять святоотеческое Предание и большее, нежели в остальном протестантстве, богатство и глубину богослужения и богопочитания (особое развитие эти стремления получили в весьма влиятельном Оксфордском Движении сер. XIX в.). Эти позиции не раз отмечались в русском богословии как наиболее близкие к Православию из всех инославных конфессий, и на их почве в истории не раз возникали попытки взаимного сближения. Обещающим началом были дружеские контакты и богословская переписка А.С.Хомякова с деятелем Оксфордского Движения архидиаконом У.Пальмером (1811–1879). В дальнейшем, в России действовало Общество Ревнителей соединения Восточно-Православной и Англиканской Церквей; и таким образом, контакты церковной диаспоры с англиканами, ставшие активными во второй пол. 20-х гг., уже имели за собою традицию. В январе 1927 г. в городке Сент-Албанс близ Лондона состоялась первая встреча православных (представлявших Богословский Институт и РСХД) и англикан. Она не просто была удачна, но стала глубоким духовным событием для участников; встречи продолжились, и уже на второй из них (также в Сент-Албанс, 28.12.1927–2.01.1928) принято было решение о создании совместного англо-православного Содружества Св. мученика Албания и Преподобного Сергия Радонежского. Председателем Содружества был выбран представитель англикан, епископ Вальтер Трурский (Фрир, 1863–1938), вице-председателем – о. Сергий Булгаков. Работа Содружества включала регулярные съезды, организацию встреч, богословских собеседований, проповеди в храмах обеих конфессий, широкую лекционную активность, издание литературы. Находясь под покровительством главы Англиканской Церкви, архиепископа Кентерберийского, она шла успешно; в послевоенные годы Содружество пережило новый период активного роста. Длительное время (до 1947 г.) секретарем и самым активным деятелем Содружества был Н.М.Зернов. В своих позднейших записках он писал: «Содружество оказалось жизнеспособным и стало впоследствии одной из самых деятельных неофициальных организаций, работающих для сближения восточных и западных христиан»
[51].
Что же до экуменического движения, то широта православного участия в нем в немалой мере обязана историческому совпадению: появление нашей церковной диаспоры на Западе совпало по времени с началами этого движения. Уже в 1920 г. митроп. Евлогий принял участие в Конференции Христианских Вероисповеданий в Женеве – первой в ряду тех встреч, на которых происходило постепенное формирование движения. Его впечатления были весьма положительны: «Конференция имела для православия серьезное значение... встреча и непосредственное знакомство в рамках нравственного взаимообщения ради высокой и актуальной цели, волнующей всех христиан, нас с протестантами сблизили... достигнут был положительный результат»
[52]. Далее, в одной из главных встреч начального периода, конференции «Вера и церковный строй» в Лозанне в 1927 г., участвуют уже митроп. Евлогий, прот. Сергий Булгаков, Н.Н.Глубоковский (последний – в качестве делегата Болгарской Церкви), и о.Сергий выступает с докладом о почитании Божией матери, святых и икон, а также избирается членом Комитета движения «Вера и церковный строй». На конференциях 1937 г. в Оксфорде и Эдинбурге, которые подводят Движение к учреждению его руководящего органа, Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), участвуют уже представительные делегации из 5–10 профессоров Богословского Института, и о. Георгий Флоровский избирается членом весьма ответственного «Комитета 14-ти», на который была возложена миссия организации ВСЦ. Начиная с Эдинбургской конференции, где он был также главой секции о служении в Церкви и одним из составителей резолюции о церковном служении и таинствах, Флоровский выдвигается на руководящие позиции в Движении и течение длительного периода остается одним из наиболее влиятельных его лидеров; на Учредительной Ассамблее ВСЦ в 1948 г. в Амстердаме он был избран членом Исполнительного Комитета ВСЦ. «Деятельность Флоровского на Амстердамской ассамблее и в предшествующий ей период утвердила его положение как богослова с мировой репутацией и ведущего выразителя православных взглядов во всемирном движении за соединение церквей»
[53]. В прямой связи со своей активностью в экуменическом движении он начинает усиленные экклезиологические штудии, вырастающие в цельный опыт экклезиологии; и эта экклезиология Флоровского, главные тексты которой возникали в форме докладов на экуменических встречах, не только влияла на платформу Движения, но и осталась одним из крупнейших достижений богословской мысли диаспоры.
Как ясно уже из сказанного, участие богословов диаспоры в Экуменическом движении отнюдь не было простым присоединением к тем программам и целям, что выдвигались протестантскими инициаторами Движения. Как прежде при включении в деятельность YMCA и Студенческого Христианского Движения, православные участники обнаруживали собственную духовную идентичность, в основе которой был опыт православной церковности; и эту идентичность они неукоснительно отстаивали и сохраняли. Разумеется, это означало существенные расхождения с линией протестантского большинства, и суть этих расхождений как в Студенческом Движении, так и в Экуменическом Движении была одною и той же, коренящейся в общих различиях православной и протестантской духовности. В обоих движениях установкою протестантов был «интерконфессионализм», который мы кратко охарактеризовали выше, говоря об истории РСХД: тактика контактов и объединения различных конфессий на почве их очевидных общих элементов, с решительным «вынесением за скобки», удалением из поля зрения и обсуждения всего разделяющего, всех элементов различия и несогласия. И в обоих движениях эта установка вызывала неприятие православных, твердо ощущавших в ней религиозную глухоту, нечувствие самой живой сути религиозной жизни: ибо как раз несхожие, уникальные черты духовной традиции, как черты живого лица, отражают ее глубинную суть, ее ядро, которое нельзя «вынести за скобки», – без него традиция пуста и мертва. Еще на Пшеровском съезде РСХД это ощущение сумел выразить Бердяев: как свидетельствует В.В.Зеньковский, в своем докладе он «чрезвычайно просто и ясно показал, что при интерконфессионализме встреча христиан идет по линии
минимализма, т.е. снижения нашего церковного сознания до минимума»
[54]. В Экуменическом Движении подобную роль взял на себя Флоровский: «Начиная с Эдинбурга, усиленное подчеркивание реальных глубин проблемы разделения Церквей стало отличительным признаком всех выступлений Флоровского на экуменических встречах»
[55].
В отличие от выхолащивающего протестантского подхода, у православных участников складывался иной подход, иной образ экуменического общения. Они не отрицали духовной оправданности и нужности соединительных усилий, но были убеждены, что каждый должен входить в общение со своим лицом, со всею полнотой опыта своей духовной традиции; и целью участия в общении тогда будет свидетельство об этой полноте, попытка ее донести во всех ее неотъемлемых аспектах, включая, прежде всего, догматические и литургические, которые в интерконфессиональном подходе практически целиком отстранялись. Задача свидетельства родственна миссионерству, и на Амстердамской Ассамблее Флоровский охарактеризовал православное участие в ней именно как миссионерскую активность. У части протестантов это вызвало резкое недовольство – а между тем за характеристикой о. Георгия стояли основательные и зрелые богословские представления о межконфессиональном общении христиан. Миссия среди инославных, среди разделяющих веру во Иисуса Христа как Бога и Спасителя, может пониматься как призыв к достижению истинной полноты и глубины устремления ко Христу – той глубины, на которой устремление ко Христу раскрывается как благодатная жизнь; и на этой глубине духовные разделения могут быть непостижимо преодолены, сняты по Божией благодати. В основе православной позиции была убежденность, что подлинная встреча христиан разных конфессий возможна, однако возможна не на пустой поверхности «минимализма», а в глубине неумаленного духовного опыта – и только эта встреча на глубине может быть плодотворна.
При общности этого основного убеждения, православные богословы, однако, существенно разделялись в понимании того, что же значит «встреча на глубине» и каков путь к ней. Нам важно отметить это разделение: в нем, как и в «споре о Софии», отразился процесс развития, который вел русскую мысль от религиозного модернизма Серебряного Века к возврату в русло патристического Предания и творческому продолжению этого русла. Разделение ярко проявилось в конкретном эпизоде: как рассказывает Н.М.Зернов, третий съезд Содружества Св. Албания и Преп. Сергия Радонежского в июне 1933 г. «ознаменовался дерзновенным выступлением о. Сергия Булгакова, выносящим рассуждения о соединении Церквей... к радикальному пересмотру многих общепринятых до сих пор понятий о границах Церкви и о роли и значении таинства Евхаристии. Это было его знаменитое предложение допустить к причастию англикан (partial intercommunion)»
[56]. Обоснование, которое выдвинул Булгаков, следовало типичной логике религиозного модернизма. Он отрицал принятое положение о необходимости догматического согласия для общения в таинствах, называя это положение «мнимой аксиомой, которая никогда не проверялась» и вопрошая: «Почему же считается необходимым предварительно согласиться во мнениях, а не наоборот, не в единстве ли таинства надо искать пути к преодолению этого различия [различия догматов]?»
[57] Эта позиция Булгакова игнорировала кардинальное различие между догматами Церкви, рождаемыми из ее соборного опыта, и простыми мнениями богословов, и, на поверку, трактовала путь к «встрече на глубине» как путь адогматического мистического волюнтаризма. Ее горячо поддержали Карташев и Федотов, однако, как и в «споре о Софии», возобладала иная позиция, характерная для дальнейшего пути русского богословия. Так резюмирует все дискуссии о. Александр Шмеман, один из крупных богословов следующего поколения: «по этому вопросу [экуменическому – С.Х.] зарубежное русское богословие разделилось. Одни само Экуменическое движение восприняли как своего рода новый онтологический факт в христианской истории, требующий глубокого пересмотра экклезиологических установок, принятых в «до-экуменическую» эру. Главными представителями этого течения были о. Сергий Булгаков, Л.А.Зандер, П.Н.Евдокимов. Им противостояли и с ними спорили те, кто, не отрицая необходимости православного участия в Экуменическом движении, не находили возможным никакой «пересмотр» православного отношения к инославным и видели в экуменизме только место свидетельства о православии перед лицом инославных христиан. Это направление многие годы возглавлял о. Г.Флоровский»
[58]. Нам же в завершение стоит добавить, что сегодняшняя критика экуменизма, огульно клеймящая его как «главную ересь ХХ столетия», заведомо игнорирует и сложность проблемы, и непростую историю Движения, не делая различия между протестантским интерконфессионализмом и очень отличною от него богословской позицией, выношенной первым поколением православных участников Движения.
Военные годы стали переломным временем в истории Сергиевского Института. Та академическая жизнь, которая постепенно восстановилась и наладилась после поры лишений, оказалась уже во многом отличной от прежнего периода. Старая эмиграция уходила, лишь очень отчасти сумев передать следующему поколению свою верность Православию, русской культуре и языку; и это поколение, и появившаяся вторая эмиграция в своем большинстве уже были люди иного духа и иных ценностей. Соответственно, росла пропорция нерусскоязычных студентов Института, а с ней и пропорция нерусскоязычных курсов, и этот культурный процесс не был безболезненным. Что еще важнее, состав профессоров переставал быть уникальным, «звездным» сообществом; помимо ухода старшего поколения, причиной к тому послужил и переезд многих талантливых ученых в Америку. Этот переезд был тесно связан со становлением православного богословского образования в США и, в первую очередь, с организацией Свято-Владимирской Богословской Академии в Нью-Йорке (о чем мы еще скажем ниже). Не без прямой заслуги Сергиевского Института, его преподавателей, его выпускников, разъезжавшихся повсюду, в православном мире происходило постепенное укрепление и осовременивание богословской школы, повышение уровня богословской мысли. Однако для самого Института происходивший процесс нес постепенную утрату его исключительного положения, лидерства. В последние десятилетия ХХ века, Парижский Богословский Институт следует считать лишь одной из ведущих богословских школ в православном мире, вместе с целым рядом богословских академий и факультетов в Америке, Греции, Югославии. Но, хотя его слава в прошлом, едва ли стоит рассматривать последние этапы его пути как время кризиса и упадка; справедливее будет видеть в них достойную передачу преемства – после исполненной достойно миссии. Как и во многих делах, многих аспектах существования диаспоры, в деятельности Института была несомненная доля жертвенного служения.
АМЕРИКАНСКИЙ ФИНАЛ
Вторая Мировая война рассматривается всегда как рубеж, разделяющий два радикально разных периода в истории эмиграции. Больше того, историю первой эмиграции как культурного явления обычно и не продолжают за этот рубеж; за него переходит уже не само явление, а только лишь биографии его отдельных героев – тем самым, как бы переживших свое время. Но, если первый взгляд имеет под собою все основания, то последняя установка, хотя и привычна, но не оправданна. Так, по крайней мере, обстоит дело в нашей теме, в философском и богословском творчестве диаспоры: как мы попытаемся показать, только в заключительный, послевоенный период в этой сфере возникают последние важные привнесения, складывается некий цельный итог – и выступает смысл всего пройденного пути. В противном же случае, если послевоенный финал не включается как необходимый и полноценный период в духовную и культурную историю диаспоры, в этой истории невозможно увидеть рождения нового, и она обессмысливается, представляясь лишь «усыхающим довеском» Серебряного Века – тогда как в действительности она явила собою его творческое преодоление.
Как мы сказали уже, после войны происходит существенное перемещение академических сил в Америку; и именно здесь, главным образом, разыгрываются те смыслоносные процессы, что нам предстоит описать. В первые же послевоенные годы силами российской диаспоры в США создается новый важный центр богословского образования. Этот центр возникает на базе Свято-Владимирской Православной Богословской Семинарии, которая существовала в Нью-Йорке с октября 1938 г., будучи первоначально весьма малой духовной школой, не имевшей даже статуса высшего учебного заведения. Процесс расширения и роста начинается с появления в Семинарии первых новых профессоров, прибывших из Европы: Г.П.Федотова в 1945 г., Е.В.Спекторского в 1947 г., Н.С.Арсеньева в 1948 г. Уже в 1946 г. Г.П.Федотовым и П.П.Зубовым был составлен и подан церковной власти меморандум о реорганизации Семинарии, предполагавший ее преобразование в высшую богословскую школу с полной системой соответствующих кафедр. Был представлен и список кандидатов на новые профессорские места; на кафедру догматического богословия и патристики предлагалась кандидатура о. Георгия Флоровского. Меморандум был принят и полностью реализован; в соответствии с новым статусом, в июне 1948 г. Семинария была переименована в Свято-Владимирскую Православную Богословскую Академию. Одним из новых профессоров был также Н.О.Лосский, который так описывает этот период: «Осенью 1947 г. русская семинария в Нью-Йорке превратилась в высшее учебное заведение, в Свято-Владимирскую Духовную Академию, и я был приглашен в нее в качестве профессора философии. Деканом ее был недавно рукоположенный епископ Иоанн (Шаховской). В числе профессоров были историк Церкви Г.П.Федотов, Н.С.Арсеньев. Вскоре приехал такой знаток патрологии и богословия как от. Георгий Флоровский. Из Италии приехал Евгений Васильевич Спекторский. Духовная Академия стала высшею школою, имеющею в своем составе значительные силы»
[59]. В дальнейшем этот приток сил продолжался: преподавателями Академии стали о. Александр Шмеман (с 1951 г.), С.С.Верховской (с 1953 г.), о. Иоанн Мейендорф (с 1959 г.). Как и Федотов, и Флоровский, все они прибыли из Сергиевского Института. Свято-Владимирская Академия во многом воспроизводила структуру Института, достигла его уровня и начинала превосходить его – что не всегда воспринималось в Париже безболезненно. Так позднее писал об этом процессе Мейендорф: «Тот факт, что о. Шмеман уехал в Америку (1951), присоединившись к Свято-Владимирскому сообществу, ... переживалось у Св.Сергия как нечто, близкое к предательству, тем паче что за этим последовали аналогичные переезды С.С.Верховского (1953) и Иоанна Мейендорфа (1959). Однако дальнейшая история и развитие Православия в Америке, как представляется, показали, что эти переезды были оправданны – прежде всего, потому что сам Сергиевский Институт, хотя и лишившись части своей корпорации, не только выжил, но и постепенно переориентировал себя и свои программы в пан-православном направлении: что и сделало выживание возможным»
[60].
«
Переориентация в пан-православном направлении»: эта формула Мейендорфа вполне может служить выражением той общей концепции и стратегии, которая была выработана и воплощена религиозно-философскими силами диаспоры в финальный период их творческой активности. Формула до буквальности совпадает с характеристикой деятельности о. Георгия Флоровского, который в 1949–55 гг. был деканом Свято-Владимирской Академии: «Главная цель Флоровского как декана состояла в том, чтобы придать Семинарии пан-православную, вселенскую (ecumenical) ориентацию»
[61]. Именно Флоровскому принадлежала решающая роль в создании и проведении этой стратегии. Еще до занятия поста декана, в своей первой актовой речи 4 ноября 1948 г. он говорил: «Современный православный богослов... должен осознать, что он должен обращаться ко вселенской аудитории. Он не может замкнуться в узкой скорлупе какой-либо местной традиции, поскольку Православие... это не местная традиция, а традиция, в своем существе, вселенская»
[62]. Выведению Православия в Америке во вселенскую перспективу и общекультурный контекст служило и преподавание Флоровского в ведущих университетах США – Колумбийском, Гарвардском, Принстонском, оставившее глубокий след в академической среде, в сообществах славистов, теологов, историков. Невозможность глухого замыкания в своем национальном наследии была как идейным тезисом, так равно и фактом практической жизни Православия в Америке. Н.О.Лосский писал: «В Духовной Академии из сорока двух студентов только шесть могли слушать лекции на русском языке: многие молодые люди, принадлежащие ко второму, третьему поколению дореволюционной русской эмиграции утратили русский язык. Поэтому для четвертого академического года я приготовил оба курса на английском языке»
[63]. Флоровский же сразу объявил: «Я не буду преподавать по-русски, ибо это пустая трата времени»; и в годы его деканства английский был сделан единым языком преподавания в Академии. С 1952 г. Академия начинает выпускать богословский журнал «St Vladimir’s Seminary Quarterly» (выпускаемый поныне, с измененным в 1969 г. названием «St Vladimir’s Theological Quarterly»), который стал первым англоязычным православным журналом. В этот же период происходит все более широкий переход к английскому языку в богослужении приходов русской Церкви в Америке.
Разумеется, стратегия «пан-православной» или «вселенской» ориентации включала в себя далеко не только языковый аспект; она несла и существенное экклезиологическое содержание. В 1970 г. Московская Патриархия предоставила Северо-Американской Митрополии статус автокефальной Церкви, которая приняла название «Православной Церкви в Америке», the Orthodox Church of America. Каковы бы ни были фактические причины и обстоятельства этого события, богословы диаспоры интерпретировали его как практическое утверждение экклезиологических идей, соответствующих обсуждаемой стратегии. А. Шмеман, бывший главою Свято-Владимирской Академии в 1962–83 гг., передавал содержание события так: Русская Церковь в США «положила конец своей продолжительной ссоре с Матерью-Церковью, попросив и получив от нее статут полной административной независимости («автокефалии»), вычеркнула из своего наименования определение «русская», которое, после 175-летнего непрерывного существования на этом континенте, являлось явным пережитком, и приняла географическое определение («в Америке»), соответствующее ее местонахождению и ее призванию»
[64]. При нарочитой простоте, это описание богословски насыщенно и чревато. Как нетрудно понять, утверждение о. Александра, что «призванию» Церкви соответствует «географическое определение» и, напротив, не соответствует атрибут «русская», есть своеобразная формулировка
вселенскости Православной Церкви – свойства, которое мы обсуждали выше в связи с позициями Братства Св. Фотия. В отличие от Франции, в Америке не было туземного Православия, и потому путь к осуществлению вселенскости Церкви предстает несколько иначе. Во всяком месте рассеяния, Церковь русской диаспоры должна стать местной (поместной) Церковью, сняв для этого этническую границу: ибо именно «поместная Церковь... есть
полная Церковь... проявление и пребывание в данном месте Церкви Христовой»
[65]. Однако в существенном, экклезиология вселенскости у Шмемана и Мейендорфа, ведущих богословов Православной Церкви в Америке, не расходится с экклезиологией Вл.Лосского и Фотиевского Братства, а обе они не расходятся с еще одним известным опытом эмигрантской экклезиологии, который представлен был о. Николаем Афанасьевым (1893–1960), профессором Сергиевского Института. Приведенные нами тезисы Шмемана прямо перекликаются с Афанасьевым, в главном труде которого «Церковь Духа Святого» можно прочесть: «Согласно кафолической природе каждой местной церкви всё, что совершается в одной местной церкви, совершается не в ней самой, а в Церкви Божьей, а следовательно совершается во всех местных церквах... Церковь Божия во Христе... в полноте своего единства пребывает в каждой местной церкви с ее Евхаристическим собранием»
[66]. И за всем этим экклезиологическим руслом, проложенным богословами русского рассеяния, стоит та же мысль, та же интуиция: духовное задание диаспоры, путь ее выхода вовне, из эмигрантского отщепенства, заключается в осуществлении вселенскости Православия.
В конечном итоге, культура диаспоры сумела не просто достичь «вселенской ориентации», найдя и приняв соответствующие ей языковые и экклезиологические принципы. Она совершила большее: не только вошла в пан-православную и вселенскую перспективу, но стала в ней значимым явлением и заняла самостоятельное место, дав начало новому творческому этапу православной мысли. В известной мере, это – совокупный итог всей философско-богословской работы диаспоры; но главный вклад в этот итог внесли, несомненно, два достижения: новое осмысление православного отношения к патристике и Преданию, выразившееся в концепциях «христианского эллинизма» и «неопатристического синтеза», и новое осмысление богословского значения духовного опыта, исихастской аскетической практики и учения св. Григория Паламы. Первое из этих творческих достижений принадлежит целиком о. Георгию Флоровскому, тогда как второе связано, прежде всего, с именами о. Василия (Кривошеина), Вл.Лосского и о. Иоанна Мейендорфа.
Основополагающий принцип православно-церковного миросозерцания – определяющая, нормативная роль святоотеческого Предания в богословии и вероучении Церкви. Обычное понимание этого принципа всегда трактовало его как принцип жесткого консерватизма, предписывающий искать решение любых вопросов путем прямого, начетнического приложения текстов отцов Церкви. Под влиянием подобной трактовки складывался образ Восточного христианства как мира застывших архаичных воззрений, мира с боязнью нового, с запретом всякого творчества в интеллектуальной и духовной сфере. Такой образ был господствующим как в западных представлениях о Православии, так и в представлении вестернизованных культурных кругов в православных странах. Он, в свою очередь, диктовал, что путь свободного творчества, обращенного к современности, несовместим с принципом верности Преданию, и творчески развивающаяся мысль необходимо должна отбросить этот принцип. Всё это означало, что в сфере православной мысли (как и во многих других сферах культуры) складывалось противостояние, или же бинарная оппозиция консерватизм – модернизм. После продолжительного господства консервативного полюса, Русское религиозно-философское возрождение, вслед за Вл.Соловьевым, своим зачинателем и пророком, избрало, в целом, позиции модернизма; философия Серебряного Века – затем ставшая философией диаспоры – ориентировалась не на патристическое русло, но на русло традиции новоевропейской метафизики. Однако религиозная мысль диаспоры – ее молодого поколения, что шло следом за поколением философов Серебряного Века, – от этой ориентации отказалась.
Наглядной иллюстрацией отказа служит парижский «спор о Софии». Мы говорили о нем уже не раз – и сейчас вновь вернемся, чтобы дать ему уже окончательную историкокультурную оценку. В контексте нашей оппозиции, софиологическая система о. Сергия Булгакова – типичный образец богословского модернизма: принадлежа богословскому дискурсу, она, разумеется, обращалась к наследию патристики и не отрицала его авторитет; но, тем не менее, по своим идейным, эпистемологическим, методологическим установкам, она оставалась – как и предшествующая философия о. Сергия – свободным построением, направляемым субъективными интуициями автора. Если довериться оппозиции, это значит, что оппоненты софиологии были консерваторы; и их в самом деле, почти как правило, причисляли, и продолжают причислять, к таковым – причислять всех, огульно. Действительность обстоит, однако, сложней. Бесспорно, церковные консерваторы, порицатели всякого творчества и движения в церковной жизни и богословской мысли, сосредоточенные, в особенности, в юрисдикции Карловацкого Синода (РПЦЗ), были противниками софиологии; однако не только они. Как мы указали выше, с критическим неприятием к софиологии отнеслись также Флоровский и Вл.Лосский. Основой их неприятия, как и у консерваторов, служили критерии верности Преданию; но в их понимании эта верность отнюдь не была принципом консерватизма в старом привычном смысле, не значила косности мысли и запрета творчества. В их позициях намечалось уже преодоление, деконструкция самой оппозиции консерватизм – модернизм.
В явном и развернутом виде деконструкция была произведена позднее, в текстах Флоровского, заново формулировавших и углубленно разъяснявших неизменные принципы православного отношения к святоотеческому Преданию. Одним из первых таких текстов стали знаменитые «Пути русского богословия» (1937). Эта книга – одно из высших творческих достижений диаспоры и, по справедливости, она давно признана классикой русской мысли. В своем содержании, «Пути» конкретно-предметны, давая изложение истории религиозного самосознания, книжной и богословской культуры на Руси, беглое – до XVI в., но скрупулезно-детальное – с XVII в. и до канунов русской революции. Но предметное содержание всюду сопровождается углубленным богословским и историософским анализом, и всё изложение воплощает продуманную общую концепцию, которая, в свою очередь, тоже изложена на страницах книги. Эта концепция и есть то, что впоследствии, будучи развито и продолжено Флоровским в других трудах, получило название теории «неопатристического синтеза». Название это общепринято, но, тем не менее, неадекватно. Концепция Флоровского действительно говорит об историческом синтезе как необходимой установке богословского сознания и утверждает принципом синтеза возврат к патристике. «Узкий путь отеческого богословия есть единственный верный путь»
[67], – заявляет уже преамбула «Путей русского богословия». Однако этот возврат – не того рода, какой обычно присущ культурным явлениям, характеризуемым приставкой «нео»: речь отнюдь не идет о появлении некой «неопатристики», отличной от патристики источной. Но речь не идет и о консервативной установке хранения буквы, запрета на всякое развитие источной патристики.
Новую трактовку православного
принципа непреходящей нормативности Предания явно и ярко представляет знаменитый заключительный раздел «Путей» – глава IX, «Разрывы и связи». Здесь мы читаем: «
Восстановление патристического стиля, вот первый и основной постулат русского богословского возрождения. Речь идет не о какой-нибудь «реставрации», и не о простом повторении, и не о возвращении назад. «К отцам», во всяком случае, всегда вперед, не назад. Речь идет о верности
отеческому духу, а не только букве, о том, чтобы загораться вдохновением от отеческого пламени, а не о оом, чтобы гербаризировать древние тексты... Вполне следовать отцам можно только в творчестве, не в подражании... Предание живет и оживает в творчестве»
[68]. И видно уже из приведенных цитат, что установка Флоровского – установка деконструирующего действия. Хранение традиции раскрывается и не просто как принцип творчества, но как принцип творческой обращенности к своему времени, основательного и осиливающего ответа на вызовы современности, злобы дня – и, в этом смысле, как «модернистский» принцип; и позиция, задаваемая им, может определяться типично деконструктивистскими оксюморонами, как «модернистский консерватизм» или «традиционалистский модернизм». Такая позиция была вызовом обоим полюсам старого противостояния, не только архаистам-консерваторам карловацкого лагеря, но и новаторам-модернистам Религиозно-Философского возрождения. Вслед за «спором о Софии», выход «Путей» следует рассматривать как очередной знак формирования нового этапа русской религиозной мысли; и, подобно спору, судьба книги также свидетельствует о конфликте нового и старого: «В Париже решено было замалчивать книгу о. Георгия ввиду его отрицательного отношения к новым течениям русской религиозной философии»
[69]. (Видно, кстати, как быстро «в те баснословные года» новое становилось старым...)
Ясно видна уже и другая существенная черта выдвинутой концепции: хотя в «Путях» она развивается на материале русской традиции и прилагается к ее задачам, в своем существе, она всецело универсальна. В дальнейшем, в американский период, о. Георгий обычно представляет ее именно в качестве общей установки православного мышления и мироотношения; так, в программном выступлении 1949 г. он говорит: «Ни одна традиция не может выжить, если она не продолжается в творческом усилии. Весть Христова вечна и всегда та же, однако она должна постигаться снова и снова, так чтобы служить вызовом для каждого нового поколения... Нам надлежит не просто хранить наследие прошлого, но мы должны сделать всё, чтобы представить и передать его другим как предмет живущий, живой»
[70]. Конечно, никак не всякое историческое и духовное наследие способно играть подобную роль, оставаясь живым и животворящим для каждого нового поколения; напротив, такая способность – исключительное, уникальное свойство. Существенная часть концепции Флоровского – аргументация, доказывающая, что наследие греческих отцов Церкви обладает этой уникальной способностью, являя собою «обновляющийся залог», depositum juvenescens, по часто используемому о. Георгием выражению св. Иринея Лионского (II в.)
[71]. Тем самым, греческая патристика выступает как единственный и необходимый исток православного богословия, к которому оно должно возвращаться на каждом этапе своего развития – таким образом, пребывая всегда в стихии не просто христианского, но эллинского христианского разума. — В итоге, концепция «неопатристического синтеза» развивается в более общую и широкую концепцию «христианского эллинизма»; и обе концепции, получив признание, стали значительным вкладом в обновление богословских установок и богословского дискурса в Православии ХХ в. В них Православие получило современную
теологию культуры, которая сегодня обеспечивает ему собственную и основательную позицию в развертывающемся глобальном диалоге культур.
Наряду с достигавшимся здесь переосмыслением исторических измерений православного богословия и богословского способа, указанное обновление включало в себя не менее значительное переосмысление опытных измерений, природы и роли опытных оснований богословия. Таковые основания, очевидно, составляет опыт Богообщения; и наиболее чистым и совершенным образом он представлен в специально направленной к нему мистико-аскетической практике – практике православного исихазма, или священнобезмолвия. Поэтому переосмысление роли опыта происходило в форме углубленного исследования исихастской традиции и, в первую очередь, ее богословской интерпретации, данной в писаниях св. Григория Паламы (1296–1359). Нашей темы оно касается напрямик: началом его послужили и решающий вклад в него внесли опять-таки труды богословов русской диаспоры.
Исихастская практика и ее богословская артикуляция прошли долгую, сложную историю, начала которой – в подвижничестве первых христианских аскетов, отцов-пустынников IV в. За многие столетия здесь была создана высокоразвитая опытная наука духовного восхождения, в которой осуществлялось последовательное преобразование всего множества энергий человеческого существа, определенными ступенями возводящее это множество, своего рода энергийный образ человека, к сообразованию-соединению с Божественными энергиями. Огромное значение исихазм имел на Руси, где он обрел вторую родину, войдя в фундамент русского типа религиозности и оказав глубокое влияние на весь русский менталитет. Однако в культуре, включая даже богословие и философию, исихастская традиция почти не находила отражения, и ее богословское осмысление, достигнутое в византийском Исихастском возрождении XIV в. и выразившееся, в первую очередь, в учении о Божественных энергиях св. Григория Паламы, пребывало полузабытым и зачастую толкуемым весьма искаженно. Как ясно сегодня, это было крупнейшим недостатком православной мысли: ибо в православной традиции само богословие понимается не как теоретическое знание, а как свидетельство опыта – прямая передача опыта Богообщения, правильному устроению, проверке и толкованию которого учит аскетическая практика.
Ключевая роль исихастского опыта – и его богословской интерпретации в учении Паламы – для православного миросозерцания была постепенно осознана, понята и проанализирована православным богословием в течение нескольких десятилетий в середине ХХ в. На ранней и решающей стадии этого процесса, главными вехами стали три работы русских исследователей в рассеянии:
– Иером. Василий (Кривошеин). Аскетическое и богословское учение св. Григория Паламы (1936);
– Вл.Н.Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви (1944);
– Прот. Иоанн Мейендорф. Введение в изучение св. Григория Паламы (1959).
(Два последних труда были написаны и изданы по-французски). Эти работы, ныне признанные научной классикой, имеющие множество переизданий и переводов, удачно дополняли и продолжали друг друга. Первая работа, написанная афонским монахом (позднее архиепископом Московской Патриархии) Василием (Кривошеиным), раскрывала теснейшую внутреннюю связь учения Паламы с исихастской практикой и полную укорененность его в опытном православном способе богословствования. Книга Вл.Лосского выстраивала цельную догматическую и историческую перспективу, в которой вся основная проблематика православного вероучения систематически излагалась на базе богословия энергий. И наконец, капитальная монография Мейендорфа представила не только цельное изложение всего учения Паламы, но также детальную историческую панораму его эпохи, жизненного и творческого пути. Тщательный исторический анализ сочетался здесь с современным взглядом на проблематику исихазма и паламизма, и этот взгляд в перспективе современности приводил к принципиально важному выводу: «Мы обнаруживаем в общем объеме мысли [Паламы] конструктивный ответ на вызов, брошенный христианству Новым Временем»
[72]. Вкупе с первым критическим изданием ранее неопубликованного главного труда Паламы, «Триады в защиту священнобезмолвствующих», которое Мейендорф также выпустил в 1959 г., названные работы образовали фундамент нового направления православной мысли. Сегодня это направление обычно называют на Западе «неопаламизмом», однако, подобно «неопатристике», и по тем же причинам, это название далеко не вполне адекватно. Употребляемый также термин «православный энергетизм» является более приемлемым, поскольку с концепцией энергий связаны обе главные составляющие данного направления, суть которых можно сформулировать так:
– реконструкция духовного наследия Паламы как цельного богословского учения, стоящего на концепции Божественных энергий;
– прочтение всего богословского дискурса Православия в свете богословия энергий.
Можно считать, что к этому же направлению примыкают, в широком смысле, и обсуждавшиеся разработки о. Георгия Флоровского. Хотя они и не являются исследованиями исихазма и паламизма, они созвучны этим исследованиям и их подкрепляют: концепции «неопатристического синтеза» и «христианского эллинизма» позволяют дать современным паламитским штудиям методологическое обоснование и интеграцию в контекст патристики.
С выходом монографии Мейендорфа (вскоре дополнившейся его другими трудами), существование нового направления стало неоспоримым фактом, и этот факт начал получать мировой резонанс. Как отмечают издатели русского перевода книги, она «стимулировала небывалый дотоле интерес к личности св. Григория Паламы и к византийскому исихазму, так что общее количество публикаций по этим темам после ее выхода возросло в сотни раз»
[73]. В 70-е годы этот поток исследований составил одну из виднейших, активно разрабатываемых областей гуманитарной проблематики, затрагивающую не только богословие, но и целый круг смежных дисциплин – византологию, патрологию и т.д. Включая труды ученых всего православного мира, он никак не исчерпывался ими; напротив, преобладающую часть составляли работы западных исследователей – богословов, патрологов, историков всех конфессий. И это значило, что богословское и научное направление, основанное учеными диаспоры, не только стало новым этапом в развитии православной мысли, но и открыло поле проблем, важных и актуальных для всего христианства. Со временем разработки этого проблемного поля неизбежно утратили характер бурного бума, однако стали более углубленными и плодотворно продолжаются по сей день. В этом широком, деятельном движении современной мысли сегодня уже почти нет участия российской диаспоры. Она покинула историческую сцену, растворилась, однако не прежде, чем зачала, инициировала это движение; и в этом – ее несомненная творческая победа, исполнение ее миссии. Это исполнение следует вечному гетевскому девизу:
Stirb und werde! – рядом с которым можно поставить и слова русского поэта:
Жизнь ведь тоже только миг, только растворенье
Нас самих во всех других, как бы им в даренье...
III. Логика и смысл процесса. Итоги, уроки и вопросы
Есть общность между эмигрантской судьбой и ситуацией, статусом самого человека как такового. Эмигрантский статус – статус изгнанника, чужака, лишенца – по своей природе несовершенен, ущербен; и аналогично христианство смотрит на статус, образ бытия человека, определяя его как «тварное падшее» бытие. В этой ущербности природы изначально заложены задание и призыв, ее не следует принимать пассивно как нечто должное и окончательное, ее нужно преодолеть, избыть – и в этом снова общность двух жребиев. Характер и существо задания удачно передает понятие, которое применял к бытию человека Хайдеггер: размыкание (Erschließen). Задание эмигранта – разомкнуть круг эмигрантской изолированности, маргинальности – и выйти вовне, в некий широкий мир, включить себя в некий неучастненный, универсальный контекст. При этом, вовсе не обязательно априори, чтобы этот широкий мир, универсальный контекст отвечали бы непосредственно окружающему обществу; они могут отвечать и оставленной родине, с которой устанавливается действенная связь, и некоторой достаточно широкой духовной или культурной традиции... Исполнение задания, заключенного в эмигрантском бытии, – или, что то же, внутреннее, смысловое содержание этого бытия – определяется тем, куда именно (в какой мир, какой контекст), и как именно (посредством каких действий, стратегий), осуществляются размыкание и выход. Здесь могут быть чрезвычайно различные сценарии; и, рассматривая их, нам уже следует оставить параллель с высоким дискурсом христианской онтологии. Размыкание бытия Человека совершается в онтологическом трансцендировании – претворении в иной род бытия (Инобытие), и к таковому претворению направляются уникальные мета-антропологические стратегии духовных практик, вырабатываемые столетиями в лоне мировых религий. Размыкание же эмигрантского образа бытия – не онтологическое, а всего лишь социокультурное задание, и его исполнению служат не мета-антропологические, а транс-культурные стратегии. Они далеко не уникальны, а, напротив, весьма вариантны и множественны. Тем не менее, при всем их разнообразии, их несложно классифицировать по определенным социокультурным параметрам, и нам стоит указать возникающие здесь основные типы стратегий. Прежде всего, стратегии размыкания различаются по характеру того мира или контекста, в который совершается размыкание, и основных вариантов всего два: размыкание через связь с непосредственно окружающим миром, социумом, либо через связь с покинутою некогда «метрополией», исторической родиной. Наряду с этим, подобные стратегии различаются по характеру осуществляемого включения, вхождения в «широкий мир» и «универсальный контекст», причем основных вариантов также два: на удобном тут языке бизнеса, вхождение может быть «со своим капиталом», либо «без своего капитала» (т.е. соответственно, с сохранением собственных структур идентичности, сфер занятости, в культуре – со своими идеями, проектами, институтами и т.д., либо же со сменой структур идентичности, форм, норм, присоединением к заданным направлениям мысли, профессиональной и культурной деятельности и т.п.). Сочетание двух дихотомий порождает 4 типа стратегий, которыми и охватывается большинство ситуаций – так, в частности, размыкание через связь с окружающим социумом и «без своего капитала» определяет стандартный случай полной ассимиляции.
В свете этих положений, перед нами раскрывается смысловое измерение нашей темы. Увидеть феномен российской эмиграции – и, в частности, философско-богословскую деятельность диаспоры – в их смысловом измерении, смысловой картине, означает выявить, идентифицировать те транскультурные стратегии размыкания, какие здесь пробовались и осуществлялись; описать, проанализировать всю совокупность этих стратегий; оценить их итоги, их успех или неуспех. Как социальная группа, эмигрантское сообщество было динамично, изобретательно (в особенности, в своем культурном слое), и анализ всего репертуара его транскультурных стратегий – цельная исследовательская программа. Оставляя ее будущему, мы удовлетворимся сейчас беглым обозрением au vol d’oiseau лишь тех явлений и эпизодов, которые обсуждались выше. При этом, мы будем учитывать, что из вышеописанных главных типов транскультурных стратегий, один был заведомо выделенным и предпочтительным для философско-богословского сообщества диаспоры, отвечающим максимуму того, что это сообщество могло достичь. Ориентация на Родину, где насилием царили атеизм и марксизм, была тут исключена, и то наибольшее, что оставалось возможным в исполнении духовного задания, было, очевидно, вхождение в универсальный контекст в качестве некоего самостоятельного явления, с собственным лицом и творческим вкладом.
В Берлине и Германии в аспекте попыток размыкания следует выделить, прежде всего два начинания религиозно-философской диаспоры, Русский Научный Институт и журнал «Der russische Gedanke» (примечательный отнюдь не весомостью достижений, но характером замысла). Институт, бывший вполне жизнеспособным научно-педагогическим учреждением в рамках системы немецкой высшей школы и закрывшийся по внешним причинам, мы можем рассматривать как пример успешной стратегии ограниченной, умеренной ассимиляции: русские профессоры в своих курсах следовали требуемым немецким программам, но в то же время пытались, насколько возможно, вместить в рамки этих программ передачу собственных учений и русской религиозно-философской традиции. Что же касается журнала, то, как ясно из нашего его описания, ему надлежало, по замыслу, воплотить стратегию вхождения русской философии в западную философскую жизнь «со своим капиталом» – отнюдь не на началах ассимиляции, но с занятием собственного места. Яковенко даже четко определял, каким должно быть это место в институциональном аспекте, и оно ему рисовалось чрезвычайно солидным: «Нужно во всем мире учредить двенадцать или четырнадцать кафедр и предоставить их в распоряжение живущих в изгнании русских философов, в таком приблизительно распределении: две в Германии, три в Соединенных Штатах Северной Америки, и по одной в следующих девяти государствах – Франции, Англии, Италии, Японии, Чехословакии, Бельгии, Швейцарии, Швеции и Австрии»
[74]. — Но стратегия не удалась. Наш рассказ о судьбе журнала мы закончили выше предварительными суждениями о смысле и значении этой неудачи; теперь же настало время для окончательных суждений. Они не расходятся с предварительными, но обобщают и даже усиливают их. Сейчас мы можем сказать, что исход эпизода изменился бы ненамного, если бы редактору удалось привлечь больше именитых авторов, и с более основательными текстами. Этот исход решила ситуация всей философской мысли диаспоры: в ее распоряжении попросту не нашлось «своего капитала», достаточного для того, чтобы стать крупным и самостоятельным фактором в общем движении европейской мысли, философском процессе эпохи меж Мировыми войнами (и тем паче, после Второй мировой войны). Без сомнения, целый ряд философов диаспоры внесли в этот процесс яркий, заметный вклад, но эти вклады – Кожева, Бердяева, Шестова, Койре, Г.Гурвича, если угодно, и Сорокина... – имели меж собой слишком мало общего, не слагаясь ни в какое единство. Единящим началом в пространстве русской религиозной философии, которое определяло бы в ней некое цельное идейное направление, русло, продолжала оставаться лишь метафизика всеединства; но после Гуссерля и на фоне Хайдеггера, Витгенштейна она уже была архаичным дискурсом и не могла служить «своим капиталом», который внесла бы русская мысль в дело европейского философствования.
Таким образом, с позиций стратегии выхода в универсальный контекст, итог деятельности эмигрантской философии представляется как простая сумма индивидуальных вкладов. Ради фактографической полноты, мы вкратце представим здесь эту сумму, своего рода панораму персоналий – отнюдь не стремясь к полноте списка имен, а желая лишь охарактеризовать общую картину. Ее желательно структурировать, и в качестве принципа разбиения мы, естественно, примем отношение каждого индивидуального вклада к заданию выхода, цели данной стратегии. Ограничимся всего тремя группами и предупредим, что предлагаемое распределение по ним несет неизбежную долю личного вкуса и произвола.
A. Success Stories: Истории включения в европейский и мировой контекст с крупным творческим вкладом, влиянием и значением — Кожев, Бердяев, Шестов (их вклад бегло описан в разделе II); при учете примыкающих предметных сфер, также А.Койре, Питирим Сорокин, Г.Д.Гурвич.
В. «Европейцы средней руки»: Истории успешной профессионально-академической интеграции в европейский контекст, но «без своего капитала», заметного концептуального вклада и влияния — Степун, Вышеславцев, Арсеньев, Вейдле, Н.Н.Алексеев, Яковенко, Бубнов.
С. «Русские философы в изгнании»: Опыты продолжения метафизики Серебряного Века — Франк, Н.Лосский, Карсавин, И.А.Ильин, В.Н.Ильин, прот. Василий Зеньковский, Л.А.Зандер, С.А.Левицкий. (Мы никуда не включаем о.Сергия Булгакова и Вяч. Иванова, чье эмигрантское творчество почти уже не касалось философии. Отметим также, что рубрики В и С по смыслу могут перекрываться, и многие имена равно могли бы присутствовать в обеих).
Далее, пражский очаг диаспоры под нашим углом зрения доставляет не слишком богатый материал. Созданная «Русской акцией» сеть образовательных, научных, культурных начинаний и учреждений стала ценной помощью для сотен изгнанников, однако они преследовали скромные цели, пытаясь, как правило, проводить сбалансированную стратегию аккультурации, посильно сочетающую установки социализации в новой среде и «верности заветам» Православия и России. В религиозной и философской сфере, за вычетом краткого периода до середины 20-х гг., роль пражского очага была незначительна. Отдельных слов заслуживает, однако, Братство Св. Софии. Хотя его история, в основном, исчерпывается его организацией, оно представляет интерес именно в аспекте культурных стратегий диаспоры: с него начинается ряд опытов размыкания в духовное измерение, ориентированных на Православие и Церковь. Неслучайно замысел Братства возник еще в России в 1918 г. – по своему характеру, этот замысел прямо соответствовал одной из основных тенденций Религиозно-Философского возрождения, воцерковлению интеллигенции. Как видно из приводившихся нами текстов, установки Братства состояли в формировании «церковной общественности» и объединении сил интеллигенции под лозунгом «церковно-общественного делания»: т.е. точно в том же, что служило основой лозунгов и позиций воцерковленной интеллигенции в предреволюционный период. Калькируя дореволюционные идейные установки, подобный замысел никак не учитывал новых условий и не отвечал на специфические вызовы эмигрантского бытия, что можно считать одной из главных причин его неуспеха. В то же время, сам путь религиозно-ориентированных стратегий для диаспоры оказался перспективен и получил новую жизнь, когда эти стратегии в дальнейшем удалось углубить и обогатить.
Первый опыт такого углубления рождался почти одновременно с проектом Братства и при содействии его участников: то был опыт становления РСХД. Несомненно, из разных эмигрантских движений РСХД сохраняло наибольшую близость и преемственность по отношению к идеалам и установкам предреволюционного Религиозно-Философского возрождения; как мы описывали, оно возникало под прямою опекой и эгидой «старших», деятелей этого возрождения, – и однако, оно уже имело свои особенности, в которых отражались условия рассеяния. Больше того, сами его задачи были неразрывно связаны с этими условиями: по приводившимся словам Зеньковского, их составлял поиск «новых путей для церковной деятельности в изгнании», причем – что существенно – в этом поиске «инициатива принадлежала студентам». Прежде всего, поиск привел к осознанию принципиальной важности принятия, осуществления жизни в Церкви во всей ее полноте, со всеми сакраментальными, во главе с Евхаристией, литургическими и молитвенными измерениями. Здесь окончательно изживался старый интеллигентский стереотип вольной пренебрежительности к этим измерениям как к якобы несущественной «внешней стороне» духовной жизни; и именно восприятие всей полноты, плеромы Церкви стало важнейшим условием высокого духовного подъема, необычайной «духовной температуры» раннего РСХД. В терминах «стратегий размыкания» можно сказать, что подобное восприятие означало и приобщение к опыту непреходящей самотождественности, сверхвременности бытия Церкви – было «размыканием в сверхвременность» Церкви и Православия. И далее, через это размыкание в сверхвременность и всевременность Церкви, достигался тот духовный итог, в котором мы усмотрели главное значение РСХД: итог, заключавшийся в создании «союза поколений» и решении проблемы трансляции духовных ценностей. Вся важность этого итога сейчас наглядно видна: без него было бы заведомо невозможно, чтобы в недрах диаспоры смог вызреть описанный нами новый, следующий этап русской и общеправославной богословской мысли.
Родственными описанной стратегии «размыкания в сверхвременность Церкви» были стратегии «размыкания во вселенскость Православия», которые воплощались в целом ряде явлений религиозно-культурной истории диаспоры. Понятно, что в эмиграции свойство вселенскости Церкви обретало особенное значение, становясь предметом усиленного внимания и продумывания. Первой попыткой положить его в основу экклезиологической позиции, а также и идейно-культурной стратегии, была деятельность Братства Св. Фотия. Как нами описывалось, стратегия Братства была неким оригинальным поворотом экклезиологии Хомякова: поставив своею целью служить актуализации вселенскости Православной Церкви, Братство пришло к идее создания в Западной Европе «православия западного (или латинского) обряда» и посвятило усилия своего рода православной миссии во франкоязычной среде. В деятельности фотиевцев была несомненная преданность избранному служению, но вместе с тем, и недостаток взвешенности, соборной проверки и оценки вводимых новаций, что и привело, в конце концов, к отходу от них крупнейшего их богослова Вл.Лосского и завело «православие западного обряда» в тупик изоляции. — Далее, к тем же стратегиям «размыкания во вселенскость» мы можем относить и деятельность церковной диаспоры в экуменическом движении. Здесь, очевидно, во главу угла также ставилось раскрытие вселенскости Православия; однако сам предикат вселенскости осмысливался совсем иначе, нежели в Братстве Св. Фотия. Хотя обширный опыт экуменической активности диаспоры во многом еще требует изучения и оценки, однако является несомненным, что позиция православного экуменизма, выработанная русскими богословами в противовес протестантскому интерконфессионализму, – еще одна транскультурная стратегия, созданная эмиграцией. — И наконец, стратегии этого же рода следовала и деятельность церковной диаспоры в США, выразившаяся в создании экклезиологической концепции Православной Церкви в Америке, а затем в организации и практике этой новой поместной Церкви. Очевидным образом, здесь снова перед нами стратегия, в центре которой – задача воплощения вселенскости Православной Церкви. Выше мы с основанием сближали ее экклезиологическую основу с платформою Фотиевского Братства; но, если эта платформа была первым опытом «размыкания во вселенскость», то в США осуществлялся уже самый поздний опыт такого рода, ставший самым зрелым и взвешенным. Проделанное здесь исследование понятия поместной православной Церкви – часть результатов того нового этапа православного богословия, появление которого стало важнейшим творческим достижением диаспоры.
Наш обзор философско-богословского процесса затронул и некоторые явления, принадлежащие скорей идейно-политической сфере, – деятельность евразийцев и группы «Нового Града». Неизбежным образом, в них также осуществлялись определенные стратегии размыкания. Увидеть характер этих стратегий несложно; и поучительно то, что, как сильно ни расходились бы политические позиции и программы идейных движений в диаспоре, им всем соответствуют стратегии размыкания одного и того же типа. Все движения самоопределялись по своему отношению к старой и новой России, революции, процессам, происходящим в СССР, и все ставили своей целью преодолеть эмигрантскую отрезанность от истории, каким-либо образом достигнув участия, включенности в российскую реальность. Пути и формы включения представлялись по-разному, связь с родиной могла быть чисто идейной (как в случае новоградцев) или также и действенной, практической (к чему стремились евразийцы) – но всюду и во всех случаях фигурировал один тип стратегии размыкания: размыкание через включение в российскую историю и современность, и при этом, «со своим капиталом», собственной идейной позицией, ибо ортодоксально советских движений в диаспоре не имелось.
Далее, мы пока не рассматривали в аспекте стратегий размыкания те философские предприятия, что неутомимо поддерживал в течение всего межвоенного периода Бердяев: Религиозно-Философскую Академию и журнал «Путь». Но в них и не осуществлялось таких стратегий. «Путь», благодаря строгому беспристрастию редактора, мог по праву считаться трибуной всей русской религиозной метафизики; но в годы его издания, 1925–40, эта метафизика, как мы говорили выше, уже не представляла собой – и не содержала в себе – какого-либо цельного направления, которое стремилось бы и могло войти в европейский философский контекст. Что же до Академии Бердяева, то она вела просветительскую, культуртрегерскую активность, знакомя с проблемами русской религиозной мысли и современного христианства и не ставя особых творческих или идеологических целей.
В итоге, мы снова подходим к главному, к тем явлениям, что, по нашей концепции, имели ключевое значение для философско-богословского процесса в рассеянии: Парижскому Богословскому Институту и заключительным, преимущественно, американским, страницам эмигрантского богословия. В начале этого раздела мы отметили, что из существующих стратегий, один тип размыкания отвечал максимальному из всего достижимого, наиболее значимому творческому результату для эмигрантской мысли – тип, обозначаемый нами как «вхождение в универсальный контекст с собственным вкладом». Именно этот тип стратегии и был осуществлен в названных явлениях. По цитированной формуле Мейендорфа, активность диаспоры в этих явлениях следовала «пан-православной ориентации», и это значит, что «универсальный контекст» был здесь контекстом современной общеправославной – а в дальнейшем, и общехристианской – богословской мысли. Что же до «собственного вклада», то его содержание составляли «неопатристика» и «неопаламизм» (увы, оба термина, как мы отмечали, не вполне адекватны). Первое из этих слагаемых, утверждая определенное отношение к Преданию как общий эпистемологический принцип Православия как такового, несло новую методологию и эпистемологию для православной мысли, тогда как второе – новую проблематику, ведущую от богословия энергий к темам о богословском значении аскетического (исихастского) опыта и отсюда далее, к темам антропологии. И из этой характеристики с очевидностью вытекает та оценка творческого вклада диаспоры, которую мы повторяли уже не раз: то был не просто «собственный вклад», но вклад, дающий движущий толчок, импульс всему «универсальному контексту» – иными словами, вклад, инициирующий новый этап развития всей православной мысли. Сложившись в 60–70-е гг. минувшего века, этот этап плодотворно продолжается по сей день.
***
Выводы нашего обзора не утверждают ничего нового и неизвестного ранее; но, вместе с тем, они еще далеко не стали привычны и общеприняты. Новейшая история русской мысли покуда не только не написана, но, по сути, и не отрефлектирована; какой-либо сложившейся научной рецепции ее сегодня не существует. Ее элементы, относящиеся к философскому и богословскому дискурсам, хотя и неразрывно переплетаются, образуя единый общий процесс, однако не рассматриваются в связи и единстве. Меж тем, именно специфическое развитие отношений этих двух дискурсов есть главная особенность реконструированного нами философско-богословского процесса в рассеянии. По этой причине, нам стоит в заключение резюмировать ход этого развития, выделив узловые моменты и детали.
Не раз уже отмечалось – в частности, и в моих текстах – что «апокалиптическая» предреволюционная и революционная эпоха в России отличалась уникально насыщенным содержанием и убыстренным ритмом культурного и духовного процесса. Поэтому знаменитая метафизика Серебряного Века, возникнув в первые годы ХХ столетия, уже ко второй четверти этого столетия, когда складывался философский процесс в диаспоре, в главном и основном, высказала уже свое новое слово и далее не открывала принципиально новых путей, двигаясь в известном русле. Именно так, как старое и известное, она и воспринималась многими молодыми представителями эмигрантской мысли. Различия и конфликты поколений в эмиграции усиленно обсуждались применительно к политической сцене, к литературе, но в философско-богословской сфере они практически не получили внимания. Меж тем, они здесь не менее существенны. Как мы говорили, «Спор о Софии» в одном из немаловажных аспектов был именно спором поколений; а еще задолго до него, в первые годы эмиграции, Г.Флоровский в переписке с Н.Трубецким именует философов старшего поколения «старыми грымзами», заявляя: «Я против всех «старых грымз» – против Карташева, Новгородцева, Зеньковского, о.Сергия и особенно против Струве»
[75].
Но самое важное в отношениях поколений – отнюдь не элементы конфликта (которые были к тому же невелики: как мы подчеркивали при описании РСХД, в церковной диаспоре, в целом, сумела произойти передача духовных ценностей, и религиозные философы пользовались авторитетом и уважением). Важнее то, что в сфере религиозной мысли эти отношения включали своеобразную модуляцию дискурса, перемещение фокуса творческих усилий из философии в богословие. Мыслители Серебряного Века сумели передать молодому поколению диаспоры, говоря старомодно, идеалы Православия, России, творческого созидания христианской культуры; но в то же время они не нашли в этом поколении продолжателей, наследников своей метафизики. И, подобно тому как эта метафизика не сумела достичь трансляции в европейское пространство на страницах «Der russische Gedanke», так в диаспоре она не сумела достичь и трансляции во времени. Вместо этого, в лоне эмигрантской мысли исподволь начинает вызревать новый этап развития, даже не просто отличный от метафизики «старших», но строящийся в ином дискурсе, отвечающий не философии, а богословию – новому православному богословию (и патрологии, и экклезиологии) Флоровского, Кривошеина, Лосского, Мейендорфа. И именно этот новый этап, это богословие оказывается подлинным «размыканием» эмигрантской мысли, ее финальным и главным достижением, имеющим подлинно универсальное значение.
Таков неожиданный итог пути. На рубеже исхода в рассеяние, русская мысль имела цветущую философию с созвездием выдающихся имен, в стадии бурного подъема, и относительно слабое, архаичное (вопреки ярким исключениям) богословие. Тем не менее, русская философия не стала исполнением духовного задания, «миссии» диаспоры, ее выходом в мировой контекст: она достигла такого выхода лишь в лице отдельных философов (прежде всего, Бердяева и Кожева), чей персональный вклад в философию ХХ в. отнюдь не являлся вкладом русской мысли как направления и традиции. И при всем том, исполнение совершилось: чего не сумела достичь знаменитая метафизика Серебряного Века, достигло новое богословие, никем не предсказанное, родившееся уже в рассеянии.
Однако итог неожидан лишь на поверхностный взгляд. Идеи нового этапа позволяют взглянуть глубже, и в их свете мы понимаем, что «модуляция дискурса» была, по сути, ничем иным как восстановлением неких сущностных черт православного образа мышления, Восточно-христианского дискурса, которых недоставало в мысли Серебряного Века. Принципы неопатристического синтеза и православного энергетизма говорят, что в основания этого дискурса входит даже не просто тесная, но конституирующая связь с патристическим Преданием и аскетическим опытом. Однако культура Серебряного Века и его религиозная философия, утверждая свою близость к руслу Православия, укорененность в его традиции, в то же время отнюдь не имели подобной связи. Именно для ее восстановления и потребовалась «модуляция». Необходимое углубление в патристические и аскетические истоки могло быть осуществлено лишь в рамках богословского способа – и новое богословие диаспоры успешно выполнило историческую работу воссоединения мысли с основаниями традиции и дискурса.
Это достижение имеет и философское значение, из него вытекают определенные философские задания. В создавшейся концептуальной ситуации, очевидной задачей православной мысли становится философская археология, продолжающая богословскую археологию о. Георгия Флоровского: рефлексия на истоки Восточно-христианского дискурса, которая осмыслила бы установку творческой связи с патристико-аскетическим истоком как эвристический и эпистемологический принцип. Это значит, что совершившаяся модуляция дискурса была изначально чревата также и обратной модуляцией: последующим возвратом к философскому дискурсу, несущим его углубление и обогащение. Отсюда же, в свою очередь, можно извлечь еще один поучительный урок: мы убеждаемся, что в природе Восточно-христианского дискурса – его опытных основаниях, его археологической конституции – заложено тесное взаимодействие и переплетение богословского и философского способов, их специфическая связь, очень отличная от тех типов их отношения, какие демонстрирует история западной мысли, будь то Нового Времени или Средневековья. Опыт диаспоры ведет нас вглубь, приближает к сути нашей духовной традиции – и мы видим, что он важен и актуален для сегодняшней судьбы русской философии, вернувшейся наконец в Россию.
ШЕСТЬ ИНТЕНЦИЙ НА БЫТИЙНУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ
1. Альтернатива как она есть
Это называлось по-разному, но это было всегда. Точней – гнездилось. Неистребимо гнездилось в человеке. Гнездилось и глодало его. В человеке гнездилось, глодало его, не всегда заявляло о себе громко, но всегда присутствовало на заднем плане сознания – ощущение фундаментального неблагополучия: не в конкретных обстоятельствах, а в самой ситуации человека. Стихия человеческого существования несет в себе нечто неверное, нечто угрожающее, она – разлезающаяся ткань, где в любой миг, в любой точке вдруг – зияние. Черная дыра. Если будешь просто существовать, жить как живется, все равно в каком месте, качестве, хотя бы совсем безбедно, – станется, чего ты не хочешь, страшное, гибельное. И это не только смерть тебя, физическая, это масса и масса других вещей.
И отсюда – смятение, беспокойство. Беспокойство, переходящее в позыв, импульс к действию: но ведь надо же с этим что–то делать, с этой ситуацией, с этим фундаментальным неблагополучием? Пока еще есть какое–то время – надо это изменить! Тут две установки, два смысловых акцента в этом импульсе: "изменить" и "время". Надо изменить ситуацию, это, конечно, главная, но сложная, не сразу понятная установка и задача; надо вглядываться, углубляться – что изменить и как, можно ли вообще изменить. Но прежде всего – о "времени". В чем бы ни состояло "изменить", это – неотложное, немедленное задание, к которому надо приступать, которому целиком должно быть отдано твое время. Первым делом меняется отношение ко времени существования, как бы осеняет знание: так вот на что это время! Оно сразу обретает другую фактуру, окраску. За этот убегающий ничтожный отрезок, что в любой миг может оборваться, ты должен успеть! – успеть изменить жребий – не в чем-то частном, а самый общий, бытийный свой жребий. Если не отменить нацело, то, может, хотя бы приостановить действие, подать кассацию, апелляцию, вообще – успеть сделать хотя бы что-то, внести некое изменение в ситуацию, так чтобы к самому концу оказаться уже не подпадающим под закон конца. И коль скоро речь о твоем бытийном жребии, статусе, природе, то это изменение – некая капитальная премена себя. "Время здесь" – время на то, чтобы премениться. И его очень мало.
Так складываются контуры некоторой установки человека. Существенно, что это не контуры неподвижного предмета, это контуры ситуации, предмета динамического, узрение которого есть узрение, схватывание динамической формы. С этою формой работает кино, и нельзя не заметить, что, хотя речь идет о предельно общих, предельно абстрактных вещах, – о ситуации Человека как такового – описанная динамическая реальность весьма кинематографична. Вот картина человеческого существования, с которой мы начали, – картина "фундаментального неблагополучия": нечто нормальное и обыденное, рутинное, безмятежное; но в нем, за ним затаилось гибельное, угрожающее. Это – явно кинематографическое качество, кинематографическая фактура реальности: классическая фактура триллера, то, чем создается сам thrill, в вольном переводе – мороз по коже. Дальше мы переходим к первой реакции на "фундаментальное неблагополучие": надо успеть до катастрофы, успеешь – не успеешь, успеешь – не успеешь... – и здесь оказываемся в другой классической киноситуации, которая называется "саспенс", в вольном же переводе – подвешенность в опасном положении. Обе черты – из одного жанра, который развил Хичкок, несомненно, блестящий антрополог: оттого, конечно, две ситуации и стали базовыми для жанра, что в них скрывается глубинный отсыл к самой природе и судьбе человека.
Установка человека, что начала здесь очерчиваться, – установка антропологической альтернативы. Существование, направляемое к тому, чтобы премениться, – альтернативная стратегия по отношению ко всему обычному порядку существования человека: ибо в этом порядке человек ищет осуществиться – осуществиться во всей полноте своей наличной природы, и значит – в том самом бытийном жребии, к изменению которого устремлен гнездящийся импульс. И время существования осмысливается заново – как время, что должно стать временем Альтернативы. Эти выводы и решения – разумеется, лишь начало, исходный шаг в воплощении бытийного импульса человека: шаг, представляющий собой не что иное как событие обращения. Сей классический и древнейший феномен духовной жизни наделен сложной, специфической структурой и энергетикой, в которые поучительно всмотреться. Возможно, мы к ним вернемся; но сначала нужно понять самые общие вещи об альтернативе в целом: что же означают эти ее "изменить", "премениться"? если под ними впрямь понимается – измениться в самом способе бытия, в природе, в финальной участи, так чтобы избегнуть и следования "путем всея земли" – понимается, иными словами, актуальная онтологическая трансформация, претворение антропологической реальности в мета–антропологический горизонт, – то каким образом подобная Альтернатива не бессмыслица, не безумие, не пустая иллюзия? Ведь все описанное заведомо невозможно, не правда ли? – Совершенная правда; и однакоже не вся правда.
Возможность или невозможность явления зависит от горизонта, невозможное в одном, узком горизонте рассмотрения оказывается возможным в ином, более широком. Премена способа бытия – заведомая бессмыслица, если рассматриваемая реальность вся вообще ограничивается единственным способом бытия – наличным бытием, сущим. Но сколько существует философия, от досократиков и упанишад, ей ведомо было, что бытие нельзя ограничивать сущим – хотя по разным причинам разум время от времени и пытается занять такую позицию. Так волевым решением ограничил свое зрение Ницше – и, ограничив, стал неистово обличать "бутафорию инобытия", обрушиваясь на платонизм с его "умопостигаемым миром". Платон, однако, отмстил: как подметил Хайдеггер, у Ницше лишь возникает перевернутый платонизм – здешнее бытие объявляется истинно существующим, идеальное же несуществующим, мнимым, и это попросту есть инверсия платоновской схемы. В реальности, не подвергаемой сужению, не редуцирующей бытие до сущего, – Хайдеггер именует эту редукцию "забвением бытия" – речь об Альтернативе уже не есть заведомый нонсенс. Но это лишь значит, что нет гарантии невозможности Альтернативы, и вовсе еще не значит ее реальной осуществимости. "Расширенная реальность" – одно из необходимых условий осуществимости Альтернативы, и это условие отнюдь не единственно. В данном тексте мы не можем и заикаться о полном анализе ситуации, однако еще одно условие должно быть непременно указано. Альтернатива требует не просто расширенной реальности, но кроме того и динамичной, насыщенной энергиями. Осуществление бытийной премены – акт, нуждающийся в энергии, – и ясно, что эта энергия не может иметь своего источника в том самом бытийном горизонте, исход из которого она чаемо осуществит. Это – классический аргумент по поводу барона Мюнхгаузена: нельзя себя извлечь из болота здешнего бытия, таща себя же за волосы. Совершающая энергия должна принадлежать некоему внешнему, внеположному истоку, так что иное бытие должно быть не только существующим, но действующим и взаимодействующим с нашим бытием – взаимодействующим очень определенным образом, осуществляя его премену.
Это условие Альтернативы сложней и таинственней первого; в нем скрыт, на поверку, целый букет новых условий, непонятностей, открытых вопросов... Есть ли на свете эта Энергия Внеположного Истока? Как войти в связь с нею, как соделать себя полем ее пременяющего, претворяющего действия? Вдобавок к ее ключевой роли, потребно ли и действие наших собственных энергий, если да, то какое? Ни на один из этих вопросов нет однозначного ответа, хотя все – кардинальны; к примеру, православие, католичество, протестантизм различно отвечают на третий вопрос, и эти различия – из числа самых важных расхождений между христианскими исповеданиями. При этом, отсутствие ответов мало связано с уровнем наших знаний. Продвигаясь в познании, в рефлексии, мы уточняем формулировки вопросов, добиваемся прояснений в предмете, в содержании вопрошания, отсекаем многие ложные пути мысли и разрешаем немало привходящих проблем. Все это – никак не пустые хлопоты, только сами вопросы остаются. Вопросы – бытийны, и свойство их пребывать открытыми – черта самой ситуации Человека.
Еще одно условие – скорей не условие, а обстоятельство, уясняющееся почти сразу. Только на первый взгляд Альтернатива может казаться заданием чисто индивидуальным, отъединяющим, ведущим к эгоистической замкнутости. Но едва ты разглядел, осознал, что ее тема, ее предмет – это бытийный твой жребий, как замкнутость и отъединение превращаются в свою противоположность. Ибо по самой сути, твой бытийный жребий – как таковой, как бытийный – совершенно не твой, он равно твой и всех, он – жребий всей "твари падшей", определение "бытия-присутствия". И чтобы альтернативная стратегия имела своим предметом именно этот жребий, равно твой и всечеловеческий, необходимо размыкание индивидуальности во всечеловечность: надо, прежде всего, умение различать этот всечеловеческий жребий, прозревать в пестрой, захламленной эмпирии то, что относится к нему. Необходимо особое "видение в свете Альтернативы", и это есть видение в элементе всечеловечности, которое прозревает твою фундаментальную общность с Другим. Тебе раскрывается в нем то же фундаментальное неблагополучие, и ты видишь судьбу его как свою, видишь его как себя, и себя как его, и этот опыт общности есть опыт любви – любви-расположения, любви-сочувствия, которую именуют "агапэ". Задача Альтернативы, альтернативная стратегия предстает двуполярной: она до предела моя, предлежит мне, состоит в том, чтобы мне кардинально пременить себя, однако она же – и о Другом, она – обо всех и за всех. Но как это может быть? Осуществляя премену себя – осуществить премену всего?! Конечно, "гарантии невозможности" тут снова нет: то, что следует пременить, всеобщие фундаментальные предикаты, – также и мои предикаты, они представлены во мне, и, пременяя себя, я, вообще говоря, могу достичь их премены. Но... снова очень большое НО, едва обозримая дистанция между "отсутствием гарантии невозможности" и "перспективой реальной осуществимости".
Так обрисовывается статус Альтернативы. Ее невозможность недоказуема, как равно недоказуема и ее возможность, осуществимость. Человек может ее избирать – но это будет, всегда и принципиально, – бытийный риск, ставка в духе пари Паскаля, предприятие с открытым исходом.
Но то, что можно сказать об Альтернативе, никак не сводится лишь к теоретическому рассуждению об ее возможностях и предпосылках: ибо во все эпохи, во всех обществах и культурах, Альтернатива, альтернативные стратегии существования, – живое конкретное явление. В каких же формах, обличьях являлись эти стратегии? Выражаясь старинным слогом, "проницательный читатель уж давно догадался", что наша Альтернатива – не что иное как то, что с древности именовалось Спасением. В аспекте историкокультурном, речь об Альтернативе – лишь современная аранжировка темы Спасения, ибо та каноническая, традиционная форма, в которой альтернативная стратегия выступала в истории, есть Религия Спасения. Это главное историческое русло Альтернативы в конкретных своих чертах существенно определяется тем, что здесь перед нами – массовая стратегия, Альтернатива для широкого употребления. Такая стратегия должна быть применительна к "среднему человеку", она не может быть радикалистской и экстремальной, требующей предельных напряжений и абсолютной поглощенности. Поэтому в обеспечении альтернативности стратегии, ее направленности к мета-антропологическому исходу, главную роль играют не индивидуальные, а сверх-индивидуальные, всеобщие факторы, каковы миф и культ, сакральные ритуалы; индивидуальные же предпосылки, в основном, состоят в приобщенности сознания к определенной мифологической стихии. Спасение здесь выступает как мифологема, сопрягаемая с мистерией, миметически закрепляемая и воспроизводимая в мистериальном культе, и альтернативная стратегия представляется как "путь Спасения", выстраиваемый, в первую очередь, в мистериальном ключе.
Однако, наряду с этим массовым и широким руслом, всегда существовало другое, узкое, где альтернативная стратегия понималась максималистски и строилась именно как самая радикальная и экстремальная антропологическая стратегия, индивидуальная предельная практика. Эта максималистская и индивидуализированная альтернативная стратегия есть Духовная Практика. Как правило, она возникает в лоне той или иной религии спасения, мысля себя как бы ее квинтэссенцией, наиболее чистой и полной формой, и пытаясь переосмыслить Альтернативу, как она утверждается в данной религии, предельно строго и углубленно, вплоть до буквализма. Мифо-мистериальные аспекты Альтернативы здесь дополняются целым рядом других, коммуникативных, экзистенциальных, психологических, даже соматических, охватывающих все аспекты существования и все измерения человеческого существа, – так что альтернативная стратегия становится холистической антропологической практикой. В итоге, именно Духовная Практика выступает как наиболее прямая и последовательная, эталонная реализация альтернативной антропологической стратегии, и ее конститутивные признаки могут рассматриваться, в известной мере, как необходимые элементы такой стратегии.
На первом месте из этих признаков назовем связь с аскезой, и наиболее тесным образом, с аскезой уединенной (отшельничеством, анахоретством). Органичность подобной связи очевидна: "альтернативность" реализуется в аскезе прямолинейно и буквально, путем выхода из всего круга обыденного эмпирического существования; так что Духовная Практика естественно строится как аскетическая практика. Далее, мета-антропологическая направленность Духовной Практики означает, что цель, финальное состояние данной стратегии не является и не может никогда стать данностью в горизонте эмпирического опыта; и в силу этого, выстраивание стратегии, определение ее шагов составляет особую проблему. Как направляться к цели, которой нет, которая в Инобытии? Решающую роль для ответа играет уже упомянутая предпосылка Альтернативы, присутствие энергии Внеположного Истока: ответ в том, чтобы войти в общение с нею – в Богообщение. Соответственно, важнейший элемент Духовной Практики – молитва: особый род, особая школа молитвы; а непосредственная задача Практики связана с энергиями человека, которые надо переустроить к указанному общению, к сообразованию, синергии с иною энергией. Это последовательное и всецелое энергийное переустройство человеческого существа и есть содержание Духовной Практики. Оно представляет собою ступенчатый процесс, в котором каждая ступень – особый образ организации всего множества человеческих энергий, не осуществимый в обычных, неальтернативных стратегиях. Вся лестница, иерархия ступеней восходит к финальному состоянию, чаемому исполнению Альтернативы; в духовной практике православия, исихазме, догмат и опыт квалифицируют это состояние как "обожение", или же всецелое соединение энергий человека с Божественною энергией, благодатью. Осуществление такой энергийной аутотрансформации человека имеет две тесно связанные особенности. Во-первых, оно подчинено тонким и строгим правилам, целому канону правил организации и интерпретации осуществляемого опыта: поскольку энергии человека предельно разнородны, подвижны, искомые конфигурации их отсутствуют в обычном опыте человека, и этот опыт не доставляет человеку ни навыков, ни возможностей необходимого в Духовной Практике управления собственными энергиями. Во-вторых, хотя сама Практика есть индивидуальный процесс, однако создание ее канона, его хранение, пополнение, трансляция – общий, сверх-индивидуальный труд, свершаемый соборным и историческим организмом Духовной Традиции. В итоге, Практика возможна лишь в лоне Традиции, и обе вкупе образуют живое двуединство, своеобразную "систему метабиологического типа", в своей структуре и жизни отчасти подобную биологическому виду.
С надежностью известно, что в описанных стратегиях создается своего рода "антропологический движитель": тонкая, выверяемая в Традиции икономия, в которой соприкасание разноприродных энергий, будучи охраняемо точной техникой внимания, перерастает в диалогическое взаимодействие, крепнет, невиданно интенсифицируется и совершает возведение человека в сферу иной энергетики, иных процессов и законов, неведомых обычному эмпирическому опыту. Для этого движущего устройства существует неожиданная, но точная параллель: запуск термоядерной реакции в плазменной магнитной ловушке. В этой ловушке, "токамаке", нагреваемая плазма удерживается невидимыми стенками магнитного поля, и за счет этого, разогревание может достичь сверхвысоких температур, вплоть до порога перехода плазмы в качественно новое состояние. Параллель очевидна: так невидимые стенки внимания ограждают внутреннее пространство, в котором непрепятствуемой непрестанной молитвою достигается совершенная синергия, "разогревающая" человека до границы преображения. С надежностью известно, что силой этой синергии – силой, которую человек воспринимает как не свою, не принадлежащую ему, – человек вовлекается в спонтанное, "самодвижное", как говорили аскеты, восхождение всего своего духовно-телесного существа и обретает подлинно альтернативный опыт, исстари зовомый мистическим. Достигалась ли, достигается ли, однако, Альтернатива – знать не дано.
2. Альтернатива из сего дня
– Мы ж люди редуцированные!
– Это как?
– А вот как гласные на концах слов
редуцируются.
(Из разговоров А.Ф.Лосева,
записанных В.В.Бибихиным)
Итак, мы направляем наши интенции на Альтернативу. Едва ли такой выбор интенционального предмета мог удивить кого-то. Сегодня Альтернатива – расхожее слово, ходкий товар. Поглядим вокруг, на толчею жизни, – и мы увидим, что она предлагается в широком ассортименте. Больше того, именно она в основном и предлагается: всякий товар себя подает как нечто чрезвычайно особенное, прямо-таки альтернативное всем прочим товарам. Вот передо мной, к примеру, журнальчик, где вся последнего писка духовность и мистика в адаптации для троглодитов, такой нахраписто-боевой, наглей комсомольской ячейки, и называется он "ИNАЧЕ" – то есть тут ваще альтернатива в квадрате, и по смыслу названия, и по алфавиту. Даешь Альтернативу! Комсомол XXI века – за Альтернативу. Не значит ли это, что пора оставить стремленье к ней? Довлатов писал, что он как-то сообщил Бродскому новость: Евтушенко выступил против колхозов; и Бродский на то ответил: если Евтушенко против, я за. Или, возможно, тут путаница в словах? О той ли Альтернативе мы говорили, о которой галдят кругом?
Поставив такой вопрос, мы начинаем замечать, что с Альтернативой действительно произошли изменения. Их не ждали, даже не считали возможными. В течение долгих эпох сознание Альтернативы неизменно имело ту же основную структуру, включало те же основные мотивы, интуиции, представления – и была уверенность, что в принципиальных чертах никак иначе обстоять и не может. Тем не менее, сегодня уже так не обстоит, а обстоит совершенно по-другому. Поскольку же проблема Альтернативы, способ тематизации Альтернативы принадлежат к самому основоустройству ситуации человека, их изменение говорит о глубоком изменении всей этой ситуации. Две формулы могут выразить существо изменения:
антропологический кризис и
антропологический поворот. Здесь нет места описывать эти глобальные явления, и я охарактеризую их с тупой краткостью. Кризис состоит в разрушении и отбрасывании старой модели человека; поворот же – в том, что именно происходящее с человеком, антропологическая динамика приобретает решающую роль, становится определяющим фактором в динамике современного мира
[1] (тогда как прежде такая роль была за социальной и социоисторической динамикой). Общая феноменальная, фактическая основа этого в том, что само "происходящее с человеком" приобрело новый характер и новую глубину. С человеком идут изменения, перемены, диапазон которых неведом и может оказаться каким угодно – нельзя уже полагать, как прежде, что в любых процессах человек всегда остается "субстанцией" и "субъектом", обладателем неких неизменных "природы" и "сущности". Из неподвижной и известной, заданной величины в картине реальности он стал величиной меняющейся и неизвестной. Природу человека приходится считать подвижною и пластичной, способной к радикальным трансформациям и неведомым метаморфозам.
Все это не могло не сказаться на судьбах Альтернативы. Прежде всего, если сознание начинает свыкаться с возможностью радикальных антропологических трансформаций, то и Альтернатива уже не представляется ему столь абсолютно немыслимой. Диапазон возможного неизвестен, и сознание избегает объявлять хоть что-либо – уже заведомо, априорно исключенным. Постструктурализм и деконструктивизм, говорящие о "смерти человека", представляют антропологическую реальность как "форму-Человека", la forme-Homme (Делез), итог сочетания и взаимодействия системы сил; и, будучи изначально сборной, "форма-Человек" способна к кардинальным трансформациям: "Силы в человеке не обязательно участвуют в образовании формы-Человека, но могут участвовать в ином составе, в иной форме"
[2]. Постмодернистское сознание с его антиантропологической установкой, на поверку, не так уж антагонистично к Альтернативе. Раз все трансформации возможны – отчего бы не эта? Разве мистики всех времен не сближают претворение в Инобытие со смертью? И если антропологическая реальность невообразимо пластична, то не следует ли кардинально переосмыслить и самое смерть?
Вместе с тем, существенно меняется сам образ Альтернативы в сознании человека. Тяга к Альтернативе, "гнездящийся импульс" сам по себе отнюдь не исчез, однако человек теперь склонен прочитывать этот свой импульс иначе. Наиболее важный момент в том, что постепенно размывается, утрачивается идея или интуиция мета-антропологической сути Альтернативы, ее характера онтологической трансформации, ее актуальной связи с Инобытием. "Спасение" не может утратить таковой связи, оно по определению религиозно, инобытийно, онтологично, но сегодня уже едва ли можно сказать, что Альтернатива – синоним Спасения, а тяга к Альтернативе тождественна с жаждою Спасения. (Вспомним хотя бы опять журнальчик "ИNАЧЕ"!) Понятие или мифологема Спасения приобретает оттенок чего-то архаичного, не очень внятного, из круга отдаленных и отошедших представлений. Разумеется, в христианстве образ Христа как Спасителя не может стереться или исчезнуть, и однако в общей ткани христианской религиозности, особенно на Западе, мотив Спасения заметно вытесняется на периферию, заслоняясь другими сторонами веры. Сходная судьба постигает и другое древнейшее понятие, прежде, подобно Спасению, тесно сливавшееся с Альтернативой и подкреплявшее сознание ее инобытийной природы. Я говорю о Вечности. В древности образ ее в сознании был живым, он возникал органично, когда рядом с малым, ничтожным временем жизни человека высились массивы Большого Времени богов, стихий, царств, несоизмеримые с малым временем и плавно переходящие в Вечность. И ясно было, что необходимый и очевидный предикат Альтернативы – конечно, Вечность, а она, в свою очередь, – предикат Инобытия. Но в сегодняшнем сознании произошла, по почину Свидригайлова, явная эрозия идеи Вечности, она превратилась в отвлеченность, неживую абстракцию, утерявши и содержательность, и притягательность; и возгласы Заратустры "Я люблю тебя, о Вечность!" звучат сегодня холодной пустоватой риторикой. Когда же Спасение и Вечность, терпя упадок и кризис, рискуют сойти со сцены, – Альтернатива, лишаясь опоры этих спутников, мельчает и вырождается, выхолащивается. Она перестает осознаваться как актуальное приобщение к Инобытию – и, тем самым, начинает мыслиться уже не онтологической, а всего лишь онтической трансформацией: составляющей альтернативу не в бытии, а всего лишь в сущем.
Но что представляет собой эта "онтическая редукция" Альтернативы, как она вообще возможна? Что это за активности и стратегии человека, которые не направляются к иному образу бытия, но тем не менее тоже "альтернативны", тоже насыщают тягу человека к альтернативе всему обычному порядку существования? Чтобы ответить на эти вопросы, надо представить себе границу горизонта человеческого существования – "Антропологическую Границу". Такую границу следует понимать не субстанциально, а энергийно – как собрание всех антропологических стратегий, активностей, режимов деятельности, в которых начинают меняться сами определяющие нормы и конститутивные признаки человеческого существования. Очевидно, что к этой границе принадлежат все те стратегии, которые мы выше ассоциировали с Альтернативой, Религии Спасения и Духовные Практики. Но столь же очевидно, что Антропологическая Граница ими не исчерпывается: стоит лишь вспомнить, что тема о предельных или граничных практиках, предельном опыте человека интенсивно разрабатывалась в наши дни у многих весьма известных авторов, прежде всего, французских (Батая, Лакана, Фуко, Делеза и др.) – причем все эти авторы понимали "предел" и "границу" как раз в указанном смысле, применительно ко всему горизонту, порядку человеческого существования, однако стратегии и формы опыта, выделяемые ими как предельные, отнюдь не были духовными практиками и не были ориентированы к Инобытию. Иными словами, здесь рассматривалась именно такая Антропологическая Граница (или точней, такие области этой Границы), которая является границей не онтологической, а онтической; и образующие ее антропологические стратегии могут выступать как редуцированные формы Альтернативы.
Что же до конкретики этих форм, то практики и стратегии обычного эмпирического существования можно, как правило, описывать и на языке сущностном (в терминах целей, причин, законов), и на языке энергийном (в терминах импульсов, побуждений, актов), однако для практик и стратегий Границы два языка уже не равносильны: такие практики и стратегии конституируются специфическими энергийными механизмами, не описуемыми адекватно в сущностных терминах. Как выше говорилось, в основе Духовной Практики – достижение синергии, сообразования всех энергий человека с иною энергией, по своему истоку внешней не только человеку как индивиду, но и самому горизонту бытия человека. Фрейдизм же и психоанализ обнаружили и описали, что обширную область предельных феноменов человеческого существования составляют процессы или паттерны, индуцируемые энергией Бессознательного и формирующиеся в ее подчиняющем, управляющем взаимодействии с энергиями сознания. Эта "область безумия", как иногда, в широком смысле, ее называют, включает в себя неврозы, фобии, комплексы человека; и она также гранична по отношению к горизонту человеческого существования, хотя, очевидно, ограничивает этот горизонт не в бытии, а лишь в сущем, являясь, тем самым, онтической, но не онтологической Границей.
Действие в "паттернах безумия" энергии, в своем истоке внешней (пусть лишь онтически) по отношению к сознанию, создает известное (пусть ограниченное) структурное сходство этих явлений с Духовной Практикой. Подобное сходство заметил еще сам Фрейд, сказавший: "Невроз заменяет в наше время монастырь", а Иосиф Бродский отметил дальнейшую стадию замены: "Шприц повесят вместо иконы, Спасителя и Святой Марии". Но есть также еще иной тип явлений Границы, в которых принадлежность Границе создается не воздействием внешней энергии, а напротив, за счет отсутствия, недостачи формостроительных, формообразующих энергий. В таких явлениях их предельный характер выражается в том, что некоторые из конститутивных, определяющих уровней и структур существования попросту отсутствуют, так что эти явления привативны по отношению к нормальному, полномерному строю человеческого существования; антропологическая реальность выступает в них как "недовоплощенная" реальность. Как ясно уже, здесь имеются в виду виртуальные явления и практики; их совокупность образует "привативный ареал" Антропологической Границы. Он – третий из обнаруженных нами, и уже последний, ибо все типы энергийных механизмов, способных порождать феномены Границы, на этом исчерпаны. Надо только дополнить, что, наряду с перечисленными, возможны гибридные стратегии, в которых так или иначе сочетаются, комбинируются черты стратегий из разных ареалов. В жизни чистые формы обыкновенно встречаются реже смешанных, и эти гибридные явления – из самых распространенных.
Описанные антропологические практики сегодня выходят на авансцену; они, как видно, созвучны нынешнему состоянию человека и общества. Потребность в Альтернативе, тяга к ней не уходят, но прежние ее формы становятся отчасти непонятны, отчасти же непосильны. Безусловно, Альтернатива прежняя и вечная (?) не исчезла совсем; не говоря о широком русле Религии Спасения, продолжает свою жизнь и Духовная Практика. Больше того, авторитет Практики (в особенности, дальневосточных практик) как древней и подлинной Альтернативы распространяется в широкой среде, что приводит к усиленным попыткам "адаптировать к современным условиям" те или иные практики. Но эти попытки руководятся новым, редуцированным видением Альтернативы, для которого Духовная Практика представляется только психотехникой, разновидностью холистического тренинга – тогда как в действительности ее мета-антропологические суть и цель делают возможным выстраивание и трансляцию ее опыта лишь в лоне Традиции, превращая ее феномен из чисто индивидуального в транс-индивидуальный, в органическое, или "метабиологическое" двуединство индивидуальной Практики и соборной Традиции. Поэтому подобные адаптации способны лишь приводить к появлению гибридных стратегий, где имитируются отдельные черты Духовной Практики, однако конституирующая эту практику синергия, действенное присутствие энергии Внеположного Истока, достигаться не может. Православное сознание соединяет с подобными явлениями понятия прелести и безблагодатности.
Как мы видели, новые формы Альтернативы многочисленны и разнообразны. "Единое на потребу", подлинно онтологическая Альтернатива, твердо осознававшаяся как нечто единственное, как выход, который либо отсутствует, либо всего один, – плюрализовалась и раздробилась, разменялась на множество более доступных онтических альтернатив. В этом множестве можно усмотреть то же разделение, что мы отмечали в сфере онтологической Альтернативы: разделение на широкое, массовое русло и русло более узкое, с более радикальными установками. Широкое русло представляют виртуальные практики масскультуры: легко согласиться, что для их адептов, ряды которых несметны и все растут, они действительно стали замещением Альтернативы, в них уходят, погружаются как в альтернативный мир. В этом смысле, их можно рассматривать как некую современную вариацию – суррогат, симулякр? – Религии Спасения, ее онтическую редукцию. К узкому же руслу, с более радикальными устремлениями, принадлежат те стратегии, что, будучи связаны с Бессознательным, обладают структуростроительною энергией и могут рассматриваться как онтические редукции Духовной Практики: паттерны безумия, опыты трансгрессии, психотехники с духовными притязаниями, в духе Гурджиева, Грофа, Кастанеды... Частичность любой из этих стратегий может родить идею, что полная, максималистская самореализация в (онтической!) Альтернативе будет достигнута, если свести воедино, осуществить все разом эти частные альтернативы. Такой новый максимализм стремился осуществить Антонен Арто, используя синтетические возможности театра. В сегодняшней философии его представляет Делез: "Стоит ли без конца говорить
о ране Боске,
об алкоголизме Фицджеральда и Лоури,
о сумасшествии Ницше и Арто, оставаясь при этом на берегу? Не пора ли наконец стать профессионалами в этих областях? ... Нам следует ... быть немного алкоголиком, немного сумасшедшим, немного самоубийцей, немного партизаном–террористом..."
[3]. В жизни он осуществил эту линию с лихвой, став в финале самоубийцей не немного – сполна.
Однако – заметим в заключение – чистый максималистский порыв уже не столь характерен для нового этапа в истории Альтернативы. В словах Делеза происходящее с Альтернативой соотносится с процессами в искусстве, и такое соотнесение необходимо и поучительно. Хотя едва ли здесь есть точные законы, но вольно и приближенно можно соотносить максималистскую топику безумия и трансгрессии с героикой модернистского сознания – сознания Ницше, Ван Гога, Врубеля, Скрябина, Кафки, Блока... Эта героика, вдохновляемая исканием радикальной Альтернативы и порывом к ней, еще живет и сегодня, однако преобладает уже иной элемент, условно говоря, постмодерн. Гораздо характерней, симптоматичней – мозаика разноречивых импульсов, дезориентация, нерешительность. Это смешанное и колеблющееся сознание редуцированной Альтернативы отлично представлено и деконструировано в "Идиотах" фон Триера. Здесь вся тема – история одной попытки, одной импровизированной версии онтической Альтернативы. Героев объединяет искренняя и неподдельная тяга к Альтернативе, и в кругу альтернативных стратегий их влечет радикальный путь безумия. Но в полном и чистом виде, он для них слишком радикален; не будучи готовы на подлинное безумие, они виртуализуют его, недовоплощают, дерзая превратиться лишь в слабо-умных, в недо-умков. Их импровизация очень укладывается в нашу картину онтической Альтернативы: в наших терминах, здесь реализуется одна из гибридных стратегий – стратегия виртуального безумия. В очередной раз фон Триер точно уловил пульс времени: эта стратегия сегодня приобретает широкую популярность. Лучше слов это доказывают факты: перелистав всего несколько номеров влиятельного "Художественного журнала", мы там увидим заглавия статей ведущих русских и зарубежных арт-критиков: "Идиотичность как эзотеризм конца века", "Идиотизация смерти в русском искусстве", "Идиот против шизофреника"... – а в статье, пропагандирующей "методику разрабатываемого в новосибирской зоне художественного идиотизма", нам разъяснят, что "идиотизм как метод является своеобразным Гольфстримом в современной культуре". Пока это популярность в искусстве, но легко предвидеть, что жизнь, как всегда, поспешит подражать ему.
* * *
Итак, мы попробовали взглянуть на происходящие перемены в антропологической ситуации сквозь призму судеб Альтернативы. Суть перемен – глубокая перестройка отношений человека с его Границей, соединяемая с возрастанием роли этих отношений, с выдвижением Границы в центр, если употребить геометрический оксюморон. Подобные перемены несут и новую активизацию темы Альтернативы. Но в то же время, возникающий новый облик Альтернативы заключает в себе опасность перерожденья самой ее природы. Каким он описан выше, он целиком соответствует упоминавшейся уже формуле "забвение бытия", раскрывая эту знаменитую формулу Хайдеггера с новой стороны, в дискурсе энергии и в аспекте антропологических стратегий. Прежде Альтернатива мыслилась, будь то отчетливо или смутно, но заведомо онтологической, бытийной альтернативой, подлинным преодолением наличного бытия и приобщением Инобытию, будучи отождествляема со Спасением или, в радикальной форме, с Духовной Практикой. Для нынешнего сознания, она отождествляется со всей Антропологической Границей, и среди ареалов последней, в центре внимания и активности – ареалы онтической Границы, сферы безумия и виртуальности, равно как множащиеся виды гибридных практик. Бытийная же Граница подвергается забвению в разных формах его: ее считают несуществующей; существующей, но абсолютно недоступной; или наоборот, принципиально не отличающейся от онтической Границы, достижимой такими же естественными путями; и т.д. Если для Духовной Практики одна из непременных низших ступеней – устранение страстей, то для редуцированной Альтернативы, любая страсть, наращиваясь до одержимости, может быть признана состоятельной альтернативной стратегией. Прежде образами Альтернативы служили отцы-пустынники, преподобный Серафим, для человека Востока – скажем, Миларепа, укрывшийся от бури в роге оленя, не изменив ни своих, ни рога размеров... – ныне же ими становятся невротики и маньяки, человеко-мухи, влипшие во Всемирную Паутину, милые идиотики фон Триера. Словом – мы. Прогресс впечатляет.
3. Азбука идентичности
Наши вольные рассуждения о Человеке мы начали с тяги к Альтернативе. Подобный зачин был менее всего случаен: главная цель всей этой серии интенций – дать очерк, набросок цельного взгляда на Человека в свете этой присущей ему неискоренимой тяги. Соответственно, после описания Альтернативы как таковой нам предстоит рассмотреть с ее позиций основные слагаемые и стороны ситуации Человека. В качестве ближайшей задачи такого рода, мы попробуем раскрыть связи между Альтернативой и проблемой самоидентичности человека. Связи окажутся тесными и глубокими. Их можно было заметить уже при первом описании Альтернативы: в самом устремлении Человека к Альтернативе, "гнездящемся импульсе", явно присутствуют мотивы, затрагивающие идентичность. Опыт эмпирического существования рождает у человека беспокойное чувство несовпадения себя – некоего "настоящего", "подлинного" себя – с тем субъектом, что действует в эмпирии и вязнет в ней. "Да нет же. Нет здесь меня. Это не я". Существование в обычных, не-альтернативных стратегиях ощущается как существование не в своей, а в какой-то ложной идентичности. Но "ложная идентичность" есть нонсенс, она значит попросту отсутствие идентичности...
Итак, идентичность сразу же обнаруживает в себе неясность, вопрос, проблему. И столь же сразу мы видим, что место идентичности – у самых корней ситуации человека, среди первичных реальностей и изначальных вопросов, в которых необходимо определиться для осмысления множества самых принципиальных тем. Вот пример. В современной мысли на фоне общего деконструирующего движения есть два главных опыта открытия новых пространств, в философии Хайдеггера и Левинаса (хотя элемент радикальной критики классического наследия присутствует и в этих опытах). Они расходятся меж собой: Левинас утверждает для философии примат установки по отношению к Другому, этической установки, Хайдеггер – примат онтологической установки, бытийной ориентации. Но ясно, что для оценки этих позиций, для возможности полноценного выбора меж ними необходимо прежде понять: кому приписываются утверждаемые установки? Я признаю и осуществляю примат установки онтологической или этической – будучи кем или чем, что или кого представляя собой? выбору любой установки, любой позиции необходимо предшествует – выбор себя, акт осознания себя, ответ, хотя бы интуитивный, на толстовский вопрос (в бунинском выражении):
КТО ТЫ – ЧТО ТЫ?
Это – вопрос о моей идентичности. В него входит, составляя его ядро, вопрос общий – что есть идентичность как таковая.
Простых и быстрых ответов на эти вопросы нет. К "идентичности" или "самоидентичности" человека в полной мере можно отнести то, что блаженный Августин заметил о времени: она – из тех первичных реальностей, о которых мы говорим, с которыми сталкиваемся постоянно; однако, не затрудняясь оперировать с нею, мы весьма затруднимся, если потребуется ее определить. Особого затруднения нет, если речь идет об идентичности вещи: здесь самоидентичность есть простая тождественность предмета самому себе, его совпадение с самим собой – скажем, в разные моменты времени, в разных условиях. Вопросы есть, бесспорно, и тут: тождественность заведомо не сохраняется в абсолютном смысле, и приходится уточнять, что носителем идентичности мы считаем некий набор определяющих, фундаментальных признаков, характеристик предмета – то, что образует его "понятие", "субстанцию", "суть"; набор же предполагает отбор, принципы которого могут быть далеко не очевидны и проблематичны. Логический позитивизм, аналитическая и лингвистическая философия считают такие вопросы весьма серьезными и до сих пор, строго говоря, открытыми; но за пределами этих въедливых направлений мы позволяем себе, как правило, их относить к казуистике. Когда мы переходим к Человеку, вопросы остаются собственно те же, но отмести их как казуистику уже никак невозможно: они вырастают в крупные, кардинальные – и зачастую неразрешимые.
Отличие самоидентичности человека и вещи проявляется уже на уровне термина: если вещь, предмет может быть идентична самой себе или другой вещи, то человек – только себе самому. Возможны два идентичных предмета, но не два идентичных человека, и идея клонирования, если представить таковое примененным к нам лично, вызывает у нас некое глубинное недоумение, отвращение, даже ужас. Поэтому в предметной сфере идентичность, вообще говоря, не то же что самоидентичность. Она может обозначать идентичность предмета как себе, так и другому предмету; тогда как для человека идентичность может быть только идентичностью себе, самоидентичностью. Кроме того, в приложении к человеку самоидентичность получает важный дополнительный смысл, связываясь с самосознанием: идентичность самосознающего существа есть идентичность, устанавливаемая не внешней инстанцией, но исключительно им самим, лишь сам человек способен удостоверить собственную (само)идентичность. Подобный акт самоудостоверения означает, что человек совершает самосоотнесение, в котором он стремится обнаружить, зафиксировать и идентифицировать себя – как именно себя самого, таким образом подтвердив себе себя – как пребывающую, самотождественную аутентичность. Но удается ли этого достичь? что нужно для этого, какие условия? – вот вопросы, которые и составляют "проблему самоидентичности". Ответ, очевидно, зависит от того, как понимается "пребывающая аутентичность себя"; иными словами, зависит от конституции Я, от принимаемой модели сознания и человека.
Долгое время в европейской мысли господствовала модель, в которой проблема идентичности имела простое положительное решение, поскольку идентичность человека трактовалась на той же философской основе, что идентичность вещи: именно, на основе субстанциальности. Субстанция – автономное бытие, пребывающее, самодовлеющее, самотождественное; и из всех философских начал она тесней всего связана с самоидентичностью, имея последнюю своим определяющим свойством, фундаментальным предикатом. И в классической европейской антропологической модели природа человека носила именно характер субстанции: довершая антропологию Аристотеля, представлявшую человека определенной системой сущностей, Боэций в начале VI в. выдвинул знаменитую дефиницию, согласно которой человек – "индивидуальная субстанция разумной природы". Позднее сюда еще прибавилась концепция субъекта (мыслящего субъекта, субъекта познания), и возникла законченная конструкция человека в непроницаемой философской броне: классический европейский человек Аристотеля-Боэция-Декарта есть сущность, субстанция и субъект. И самоидентичность – при нем полностью.
Хотя в наши дни эта классическая модель оказалась отвергнутой, она отнюдь не являлась абстрактным измышлением, и есть все основания думать, что в свое время – "доброе старое время"! – она воспринималась как вполне отвечающая опыту. Уникальное хранилище антропологического опыта и антропологических типажей – кино; и, порывшись в этом хранилище, можно воочию увидеть, словно свет угасшей звезды, старые исчезнувшие пласты антропологической реальности. Можно найти в кинематографе наглядные и убедительные примеры прежнего человека, наделенного субстанциальной идентичностью. Непревзойденный среди них – Жан Габен. Главное впечатление, излучаемое всею его фигурой, точней всего можно обозначить именно по Боэцию: пред нами – substantia individua, некая нерушимая и себе довлеющая, всегда себе равная аутентичность. Ее присутствие, ее действие еще сильней и заметней, когда конкретное ее содержание остается нераскрыто, неведомо: энигматический Габен в лаконической стилистике "У стен Малапаги" не представляет и не изображает ничего, кроме чистой человеческой субстанциальности; но ее он представляет с яркостью символа, архетипа.
* * *
Нам надо выяснить недостатки и достоинства классической модели, проследить ее путь, сопоставить ее с другими моделями и подходами; но прежде всего этого стоит обрисовать общие очертания всей разветвленной проблематики идентичности. Наш выбор темы отвечает философскому горизонту этой проблематики: мы хотим разобраться в сути идентичности человека, в ее источниках, основаниях и предпосылках – ибо без этого не понять ее сегодняшний крах, распад. Однако есть многие другие горизонты. Идентичность активно причастна к процессам в трех порядках реальности: соматическом (организм стремится сохранить свою цельность в постоянном взаимодействии с внешним миром), психологическом (когда в сознании и поведении человека происходит интеграция внешнего и внутреннего опыта), социальном (идентичность влияет на социальную фактуру, характер связей в сообществах). Центральный из этих порядков – психологический, и более всего идентичность изучали именно в психологическом плане. При этом, описанная классическая модель обычно принимается без обсуждения, как философский фундамент; тем самым, предполагают, что источники и предпосылки идентичности человека на общеантропологическом уровне имеются налицо. Психологическая проблематика открывается далее: для каждой индивидуальной судьбы по-своему встает задача приобщиться к этим источникам и реализовать эти предпосылки – иначе говоря, конкретно воплотить свою идентичность. Эта обширная проблематика членится, прежде всего, в возрастном измерении: вообще говоря, задача обретения идентичности не решается раз навсегда (хотя бывает и так: это, к примеру, сценарий обращения, архетип которого – судьба ап. Павла с событием на пути в Дамаск); в сменяющихся формах она сопровождает человека всю жизнь. Лучше всего изучены ранние возрастные формы. Так, в период от полутора до трех лет идентичность начинает формироваться, проходя знаменитую "стадию зеркала", открытие которой стало первым из триумфов Жака Лакана: это – "нарциссическая идентичность", строительный материал которой – собственное идеализированное отражение в других, идеал-образ себя (конечно, этот механизм может действовать и поздней, как, видимо, он всегда оставался доминирующим у самого Лакана). В 13–19 лет идет отроческий кризис идентичности, исследованный Эриком Эриксоном; и т.д.
В процессах поиска идентичности психологические аспекты сплетаются с экзистенциальными и духовными, существенно и влияние социокультурных факторов. Поиски идентичности бывают характерны для определенной среды и культурной ситуации: они ассоциируются, скажем, с романтическим сознанием, с переходными периодами, ситуациями распада традиционных укладов, форм мировоззрения и поведения... При этом, налицо эволюция в сторону радикализации поисков, обострения их проблематичности, неясности их путей и исхода. Эта эволюция прямо связана с судьбой философского фундамента поисков, модели субстанциальной идентичности человека. Романтический поиск идентичности происходит в присутствии этого фундамента, когда его наличие, в основном, не подвергают сомнению. Но уже для символистского сознания дело обстоит иначе. Здесь возникает модель расщепления идентичности, где на месте единой "индивидуальной субстанции" мыслятся три разных плана или вида идентичности человека: то, что казалось (личины) – имелось (лицо) – пробивалось, сквозило (лик). Когда же в дальнейшем базовая модель вообще исчезает, поиски идентичности переходят в радикальные эксперименты с идентичностью. В современной художественной практике такие эксперименты идут потоком – эксперименты наугад, по всем направлениям, обыкновенно без крупной, а порой и без мелкой направляющей эстетической идеи-концепции. Наиболее резкую форму они приняли в том, что называлось прежде изобразительным искусством; здесь явственно обнажился тупик в понимании самого художественного акта как такового, а отсюда и в понимании идентичности художника. Последний творческий взлет здесь – продвижение от уже устаревших дроблений, либо подмен идентичности – к гноению идентичности: в одной из акций московской группы "Коллективные действия" фигурировали "тела Хайдеггера", в неопределенных субстанции и числе захороненные и гниющие в подмосковной местности... Но мы не будем входить в эти аспекты темы (хотя известное разъяснение они все же получат в следующей интенции – при обсуждении моделей редуцированной, вырожденной идентичности). Прежде чем вернуться к прерванной философской нити, напомним только, что поиски идентичности – классический предмет европейской литературы XIX–XX вв., а следом за нею и кино. Из сонма фигур, в ком олицетворился этот поиск, ярчайшая и характернейшая, на мой взгляд, – Жан-Пьер Лео. В нашем контексте, он прямой антипод Габена: как Габен – воплощенный ответ об идентичности, так Лео – воплощенный вопрос о ней, воплощенная озабоченность идентичностью, если хотите, зуд идентичности. Это неотступное, неотвязное вопрошание: есть у меня идентичность? если есть – в чем она, где? может, ее нет? Конечно, это вопрошание, по преимуществу, в психологической плоскости – о своей, индивидуальной идентичности; но иногда оно достигает отчаянной напряженности, перерастая в философский вопрос об идентичности как таковой.
* * *
Желательно дать общую постановку проблемы идентичности человека – такую, которая позволила бы увидеть "классическую модель" как одно из возможных решений проблемы, но одновременно показала бы и возможность других решений, других моделей. Фундамент философского подхода к проблеме идентичности доставляет универсальная логика или диалектика Одного и Иного: любое сущее получает свое определение, подтверждение, удостоверение – от Иного себе, из своего отношения к Иному. В частности, это относится и к такому (само)удостоверению, которое является установлением (само)идентичности. Применительно к разным родам сущего, разным горизонтам его рассмотрения, Иное принимает различный облик, и общий тезис выступает во многих конкретных формах. Если вопрос ставится о бытийной природе и бытийном определении – как это, очевидно, и требуется в наиболее общей, онтологической постановке проблемы идентичности – тогда Иное является иным онтологическим горизонтом, Инобытием. Иначе говоря, когда (само)идентичность человека трактуется как онтологический предикат, тогда инстанция и источник, из которых полагается (само)идентичность, есть инобытие наличного бытия: бытие абсолютное. Пастернак любил выражать этот не столь сложный вывод с пафосом: "Все на свете должно превосходить себя, чтобы быть собою. Человек, деятельность человека должны заключать элемент бесконечности, придающий явлению определенность, характер" ("Автобиографический очерк").
На первый взгляд, "классическая модель" противоречит выводу: поскольку субстанция автономна и самодовлеюща, то субстанциальная идентичность человека как будто полагается не извне, не из Иного, а изнутри, из самого Человека. Но так только кажется. Субстанциальность человека – не данность опыта, но она не может и притязать на роль первичного фундаментального постулата о реальности, она – лишь тезис, нуждающийся в обосновании. В своем значении и концептуальной структуре, субстанциальность и идентичность близки к категории
основы. К этой категории также издавна прилагался вышеизложенный аргумент; в Средние Века Экхартом, в наши дни Хайдеггером была развита углубленная диалектика основы. Она раскрывает, что основа как таковая должна быть по своей природе без-основной, или, иными словами, условием и предпосылкой ее существования является безосновное начало, которое притом имеет иной онтологический статус нежели наличное бытие, где всему сущему необходимо присуща своя основа. (Точно по той же логике, согласно Аристотелю, необходимая предпосылка движения – недвижный Перводвижитель). Аналогично субстанциальность, родственная основе, должна иметь свой источник, свою укорененность в ином горизонте бытия; и в рамках христианской онтологии, это влечет весьма существенный тезис:
источник субстанциальности, а с нею и субстанциальной идентичности человека, есть Бог. Начиная с Ренессанса, эта необходимая предпосылка классической модели часто оспаривалась или предавалась забвению, отодвигалась на задний план, но она прочно существует, и в нынешнюю эпоху кризиса классической метафизики и антропологии о ней заново напомнила обнажившаяся жесткая связь между философской судьбой Бога и Человека. Делез дал ей сжатую, но по сути исчерпывающую формулировку: "Где человек в отсутствие Бога мог бы обнаружить гаранта своей идентичности?"
[4] С этим вопросом Делеза мы уже переходим к теме об исторической судьбе модели субстанциальной идентичности. Как говорилось выше, в минувшем веке эту модель нашли не отвечающей реальности. Она составляла часть антропологической концепции, которую мы назвали "человеком Аристотеля-Боэция-Декарта", и этот человек приказал долго жить. Философским ядром концепции служили идеи человека-субстанции и человека-субъекта, и обе они сегодня оказались отвергнуты. Критика этих идей развернулась еще в конце XIX в., в творчестве Ницше, Бергсона, Соловьева; затем она была продолжена в феноменологии Гуссерля, психоанализе, структурализме. Левинас в своем критическом анализе разобрал возможность наполнить субстанциальность человека иным содержанием, отдалив ее от субстанциальности вещи и приписав ей предикаты, отличающие сознание и личность: в его трактовке основу субстанциальной идентичности составляют знание и свобода; именно они образуют то ядро, которое может сохраняться и пребывать аутентичною цельностью, не затрагиваемой силами и стихиями становления, множественности, изменчивости. Однако спасти классическую модель не удается и таким путем. Выводы современной мысли категоричны: сознание, Я, свобода не обладают природой субстанции и их нельзя адекватно выразить этим понятием, как ни пытайся его модифицировать или обобщать. Такие выводы – органическая часть результатов того "преодоления метафизики", что, начавшись с Кьеркегора и Ницше (кем брошен был и сам лозунг "преодоления"), стало магистральным руслом философии ХХ в. Мысль постструктурализма и постмодернизма подвела итоги этой работы, нередко в вызывающей и заостренной форме, и самою популярной из этих форм стала серия тезисов–смертей: смерть Бога (объявленная еще Ницше) – смерть субъекта – смерть Человека... Об этих громких открытиях – или закрытиях – современной мысли написаны горы, но при всем том, их существенные аспекты, касающиеся проблемы идентичности, остаются, как правило, недопоняты и недораскрыты. В очередной интенции мы попробуем с ними разобраться.
4. Мытарства идентичности
«Во многих местах отмечаются резкие
перебои с идентичностью».
(Из прессы)
Выписывание азбуки идентичности привело нас, как и положено, к азбучным выводам: во-первых, в своих истоках и основаниях концепция или конструкция (само)идентичности человека определяется онтологией, представлениями об инобытии, о Боге; во-вторых, "преодоление метафизики" в европейской мысли ХХ в., радикально изменив облик философии, должно сказаться столь же радикальными изменениями во взглядах на идентичность. Философские перемены можно считать, в целом, выражающими один главный факт: исчезновение определенного философского дискурса и модели реальности, которые многие века находились в основе западного мышления. Весьма упрощая, можно разделить эту основу на элементы, восходящие, соответственно, к Платону и к Аристотелю. Первые включают, прежде всего, корпус онтологических положений, принципов европейского идеализма, вторые же – эссенциальные категории и принципы организации философского дискурса, превращающие этот дискурс в своего рода "алгебру сущностей". И вновь упрощая, можно считать, что в первой половине ХХ в. философский процесс принес, по преимуществу, кризис первой части, оснований идеализма, а во второй половине – второй части, оснований эссенциализма.
Для нас важна сейчас судьба онтологической модели, идущей от платоновского "мира идей", через Плотина и псевдо-Ареопагита, к Николаю Кузанскому, Лейбницу и классическому немецкому идеализму. Наиболее кратко можно охарактеризовать эту модель как "панентеистскую": панентеизм – философская позиция, стоящая на концепции "мира в Боге", то есть предполагающая, что все здешние вещи и явления, и мир в целом, наделены Богопричастною сущностью и, стало быть, в сущности своей санкционированы Богом. Не столь трудно проследить, что этот панентеистский тип онтологии служит основанием не только для субстанциальной идентичности, но и для всех дискурсов традиционного христианского мировоззрения, опирающихся на понятие идеальной или богоустановленной нормы (норм): классической эстетики, нормативной этики, ценностной философии культуры, теории государства и права... На Западе, где привыкли отождествлять Европу с Западной Европой, а христианство – с Западным христианством, данный тип отождествлялся с христианскою онтологией как таковой, и кризис его воспринят был как глобальный кризис христианского мировоззрения (подобное восприятие стоит, в частности, и за тезисом о смерти Бога у Ницше). Однако в действительности панентеизм вовсе не представляет собой единственно возможную христианскую позицию в онтологии. Это принципиально для нашей темы: в другом русле (которое издавна существовало в Восточном христианстве, хотя, увы, оставалось мало развито в философском плане) возникает и другое решение проблемы идентичности.
В последние десятилетия, сначала русские (эмигрантские), а затем греческие православные богословы развили сильную и убедительную трактовку Божественного бытия как "личного бытия-общения", в котором между тремя единосущными Лицами-Ипостасями осуществляется непрестанная и совершенная взаимоотдача бытия. Эта бытийная динамика или икономия характеризуется византийским богословским понятием "перихорисис" (обход по кругу) и рассматривается как внутреннее определение совершенных любви, личности и общения – каковые фундаментальные понятия выступают здесь как тождественные друг другу. Совершенная личность (Ипостась), понимаемая описанным образом, наделена и совершенной самоидентичностью: в совершенном отдании и совершенном принятии бытия она осуществляет собственное самоудостоверение во всей его полноте. Ясно, что возникающая здесь тринитарная модель самоидентичности отлична от субстанциальной модели: это – новый род идентичности, динамический и характеризующий личное бытие в его специфическом отличии от бытия вещного (тогда как статичная субстанциальная идентичность "человека Аристотеля-Боэция-Декарта" не отражала этого отличия, характеризуя человека по аналогии с вещным бытием). Надо только оговорить, что перихорисис как принцип онтологической динамики отнюдь не есть "процесс в Боге"; он – некое динамическое равновесие, а точней – специфически инобытийное энергийное отношение, стоящее вне присущих эмпирическому бытию способа темпоральности и оппозиции статики и динамики.
Но тринитарная идентичность – свойство Божественного бытия и Божественной Личности (Ипостаси). Что же до эмпирического человека, то в православно-патристическом понимании, сам по себе, в собственной (тварной падшей) природе он не обладает ни личностью, ни (само)идентичностью; однако он обретает первую, а с ней и вторую, по причастию: в той мере, в какой приобщается Богу и Божественному бытию. В нашей первой беседе мы описали, как мыслится это приобщение: оно ищется человеком на пути Спасения, наиболее чистой, максималистской формой которого служит Духовная Практика как альтернативная антропологическая стратегия, ориентированная к мета-антропологическому телосу обожения. Теперь процесс практики предстает в новом аспекте, как путь обретения личности и идентичности – путь воипостазирования, лицетворения, на языке православной мысли. Проблема идентичности снова наконец связывается с темой Альтернативы: именно альтернативная стратегия Духовной Практики оказывается путем и способом обретения идентичности для тварного человека, изначально имеющего не готовую идентичность, но лишь ее залог и возможность. Мы обнаруживаем, что парадигма Духовной Практики несет в себе новое решение проблемы идентичности: (само)идентичность утверждается как тринитарная идентичность, предикат личного (ипостасного) бытия-общения; человеку же сопоставляется модель энергийного обретения тринитарной идентичности. В контексте истории проблемы, такое решение выглядит оригинальным и бескомпромиссным. Западные решения почти все сводились к попыткам найти в эмпирическом бытии такую инстанцию, которая могла бы выполнить роль места, локуса идентичности, ее носителя. Испробованы были многие варианты – по большей части, разные концепции Я – но все они несли в себе те или иные противоречия; отыскать безупречного носителя идентичности не удавалось. Восточнохристианский дискурс отказывается множить эти попытки и признает, что такового носителя принципиально не существует в эмпирическом бытии – он существует лишь как мета-антропологический телос особой стратегии человека.
Из специфических категорий личного бытия, особую важность для проблемы идентичности имеет
общение, или
диалогическое общение. Это та форма, которую принимает отношение Одного и Иного в сфере личного бытия: здесь "Одно" – личность (Ипостась), "Иное" – другая личность, "Другой", и отношение их – совершенное общение как полный взаимообмен бытием, в котором Другой выступает как "диалогический партнер". В сфере же человеческого существования реализуется несовершенное общение: не достигая глубины взаимообмена бытием, оно принимает формы разной степени неполноты, крайняя из которых – простой обмен информацией. Однако ценнейшим свойством человеческого общения является его способность к спонтанному самоуглублению: оно имеет тенденцию не сохранять исходную форму, но усиливаться и расширяться, захватывая все новые измерения, выстраивая лестницу форм-ступеней, идущих от обмена информацией к обмену все более личными содержаниями. Эта лестница ступеней общения ведет в направлении к совершенному общению, перихорисису
[5], но, разумеется, не может его достичь. К нему ведет иная лестница – лестница ступеней Духовной Практики, и она также представляет собой углубляющееся диалогическое общение, но только общение иного рода – общение Человека и Бога в молитве, Богообщение. Есть, таким образом, три разные парадигмы общения, которые важно не смешивать: ипостасное общение-перихорисис как совершенная полнота общения, или же общение как категория онтологии – эмпирическое межчеловеческое общение, способное к ограниченному углублению, – и, словно мост меж ними, молитвенное Богообщение в Духовной Практике, способное к углублению до обожения
[6]. Но общее между ними в том, что в силу универсальной логики Одного и Иного, каждая парадигма общения порождает некий род (само)идентичности. Эта ключевая роль общения усиленно акцентируется современной диалогической философией. Бубер, Левинас, Бахтин, за ними еще многие, утверждают согласно:
базовый процесс формирования идентичности человека есть диалогическое общение. К этому же руслу можно отнести ряд концепций христианской экклезиологии: Церковь как мистическое Тело Христа, скрепляемое таинством Евхаристии, есть также источник идентичности для своих членов. Естественно возникающее здесь понятие
евхаристической идентичности, ядро которого – общение в таинстве, неявно представлено уже в учении о соборности у Хомякова, а явно – у многих богословов ХХ в., как православных (Н. Афанасьев, А. Шмеман, митроп. Иоанн Зезюлас), так и католических (А. де Любак, И. Конгар и др.).
Вся эта линия в трактовке идентичности специфически связана с христианской концепцией личности и с христианской (исихастской) реализацией парадигмы Духовной Практики, основанной на принципах синергии и обожения. Прежде, говоря о парадигме Духовной Практики, мы не отмечали различий между ее разными воплощениями, но теперь это сделать необходимо – в проблеме идентичности различия выступают с крайнею резкостью. Это вполне понятно. Тринитарная идентичность есть, разумеется, специфическое свойство телоса христианской практики; и для всякой духовной практики ее мета-антропологический телос является конститутивным элементом, определяющим все ее отличительные особенности. Мы здесь не можем развивать общую классификацию практик в соответствии с их телосом, однако никак нельзя не сказать, что в аспекте идентичности практики образуют весьма поляризованный спектр, на одном полюсе которого – модель идентичности, отвечающая телосу христианской (исихастской) практики, на другом – позиция, отвечающая телосу практики буддийской, т.е. состоянию нирваны. Эту последнюю позицию мы не назвали "моделью идентичности", поскольку за нирваной усиленно утверждается совершенная несообщаемость, невыразимость, неописуемость, и буддийские тексты принципиально не дают дискурсивных разработок предикатов нирваны, в том числе, и ее отношения к предикату идентичности. Но, несмотря на эту, говоря христианским языком, сугубо апофатическую установку, вполне ясно, что позиция буддизма – это позиция анти-идентичности. В нирване нет ни малейшего места ни для статической (субстанциальной), ни для динамической (тринитарной или иного рода) идентичности. Резкое и всецелое отрицание субстанциальности во всех ее видах – субстанциальной идентичности, души, субъекта... – ядро и корень буддизма, самоопределявшегося по оппозиции брахманизму с его субстанциалистскими базовыми концепциями атмана и Пуруши. Динамичность же, всякая и любая, изгнана из нирваны, главный и определяющий принцип которой – полное прекращение всякой процессуальности, динамики и полное отсутствие внутренних разделений и различений. Вместе со всем прочим, данный принцип исключает и инобытийную динамичность перихорисиса, являя собою крайний предел прекращения, растворения, исчезновения всей деятельностной стихии, всех проявлений и различений, вплоть до различения бытия и небытия, самой нирваны и сансары.
Сделанное уточнение влечет другое. В многообразии духовных практик, исихазм и буддизм выделяются не только полярностью своих телосов, но и важными общими чертами, отчего стоит сказать полней об их отношениях – актуальных, к тому же, в нынешней духовной ситуации. Буддизм (прежде всего, тибетский тантрический буддизм) и исихазм – наиболее глубоко отрефлектированные мета-антропологические стратегии; они построены на наиболее выверенных методиках организации, проверки и истолкования духовного опыта. Зоркость и методичность этих стратегий, купно с общею принадлежностью парадигме Духовной Практики, не могли не повлечь существенных совпадений в их видении реальности. Они дают сходную феноменологическую дескрипцию наличного бытия и эмпирического человека, рассматривая последнего как энергийное и потокообразное сущее – последовательность моментальных энергийных конфигураций, не заключающих в себе никакого субстанциального субъекта, никакого принципа личности или (само)идентичности, но все же несущую некие элементы структуры и упорядоченности. (Было бы поспешным сказать, что в этом энергийном видении человека выражается восточный взгляд, в отличие от субстанциалистского и эссенциалистского западного взгляда: в индийской мысли буддизму предшествует субстанциалистское учение брахманизма). Но далее обе стратегии расходятся, принимая диаметрально разные установки по отношению к энергийному человеку. Ориентируясь к телосу личного бытия-общения, христианская практика стремится к соработничеству с энергиями этого бытия (синергии), в ходе которого энергийные структуры человеческого существа трансформируются уникальным образом – ступенчато восходят к совершенному соединению с Божественными энергиями, к обретению человеком личности и идентичности. Ориентируясь к телосу нирваны, буддийская практика стремится к прекращению всех аффективных проявлений, в ходе которого энергийные структуры человеческого существа трансформируются также уникальным образом – ступенчато нисходят к уничтожению, более полному чем физическая смерть, обрывающему круженье сансары и уж заведомо исключающему личность и идентичность. Эти две установки – чистое воплощение двух типов религиозности, отвечающих религии космоса и религии личности. Пред нами – бытийная бифуркация, онтологический выбор, причем этот выбор стоит вне оппозиции Истинное – Ложное: предмет выбора – отнюдь не "предмет", суждения о котором могут быть истинны, либо ложны, а бытийная стратегия с открытым, непредрешенным исходом. Только сам исход, когда наступит, выявит, "обличит" смысл всего пути, став, тем самым, Страшным Судом: Страшным, ибо ни в чем нельзя уж будет изменить ни иоты.
Стоит заметить также, что в духовной ситуации наших дней сложились определенные факторы, благоприятствующие буддийскому выбору. Буддизм начинает с того же, чем заканчивает на сегодня постмодернизм: с усиленного и полемического (в противовес, соответственно, брахманизму или западной классической метафизике) утверждения смерти субъекта, иллюзорности всех субстанциальных опор и основ, с утверждения безличного человека, видимого как поток состояний. В Восточном христианстве отнюдь нет этого пафоса негации: здесь также отсутствует субстанциальный субъект, но он отсутствует изначально, и никакой драматической смерти его не происходило; напротив, здесь царит пафос Новой Жизни, открываемой Событием Христа. В итоге, возникает взаимное притяжение и избирательное родство, Wahlverwandschaft двух танатоцентричных дискурсов: для постмодернистского сознания буддизм легко видится как естественный дальнейший шаг, как прямой путь углубления достигнутого и пережитого опыта. Живые примеры сегодня изобилуют вокруг нас, заставляя вспомнить прогноз Карла Юнга: в исторической перспективе, важнейшей чертой ХХ века окажется выход буддизма в западную культуру.
Однако буддийская тяга к анти-идентичности – заведомо не самая массовая и не ведущая в "тяжбе борющихся качеств" современного сознания. Раскрыв связи проблемы идентичности с Духовной Практикой, мы можем сделать и общий вывод о том, что источником идентичности человека является Антропологическая Граница. Отсюда, проблема идентичности выступает как определенный аспект темы о стратегиях Границы (альтернативных стратегиях), и судьбы этой проблемы определяются судьбами Альтернативы. В прошлой беседе мы выделили некоторое решающее явление в современной ситуации Альтернативы, назвав его "онтической редукцией": оно состоит в размножении и господстве стратегий, реализующих не онтологическую, а всего лишь онтическую Альтернативу. Главные виды таких стратегий суть паттерны безумия (стратегии, индуцируемые из Бессознательного) и виртуальные практики; и нетрудно увидеть, что те и другие, действительно, порождают свои модели "онтически редуцированной" идентичности. Закономерным образом, им присущ ущербный или искаженный характер: идентичность, осуществляемая в паттернах безумия, отвечает расколотому, лишенному связности сознанию; в виртуальных же практиках осуществляется, точней говоря, не модель идентичности, а тот или иной род отсутствия, недостачи идентичности – в соответствии с нашей общей трактовкой виртуального опыта как опыта привативной (недовоплощенной, недостроенной) антропологической реальности. Но эти ущербные формы дают, вместе с тем, простор для вариаций и комбинаций, для запутанных, нередко опасных и жестоких, современных игр идентичности. С ними напрямик связаны, скажем, пирсинг и боди-арт, актом обретения или удостоверения самоидентичности – разумеется, редуцированной – может оказаться любой акт трансгрессии, до террористического акта и самоубийства включительно; и т.п. В сегодняшней масскультуре подобные стратегии идентичности подаются как банальность; в СМИ привычно мелькают заголовки в духе, скажем, вот этого: "Дело Чикатило: преступление как путь к идентичности".
Имеется и еще одна, притом самая распространенная, модель онтически редуцированной идентичности: общеизвестная "групповая" или "партийная" идентичность, обретаемая в итоге (само)идентификации – акта или процесса, в котором человек делает своим полным и исчерпывающим определением принадлежность к той или иной эмпирической людской общности – нации, партии, кружку, секте... Такая модель есть, со всей очевидностью, псевдо-идентичность, поскольку человек, независимо от собственного желания, репрезентирован в ней лишь некой частью. Ввиду огромной массовости этой модели, и литература и кино в изобилии изображали таких индивидов, добровольно участнивших себя, – можно вспомнить тут хотя бы бесчисленные образы революционеров. Философское содержание данной темы бедно, но в социокультурном и социоантропологическом плане тут разнообразный и важный материал. К примеру, существуют определенные свойства, параметры, которые придают сообществам высокую способность формировать идентичность (редуцированную, конечно): такой высокой способностью наделены, в частности, криминальные и маргинальные сообщества, группы в экстремальных условиях. В предельном случае, полную идентификацию способна создать ячейка из двух человек, как это с блестящею убедительностью показывает "Бонни и Клайд". Весьма поучительно также, что групповая идентичность может прививаться насильственно, нормативно-приказно, под давлением, и опыт истории заставляет подозревать, не самый ли это эффективный путь к идентичности. Это лишь малая часть вопросов, рождаемых групповой идентичностью. Нетрудно понять, какие формы полноценной, онтологической идентичности подвергаются в ней редукции. Ближайшим образом, это евхаристическая (соборная, церковная) идентичность: группа, служащая для (само)идентификации, выступает как онтическая редукция или симулякр Церкви; границы же группы – своего рода симулякр Антропологической Границы.
Сравнительно с неурезанной, онтологической идентичностью человека, редукции идентичности обладают одной особенностью, играющей важную роль в современном обществе: они порождают специфический феномен "меньшинств" и тип "меньшинственного" самосознания. Прежний человек, будь то подвижник или любой "раб Божий", в своей самоидентичности, самосознании был – просто человек, не более и не менее. Его идентичность имела мета-антропологический источник, а мета-антропологическое соотносимо с антропологическим как таковым, в целом. "Раб Божий", обычное иудеохристианское самоназвание Человека, – не менее смелое утверждение достоинства Человека, чем вся риторика Ренессанса: оно означает, что Человек определяется одним только Инобытием – и ничем меньшим, ничем из всего сущего. Поэтому человек в Духовной Практике, вне зависимости от масштабов своей традиции, был репрезентант (все)человеческого в его ориентации к мета-антропологическому телосу, а отнюдь не репрезентант группы, составляющей традицию. Но человек с редуцированной идентичностью, источник которой – некая сфера сущего, в своем самосознании – репрезентант лишь некоего "меньшинства", группы носителей данной идентичности. Определяющее отношение для такого "меньшинственного" самосознания – это отношение или отношения с другими, соседними меньшинствами. Ввиду сосуществования в ограниченном пространстве, в таких отношениях неизбежно превалируют элементы конфликта, столкновения интересов, борьбы за ресурсы всякого рода. И когда редуцированная идентичность всех видов становится господствующей формой идентичности, происходит меньшинизация человечества, его превращение в набор междоусобствующих меньшинств – в их свору, погруженную в перманентную свару. Успела обойти мир шутка – или трезвый прогноз? – о том, что Третья мировая война будет меж лесбиянками и лилипутами. Выбор меньшинств в шутке заменим по вкусу. Так вышло, что я пишу эти строки в Белграде, где, возвращаясь из центра в особнячок для гостей Института Физики, каждый день вижу гигантские графитти на путепроводе:
NACISTI I PEDERI ODJEBITEZ.
Подпись: PANKI.
Конечно, между меньшинствами существуют также и элементы общности, тенденции сближения. Для придания им доминирующей роли, для поддержания лада между меньшинствами изобретена специальная дисциплина, именуемая политическою корректностью. Это радует. Мы успокаиваемся за человечество и только в заключение хотим взглянуть, какие же формы общности бывают в мире меньшинств. У человека с онтологической идентичностью сферу общего составляло "высшее назначение", мета-антропологический вектор человека (отношения разных духовных практик непросты, и мы не будем пытаться в двух строках их раскрыть; однако за счет мета-антропологического вектора, они принципиально иной природы, чем отношения враждующих меньшинств, и взаимные распри духовных традиций – безошибочный показатель их редукции). Но у человека с онтической, редуцированной идентичностью его "высшее", его дефиниция и природа, переходит в сферу взаимных различий меньшинств. Общность же теперь конституируется не сверху, а снизу, она – не по "высшему назначению", а по тому, что "есть у каждого", по тривиальному минимуму, нижней черте. Она, грубо говоря, не в том уже, что всем нужен Бог, а в том, что всем нужны унитазы (как пророчески указал Марсель Дюшан). Или психоаналитики, что приблизительно то же. И придать такой общности доминирующую роль, дабы между меньшинствами был лад, значит не что иное как сделать нижнюю черту – обязательной нормой. Рецепт оказывается неожиданно знаком. Мы уже это слышали, только подано было неудачно, с русским раздрызгом: "Цицерону отрезается язык, Шекспир побивается каменьями..." Дать шигалевщине импозантное имя политической корректности – такой отличной идее от души позавидовал бы Петр Верховенский.
5. Пластичность человека в пределе и беспределе
"Заблудился я в небе. Что делать?"
О. Мандельштам
Наш цикл интенций движется к концу. Каждой интенции, как легко заметить, не удается стать полноценным интенциональным актом: в каждой мы успеваем совершить лишь первоначальное усмотрение предмета, слишком беглое и бедное, но еще далеко не добираемся до выстраивания эйдоса предмета, до clara et distincta visio. И все же вкупе эти несовершенные узрения постепенно достигают некой отчетливости и надежности. Начал выступать и очерчиваться предмет всего цикла: и мы видим, что это – некоторый образ Человека, близкий и древности и современности, но явно расходящийся с классическим и привычным (до сих пор) Субстанциальным Человеком европейской метафизики и культуры. Сжато можно сказать, что этот выступающий образ есть Энергийный Человек, определяемый Антропологической Границей; поскольку же Граница понимается также в дискурсе энергии, как совокупность определенных стратегий, практик, паттернов и режимов активности, то данной формуле равносильна другая: Энергийный Человек как ансамбль стратегий Границы.
Нас, разумеется, интересует, что нового несет этот образ, в чем его отличия от образа прежнего, от субстанциальной антропологической модели. Рассматривая Энергийного Человека в ситуации современности, мы отмечали уже немало явлений, не отраженных в прежних антропологических концепциях. Самым существенным из всего подмеченного была "онтическая редукция", феномен вытеснения стратегий, ориентированных к онтологической Границе, к трансформации самого способа бытия человека, – стратегиями, ориентированными к Границе онтической, выводящей не к Инобытию, а лишь к иным сферам сущего. Однако надо заметить, что онтическая редукция отнюдь не является непременной чертой Энергийного Человека; энергийная модель всего лишь дает удобный язык для описания этого феномена. Сама же по себе онтическая редукция есть черта современности; хотя в малой мере с нею были знакомы и прошлые эпохи, но, скажем, в даосской или исихастской энергийной антропологии мы не найдем никакой речи о ней. Если же поставить вопрос о специфических отличиях Энергийного Человека от Субстанциального Человека, то мы увидим, что пока узнали о них совсем немного, причем, в основном, в общефилософской части – в проблеме идентичности, в отношениях к бытию и сущему. Меж тем, самые выпуклые и наглядные отличия в иной сфере. По самому смыслу субстанциальности, с отказом от субстанциальной модели должна радикально сокращаться область устойчивого, незыблемого в человеке, того что всегда и неотъемлемо ему присуще; и напротив, должны столь же радикально расширяться пределы изменчивости человека. За счет отсутствия субстанциального ядра, Энергийный Человек наделен заведомо большей способностью к изменениям, и это возрастание изменчивости не может не выливаться в ощутимые, масштабные проявления. Оно, следовательно, и должно быть самой заметной отличительной чертой энергийной модели человека. Попробуем рассмотреть эту черту пристальней.
Есть множество понятий и терминов, выражающих способность к изменениям: помимо изменчивости – трансформируемость, вариабельность, эластичность, текучесть, гибкость, протеичность, пластичность... Из них именно пластичность кажется наиболее пригодной, адекватной в антропологической сфере. Это одновременно техническое и эстетическое понятие, свойство материала и свойство художественного предмета, – человек же является и тем и другим. Есть и более важный момент. По смыслу, пластичность – не то же самое что просто изменчивость как таковая, ни от чего не зависящая, полностью произвольная и не знающая никаких ограничений. Пластичным мы называем предмет, который способен меняться, трансформироваться легко, в широких пределах, однако при этом – оставаясь самим собой; если предмет попросту перешел во что–то иноприродное, не имеющее ни внешней, ни внутренней связи с прежним, мы не станем приписывать ему качество пластичности. Иными словами, пластичность есть такой род изменчивости, в котором изменчивость сопряжена с неким противоположным началом, сдерживающим и ограничивающим ее, полагающим ей пределы. И ясно, что изменчивость человека именно такого рода. Идет ли речь о субстанциальном или энергийном человеке, но изменчивость его – это изменчивость человека, она включает такие изменения, в которых он остается человеком, сохраняет некое качество "человечности". Сразу приходит мысль, что это сохраняющееся качество не что иное как идентичность; однако наш разбор идентичности в прошлых беседах показал, что идентичность человека – свойство без отчетливого определения, имеющее целый ряд видов, форм – и априори мы вовсе не можем утверждать, что любые возможные изменения человека сохраняют незатронутою его идентичность. Правильнее поэтому более общая позиция: считать, что идентичность человека является не пределом его пластичности, а скорей принципом, разделяющим все происходящие с человеком изменения на два рода – соответственно, сохраняющие и не сохраняющие его идентичность. Как мы увидим, это разделение играет первостепенную роль в картине сегодняшних антропологических изменений.
Итак, вопрос о специфических отличиях Энергийного Человека приводит к анализу его пластичности – сравнительно с пластичностью Человека Субстанциального. Чтобы понять природу и пределы этой пластичности, следует привлечь, прежде всего, категорию формы, которая связана с пластичностью еще тесней, нежели категория идентичности. Вне технического контекста, понятие пластичности до сих пор относили к сфере эстетики, где оно рассматривается как предикат формы. Отправляясь от этой привычной трактовки, будем соотносить пластичность человека с формой, как она выступает в антропологии. В двух антропологических моделях тогда будут фигурировать, соответственно, пластичность энергийной формы и пластичность субстанциальной формы. Антропологическая форма в субстанциальной модели – обычная аристотелева форма, служащая выражением определенной сущности (эссенциальная форма). По основным свойствам она не отличается от эстетической формы и, соответственно, связанная с ней антропологическая пластичность сохраняет основные свойства формы в классической эстетике Винкельмана–Лессинга. В сегодняшнем искусстве трактовка формы, равно как и трактовка пластичности, ушли неизмеримо далеко от этой классической модели. Стало, в частности, архаикой деление на искусства пластические, пространственные, и непластические, временные; от кубизма и футуризма к перформансу и видеоарту идет, нарастая, непрерывная тенденция изобразительности сделать своей материей время, своими предикатами динамику и движение; звук, напротив, стремится стать пространственным, и т.д. и т.п. И это значит, что из искусства – а следом за ним и из искусствознания – уходит концепция статической и эссенциальной формы, сменяясь формой динамической и энергийной (в кино же, разумеется, форма изначально не могла быть иной). Такую смену, без сомнения, обусловливают перемены в самой реальности, и среди них решающую роль (в свете "антропологического поворота") играют перемены антропологические. Однако антропология сегодня – отсталый дискурс, в котором и язык, и идеи фатально отстают от реальности меняющегося человека. Как мы уже сетовали в прошлых заметках, здесь до сих пор отчасти еще бытует старая модель, отчасти же муссируется в разных аспектах ее крах, меж тем как основательной замены ей нет.
Основные отличия пластичности энергийной формы связаны с судьбой нормы. Эссенциальная форма с необходимостью ассоциировалась с нормой и имплицировала нормативные дискурсы: она есть выражение сущности, а всякое соотношение на уровне сущностей, согласно самим Аристотелю и Платону, отражается во всех эмпирических реализациях этих сущностей, т.е. является для них нормативным, задает априорную (что значит внутреннюю и безусловную, а не конвенциональную) норму. Разумеется, эта нормативность дискурса никак не равносильна его тоталитарной принудительности; в искусстве от века известна тонкая диалектика отношений между началами нормы, канона и творческой свободы (из массы сказанного об этом напомним одного Флоренского: "В канонических формах дышится легко"). И тем не менее есть самая принципиальная грань между дискурсами нормативными и ненормативными; энергийная же форма порождает именно последние. С этою формой не ассоциируется никакой нормы или норм. В отличие не только от винкельмановских, но и от платоновских концепций, в дискурсе энергии, порождающем понятие энергийной формы, нет никакой "идеи-сущности", которая бы "воплощалась в явлениях". Энергийная форма человека конституируется не сущностью, а телосом антропологической стратегии и представляет собой некую единственную, уникальную конфигурацию всех энергий человеческого существа, диктуемую данным телосом. Поэтому для нее нет ни априорных норм, ни всеобщих законов и она не имплицирует никаких нормативных дискурсов. Следствия из этого достаточно кардинальны. По отношению к структурам субстанциальной модели, энергийная форма означает нарушение, если не прямое уничтожение, снятие всех их законов. Эти структуры следуют древней трихотомии человека, без существенных изменений сохраняемой в субстанциальной модели; и в каждом из разделов трихотомии, в духовной, психической и физической сфере, переход от субстанциальной (эссенциальной) формы к энергийной несет драстическое возрастание пластичности человека.
В сфере духовной новый диапазон пластичности, быть может, особенно выпукло проявляется в этике. Понятно, что с субстанциальной моделью был связан нормативный этический дискурс, предполагавший сакраментальный Кантов (или Конфуциев) "нравственный закон в нас" и строивший этику на основе абсолютных законов и норм. Опыт современности (еще даже не постсовременности) был осознан самым широким сознанием как находящийся в кричащем противоречии с таким дискурсом, и после Второй мировой войны это сознание противоречия выразилось в серии вопрошаний: "Как возможно богословие – культура – любые гуманистические ценности – после Освенцима?" По смыслу, такие вопрошания значили: не является ли пережитый опыт, квинтэссенция которого есть Освенцим, доказательством полного краха, банкротства всей этики как таковой? Бесспорным было, что этот опыт несовместим именно с нормативной этикой, этикой абсолютных нравственных законов; так что в итоге, вопрос сводился к тому, существуют ли альтернативы подобной этике. Ответ на такой вопрос сегодня амбивалентен. Готовой альтернативной этики, столь же развитой, разработанной на языке европейского сознания как традиционная западная нормативная этика, до сих пор нет. Однако издревле существуют иные принципы построения этики, иные типы этического дискурса, обладающие не меньшей онтологической и антропологической универсальностью и обоснованностью.
Главный пример этики иного типа доставляет именно этический дискурс, отвечающий энергийной антропологии. Что это за дискурс, как он возникает и строится? В наших терминах, человек здесь – "ансамбль стратегий Антропологической Границы"; Границу же образуют три ареала – духовные практики, паттерны безумия, виртуальные практики (имеющие меж собой перекрытия – "гибридные топики"), каждому из которых отвечает определенный тип антропологических стратегий. Духовные практики, отвечающие онтологической Границе, конституируются мета-антропологическим телосом и в силу этого являются полномерными антропологическими стратегиями, охватывающими все уровни и все измерения человека. Поэтому каждый мета-антропологический телос является, в числе прочего, также и порождающим принципом аутентичного, универсального этического дискурса., Напротив, виртуальные практики и паттерны безумия, отвечая онтической Границе и не имея мета-антропологического телоса, являются, как мы не раз убеждались, стратегиями частной или ущербной самореализации человека; в частности, они не могут породить универсальный этический дискурс, а порождают лишь ущербную этику расколотого сознания, либо недоактуализованную, недейственную "виртуальную этику".
Итак, в энергийной модели человека возникают свои полноценные типы этики, отвечающие духовным практикам (и не вполне полноценные, отвечающие другим ареалам Границы). Мета-антропологический телос практики необходимо имеет этическое измерение и выступает как производящий принцип этического дискурса. Как мы видели, это – заведомо не- (или же сверх-)нормативная этика, отличная от этических систем Запада: основанием дискурса здесь служит не система сущностных положений, но энергийная связь с телосом. Здесь нет ни норм, ни законов, и потому широкий простор для парадоксальных стратегий, каковы, скажем, юродство или многие формы дзена. Основные примеры таких дискурсов – буддийская этика космоса, конституируемая телосом нирваны, и христианская этика любви в ее православной транскрипции – как этика, конституируемая телосом обожения. В подобной этике, лишенной "нравственного закона", не может возникнуть "проблемы Освенцима": пластичность Энергийного Человека столь велика – и отсюда, принципы энергийной этики столь широки – что наличный опыт, включая любой опыт современности и постсовременности, заведомо не войдет в противоречие с этими принципами. Вот что утверждают они: если человек – вне особого режима держания связи с телосом (т.е. вне стратегии духовной практики), то, выпадая из этой связи, он выпадает и из сферы действия этики (энергийной), все ее установки отнюдь не затрагивают его. "Если захочешь погибнуть, никто тебе не противится и не возбраняет", – говорит св. Макарий Египетский (IV в.) в прямом противоречии с Кантом-Конфуцием. Точно так в субстанциальной модели вне этического дискурса – неживая природа.
Налицо, однако, парадоксальное – или диалектическое – сочетание универсального, общечеловеческого существа энергийной этики с ограниченностью ее сферы узкой областью максималистской антропологической стратегии, альтернативной всем стратегиям обыденного существования. При столь узкой сфере, данная этика сама по себе не может выполнять социальных функций – а их принято считать среди главных для всякой этики как таковой. Но в обществах, где наряду со сферой духовной практики существует и русло религии спасения, ориентированной к тому же мета-антропологическому телосу, традиция духовной практики распространяет свое воздействие на это широкое русло. Данное воздействие также носит не нормативный характер, а энергийный, подобный излучению: это – воздействие харизматического авторитета, воплощаемого в живых лицах посредников – репрезентантов традиции. Своим личным общением и примером, излучением личности, они создают живой механизм или лучше, личностную среду трансмиссии, трансляции энергийных дискурсов духовной практики – вовне, в широкую среду неальтернативных обыденных стратегий. Классическим примером такой личностной среды трансляции служило русское старчество, излучением коего транслировались энергийные дискурсы исихастской аскезы и, прежде всего, ненормативная – или лучше сказать, сверхнормативная – этика любви. В субстанциальной модели ее нормативные дискурсы тоже нуждаются в трансляции, в "доведении до каждого", но здесь механизмы трансляции также нормативны и имперсональны: будь то "заповеди чучхэ" или "права человека", они не излучаются, а вменяются. Если же субстанциальная модель разрушена, но одновременно разрушена и личностная среда трансляции ненормативных дискурсов духовной практики, то в таком обществе из всех дискурсов готовней всего усваивается ненормативная лексика.
Конечно, этот экскурс в этику, цель которого лишь показать рост пластичности человека в энергийной модели, сугубо схематичен и огрублен. Два выделенных типа этического дискурса, чисто нормативный и чисто ненормативный, – скорей идеализации, задающие края спектра; в пространстве меж ними располагаются многочисленные смешанные типы. Так, в истории европейского сознания играл немалую роль "естественный человек", весьма искусственно сконструированный деятелями Просвещения. Ему приписывалась этика "природы" – абстрактно-утопический идеал этической гармонии, в которой установки следования собственной внутренней природе, ее телосу (энергийная этика) волшебным образом совпадают с абсолютным нравственным законом. Архаические формы религиозности, фольклорно-мифологическое сознание с его размытой и сливающей оптикой в нашей модели принадлежат к гибридным областям топики Антропологической Границы; соответственно, они продуцируют смешанные этические (и другие) дискурсы, сливающие энергийные и эссенциальные элементы. И этот перечень промежуточных ситуаций легко продолжить.
Пример с этикою типичен: новый диапазон пластичности человека в энергийной модели связан, в первую очередь, с тем, что в этой модели исчезают все нормативные дискурсы, которыми диктовались пределы пластичности в модели субстанциальной. В отсутствие нормативных рамок человек сразу оказывается текуч, ускользающ, переливчат, неуловим – в том числе, и для себя самого; пластичность Энергийного Человека перманентно грозит выйти из берегов. Однако в системе духовной практики существует и целая сфера специфических методов контроля и интерпретации опыта. В терминах Фуко, эта сфера – "герменевтика себя", составляющая существенный раздел духовной практики как "практики себя"; я же в моих текстах именую эту сферу "внутренним органоном" опыта практики. Назначение данной сферы – не в том, чтобы обуздывать пластичность, сузить ее диапазон, но в том, чтобы сделать ее прозрачной, наделив человека средствами координации и навигации в ее пространстве.
* * *
Пора наконец описать это пространство энергийной пластичности. Его общие очертания определяются топикой Антропологической Границы: диапазон пластичности Энергийного Человека очерчивается возможностью его пребывания в ареале духовной практики, ареале бессознательного и виртуальном ареале – как ареалах, исчерпывающих собою Границу. (Наряду с ними, есть, разумеется. обширный мир стратегий обыденного существования; он нас не занимает, ибо, не будучи предельными, эти стратегии не выявляют человека в его основоустройстве). Иными словами, человек – существо, изменяющееся в пространстве, очерчиваемом тремя ареалами. Важно, что это пространство располагается в измерении энергии, бытия-действия: его образуют стратегии, практики, сценарии деятельности человека. Не менее важно, что сама энергия понимается неклассически, не по Аристотелю и Плотину: она не ставится в обычную взаимно-однозначную связь с сущностью (всякая энергия актуализует некоторую сущность, всякая сущность несет определенную энергию), но может быть свободной от сущности, "де-эссенциализованной". За счет этого возрастает отличие энергии от акта: событие, энергия которого не актуализует сущности, отвечает еще не сформировавшемуся, не ставшему, а лишь зачавшемуся акту; это лишь начинательный импульс, почин, росток или завязь акта, акт-у-корней. Такое понимание энергии ведет, в частности, к признанию существования особой стихии мысли-у-корней, еще не принявшей словесную форму. Так понималась проблема мысли и языка у Выготского, а за тысячу лет до него – в аскезе: созданная ею практическая наука о сознании имела в центре понятие "помысла", отчетливо отличаемое от "мысли" или "акта сознания" и отвечавшее первичному и едва уловимому, дословесному, вообще говоря, зародышу, эмбриону мысли. Здесь очень наглядно выступает радикальное различие энергийной формы и классической пластической формы: по Лессингу, сама сущность пластических искусств в том, что они изображают исключительно законченные, завершенные действия, тогда как ключевой элемент энергийной формы в антропологии – помыслы и всевозможные прочие эмбрионы действий. – Итак, пространство энергийной пластичности – отнюдь не то же что пространство актов, оно несоизмеримо шире него.
Еще более ясно, что это пространство несоизмеримо шире и пространства пластичности Субстанциального Человека, строимого на базе классической формы Аристотеля и Лессинга и очерчиваемого не Антропологическою Границею, а нормативными дискурсами всех видов – в логике, эпистемологии, этике, эстетике... Новые пределы пластичности проявляются в массе следствий, начиная с уже отмеченного: они создают прихотливую переливчатость, неудержимую текучесть состояний и характеристик человека. Из других следствий укажем сейчас одно лишь, самое общее. Расширение диапазона изменчивости сужает сферу неизменного; и это тривиальное соображение значит для нас нетривиальную вещь: для Энергийного Человека иной является сфера общечеловеческого. Как легко видеть, она не просто сужается в объеме, но и наполняется иным содержанием. В субстанциальной модели она заполнялась на основе тех же нормативных дискурсов. Нехитрая логика "восхождения от частного к общему" без труда увенчивала каждый такой дискурс понятиями настолько общими, что уже всеобщими, и сфера полнилась достойными и возвышенными вещами: там были Благо, Истина, Красота, общечеловеческие ценности, права человека и еще много замечательного, чего столетиями хватало с лихвой на трактаты, эссе и речи гуманистов всех профилей, от властителя дум до милицанера. Для Энергийного Человека все эти сущности не непременно пустые фикции, но любая из них может быть пустой фикцией (если не является телосом антропологической стратегии, что заведомо возможно), и потому все они не принадлежат к "общечеловеческому". Что же принадлежит, сначала кажется лишь минимумом голой фактичности, близким к идее всеобщей истины по Вернеру и Печорину (помните, "в одно прекрасное утро я умру... в один прегадкий вечер я имел несчастие родиться"). Но затем мы замечаем, что все же есть и некая специфически энергийная общечеловечность. Она рождается именно из отсутствия сущностной общечеловечности, представляя собой как бы оборотную сторону ее недостачи, и эта оборотная сторона есть – обреченность свободе. Свободе с трудом мыслимого и чрезвычайно дискомфортного размаха: свободе бессущностного, словно безвоздушного, энергийного пространства о трех ареалах. Отсюда возникает и большее: эта свобода сказывается на фактуре существования, сообщая ему хотя и не сущностные, но совершенно реальные общечеловеческие характеристики. Как свойства фактуры, они странны для философии: окраска, тональность, звук и запах, паттерны необходимости и случайности, как игра светотени... – однако искусство их знает давно. Знал Лермонтов, конечно: начав с отрицания "общечеловеческих сущностей", его герои в самом этом отрицании обретают насыщенную фактуру общения, при этом отнюдь не утверждая взамен каких-то иных сущностей. В минувшем веке, выявление и утверждение бессущностной общечеловечности – лейтмотив поэзии и эссеистики Ива Бонфуа. В кино, мне кажется, эту стихию совершенней всех передал Антониони. Но философии и антропологии этот иной облик общечеловеческого почти неведом еще. Экзистенциализм, определенно искавший путей к нему, застрял где-то на полдороге.
"Вещи, достигнув своего предела, претерпевают превращение". Эта древняя китайская истина имеет прямое касательство к нашей теме. Мы бегло увидели пространство пластичности Энергийного Человека; но не менее важно – разглядеть пределы этого пространства. Полнота и предел развертывания пластичности означают – дойти, изменяясь, до самой границы изменения, до самоутраты: претерпеть превращение, претвориться в Иное. Как явствует отсюда, предел пластичности человека есть достижение Антропологической Границы. Но при этом надо специально оговорить: все время до самого превращения человек должен оставаться собой. Иначе кто же будет претерпевать, предел чьей пластичности будет достигаться? будет ли это претворение? Отсюда следует, что полнота и предел, подлинное "исполнение" пластичности человека – это, конечно, достижение Границы ("превращение", претворение в Иное), но при этом такое достижение, что в его процессе, на всем пути к превращению, человек в максимальной степени сохраняет идентичность. Какие-то формы идентичности присущи всем ареалам Границы, но лишь в ареале духовной практики у человека в обладании вся цельность и полнота, полномерность самосознания, и его акт самоудостоверения, установления самоидентичности принимает наиболее полноценную форму. Посему именно в данном ареале достигается подлинный предел пластичности человека. Здесь сам человек, владея своею способностью пластичности (как и всеми способностями), максимально "оставаясь собой", в то же время устремляет собственную пластичность к пределу, самоутрате. Духовная практика оказывается такой стратегией, в которой пластичность и идентичность, полярные силы личности, достигают равновесия, и их противостояние делается сотворчеством. И телос практики, претворение самого способа бытия человека, – общий творческий апофеоз обоих борющихся начал (хотя нельзя забывать, что сама движущая энергия не принадлежит человеку!).
Вспомним, однако, что аспект идентичности в духовной практике связан с ее телосом, и если телос христианской практики означает обретение полноты самоидентичности, то телос буддийской практики означает такую же полноту отрешения от идентичности, анти-идентичность. Прочие дальневосточные практики, в частности, даосизм с его телосом Великой Пустоты, в данном пункте совпадают с буддизмом. Встает вопрос, не относится ли наша дефиниция предела пластичности, как достигаемого лишь в присутствии самоидентичности, к одной только христианской (исихастской) практике? Этот вопрос полезен: он позволяет не только уточнить смысл дефиниции, но и заметить существенную черту духовной практики. Эта практика направленной и методической аутотрансформации человека, вне зависимости от ее телоса, необходимо предполагает собирание, концентрацию, "фокусировку" сознания и всего существа человека, требует отчетливого самонаблюдения и самоконтроля – и ясно, что все эти установки имплицируют и необходимое присутствие самоудостоверения, самоидентичности в ходе практики, на пути к телосу. В случае восточных практик это замечание раскрывает их парадоксальную, антиномическую структуру: телос этих практик – отрицание идентичности, но продвижение к нему, как мы видим, требует максимального присутствия, максимальной развитости последней. Это практики, в которых вся доступная степень самоидентичности человека используется для отказа, отрешения от самоидентичности. Но и такой телос есть также предел пластичности человека. Вот приближение к телосу даосской практики: "Когда я дошел до предела всего, что было внутри и вовне меня, мое зрение стало подобным моему слуху, мой слух – подобным моему обонянию, мое обоняние – подобным вкусовым ощущениям. Мое сознание стало собранным воедино, а тело – расслабленным, плоть и кости срослись воедино... я скитался вместе с ветром на запад и на восток, подобно листку, сорванному с дерева или высохшей мякине, и даже не знал, ветер ли гонит меня или я подгоняю ветер"
[7]. Едва ли можно показать ярче предел пластичности человека. Но предел может быть и иным, он может иметь не космически-нирваническую, а личностную природу. Вот каков он тогда: «Человек уже ничего физического не воспринимает... Не может он после сказать, был ли он в теле или вне тела... всё внутри и вне освещено, ничто иное кроме Света не зрится, и себя видишь как свет... Свет сей есть совершенно особая любовь... в этом Свете наше общение со Христом, "личное", лицом к Лицу... беседует естеством Бог с теми, кто рожден от Него богами по благодати, как беседуют друг с другом... Действием Света сего внутри кающегося раскрывается Персона–Ипостась... всё соделается световидным, но... Петр остается Петром, и Павел – Павлом, и Филипп – Филиппом»
[8]. Полярность двух пределов наглядна. Так человек, обреченный свободе, распоряжается своею пластичностью.
Но в заключение нам осталось сказать, что с человеком возможно и другое: когда не он распоряжается своею пластичностью, а она распоряжается им. В самом начале мы отметили, что пластичность человека априори может включать и такие изменения, в которых его идентичность не сохраняется. Сейчас видно уже, как осуществляется такая возможность. Определенные типы (само)идентичности человека соответствуют ареалам Антропологической Границы; но изменчивость Энергийного Человека отнюдь не такова, что человек всегда пребывает в одном и том же ареале. Мы выше упоминали "гибридные топики" – области, где ареалы Границы перекрываются между собой: так, область меж ареалом духовной практики и ареалом бессознательного включает разнообразные психотехники – симулякры духовных практик; область меж ареалом бессознательного и ареалом виртуальности включает "стратегии идиотии", у которых большое будущее, и т.п. Кроме того, возможны и отнюдь не намеренные, непроизвольные переходы, "соскальзывания" из одного ареала Границы в другой (лишь в ареале духовной практики нельзя оказаться непроизвольно) – переходы, остающиеся неосознанными и нераспознанными самим человеком. Во всех этих явлениях идентичность человека явно утрачивается. Как мы подчеркивали, лишь сам человек может установить собственную (само)идентичность; но здесь человек "не знает, где он", не ведает истинного характера своей идентичности и не может совершить акт самоудостоверения. Конечно, состояния "утери себя" неизбежны в существовании человека, нередко они составляют органический элемент его творческой стихии – свидетельств на сей счет предовольно, и так, в частности, утверждал знающий человек Пушкин. Но мы говорим не о состояниях, а о стратегиях, о цельном процессе существования; и если этот цельный процесс таков, значит человек не владеет уже своей пластичностью; напротив, она владеет им и ему неведомо, куда она его увлекает. Такие явления очень отличны от тех, которые мы выше определили как "предел пластичности": в них пластичность достигала предела в равновесии и сотворчестве с идентичностью. Если в старой субстанциальной модели идентичность подавляла пластичность, то теперь перед нами противоположное – победа пластичности над идентичностью. Пластичность выступает здесь в еще более крайних проявлениях, чем в описанном "пределе", она делается бесконтрольным, беспредельным началом, так что весьма к месту ходкий неологизм: с утратой самоидентичности человека, разыгрывается беспредел пластичности. Человек же становится неким антропологическим – или антропоидным? – "образованием", блуждающим по Антропологической Границе. Что то же – влачимым по Границе: с исчезновением подлежащего, активный и пассивный залоги неразличимы... Наряду с явлениями онтической редукции, сегодня подобные явления – из самых актуальных и характерных. И ясно, что забвение бытия в них еще глубже.
Пластичность человека – излюбленная идея Ренессанса, одна из главных опор его гуманистической утопии. В прославленном тексте-манифесте "О достоинстве человека" Пико делла Мирандола писал: "Когда человек входит в жизнь, Отец дарует ему семена всех родов и зародыши всех жизненных стилей. Кто же не восхитился бы подобным хамелеоном?" Ренессанс оказался совершенно прав относительно горизонтов пластичности: они обнаружились даже более необъятными, чем это предносилось ему. Но вот касательно восхищения...
6. Эвтанасия
Полвека тому назад, умирая от туберкулеза в бараке воркутинского лагеря, русский философ Лев Платонович Карсавин написал сочинение "Об апогее человечества". По кончине философа оно сберегалось его солагерником и учеником. При одном из обысков оно, однако, было утрачено; до нас дошли всего несколько страниц. Карсавин значил немало в моем философском развитии. Сначала я был под его влиянием, потом резко отбрасывал это влияние, потом... но известно от века, как это все бывает; опуская перипетии, скажем как говорит собеседник г-на Тэста: "потом мы вместе состарились". Осталась признательность. В знак памяти, я попробую сейчас возродить идею Карсавина об апогее человечества. Конечно, не подражая ему – разве в том память?
На первый взгляд, "апогей человечества" – бравурная формула, прямо противоположная теме нашего заглавия: "эвтанасия" и "апогей" – сочетание странное, даже дикое. Тем лучше, в тексте возникает интрига. Правда, несложная, на поверку. Если человечество достигает апогея, то затем оно волей-неволей его минует, движется дальше, и этот дальнейший путь – неизбежно спуск, спад, не так ли? У этого нисходящего процесса могут быть разные сценарии, разные исходы, и в их числе нельзя априори исключить и некое подобие эвтанасии. Как часто бывает, дикое оказывается естественным. Апогей предполагает перигей, как зенит – надир; только человек привык отворачиваться от этого обратного полюса, как то неопровержимо доказывает наша речь, в которой зенит и апогей назойливо лезут в уши, меж тем как "перигей" и "надир" спят на страницах словарей.
Так мы подходим к смысловой сути понятия. Чтобы она очертилась, надо начать с еще более общего: где вообще он бывает, апогей? когда, в каких случаях мы о нем говорим? Тут сразу появляется первое отграничение: понятие явно малоуместно для чисто природных, физических процессов – в их течении скорее бывает "пик", "максимум" и т.п., смысл же апогея включает ценностные и личностные моменты, мотивы свершения и успеха, победы и торжества, и выражения такие как "буря достигла апогея" несут в себе неявный элемент одушевления стихии. Основная сфера понятия – антропологические, исторические, социальные стратегии и процессы, в которых достигаются цели, воплощаются ценности, где есть побуждения, стремления – в том числе, и устремления к трансцендентной цели, "телосу". И здесь, в этой сфере, возникает важное различение. Высший взлет, апогей процесса может означать как полное и абсолютное достижение, воплощение некоторых целей и ценностей, так и всего лишь относительное приближение к ним (хотя и максимальное в рамках данного процесса). Так, парадигма Духовной Практики, предполагая актуальное достижение телоса, под этим углом зрения может рассматриваться как сценарий апогея, которому отвечает апогей первого рода, совершенный "апогей-исполнение" (в старом значении слова, как "преисполнение"); а, скажем, кампания Ганнибала во Второй пунической войне, с блистательной победой при Каннах, но финальным разгромом, – сценарий, реализующий несовершенный "апогей-приближение".
Погодим далее углубляться в понятие. Из того немногого, что сказано, уже видны соответствия – с чем? – а сразу со всем, что мы обсуждали в нашем цикле: с тем целым, которое вырисовывается из наших размышлений о судьбе Альтернативы. Каково, в самом деле, это целое? Мы увидели бытийную Альтернативу в определенной антропологической (и мета-антропологической) стратегии, в облике "парадигмы Духовной Практики", существо которой – глобальное собирание и возведение (либо низведение!) всего человека, чрез иерархию энергийных структур – ко всецелому претворению в Инобытие, к достижению мета-антропологического телоса. Мы увидели, что эта всецелая, холистическая фокусировка человеческого существа к трансцендированию – не утопия, не абстрактное измышление, не проект, но реальное достояние древних духовных традиций. В их лоне вековыми усилиями вырабатываются тонкое искусство и точная дисциплина, делающие человека прозрачным для действия энергий Иного ("Внеположного Истока") и инициирующие в нем альтернативную энергетику, спонтанную генерацию иерархии энергоформ, восходящей к телосу, к бытийной Антропологической Границе. Этот специфический опыт наделен собственной герменевтикой, строгим органоном проверки и истолкования, за счет которого мы можем удостовериться, что предпосылки Духовной Практики осуществимы и налицо.
Чудесно. Только Альтернатива не в том, чтобы удостовериться в возможности Альтернативы. Разбирая в предыдущих интенциях антропологическую ситуацию наших дней, мы нашли, что альтернативные стратегии – понимаемые как стратегии предельные, реализующие отношения человека с его Границей, – решительно выдвигаются на первый план, становятся определяющим фактором глобальных антропологических процессов. Однако одновременно происходит кардинальная смена репертуара таких стратегий, отражающая столь же кардинальную смену характера и природы Альтернативы, ее образа в сознании человека. Существо этой смены – или подмены – мы передали понятием "онтической редукции Альтернативы": в сознании человека, в его стратегиях изначальная бытийная, онтологическая Альтернатива все больше вытесняется Альтернативой онтической, замкнутой в горизонте сущего и отсылающей к другим ареалам Границы. – Но какую же цельную картину мы получим, соединяя эту новейшую фазу с предшествующими?
Нетрудно увидеть, что общая картина вполне будет соответствовать сценарию апогея, притом определенного рода. Можно отчетливо проследить, как, начиная с древнейших явлений примитивной религиозности, первых опытов человеческого вопрошания о себе и о бытии, у человека уже присутствует и о себе заявляет "гнездящийся импульс", тяга к бытийной Альтернативе, как эта тяга постепенно находит или создает для себя формы выражения и как в напряженном поиске этих форм мало-помалу складывается парадигма Духовной Практики. Как мы не раз подчеркивали, появление зрелого "метабиологического организма", который представляет собой двуединство духовной практики и духовной традиции, всегда плод многовековых усилий и когда оно происходит, это событие можно рассматривать как подлинный антропологический рубеж. Формирование Духовной Практики означает открытие возможностей, создание предпосылок реализации Альтернативы, причем Духовная Практика включает в себя интенцию и визуализацию, умственное узрение путей воплощения Альтернативы. Образно говоря, здесь словно достигается некая вершина, с которой становятся видны бытийная Граница, ее подступы и пути выхода к ней. Такая интерпретация Духовной Практики в ее антропологическом и историческом значении может рассматриваться как определенное развитие концепции "осевого времени" Ясперса.
Однако в дальнейшем (чего нет уже в концепции Ясперса) Духовная Практика не становится магистральной антропологической стратегией. Ход вещей таков, как если бы открывшийся путь оказался слишком узок и труден. Мы видим, как вслед за длительной творческой работой создания мета-антропологической парадигмы наступает иная фаза. Некие "облегченные версии" этой парадигмы – формы религии Спасения, адекватные сфере массовой религиозности, – существовали изначально и, как мы говорили, их связывают с Духовной Практикой отношения своеобразного симбиоза, основанные на общности телоса. Новую же фазу в истории Альтернативы составляют совсем другие явления – стратегии или паттерны, которые утверждают себя как альтернативные и предельные, но при этом уже не имеют мета-антропологической ориентации, сменяют телос. Как мы описывали, эти "онтические редукции" Альтернативы, ориентированные не к онтологической, а к онтической Границе (т.е. к ареалу безумия или ареалу виртуальности), играют все большую роль в антропологической ситуации: они возникают во множестве и разнообразии, обретают популярность и решительно вытесняют Духовную Практику, будучи связаны с нею отношениями не симбиоза, а взаимоисключения, несовместимости, ввиду различия телоса (хотя нередко несовместимость маскируется, ибо многим, в особенности, гибридным редукциям присущи черты подмены и самозванства). И это значит, что созданные в Духовной Практике предпосылки реализации Альтернативы не используются и путь, который открылся с вершины, не проходится. Картина вполне ясна: история Альтернативы складывается в сценарий с несовершенным апогеем. Формирование Духовной Практики, завязывание реальной и удостоверяемой связи с Внеположным Истоком – это "апогей-приближение", высшая точка, вслед за которой отношения человека с Альтернативой и мета-антропологическим телосом, не достигнув полноты Исполнения, начинают снова от него отдаляться. (Такая локализация точки апогея не так уж далека от позиции Карсавина, который точкою апогея считад событие Боговоплощения и личность исторического Христа Иисуса.)
Стоит взглянуть пристальнее, что же такое эта постапогейная фаза истории Альтернативы, тем паче что мы пребываем в ней. По самой природе несовершенного апогея, то, что идет за ним, – нисхожденье, спуск. Для совершенного апогея это не так: там нет нисходящей ветви, ибо подобный апогей, как преисполнение, одновременно есть и финал, если не эмпирический, то сущностный, смысловой. В нашем же случае, нравится это нам или нет, речь об апогее должна сменяться речью о перигее. Ближайший вопрос ставится теперь так: куда, к чему направляется это постапогейное нисхождение? На общем уровне ответ уже дан нами в формуле "онтическая редукция": область ведущих предельных стратегий человека перемещается от онтологической Границы к онтической, к ареалам безумия и виртуальности. Мы говорили уже немало о стратегиях этих ареалов, но сейчас надо взглянуть на них под новым углом. Коль скоро они предстают как итог пути, надо отчетливей рассмотреть телос этих стратегий – их смысловой исход, финал. Иными словами, речь должна идти о сценариях конца.
* * *
Можно лишь удивляться, как дискурс конца не возник у нас раньше. Неявно он всегда был рядом: весь арсенал наших понятий – Антропологическая Граница, предельная стратегия, телос – теснейше связан с концом, все они включают конец в свою семантическую и смысловую структуру. Но сейчас, желая представить глобальную картину, весь ход развития отношений человека с Альтернативой, мы должны выделить аспект конца въявь. Пришло время взглянуть на драму Альтернативы sub specie finis. Тем паче, кончается и наш цикл – не уместно ли, господа, в конце поговорить о конце?
Концепт конца в нашей "предельной антропологии" возникает в двух разных видах и смыслах. Прежде всего, Антропологическая Граница – граница горизонта человеческого существования, и всякая стратегия, ведущая к ней, ведет, тем самым, к пределу, концу последнего; что то же, представляет собой некоторый сценарий конца. Однако "человеческое существование" тут понимается отнюдь не тождественно биофизиологическому. Граница – вообще говоря, совсем не граница жизни человека, не смерть, и во всех ее ареалах составляющие ее стратегии – вовсе не стратегии умирания. Но, с другой стороны, в антропологической сфере как главное проявление предиката конечности здешнего бытия выступает именно конец-смерть. Как знали задолго до Хайдеггера, этот конец конститутивен для человеческого существования во всех его измерениях; и если Граница и ее стратегии не включают его прямо, они тем не менее неизбежно формируются им, складываются во взаимодействии с ним. Итак, в нашей антропологической модели присутствуют и "обобщенный конец", входящий в сами понятия Границы и предельной стратегии, и конец-смерть. Дискурс конца должен выстраиваться как выяснение отношений этих двух обликов конца. Заранее очевидно, что отношения оказываются различными для разных ареалов Границы.
Телос любой духовной практики принадлежит Инобытию и потому означает не актуализацию конечности здешнего бытия, но ее преодоление, трансцендирование. Именно в этом суть и назначение Духовной Практики как онтологической Альтернативы, и осуществляемый ею сценарий конца есть сценарий преображения; даже нирвана как превосхождение здешнего бытия есть также преображение sui generis. Для стратегий онтической Границы дело иначе, разумеется. Эти стратегии замкнуты в здешнем бытии и реализующийся в них "обобщенный конец" человеческого существования несет в себе конец-смерть; сценарий конца является здесь и сценарием смерти. Следует ожидать, что принадлежность стратегии к определенному ареалу Границы сказывается на этом сценарии, придавая ему некие специфические черты, так что каждому ареалу онтической Границы отвечает собственный сценарий смерти. Ради краткости оставляя в стороне гибридную топику, попробуем очертить главные из них: смерть Человека Безумного и смерть Человека Виртуального.
Ареалом безумия мы называем область антропологических стратегий, паттернов (по преимуществу, циклических), индуцируемых из Бессознательного, питаемых его энергиями. Отношения этих стратегий со смертью насыщенны, запутанны, нередко темны; но здесь мы в сфере психоанализа, и сам его основатель выделил главный принцип, которому подчиняются эти отношения: влечение к смерти. Это позднее (1920) нововведение Фрейда – "одно из самых спорных понятий психоанализа", как говорит стандартный словарь (Лапланша–Понталиса), и заведомо неоправданно принимать его сегодня в том качестве, в каком его пытался утвердить Фрейд: в качестве верховного первопринципа, равно антропологического и биологического, лежащего в основе и человеческой природы как таковой, и всей биосферы в целом. Но, отвергая эту мистифицированную интерпретацию, было бы, думается, неверно отрицать самое существование принципа. Такая интерпретация стала возможна оттого, что Фрейд, при всем новаторстве своего гения, был изрядно в плену системно-монистического мышления XIX века – и, если говорить в наших терминах, упорно пытался отождествить ареал Бессознательного со всей Антропологической Границей, всем человеком. Для нашей модели это нонсенс: человек здесь – полифоническое существо, и три ареала его Границы не сводятся ни к какой монистической схеме или системе в духе XIX столетия. Ареал Бессознательного здесь всего лишь один из ареалов топики Границы, ограниченная область процессов, в которых достоверно идентифицирована зависимость от Бессознательного. И в пределах этой епархии психоанализа, заведомо не объемлющей всего многообразия предельных стратегий, можно, я полагаю, довериться мнению отца психоанализа и принять его тезис: в паттернах данного ареала дискурс конца, отношения с концом управляемы влечением к смерти. Это немедленно дает нам ответ. Яснее ясного, что за сценарий смерти выстроит влечение к смерти. Влечения, учит психоанализ, способны фантастически накапливать и сгущать энергию, разряжаясь в экстатических, оргазмических, взрывных актах и механизмах. И смерть Человека Безумного – а точней, его жизнь, взятая как сценарий его смерти, – есть экстатическая смерть, экстаз самоуничтоженья, оргазм аннигиляции, смерть, что стремится стать космическим взрывом... Сценарий, притягательный для многих сегодня. Я думаю о гекатомбе 11 сентября, о смерти девятнадцати – и семи тысяч: не проступает ли в ней девятнадцатилицый образ смерти Безумного Человека?
Виртуальная смерть – прямой контраст всему этому. Как мы говорили, определяющий признак виртуальной реальности – ее привативность, отсутствие тех или иных измерений, структурных элементов или основных предикатов "настоящей" реальности. Главный принцип привации – энергийный: ключевое отличие виртуального явления от его реального прототипа – кардинально пониженный диапазон формостроительной энергии, за счет которого остается неактуализованной, невоплощенной часть характеристик явления, определяющих его связей и законов, остается несформированной часть уровней организации и структуры и т.п. Но этот общий принцип оставляет простор для великого разнообразия. Задолго до всех речей о виртуальности, соотношение виртуального и реального миров точно передал Тютчев: "Как океан объемлет шар земной, так наша жизнь кругом объята снами". Представим: ведь недостающими, недостроенными могут быть априори любые измерения любого явления, снятыми – любые связи, ограничения, законы; и это значит, что любое явление, как и вся целокупная реальность, "кругом объяты" облаком своих всевозможных виртуализаций. С поэзией абсолютно согласна строгая наука: в квантовой физике каждая реальная частица окружена облаком виртуальных частиц. Из необозримого множества виртуальных миров человек открывает и осваивает пока лишь отдельные островки; но хватит и одного интернета, чтобы оценить настоящую и будущую роль ареала виртуальности в нашей жизни. Нас сейчас занимает антропология виртуальности, отличительные черты виртуальных антропологических стратегий – т.е. прежде всего, свойства психологической виртуальной реальности, виртуальных режимов деятельности сознания. Механизмы и техники виртуализации, выводящие в такие режимы, весьма грубо можно разделить на два типа (впрочем, часто сочетаемые). Снятия части свойств и законов реальности можно достигать путем изоляции, конструирования обособленной виртуальной сферы, либо путем трансформации сознания и восприятия в определенную сторону – к "размытой оптике", частичному отключению, расслаблению функций контроля, управления, аналитического мышления. В обоих случаях виртуальное сознание не включает в себя полноценного сообразования с окружающей реальностью, полной системы связей с ней, и это значит, что с позиций этой реальности виртуальные стратегии лишены координации и ответственности. Надо отметить также, что виртуальному сознанию почти никогда не удается целиком устранить деструктивное для него, мешающее присутствие "настоящей" реальности, и это присутствие вносит в него ряд специфических оттенков: признание своего мира всего лишь "миром понарошку", миром имитации и игры, фрустрацию и протест против своей вторичности, отсюда – парад негативных, разрушительных импульсов... Фундаментальным остается факт: виртуальный мир не создает своих форм и вынужденно ограничивается манипулированием с готовыми формами. Максимум его самостоятельности – разрушение этих форм; в виртуальном мире становится истиной кредо Бакунина: "страсть к разрушению есть страсть творческая". Отсюда идут нити ко многим современным явлениям... – Однако не будем отвлекаться. Сказанного довольно для нас: мы видим, что образ реальности, восприятие реальности для виртуального сознания несут элемент ирреальности, условности, подвопросности.
Отсюда очевидны особенности виртуальных дискурсов конца и смерти. В их основе – виртуализация самих этих первофеноменов: конец и смерть предстают в размытой оптике виртуального сознания. Сакраментальный вопрос: "Неужели я настоящий и действительно смерть придет?" не может получить здесь утвердительного ответа, лишь отрицательный, либо неопределенно-туманный. Конец и смерть не доводятся до сознания в своей грубой определенности и неизбежности. Будучи виртуализованы, они порождают дискурс или мир виртуального умирания, где все сопутствующие феномены также предстают полупризрачными и подвопросными, обретают оттенок ирреальности, имитации, быть может, игры. И здесь нельзя не заметить, что наше описание в точности отвечает эвтанасии. Что, в самом деле, значит эта практика, упорно пробивающаяся на авансцену в современной культуре смерти? Ее можно определить как создание особого мира-для-умирания: такого мира, откуда умирание и смерть во всех их негативных проявлениях были бы устранены. Этот мир должен быть не просто иллюзорным, он должен полностью замещать реальность в сознании и существовании человека – что в точности значит, он должен быть психологической виртуальной реальностью: виртуализацией умирания. Итак, смерть Человека Виртуального – а точней, его жизнь, понятая как сценарий его смерти, – есть эвтанасия (как и обратно: эвтанасия есть виртуализация смерти).
Набросанные сценарии конца – два конкурирующих варианта финала истории Альтернативы. Заметно, куда склоняется ход этой конкуренции. Виртуальные практики – главнейший новый феномен в антропологической реальности; с небывалою быстротой они расширяют свой спектр и достигают поистине глобального распространения. Они выдвинулись совсем недавно и еще не созрело время для выводов; но можно, конечно, ожидать, что именно ареал виртуальности будет доминировать в репертуаре предельных стратегий Человека, в его отношениях с Границей. Шансы – за сценарием эвтанасии человечества. В этом есть логика: история Альтернативы тогда рисуется как последовательный путь вниз, спадание по топике Антропологической Границы в ареалы с меньшей и меньшей творческой, формосозидательной энергией – вплоть до предела, которым и является колеблющаяся, полуреальная виртуальная реальность.
Может явиться мысль, что эта картина, этот "сценарий несовершенного апогея" попросту воспроизводит (на тарабарском наречии) обычнейшую картину жизни, парадигму жизненного процесса, проходящего фазы расцвета, упадка и умирания. Однако совпадение кажущееся. Для биологической особи событие порождения новой особи, отличной от себя и одновременно неотличимой, ибо у особи нет свойства самоидентичности, – есть подлинное событие трансцендирования, претворения в Иное, и в нем достигается совершенный апогей жизненного процесса. Жизнь совершенна в себе, ее парадигма в себе заключает ее преисполнение, ибо последнее совпадает с произведением потомства. Но для существования человека это, увы, уже не так. Критическая грань, разделяющая две сферы, имеет много имен; в наших рассуждениях она выступает как самоидентичность. Человек обнаруживает себя наделенным залогом самоидентичности – и по сей день решает, что с этим залогом делать. Перепробовав ряд хлопотных и энергоемких решений, недавно он с энтузиазмом открыл самый приятный и легкий путь.
Отсюда может явиться другая мысль: не следует ли из всего сказанного, что "проект Человек" – неудачный опыт? Вопрос далеко не праздный, но как, по чему надлежит судить об удаче или неудаче? Нет ни научной, ни философской постановки таких вопросов. В русле наших идей у нас возникло понятие Исполнения. Оно могло бы стать исходной опорой для постановки; однако при этом необходимо существенное расширение контекста. Исполнение соответствует парадигме онтологического трансцендирования – претворения в Иное, самопревосхождения, причем понимаемого не интеллектуально, как в старой метафизике, а холистически. Ключевой элемент этой парадигмы – некоторое неопределимое и уникальное, в каждом случае сугубо свое, сочетание стратегий интровертных и экстравертных, реализующих отношения сущего, имеющего исполниться (или не исполниться), с самим собой и с окружающею реальностью. Такое уникальное сочетание интровертных и экстравертных стратегий создано в Жизни и, разгадывая тайну Исполнения, мы можем смотреть на братьев наших – которые, конечно, старшие братья, ибо уже нашедшие свой путь к Исполнению, а вовсе не меньшие, как пел Есенин. Однако все наши рассуждения пока никак не затрагивали ни поисков данного сочетания, ни вообще экстравертных стратегий Человека. Их рассмотрение заставило бы войти в совсем иной круг проблем и понятий, касающихся Природы и Космоса, времени и вещества, связи космологической и антропологической ситуации...
И тем не менее выход в этот расширенный контекст ситуации Человека в Универсуме совсем не является необходимостью, если нас занимает лишь вопрос об оценке сценариев онтической редукции. Как показывает весь наш анализ Альтернативы и Антропологической Границы, требуемое для Исполнения сочетание стратегий обладает одним непременным свойством: оно должно строиться на основе парадигмы Духовной Практики. Духовная Практика – стратегия аутотрансформации человека, тем самым – стратегия его отношений с собой, интровертная стратегия. Как мы заметили, холистическое событие Исполнения не может не затрагивать и ситуации Человека в Природе и Космосе, требуя, в силу этого, и экстравертных стратегий; но в сфере стратегий интровертных оно связано именно с Духовной Практикой. Мы не можем сказать, каких "экстравертных дополнений" к ней, каких, возможно, ее развитий, глобализаций или экстериоризаций может потребовать актуальное трансцендирование бытия человека; но мы знаем, что она составляет неустранимое антропологическое ядро этого трансцендирования. Итак, Духовная Практика – ядро и залог Исполнения; и когда, как в сценариях онтической редукции, она уходит из репертуара стратегий Человека, – путь к Исполнению невозможен.
Что следует, однако, отсюда? Мы охотней воздержимся от категорического вердикта о "неудачном опыте". Пускай сценарий господства виртуальных стратегий исключает Исполнение, то есть по бытийному счету подобный сценарий есть неудача, крах. Но тут ведь бывают просто настолько разные критерии! С одной стороны – да, если побеждает этот сценарий, Человек скользит по своей Границе вниз, так и не обретя Исполнения, не сбывшись. А с другой – кто его видал, этот бытийный счет? По счетам зримым, осязаемым все иначе. Нельзя же отрицать сказочный технологический прогресс. И успехи в освоении ближнего космического зарубежья. И неуклонный рост мирной мощи РККА, то есть тьфу, НАТО. Как говаривал Зощенко, ватерпасы изготовляются. Так что в данном пункте мы ни на чем не настаиваем. Кому как.
Существеннее совсем другое. Все, что мы говорили, максимально далеко от любой прогностики, и я никак не берусь пророчить о действительном грядущем, какое устроит себе Человек. Мы двигались в обычной логике, взвешивающей понятия и факты, оценивающей тенденции и пытающейся расчислить следствия. Желая хоть немного подняться над этой линейной логикой, подходящей более для суждений о механических апельсинах, мы пробовали рассуждать и в поэтике синопсиса: свободно отбирая акты, события, изменения и располагая их в разнообразные сценарии. Это отвечает реальности, топология, ткань которой сплетается из всех возможных и мыслимых сценариев, и эта многоцветная ткань гораздо богаче железной решетки линейной логики. Только от истинной грядущей реальности эта ткань может отличаться еще сильней, нежели от железной логической решетки. Нет ничего более чуждого любой предопределенности, предописуемости, чем эта реальность. Куда бы нас ни несло в топике Границы, однако действительность покуда не уставала демонстрировать нам, что она была и остается непредсказуемой и для нашей логики, и для наших сценариев – и мы еще, слава Богу, в открытом мире – в открытом море – и бытийная тяга, изначально гнездящаяся в Человеке, может найти подлинное, а не редуцированное Исполнение. Человек неотменимо свободен быть или не быть: редуцировать или не редуцировать себя – а если потребуется, то и де-редуцировать. Открытость онтологическая значит и открытость, неутрачиваемость возможности вернуться в открытость. Связь с реальностью и грядущим устанавливает не построение сценариев, а жест возвращения в открытость, де–редуцирования себя. Это жест истового обращения, чающего услышать ответ: быть помянутым. И как архетипальный духовный жест де-редуцирования себя, в истоки нашего мира входит молитва разбойника:
ШКОЛА – ТРАДИЦИЯ – ТРАНСЛЯЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ
Есть многодонная жизнь вне закона
Из Поэзии
Человек, Мир, Реальность существуют, хотя – заверяет философия – никаких оснований к этому нет. Что еще продерзостней, они не помещаются в одной точке: они являют собою протяженное, res extensa, в сопряжении с мыслящим, res cogitans, что в точке тоже не помещается. Наконец, не помещаясь в точке, они к тому же не пребывают в покое. И стало быть, их существование – перманентное передвижение, перемещение, циркуляция, пропагация, передислокация, трансмиссия, трансляция... – Стоп. На этом слове – остановимся: оно адекватно и удобно. Трансляция, передача – неотторжимый предикат существования; если угодно, существование есть трансляция. Транслируется всё – всё сущее, от лептонов в космических лучах до нежных чувств, продовольственных товаров, великих идей и духовных ценностей. Что не транслируется – не сохраняется, исчезает; всё же, что сохраняется, имеет свой способ транслировать себя или быть транслируемым, и может быть вполне охарактеризовано этим своим способом.
Существование человека и общества – многообразие процессов, механизмов, средств трансляции, образующее богатую, пеструю фактуру, икономию-коммерцию трансляции. Крупные, формообразующие элементы в этой икономии – институты трансляции. В центре и на виду два основных вида таких институтов: школа и традиция (последний термин уже в буквальном значении практически совпадает с трансляцией: traditio = = пере-дача). Они имеют массу форм и сфер бытования; но, памятуя, что человек также и органичен, биологичен, мы еще добавим к ним половую и цито-репродукцию; признавая же вдобавок в человеке хозяйственного субъекта, добавим и экономическое воспроизводство. Чем между собой отличаются все эти виды и формы антропологической и социальной трансляции? Вопрос несложен. В каждом случае мы без труда укажем и назовем транслируемые содержания: всякий раз – разные; укажем и различия в способах, механизмах, законах трансляции. Но дальше, подойдя философски, мы должны будем признать и другое: в определенном и существенном смысле, все эти различия мнимы. Во всех случаях, перед нами – лишь те или иные измерения выстроенной реальности: «выстроенной» и в нейтральном смысле «структурированной», и в новом постсоветском смысле, то бишь «усмиренной», подчиняющейся норме, закону. Да, содержания и законы разные, трансляция брюшного тифа совершается по одним, норм конституции США – по другим, но разница – техническая, не философская. Гениальнейшим понятием «сущности» – , essentia, Wesen – Аристотель выстроил реальность: всю как есть, вещественную и невещественную, низменную и возвышенную. Бесконечномерна реальность, но все, что ни происходит во всех ее бесчисленных измерениях, уровнях, областях, – всегда лишь трансляция тех или иных сущностей по тем или иным законам.
Русское сознание, однако, никогда не поверит, что возможно законодательство без дыр. Не поверит – и будет право. Вглядевшись пристальней, мы заметим в мире и нечто не выстраиваемое, не умещающееся в циркуляцию законополагающих и законопослушных сущностей. Мы встретим (все еще встретим) чистую жертву, совершенную самоотдачу, ничего не требующую и не ищущую взамен: как Жертва Христова. Такая жертва, самоотдача, есть акт, к кому-то или ко всем обращенный, что-то несущий, передающий, есть, стало быть, тоже «трансляция» – но только никакой сущности, никакого закона уже не обнаружим мы в этой трансляции. Мы встретим любовь, лишенную всякой мотивации и свободную от всякого эгоизма: и эта «трансляция себя» тоже не следует какому бы то ни было закону, а транслируемое не есть сущность. Наконец, если есть и духовное зрение, то мы увидим и действия, дары благодати, тоже распространяющиеся, транслирующиеся в нашем мире – и тоже не имеющие отношения к сущностям и законам. И мы должны будем заключить, что существует и некий совсем иной, «неаристотелев» род трансляции. Различие между ним и господствующими повсюду эссенциальными, закономерными, нормативными трансляциями и есть единственное кардинальное, философски значимое различие во всем многообразии форм трансляции.
Еще поглубже вглядевшись, мы обнаружим, что найденное различие значимо не просто философски, но онтологически, бытийно: «неаристотелевы» трансляции возникают тогда, когда антропологический опыт несет качества трансцендирования или, иными словами, когда налицо не только антропологический опыт как таковой, но и мета-антропологическая установка, ориентация, и опыт выводит к границе горизонта существования человека. Предикаты, к которым ориентирована эта установка, соответствуют богословскому понятию личности, или же «личного бытия-общения», и можно также сказать, что опыт, выводящий за пределы эссенциальных форм трансляции, есть опыт «лицетворения», приобщения к образу бытия личности. Подобный опыт также должен храниться и транслироваться идентично, воспроизводя ориентацию к Инобытию. Та область, что специально занимается такою задачей, вырабатывает и хранит опыт онтологической границы человеческого существования, культуру отношений Человека и Инобытия, есть, по определению, духовная практика; а в аспекте трансляции, как организм идентичного (само)воспроизведения икономии отношения к Инобытию, духовная практика именуется духовной традицией.
Духовная традиция – чрезвычайно особый род традиции, принципиально отличный от традиций и школ в других сферах существования человека и общества. Как сказано уже выше, эти традиции и школы суть институты обычной, аристотелевой трансляции, транслирующие эссенциальные содержания: так, культурная традиция транслирует «культурное наследие»; школы в науке, в профессиях транслируют теории и методы, приемы и навыки. Как и школы обычные, в сфере педагогики, всё это суть социальные институты; однако духовная традиция не социальный институт, это – специфически антропологический феномен, необходимая трансляция здесь осуществляется не на социальном уровне, а лишь сугубо – на антропологическом. Выразительный пример – духовная традиция в древнем монашестве, имеющая своим ключевым звеном антропологическую диаду Старец—Послушник и своим рабочим механизмом – сугубо личное общение, особых форм и предельной глубины. Как я показывал в книге «К феноменологии аскезы» (М.,1998), духовная традиция – не только и не столько пространство трансляции, она – универсум личностного общения. Отношения духовной традиции и культурной традиции, представляющих кардинально разные типы трансляции, – один из определяющих факторов в жизни социума, и когда они складываются антагонистично (что имело место в России), история чревата катаклизмами и разрывами.
***
Из этой философской преамбулы явствует, что по отношению к любому явлению, любой сфере человеческого существования принципиален вопрос: какова природа трансляций, с которыми они связаны? Природа – в смысле коренного разделения, выявленного нами: на трансляции сущностные, социальные или социализуемые, реализующиеся по законам, нормам, – и чисто антропологические, личностные, для которых не указать законов и норм. Ответ обычно незатруднителен: как мы видели, в подавляющем большинстве областей эмпирического существования, подавляющем большинстве практик, как материальных, так и интеллектуальных, осуществляются трансляции социальной природы, эссенциальные и законосообразные; на другом полюсе – область духовных практик, опыт трансцендирования, устремления Человека к Инобытию. Но есть исключения. Есть редкие случаи, когда мы затрудняемся определить природу процессов в ее отношении к нашей дихотомии, хотя дихотомия отчетлива, а процессы наглядны и проходят, разыгрываются перед нами во множестве. Главное из таких исключений – искусство.
Желая понять природу трансляций, осуществляемых в искусстве, мы должны, прежде всего, раскрыть антропологическое содержание феноменов искусства и художественного творчества. Но их антропология весьма непроста, трудноуловима, ибо имеет в высшей степени синтетичную и пластичную природу. Ставя во главу угла в трактовке трансляций их связь с граничными явлениями человеческого существования, мы уже следовали нашей антропологической модели, в которой Человек определяется «Антропологической Границей» – границей горизонта своего существования, понимаемой как собрание всех «предельных» проявлений человека: таких, в которых начинают меняться фундаментальные предикаты существования. Противостоя устаревшей классической антропологии, стоящей на понятиях сущности и субъекта, эта модель во многом созвучна современным эстетическим поискам. Центральный концепт здесь – «проявление» антропологической реальности (существенно отличное от «акта» человека), и такой выбор основного рабочего понятия естественно ведет к трактовке художественной реальности и эстетического события, родственной рецептивной эстетике, а также творческой, практической эстетике современных мастеров, утверждающих целью и фокусом (если угодно, в обоих смыслах!) искусства достижение определенного точно рассчитанного воздействия.
Такой подход – его активно защищали, в частности, Джойс и Эйзенштейн – сразу же раскрывает строение творческого акта в искусстве: чтобы достичь искомого, точно определенного воздействия, творческий акт в своем осуществлении должен зорко учитывать все особенности восприятия как человека вообще (т.е. свойства перцептивных модальностей), так и конкретной аудитории или сообщества, к которым акт обращен. Будет верным сказать, что в художественном акте в сознании художника должна присутствовать, явно или неявно, некоторая модель или образ восприятия совершаемого акта. И это значит, что «эстетические проявления», или «эстетические события», составляющие сферу искусства, характеризуются двуединой структурой, воспроизводящей аристотелеву пару «действие—претерпение»: каждое из них включает элемент (воз)действия и элемент восприятия. Эта двойственная структура реализуется в двух более или менее резко асимметричных вариантах: когда элемент восприятия встроен в элемент действия как один из его служебных моментов, эстетическое событие квалифицируется как событие (акт) художественного творчества; когда же, напротив, восприятие доминирует, а созидающее, со-творящее действие лишь миметически-виртуально (и зачастую вполне неосознанно) «проигрывается», включаясь в фактуру восприятия, – мы говорим о собственно эстетическом восприятии. Один род активности здесь как бы помещается внутри другого; и иногда подобные асимметричные ситуации в антропологических практиках передаются с помощью метафоры «маленький человек внутри большого». Так, анализируя творческий метод зрелого Джойса в «Улиссе» и «Поминках», я находил, что Джойс как бы «имел при себе умозрительного дублинца», который ему служил в качестве некоего эстетического функционального органа для осуществления активностей восприятия, необходимых в творческом акте (см.: С.С.Хоружий. «Улисс» в русском зеркале. Эп.7).
Последняя метафора в нашем случае продуктивна. Она помогает увидеть, что за простой бинарной структурой эстетического события, акта художественного творчества, лежит нечто более глубокое, некая внутренняя транс-индивидуальная жизнь. Совершаясь при участии «виртуального мини-зрителя», эстетический акт в определенном смысле выходит за рамки индивидуальности и оказывается для творческого, творящего сознания в известной мере транс-индивидуальным, соборным событием. Больше того, если взглянуть пристальнее, внутренняя транс-индивидуальная жизнь художественного события оказывается еще насыщенней, «населенней». В полном своем объеме, восприятие художественного творения само является «сложной историей», включающей отнюдь не только непосредственную перцепцию, но и дальнейшую зрелую реакцию, рецепцию, которая может быть весьма многоаспектной, многомерной. Поэтому, вообще говоря, в этой истории действует отнюдь не один простой зритель или читатель; участниками широко понятого восприятия – а отсюда, и виртуальными соучастниками творческого акта – могут быть критики, «голоса среды», ненавистники и поклонники... В феномене художественного творчества открываются богатые, наполненные транс-индивидуальные измерения, и от этой внутренней, имманентной транс-индидидуальности эстетического акта тянутся уловимые нити к феноменам творческого сообщества, художественной школы.
Отличным, ярким примером здесь может служить Лианозовская школа, один из первых и главных очагов русского андерграундного искусства 50-х – 80-х. Как живо выступает из богатой лианозовской литературы, каждый участник лианозовского сообщества исполнял в нем отнюдь не какую-то одну роль из тех, что входят в фактуру художественной жизни: он попеременно выступал автором, критиком, читателем, зрителем, и все эти формы его участия в событии Лианозова были по-своему важны. Сам же творческий акт при этом становился в известной мере актом сообщества, в котором осуществлялась своеобразная экстериоризация, развертывание вовне или, еще точнее, инсценирование имманентной транс-индивидуальности творческого процесса в искусстве. При этом, как можно проследить по свидетельствам участников, ролевые фигуры творческого события, воплощаясь реально, а не виртуально, обладают большею креативной и стимулирующей действенностью, и эстетический акт, реализуемый как акт сообщества, обретает наибольшие предпосылки к тому, чтобы состояться, исполниться, достичь полноты художественного выражения.
Само же творческое сообщество, или школа, раскрывается как особая среда и средство для осуществления художественного акта во всей полноте его креативного потенциала и, прежде всего, полноте измерений его сущностной структуры (что, разумеется, не исключает обычно указываемых узко профессиональных, социокультурных функций сообщества). И если поставить вопрос о механизмах, какими среда сообщества выполняет эти свои задачи, или, лучше сказать, вопрос о ткани, фактуре существования этой среды, – мы снова вернемся к понятию трансляции. Мы увидим, что в конституцию художественного события входит плетение из множества самых всевозможных трансляций – интеллектуальных, эмоциональных, сенсуальных – между всеми соучастниками его, виртуальными и реальными. Все эти трансляции что-то объединяет между собой, но нельзя точно, вещественно указать это «что-то»: они отмечены общею принадлежностью к художественному событию, однако это событие еще не сбылось, оно не существует в законченной определенности, и потому принадлежность к нему лишь проблематична, пластична, интуитивна, она «в воздухе»... И это подводит к предположению, что в художественной практике осуществляются те самые ненормативные, неаристотелевы трансляции, что не вместимы в дискурс сущностей и законов и должны быть связаны со стихией, или горизонтом личного бытия-общения.
Здесь мы уже переходим к проблеме существа, смыслового содержания эстетических проявлений – и в рамках принимаемой антропологической модели, путь к решению проблемы лежит через установление их связи с Антропологической Границей. В свою очередь, чтобы увидеть и понять эту связь, прежде необходимо дать более конкретную, наглядную характеристику самой Границы. Антропологические стратегии, что образуют ее, соответствуют размыканию Человека, его осуществлению себя как открытой реальности. В свою очередь, размыкание, выход в открытость означает актуализацию некоторого размыкающего отношения: отношения Человека к внешней реальности, внеположной для горизонта его существования. Внеположное может репрезентироваться различным образом, и потому размыкающее отношение не единственно. Как показывается в этой книге (см., прежде всего, текст «Человек: Сущее, трояко размыкающее себя»), существуют три и только три размыкающих отношения, соответственно трем возможным репрезентациям Внеположного; и эти отношения суть: Сущее (наличное бытие) – Инобытие, Сознание – Бессознательное, Актуальное – Виртуальное. Каждая из репрезентаций конституирует определенный вид антропологических стратегий, размыкающих Человека, тем самым, порождая определенную область Антропологической Границы. Эти три области Границы, называемые топиками или ареалами, имеют кардинально различную природу и, как легко видеть, они соответствуют последовательному сужению, редукции горизонта человеческого существования: когда Внеположное репрезентировано как Инобытие, этот горизонт – полномерный образ (способ) бытия; Внеположное как Бессознательное ограничивает горизонт человеческого существования некоторой сферой сущего, не совпадающей со «всем» наличным бытием; Внеположное как Виртуальное еще более ограничивает этот горизонт, относя к Внеположному уже и определенные сферы в горизонте сознания. В соответствии с описанною природой, области именуются онтологической, онтической и виртуальной топиками; они также могут сочетаться, перекрываться между собой, образуя так наз. гибридные топики.
Таково общее строение Антропологической Границы (более подробное его описание см. в вышеуказанном тексте). Его знание поможет нам проследить связь Границы с эстетическими проявлениями человека. Само наличие связи уже вытекает из общего тезиса, утверждающего определяющую роль Границы во всем смысловом устройстве человеческого существования; задача же в том, чтобы раскрыть данную связь предметно. Выше мы бегло описали класс эстетических проявлений, выяснив их основные свойства; и очевидный прямой подход к решению задачи состоял бы в установлении непосредственной связи этих проявлений с предельными проявлениями, образующими Границу. Но для этого прямого пути наше описание эстетических проявлений еще слишком бедно и бегло. Более эффективно искомая связь устанавливается опосредованным образом: если мы рассмотрим, какую роль играют предельные проявления, с одной стороны, и эстетические проявления, с другой, – в конституции структур (само)идентичности человека. Как конституирующее начало всего основоустройства Человека, Антропологическая Граница конституирует, полагает и структуры идентичности; икономия этого полагания описывается нами в цикле «Шесть интенций». Но как связана со структурами, со всей проблематикой идентичности человека его эстетическая активность, художественное творчество? Ответ достаточно очевиден: если в предельных проявлениях человек формируется, то в проявлениях эстетических он реализуется.
Эта простая формула – ключ к решению. Если стратегии Границы создают, полагают идентичность человека, то в художественном творчестве человек обретает сильнейшее средство развития, тренинга идентичности. Эстетические практики развивают и прорабатывают идентичность, дают ей достичь полноты реализации; но при этом сам тип и характер идентичности остается, каким он был исходно заложен в отношениях человека с Границей. Анализируя эти факты, мы приходим к тому, чтобы признать эстетические практики одним из видов антропологических практик,
ассоциированных со стратегиями Антропологической Границы, или же
примыкающих к ним
[1].
Обращаясь к описанному строению Границы, мы можем извлечь отсюда содержательные выводы. Коль скоро Граница служит определением Человека, а в своем строении она разбивается на три принципиально различных ареала, – мы заключаем, что человек в самом своем определении радикально плюралистичен, он представляет собой, собственно, три различных существа. А коль скоро его художественные практики ассоциированы с Границей, то это значит, что точно так же плюралистично и искусство человека: оно кардинально иное у каждого из трех существ. – Следствия многогранны. Если каждая из главных антропологических топик порождает своего «эстетического человека», свой художественный мир, то все общие вопросы о смысле и природе искусства являются слишком общими: они становятся содержательны, предметны лишь применительно к конкретной «антропологической территории». Элементы универсальные, общие для всех топик, существуют, но, по сути, исчерпываются теми, что мы уже отметили выше. Нелишне снова их перечислить: это бинарная структура художественного события
[2] – формирование в нем синтетических «блоков антропологического воздействия», мыслечувственных, эмоционально-интеллектуальных комплексов, – а также внутренняя или же внутренне-внешняя, экстериоризованная, интерсубъективная структура. В целом же, развертывание эстетической проблематики требует «антропологической локализации» каждой проблемы, которая состоит в привязке данной проблемы к определенной топике Антропологической Границы; и эта привязка выступает как новый методологический принцип. Прежде всего, возникает новый принцип классификации эстетических проявлений: следует различать художественные практики, ориентированные на опыт трансцендирования, приобщения к Инобытию – на паттерны бессознательного – на вхождение в виртуальную реальность – или наконец на те или иные гибридные практики. (Как ниже увидим, сюда добавляются также практики, связанные с установкой отрицания Границы).
Теперь получает конструктивную постановку и наш исходный вопрос о природе трансляций, осуществляемых в искусстве. Выскажем рабочую гипотезу: естественно ожидать, что в примыкающих, ассоциированных стратегиях характер трансляций тот же, что и в тех стратегиях, с которыми они соотносят себя. Если это так, то в эстетических практиках, соотносящих себя с онтологической Границей, трансляция художественного опыта должна осуществляться не эссенциальными и не социализуемыми, но личностными и ненормативными механизмами. В топике бессознательного ключевая роль процессов трансляции была давно подмечена и подчеркнута в психоанализе, который характеризует эти процессы особым понятием «трансфера», входящим, согласно Лакану, в ряд «четырех фундаментальных понятий психоанализа». В данной топике, началом, сопоставимым с принципом сущности по своей верховной и конституирующей роли в дискурсе, можно считать «объект желания»; но в его месте, как усиленно поучал Лакан, – лишь отсутствие, зияние, и потому индуцируемые им трансляции явно неэссенциальны. Что же до виртуальной реальности, то ее свойства пока почти не изучены в аспекте трансляций опыта. Тем не менее известно, что неэссенциальный, неаристотелев характер – одно из главных ее философских свойств, как я показывал это в тексте «Род или недород?» (см. книгу «О старом и новом»); и эта неаристотелева природа всей виртуальной сферы как таковой должна неизбежно сказываться и на происходящих здесь трансляциях. – Итак, если справедлива наша гипотеза, то и всем основным видам эстетических практик должен быть присущ неэссенциальный характер трансляций.
Однако, ставя во главу угла связь с Антропологической Границей, надо предостеречь от крайности: эту связь нельзя превращать в догму, в жесткий верховный принцип, диктующий разбиение реальности и основоустройство каждой из ее сфер. Так строились старые философские системы, и мы твердо знаем сегодня, что это несостоятельный тип дискурса; всё в действительности не так. Важнейшая особенность человека, наряду с его плюралистичностью, в том, что эта плюралистичность подвижна, даже гипер-подвижна. Разные существа и их художественные миры отнюдь не изолированы, не отделены друг от друга ни во времени, ни в пространстве – напротив, они все сходятся, совмещаются в одной точке: в каждом живущем человеке, ибо в нем априори способен воплотиться любой из обликов Человека. Хотя различие обликов кардинально, они способны переходить друг в друга с легкостью и неуловимо для сознания. И эта гиперпластичность человека, его постоянное пребывание в процессе, подвижности, динамике, приводит к тому, что связь с его Границей для практик, ассоциированных с ней, отнюдь не есть жесткая причинно-следственная связь, означающая полную детерминированность этих практик определенной топикой Границы. В художественных же практиках пластичность антропологической реальности, ее бесконечномерность находят наиболее полное выражение – и оттого их связь с Границей приобретает особую гибкость и свободу. Некоторые проявления этого мы еще увидим ниже.
Дальнейшее продвижение нашей реконструкции связей эстетических проявлений с Границей приносит переход в диахронический дискурс, то бишь учет того, что Человек историчен, его существование, как индивидуальное, так и родовое, развертывается во времени. Антропологическая Граница – понятие синхронического дискурса, она соответствует Человеку как таковому, т.е. всей целокупности пространственно-временного бытования существа «человек», всему антропологическому хронотопу. Ее составляют все предельные проявления, возможные для существа «человек» – и, разумеется, ниоткуда не следует, что все эти проявления возможны и реализуются также и в любой части данного хронотопа: в любую эпоху, в любой культуре... Совсем напротив. Даже если мы, отстаивая фундаментальное единство человеческого рода, примем, что все предельные проявления человека в принципе (!) для него возможны всегда и всюду, останется неоспоримым, что в каждом культурно-историческом диапазоне одни из этих проявлений преобладают, тогда как другие совершенно или почти не осуществляются. Учет этого диахронического аспекта приводит к понятию доминирующей топики Антропологической Границы – той области Границы, которую образуют проявления, доминирующие (среди всех предельных проявлений) в данной культуре и в данную эпоху.
Таким образом, каждой эпохе, каждой точке антропологического хронотопа отвечает некоторая доминирующая топика Границы (не обязательно из числа трех главных; априори доминировать могут и гибридные топики). Из этого соответствия возникает определенная трактовка антропологической динамики, процессов изменения антропологической реальности: очевидно, что в рамках нашей модели определяющим фактором в этих изменениях следует считать именно эволюцию доминирующей топики. – Рассматривая художественные практики как ассоциированные с Антропологической Границей, мы получаем отсюда и определенную трактовку художественного процесса.
Если бы связь с Границей была жестко детерминирующим фактором, то в каждую эпоху, в каждой культуре художественные практики были бы целиком ассоциированы с соответствующей доминирующей топикой и изменялись бы, сугубо следуя за ее изменениями: художественный процесс был бы прямою проекцией динамики доминирующей топики Границы. Но мы уже подчеркнули, что подобного детерминизма отнюдь нет. Здесь-то и проявляется пластичность антропологической реальности: история убедительно показывает, что художественные практики всегда, бесспорно, в тесной связи с доминирующей топикой Границы, но связь эта – не жесткая подчиненность, а тонкие обоюдные взаимодействия, взаимозависимости. В этих взаимодействиях, художественные практики могут весьма эффективно закреплять доминирующее положение ведущей топики, но могут, вообще говоря, и подрывать его, провоцировать смену антропологических доминант; в иных же случаях их связь с ведущею топикой может быть и совершенно незаметна, неуловима. И здесь эти практики обнаруживают свою существенную, глубокую антропологическую значимость. С точки зрения антропологии, искусство – исключительно важный род «практик себя». Он важен, ибо является весьма действенным фактором в антропологической ситуации: он может служить как стабильности, так и переменам, дестабилизации этой ситуации, и он обладает, в некой мере, собственной независимой динамикой. – Но вновь предостережем от крайности. Связь с доминирующей топикой Границы не есть универсальный объясняющий принцип для эстетических проявлений человека; однако она реальна. Описываемая автономия эстетической сферы не отменяет определяющего факта: ассоциированного статуса этой сферы по отношению к Границе. Подводя итог, мы можем охарактеризовать эту «ассоциированность» как указание на общую преобладающую тенденцию; и такое указание вполне информативно и ценно. С другой стороны, оно характеризует эстетическую ситуацию всего лишь в целом, усредненно; и потому анализ корреляций эстетических проявлений и проявлений предельных отнюдь не заменяет собственно эстетического анализа, обращенного к живому художественному событию в его уникальности.
***
При всех ограничивающих замечаниях в адрес предложенного нами подхода – подхода к эстетике со стороны Антропологической Границы – представляет бесспорный интерес проследить связь между художественным процессом и антропологической динамикой, понятою как эволюция доминирующей топики Границы. В заключение, мы проделаем это – конечно, не забывая, что все обнаруживаемые связи и соответствия должны пониматься лишь в смысле общих тенденций.
Grosso modo, эволюция ведущей топики хорошо известна (и описана, в частности, выше в этой книге в цикле «Шесть интенций»). Затронем сейчас лишь общий ход процесса. Долгий период ситуация характеризовалась стабильностью: доминирующее положение прочно занимала онтологическая (религиозная) топика. Первые начатки антропологической динамики принесла секуляризация европейского общества. Она создала модель безграничного мироздания и идеал бесконечного прогресса; в качестве ведущих стратегий человека стали утверждаться стратегии бесконечного миропознания и бесконечного совершенствования общества и человека на путях прогресса. Тем самым, человек эпохи Нового Времени и Просвещения сознавал и определял себя, строил свою идентичность как сущее безграничное: в стратегиях, ставших доминирующими, существование Антропологической Границы игнорировалось или прямо отрицалось; отношения Человека с Границей маргинализовались или же вытеснялись. Но Граница есть факт конституции Человека, и ее вытеснение могло быть лишь временным. Есть класс феноменов Границы, которые не являются сознательно проводимыми стратегиями, но возникают непроизвольно, если только им специально не препятствовать: это феномены (паттерны) бессознательного – неврозы, мании, фобии, в совокупности часто именуемые «феноменами безумия», в расширенном смысле слова. Постулировав безграничные могущество и самодостаточность своего разума, Человек не понимал их, игнорировал их в себе, и они бесконтрольно развивались: культ Разума с неотвратимостью увлекал Человека в царство безумия. В основном, это было судьбой ХХ века: его антропологическая суть именно в том, что произошла резкая, взрывная активизация онтической топики. По благословению доктора Фрейда, паттерны бессознательного стали успешно оспаривать роль доминирующих стратегий Границы; и в середине ХХ столетия уже отнюдь не фрейдист, а крупнейший представитель неогегельянства Жан Ипполит утверждал: «Изучение безумия находится в центре антропологии, в центре изучения человека». И наконец, в наши дни успела уже произойти следующая смена: на наших глазах на сцену выступили неведомые ранее виртуальные практики. Бурно распространяясь, сегодня они, в свой черед, уже начинают претендовать на доминирующее положение.
Нельзя не заметить, что этот антропологический процесс находит – по крайней мере, в общих крупных чертах – достаточно прямое отражение в эстетической сфере. Когда в качестве конституирующего отношения для Человека выступает отношение к Инобытию – такой Человек неизбежно стремится ставить свою художественную практику под эгиду абсолютных начал и ценностей, также связанных прямо с Инобытием. Онтологической доминанте в антропологии отвечает эстетика, себя также укореняющая в онтологии: стоящая на принципе Прекрасного, который, в свою очередь, стоит на связи Прекрасного с Инобытием. Перемены, которые приносит следующий этап, эпоха секуляризовавшегося «Человека Безграничного», на первый взгляд, не радикальны. Сообразованность художественных практик с духовной практикой, стратегиями онтологической Границы, не часто отрицается открыто; эстетика в своем мейнстриме остается идеалистическою эстетикой Прекрасного. Но тем не менее, наличие принципиальных разделяющих граней здесь несомненно. Немало анализировались, скажем, глубокие различия между художественным видением в Византии и эстетикой Ренессанса и Нового Времени, и явный учет связей художественного процесса с антропологической динамикой мог бы внести новые моменты в эту давнюю проблематику.
Зато далее корреляции антропологической и художественной динамики делаются вполне наглядными, лежащими на поверхности. Признание примата паттернов бессознательного в конституции Человека – эпоха психоанализа, и на всем ее протяжении от нее неотрывна бурная активность течений, утверждающих примат бессознательного в искусстве. Образцовым примером служит сюрреализм, который очень сознательно и старательно, специально пытался подчинять свою эстетическую практику бессознательному, объявляя назначением искусства – ловить и запечатлевать импульсы, исходящие из бессознательного. Связь с паттернами бессознательного играет первостепенную роль в подавляющем большинстве крупных течений европейского модернизма: в футуризме, дадаизме, экспрессионизме и абстрактном экспрессионизме, в неопримитивизме, равно как и у многих крупных художников, выходящих за рамки школ.
Более того, возникает важная особенность: в искусстве часто осуществляются наиболее крайние, экстремальные и радикальные виды паттернов бессознательного, и на то есть причины. В обобщенном смысле, как управляемые энергиями, чей источник – вне горизонта сознания и разума, эти паттерны, как мы уже говорили, часто именуются феноменами безумия. Согласно их природе, они обычно развиваются непроизвольно, завладевая исподволь человеком и оставаясь незамеченными, неидентифицированными сознанием до поздних стадий (либо до психоаналитических сеансов). Однако, когда сам художник своею волей, в качестве творческого выбора, ставит свою самореализацию в искусстве под эгиду бессознательного, он, тем самым, активно содействует размыканию себя для энергий бессознательного: словно выступает навстречу безумию, прививает себе безумие, взращивает его в себе – и неудивительно, что оно тяготеет здесь к особенно острым формам. На карте художества двадцатого века простирается огромная территория безумия, и ее обследование – едва ли не важнейшая часть изучения эпохи модерна. В более умеренных случаях влияние паттернов бессознательного выходило за пределы творчества не слишком значительно (таковы фрейдистские влияния у Шенберга, у ряда сюрреалистов), но чаще эти паттерны подчиняли себе и жизнь художника, и нередко исходом была трагедия: Ван Гог, Ницше, Врубель, Нижинский, Вирджиния Вулф, Кафка, Арто... – можно еще длить и длить эту цепь имен. «Торжество безумия» легко могло бы составить особый малый жанр современного искусства, подобный «триумфу смерти», danse macabre в искусстве средневековья. В России затянувшимся продолжением или эпилогом модерна был ранний андерграунд 50х–70х, и тему «торжества безумия» здесь пополняют судьбы Яковлева, Зверева, Пятницкого...
Точно так же поздней, следом за эстетикой Прекрасного и эстетикой бессознательного, завоевывает преобладание эстетика виртуального. Здесь еще нельзя дать столь же отчетливой характеристики корреляций антропологии и эстетики, сегодня эти корреляции в большой мере еще in statu nascendi. Уже господствуя в практике, эстетика виртуального пока весьма недоразвита в теории; и все же виртуальные версии базовых концептов – эстетического акта, художественного творчества, восприятия, etc. – родились уже и уверенно утверждаются. Понятно, что основные особенности этих версий должны отражать определяющую черту виртуальной реальности: ее привативный характер по отношению к реальности актуальной, недоактуализованность, недовоплощенность, недостроенность всех ее проявлений.
Как любили восклицать герои в шедеврах соцреализма, нам довелось жить в необыкновенную, замечательную эпоху. С точки зрения нашей темы, это верно; и необыкновенность эпохи в том, что антропологическая динамика, смена топик носит сегодня некий странный, своего рода демократический характер, взамен прежней монархичности. К доминирующей позиции продвигаются виртуальные практики – но при этом другие топики Границы отнюдь не устраняются целиком. По главному свойству виртуальной реальности, она не может порождать собственных новых форм, ее образуют всевозможные «виртуализации», неполные воплощенья явлений из других, актуальных топик. Мы можем констатировать, что активное присутствие сохраняют и паттерны бессознательного (к которым принадлежат практики трансгрессии, столь широко известные сегодня), и духовные практики, и еще больше – их симулякры, отвечающие гибридным топикам... Это одновременное присутствие никак нельзя назвать стройною гармонией, но нельзя пока назвать и сплошным конфликтом, войной всех против всех. Могло быть хуже: ведь разные топики Границы – это радикально разные структуры идентичности, собственно – разные существа! и вспомним, вслед за Фуко, как недавно еще существа из онтологической топики обходились с существами из топики бессознательного, безумцами. Ныне же налицо скорее смешение и наложение всех (пускай виртуализованных) версий Человека, предельно разных. Отсюда – замешательство, дезориентированность. Человек еще не отдает себе отчета, не понимает, кем он проснулся утром третьего тысячелетия – как за век до этого Грегор Замза. Сложившуюся антропологическую ситуацию мы бы назвали катавасией топик, причем термин тут можно понимать и в обычном разговорном смысле, и в изначальном литургическом смысле, как (чреватое хаосом) схождение всех клиросов среди храма.
И снова, в последний раз, мы задаем здесь наши вопросы о корреляциях между ситуацией антропологической и художественной, о характере происходящих трансляций. Необыкновенность ситуации сказывается в том, что вопрос теперь встает об эстетических импликациях не какого-либо одного рода антропологических практик, но антропологической катавасии, одновременного схождения всех их возможных родов и видов. Примечательно и важно, что некоторый ответ, притом даже артикулированный, развернутый, уже существует, хотя для многих современных практик (в том числе, как мы отмечали, и для лидирующих, виртуальных) свойства их, природа отвечающих им трансляций и корреляций, еще во многом неясны. Этот ответ – постмодернистский ответ – появился, потому что он, в известной мере, напрашивался, диктовался самой прямолинейной логикой. Было очень естественно решить, что одновременная активизация всех практик, всех стратегий человека, их совместимость, сосуществование в антропологической реальности, означают сущностную равноценность, эквивалентность их всех. Динамика катавасии топик легко рисовалась как динамика универсального обмена и тотального выравнивания, ликвидации иерархических границ и различий между всеми практиками человека, их системами ценностей, духовно-нравственными установками... Необходимой предпосылкой такой динамики был переход в виртуальную топику, где все антропологические проявления присутствуют и видятся не в своей актуальной полновесности (тогда утверждать тотальную эквивалентность всего всему было бы едва ли возможно!), но в своих виртуальных недовоплощениях. Существом же ее служит реализация тотальной обмениваемости всего на всё и эквиваленции всего всему, установление глобального уравнивания: иначе говоря – трансляция энтропии. Наглядно, и не вызывает сомнений, что именно такую динамику активно и радикально проводят, утверждают постмодернистские художественные практики. Однако, по самой сути понятия, неограниченный рост энтропии – сценарий тепловой смерти мира. Поэтому совершенно неизбежно и то, что описанное энтропийное прочтение современной (социо)культурной ситуации оказывается прочтением в ключе Культурной Смерти. Постмодернистская идеология есть идеология концов: с вызовом и акцентом, она провозглашает смерть Бога, смерть истории, смерть субъекта – и натурально, смерть человека. И не что иное как этот кортеж концов многообразно, с маньеристскою изощренностью, инсценируется сегодня во всех художественных дискурсах.
Здесь всплывает одна глубокая параллель. В эпоху Ренессанса европейская мысль была напряженно сосредоточена на человеке, причем главным и ключевым в образе человека для ренессансного сознания было приблизительно то же свойство, что мы обсуждаем сейчас: немыслимая пластичность, разноликость этого образа, невообразимый диапазон изменений, доступных человеку, способность его принимать любые полярно противоположные воплощения. Именно эту черту, в первую очередь, выделял Пико делла Мирандола в речи «О достоинстве человека», ставшей манифестом ренессансного мироощущения: он называл человека хамелеоном, которому даны «семена всех родов и зародыши всех жизненных стилей». Но насколько иначе воспринималась эта гиперпластичность – абсолютно не в ключе Смерти, а в ключе Жизни! Она рассматривалась как знак бурного кипения, предельной наполненности жизненной стихии, служила предметом восхищения, источником энтузиазма, порыва. И вот: что объявлялось и служило источником неудержимого подъема, торжества Жизни, ныне расценивается как источник тотального уравнивания, и человек-хамелеон предстает агентом этого уравнивания, орудием Смерти.
Какая же из эпох права? – Богатые ошибками отцов, мы скажем сегодня, что обе и правы, и не правы. Обе позиции, владевшие умами, каждая в свое время, суть неоправданные крайности, попытки сделать из ситуации человека идеологию для массового потребления. Немыслимая широта человека может быть его жизненным ресурсом, богатством – и она же может быть предпосылкой, действующей причиной его смертоносности и его смерти. Она несет обреченность свободе и, тем самым, великую опасность и риск. За постмодернистским сознанием стоит пережитая история, и кончина Больших Понятий, больших нарраций европейской культуры – реальный факт, а не фантом этого сознания. Понятиями процесс далеко не ограничивается, и едва ли можно оспорить, что опасность смерти ныне предельна. Но, по слову поэта, «Где, однако, опасность / Там и спасенье». Если не поддаться идеологии, если обладать трезвым мужеством – нельзя ли вновь, уже из бездн пройденного леденящего опыта, пережить и раскрыть непостижимую чреватость всем человека – как залог и возможность некой иной жизни?
Вопрос этот обращен, в первую очередь, к искусству. Оно владеет своим особым, уникальным видом трансляций: трансляций-токов между собратьями, соучастниками Художественного Акта, незримых токов от Художника-Созрителя к Зрителю-Сохудожнику. Этими токами создаются мыслечувственные комплексы, что таинственно оказываются «блоками антропологического воздействия». Эстетические антропологические воздействия безошибочно – как в пулю сажают другую пулю иль бьют на пари по свечке – предвидимы и выстроены Художником, и прежде они всегда имели способность оказаться животворящими и «выпрямляющими» (согласно Г.У.) для Зрителя. Сохранить такую способность в нынешней ситуации, ситуации человека на последней грани – примет ли сегодняшнее искусство этот труднейший вызов?
2003
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ЭНЕРГИЙНОЙ ОНТОЛОГИИ ПРАВОСЛАВИЯ
Предмет моего сообщения - самые общие свойства православной антропологии: природа ее понятий, ее место в вероучении и ее актуальные задачи. Я попытаюсь описать идейную ситуацию, в которой сегодня находится христианская и православная антропология, и указать основные вехи того глубокого обновления, которое стало для нее необходимостью и в известной мере уже совершается в ней. Ввиду сжатого регламента Рождественских Чтений, изложение будет иметь весьма тезисный и схематический характер; за более полным обсуждением затронутых тем я позволю себе отослать к моим ранее опубликованным статьям и книгам.
Важнейшая черта ситуации заключается в том, что проблема человека и наука о человеке, антропология, сегодня играют особую и все возрастающую роль как в светской культуре и науке, так и в церковном мировоззрении и богословском сознании. Как пришлось в наше время осознать и признать, острые кризисные и катастрофические процессы, характерные для современной реальности, имеют своим корнем происходящее с человеком, на антропологическом уровне этой реальности. С человеком совершаются глубокие и резкие изменения, которые затрагивают, видимо, сами основы его природы; и эти изменения оказывается невозможным рассматривать как простые следствия каких-то процессов, протекающих на других уровнях, в реальности социальной, или экономической, или исторической. Но именно такое рассмотрение было ранее типично в науке: предполагалось, что в динамике всей сложной, многоуровневой реальности на нашей планете определяющую роль играют широкие коллективные процессы, то, что происходит с большими системами, большими массами; тогда как изменения с человеком подчинены этим широким процессам и могут быть выведены из них, поняты на их основе. Тем самым, антропология играла вторичную и подчиненную роль в общей системе знания, эпистемологической парадигме. Одной из крайних форм такой подчиненности была официальная идеология СССР, диамат и истмат, где человек объявлялся "продуктом общественных отношений"; а в более умеренных формах подобная позиция была присуща всем главным руслам новоевропейского мировоззрения. Опыт современности вынуждает к отказу от этой позиции и к поискам иной эпистемологической парадигмы, которая отводила бы, напротив, первичную и решающую роль антропологическим процессам в реальности, и антропологии - в системе знания.
Не менее, однако, важно другое: одновременно с "антропологическим поворотом", отведением антропологии нового места в системе знания, должны совершаться и кардинальные перемены в самой антропологии. Наличные антропологические концепции и теории оказываются неспособны объяснить упомянутые резкие изменения с человеком. Упрощая, можно сказать, что эти концепции имели своим ядром классическую европейскую модель человека, базирующуюся на трех фундаментальных принципах, метафизических постулатах: человек рассматривался, согласно Аристотелю, как сущностное образование, система разного рода сущностей; в уточнение этого, он признавался также субстанцией, будучи определяем, согласно Боэцию, как "индивидуальная субстанция разумной природы"; и кроме того, он рассматривался как автономный познающий и воспринимающий субъект, согласно Декарту. В настоящее время, в итоге уже длительного кризисного процесса, вобравшего в себя как теоретическую критику, так и аргументы опыта, эта классическая "модель Аристотеля-Боэция-Декарта" подвергнута сомнению во всех своих трех принципах. Негодность ее стала признанной - однако иной образ человека еще далеко не определился.
Итак, задачею современной мысли стало новое осмысление феномена человека. Каким сложится новый образ человека, в немалой мере зависит и от усилий христианского разума. Христианская мысль отнюдь не стоит в стороне от совершающегося антропологического поворота и поисков новой антропологической модели; однако в ее сфере проблема человека ставится по-своему и имеет свою историю. Поэтому общий процесс обновления антропологических представлений и выхода антропологии на первый план принимает здесь свои специфические формы. Довольно часто общее направление и существо изменений в сфере христианской мысли выражают формулой: "антропологизация богословия". Что значит эта формула, обсуждение которой мы можем найти, например, в писаниях отца Иоанна Мейендорфа?
В первую очередь, формула отсылает к обстоятельству, которое принципиально никогда не оспаривалось: в догматике христианства, в православном богословии заложено также и антропологическое содержание, притом глубокое и богатое. В богословии и догматике кроются важные свидетельства Откровения и христианского разума о человеке. Как самый очевидный пример, напомним, что тринитарное богословие несет в себе онтологию, описание особого образа бытия, стоящего на началах любви и общения, - и, безусловно, эта онтология и эти начала весьма существенны для антропологии; многими и разными путями, антропологическое содержание догмата троичности постоянно питало христианскую мысль. Далее, христологическое богословие определяет
образ связи человека и подлинного бытия, и его кардинальное антропологическое значение еще более очевидно. Можно привести, скажем, следующие слова архимандрита Софрония (Сахарова): "Христос есть незыблемое основание и высший критерий учения Церкви о человеке - антропологии... Утверждения относительно человечества Христа одновременно отображают весь диапазон возможностей человеческой природы в целом"
[1] . Но богословие и догматика обладают специфическим языком, специфическим характером понятий и рассуждений, и поэтому заложенное в них антропологическое содержание не выражается в форме прямой речи о человеке. Это содержание остается неявным, имплицитным, и его требуется еще некоторыми способами извлекать. В итоге, с антропологической точки зрения, богословие и догматика представляют собой своеобразную
крипто-антропологию. Прочтение и уяснение их свидетельств о человеке требуют известных навыков, известной ориентации сознания и разума, которые естественны для церковного сознания, однако для сознания секуляризованного требуют особых усилий. И жизнь достаточно показала, что в процессе существования христианского общества широкое массовое сознание все более теряет способность прочитывать в вероучении его сокровенную антропологию. Как следствие этого, возникает и крепнет убеждение, будто бы христианство бедно и архаично в своем понимании человека, будто оно мало занимается человеком, отворачивается от острых проблем и вопросов о человеке, которые выдвигает современность. Подобное убеждение ныне широко распространено и вносит заметный вклад в процессы дехристианизации общества. И это значит, что перед христианской мыслью стоит настоятельная задача разрушить это ложное убеждение, основанное на утрате контакта, утрате ключей к важнейшей части христианской антропологии. Для этого требуется вновь выявить, сделать зримым и внятным для современного сознания имплицитное антропологическое содержание вероучения:
дешифровать крипто-антропологию христианства - не искажая и не снижая, не популяризуя ее, но в то же время передавая ее средствами современного разума, вводя в контекст современности. Именно эта дешифровка и понимается, в первую очередь, под антропологизацией богословия.
Протекающая антропологизация богословия и христианской мысли в целом представляет собой универсальный, общехристианский феномен, однако в Православии и в инославии развитие и даже само существо явления весьма различаются. К примеру, в протестантской теологии процессы антропологизации идут особенно активно, так что некоторые из возникающих там течений и концепций называют даже "антропологической революцией". Но в целом эти процессы следуют в русле давнего и традиционного протестантского уклона к "демифологизации" Откровения и догматики христианства, и этот уклон неизбежно приводит ко все большей рационалистической редукции христианского вероучения, все более полному изъятию из него всех аспектов, передающих мистическую жизнь церковного тела. Разумеется, в сфере православной мысли антропологизация характеризуется совершенно иными чертами. В качестве главных из этих черт я бы выделил, по недостатку времени, всего две, хотя, безусловно, этот процесс гораздо сложнее и богаче.
Прежде всего, нельзя не напомнить, что во всем православном миросозерцании и умозрении действует незыблемый принцип верности святоотеческому преданию (и уже одно это радикально разводит нас с развитием протестантской теологии). Данный принцип понимается как православная установка тождественного хранения и воспроизведения опыта единения со Христом, опыта христоцентрического Богообщения. Иначе говоря, этот принцип означает верность опыту Отцов, и слово "опыт" здесь имеет решающее значение. Опыт Отцов выразился в первую очередь в двух областях: в патристике, то есть в богословствовании Отцов, и одновременно в аскетике, которая есть не что иное как практическая духовная дисциплина тех же Отцов. В Православии эти области друг от друга неотделимы. Предание должно пониматься как их синтез, их нераздельное единство, в отличие от часто встречаемой трактовки его как всего лишь корпуса богословских текстов. Эта суженная и формальная трактовка Предания несостоятельна и опасна: то, что в Православии именуют "Живым Преданием", - не набор текстов, а хранилище опыта христоцентрического Богообщения - опыта, что закреплен в патристике и аскетике, составляющих нераздельное двуединство. Это первая необходимая черта.
В качестве второй черты я бы указал ту зрелую форму, в которой Православие осуществило синтез патристики и аскетики. Эта форма была обретена на закате Византийской империи как плод высшего развития мистико-аскетической дисциплины Православия, исихазма. В Византии XIV века, как это бывало и в эпоху классической патристики на тысячелетие раньше, богословская полемика породила плодотворное продвижение православной мысли. Предметом полемики было духовное содержание опыта исихастской аскезы; и в итоге этой полемики, исихастский подвиг получил глубокое богословское выражение в трудах святителя Григория Паламы и догматическое закрепление в решениях поместного собора 1351 года.
Достигнутое продвижение богословско-догматической мысли означало, что в Православии сформировалась зрелая онтология, которую можно кратко определить как онтологию энергийного, или же энергийно-синергийного обожения твари. Основоположения этой онтологии утверждают, что Божественная Сущность пребывает абсолютно непричаствуемой, неприобщаемой для тварного бытия, но в то же самое время тварное бытие имеет своим назначением соединение с Богом в Его энергиях. Указанное соединение трактуется как совершенное соединение, срастворение всех энергий твари с Божественной энергией, благодатью, достигаемое путем синергии - совершенного сообразования, соработничества тварных энергий с благодатью. Именно такое соединение православная мысль называет обожением твари. При этом, поскольку соборным церковным и догматическим сознанием было признано, что исихастские созерцания являются подлинным опытом Богообщения и созерцаниями Нетварного Фаворского Света, - принимается также, что продвижение по пути обожения доподлинно достигается в практике православной аскезы, то есть в исихастской дисциплине умного делания.
Сложившись в поздневизантийскую эпоху, эта энергийная онтология не разделяется инославным богословием, составляя особое достояние Православия (хотя это "не-разделение" в наше время уже редко является прямым отвержением). Но ход истории был таким, что она оказалась на длительный период забытой, вытесненной из православного богословия - в пользу позиций западной теологии, которым лишь внешне придавалась "православная окраска". Возврат к ней, восстановление ее центрального места в православном миросозерцании произошли лишь недавно, в середине ХХ столетия. Ведущую роль в этом повороте православной мысли сыграли труды богословов русского рассеяния - еп. Василия (Кривошеина), прот. Г.В. Флоровского, В.Н. Лосского; и весьма важно учитывать, что предшествующий период русской мысли, знаменитый Религиозно-Философский Ренессанс, связанный со столь крупными именами как Вл. Соловьев, о. Павел Флоренский, о. Сергий Булгаков, С.Л. Франк, А.Ф. Лосев и др., все же принадлежит еще эпохе до "поворота" и не выражает позиций энергийной онтологии. Именно это обстоятельство должно быть решающим при оценке различных явлений этого периода, таких, в частности, как имяславие и софиология, сегодня вызывающие большой интерес.
Из сказанного нам уясняется, каким образом православная мысль должна подходить к стоящей задаче антропологизации. В данном случае, та "крипто-антропология", дешифровка которой должна послужить антропологическому обновлению, заключается, прежде всего, в энергийной онтологии Православия. Поэтому антропологизация предстает как прямое продолжение той работы "неопатристического синтеза", в результате которой сама энергийная онтология была лишь недавно возвращена в православное сознание. Вернув этой онтологии ее центральное место, мы должны далее раскрыть ее антропологическое содержание, извлечь в полном объеме ее антропологические следствия. Такая работа еще только начинает развертываться, и я лишь тезисно обозначу ее главные особенности и вехи.
1) Прежде всего, эта работа обновления православной антропологии предполагает особую роль аскетического опыта, новое пристальное обращение к опыту исихастского подвижничества. В этой связи следует напомнить традиционное православное понимание аскетического пути. Для православного сознания путь подвига отнюдь не означает какого-то эксцентрического выбора. Он не означает странной и маргинальной жизненной стратегии, каким его обычно считает обыденное сознание, не означает и аномальной формы поведения, каким его считает позитивистское "научное сознание". Совсем напротив: подвиг рассматривается как универсальная установка христианина и даже более, человека как такового, ибо это не что иное как установка возведения человеческой природы к Богу. Подвиг есть подвигание этой ветхой природы, соделывание ее подвижной, способной к восхождению и премене, претворению в иную природу. Иначе говоря, это не что иное как динамический подход к человеку в его природе, динамическая антропологическая установка. Отсюда уже понятно, что эта установка универсальна, она относится к человеческой природе как таковой. И в разных жребиях, избираемых человеком, разнится лишь степень следования этой установке: кто сколь вместит.
2) Связь с аскетическим опытом составляет важный момент и в самом существе антропологизации, поскольку опыт аскезы есть, разумеется, антропологический опыт, опыт определенной антропологической практики. Рождаясь из осмысления исихастской практики, онтология энергийно-синергийного обожения имеет, тем самым, свои истоки, свой генезис в антропологическом опыте. И это значит, что ее антропологизация, антропологическая дешифровка есть попросту раскрытие, прочтение ее собственных истоков, которыми служат определенные пласты антропологического опыта. Первоначально, в соответствии с законами религиозного мышления, эти пласты были подвергнуты богословско-догматическому прочтению; далее же, когда их богословско-догматическое содержание выявлено и закреплено, является задача их выражения в антропологическом дискурсе - однако с учетом предшествующего прочтения, в его свете. Такой порядок раскрытия смысла антропологического опыта - от антропологического содержания к богословию, и затем вновь к антропологии - преодолевает плоско-эмпирический подход к опыту и может рассматриваться как определенный вариант герменевтического круга, созданный православной мыслью. Что же касается антропологизации богословия, то в данном контексте ее суть может быть выражена как смена дискурса - соответственно, с богословского на антропологический, при строгом сохранении той же опытной основы, которой служит аскетический опыт христоцентрического Богообщения. Здесь вновь возникает православная установка верности опыту, и вновь она служит как критерий, поверяющий работу разума. Вполне ясно, что такая антропологизация не имеет ничего общего с демифологизирующей антропологизацией протестантского образца, которая в конечном счете всегда сводится к примитивному рецепту "читать сказанное о Боге как сказанное о человеке".
3) Далее, мы уже можем зафиксировать некоторые черты той антропологии, которая должна родиться из дешифровки онтологии энергийно-синергийного обожения. Энергийный характер этой онтологии диктует, что бытийно значимой, определяющей динамику и судьбу тварного бытия является энергийная сторона этого бытия, энергийное измерение человеческого существования. Именно энергии человека образуют ступени духовной лествицы, пути обожения человека, именно энергии непосредственно вовлечены в драму тварного бытия, и отсюда следует прямой вывод: православная антропология должна рассматривать человека, в первую очередь, в его энергиях, должна строиться как энергийная антропология.
Равным образом, коль скоро бытийным назначением человека утверждается обожение, означающее превосхождение и претворение естества, трансцендирующую трансформацию прежнего образа бытия человека, то ключевую роль в антропологии должен играть анализ устремлений человека к пределу, границе своего существования. Как это свойственно было и древней аскетической антропологии, антропология Православия должна вплотную обращаться к предельному опыту человека, поскольку этот опыт - источник сведений о важнейших, определяющих свойствах человека и его природы. В этом смысле можно сказать, что она должна быть предельной антропологией.
Еще одна очевидная черта привносится уже многократно подчеркнутой установкой верности опыту. В силу этой установки, антропология Православия есть непременно опытная антропология: она должна быть постоянным обращением к живому опыту человеческого существования, должна ориентироваться на опыт и быть в нем прочно укорененной. В то же время, эта ее опытная ориентация заведомо не носит того характера, что называют "ползучим эмипиризмом", ибо она опирается на иное понимание опыта: такое понимание, которое выработано в самом Православии и достаточно расходится с пониманием опыта в новоевропейской эмпирической науке.
Наконец, можно сделать и некоторые выводы о том, как соотносится намечающаяся антропология с бытующими подходами и принципами, с известными и наличными антропологическими учениями. Как мы нашли, энергийная онтология Православия диктует, что православная антропология должна быть энергийной, предельной и опытной. Отсюда, из этой совокупности черт сразу же вытекают два весьма общих следствия.
Во-первых, названные черты делают эту антропологию чрезвычайно актуальной и ценной в ситуации современного антропологического кризиса. Один из главных уроков этого кризиса заключается именно в провале, несостоятельности старой эссенциальной и субстанциальной модели "человека Аристотеля-Боэция-Декарта", и энергийная антропология приносит содержательную альтернативу этой модели. Если эссенциальная антропология означала господство жестких законов, норм, причинно-следственных связей, то энергийная антропология ставит в центр нравственно-волевые начала, стихию не закона, а благодати. Поскольку благодать рассматривается православным богословием как Божественная энергия, то новозаветная оппозиция закона и благодати может и должна быть понята как еще одно обоснование энергийной онтологии и антропологии. В их рамках на смену нормативным дискурсам западной эссенциальной теологии и метафизики возникают дискурсы нового типа, ненормативные; и живой пример их можно видеть, скажем, в ненормативной этике благодати, сложившейся и действовавшей в русском старчестве. Что же до свойства предельности, то напряженная занятость предельным опытом человека - характернейшая черта современной духовной и культурной ситуации. Все современные антропологические поиски направлены к предельной антропологии, и опыт Православия может внести в эти поиски новые ценные идеи и методы.
С другой стороны, эти же самые черты делают возникающую антропологию глубоко отличной от привычной сегодня школьной, семинарской науки о человеке. Для этой науки характерен отрыв от опыта и опора на устаревшие представления, устаревшие конструкции западной теологии, лишь прикрываемые православною оболочкой. По-прежнему практикуется еще и старый начетнический метод простой выборки мест на нужную тему из Писания и Предания, с прямым и буквальным их толкованием: метод абсолютного герменевтического невежества. Тот облик антропологии, который подсказывается нам опытными основами православного миросозерцания, еще лежит в будущем. Поэтому в заключение стоит, быть может, повторить тот призыв, с которым некогда обращался к своим друзьям о. Павел Флоренский. В одном из писем 1912 г. он писал: "Нам надо создавать православную науку, ее почти нет, если не считать утерянных нитей отеческой мысли и лишь еле-еле нащупываемых в монастырях да отдельными лицами"
[2]. Многое было сделано с тех пор, и нити отеческой мысли уже, надо надеяться, не столь утеряны; однако долг творческого созидания православной науки по-прежнему стоит перед нами.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Был задан ряд вопросов, относящихся к соотношению православно-аскетической антропологии с понятиями и методами современной психологии.
Ответ. Прежде всего, необходимо учитывать принципиальные различия двух областей в их основаниях и предпосылках. Сами базовые понятия и предметы изучения, такие как сознание, мышление, ум, воля, восприятие и т.п., трактуются в психологии и в аскетике весьма по-разному, причем аскетика строится отнюдь не как научная дисциплина, а скорее как руководство к определенной антропологической практике, "практике себя". Она не начинает с формулировки исходных дефиниций и постулатов, чтобы затем силлогистически продвигаться от них, но отправляется от определенных духовных заданий, с одной стороны, и от конкретной реальности человека, с другой, всегда сохраняя привязанность к определенному антропологическому опыту. Ее понятия, ее язык следуют за опытным материалом и гибко меняются с его изменениями. И вывод отсюда тот, что ее соотношение с психологией должно рассматриваться конкретно, поскольку оно, вообще говоря, различно для разных сфер аскетического опыта.
Аскетический же опыт структурирован в соответствии со знаменитой "духовной лествицей", описывающей благодатное возведение всего человеческого существа в его энергиях по ступеням духовного восхождения. Ступени лествицы идут от низших ступеней обращения и покаяния - через борьбу со страстями - через установление исихии, сведение ума в сердце, достижение непрестанной молитвы с помощью стражи внимания - к высшим ступеням "чистой" и "самодвижной" молитвы, отверзания "умных чувств" и созерцания Нетварного Света: ступеням, где начинается преображающее претворение человеческого существа, подводящее к высшей цели подвига и всего человеческого бытия, обожению. Естественно ожидать, что психология, как светская наука, наиболее компетентна и методы ее наиболее пригодны в области низших ступеней лествицы. Эти ожидания оправдываются, хотя и не вполне. Феномен покаяния, или "врат духовных", вступления на путь подвига, очень тесно связан с высшею целью подвига; он объясним лишь чрез истовую устремленность к этой цели, о которой ничего не может сказать мирская наука, и потому психология плохо разбирается в нем (это не раз подчеркивал, в частности, архим. Софроний). Но в понимании и описании всей обширной сферы борьбы со страстями аскетика и психология, а точнее психоанализ, достигают значительного согласия. Психоанализ описывает широкое многообразие явлений (маний, фобий, неврозов и т.д.), питаемых энергиями бессознательного и имеющих, большей частью, циклический характер. Эти же явления изучает и аскетическое учение о страстях, квалифицируя их энергии на своем языке как бесовские, демонические и описывая их закономерности вполне аналогично тому, как психоанализ описывает циклические механизмы влечений. Здесь оба подхода могут плодотворно обмениваться методами, приемами и опытом; однако о явлениях, лежащих в области высших ступеней подвига, психология, увы, может сказать очень мало, почти не имея тут надежной основы. Аскетика разделяет антропологическую реальность на сферы явлений противоестественных (каковы страсти), естественных и сверхъестественных (где участвует благодать). Психология же, к сожалению, уже и о здоровом человеке, о сфере естественных явлений, может сказать меньше, чем о больном; и тем более непонятна и неизведана для нее сфера перехода от естественных проявлений к сверхъестественным. Полезное взаимодействие наук возможно и тут, однако аскетике должна в нем принадлежать ведущая и просвещающая роль.
АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВОСЛАВИЯ[1]
Введение
Христианская антропология имеет в своей ситуации парадокс. Христианство как таковое антропологично в самой сути: Евангелие Христа есть откровение о человеке, говорящее о природе, судьбе и пути спасения человека. Но, вопреки этому, в составе христианского учения, обширном и разветвленном, учение о человеке, антропология, на вид отнюдь не было на первом плане, а было скорей в ряду второстепенных разделов, с довольно бедным, малоразвитым содержанием. В современном кризисе христианства, широком отходе от церкви немалую роль сыграло именно убеждение в том, что христианство «не занимается человеком»; так, в известных Религиозно-Философских собраниях в Петербурге начала нашего века, критика церкви строилась вокруг заявлений о том, что «в христианстве не раскрыто, что такое человек». Разрешение парадокса в том, что антропологическое содержание христианства лишь малой и менее важной частью заключено в форму стандартно понимаемой антропологии как дескриптивно-научного знания об эмпирическом человеке. В более существенной части, оно имплицитно, облечено в понятия и форму, отвечающие другим дискурсам - именно, богословию и аскетике. Эти два дискурса рождены самим христианством и выражают его аутентичную суть, тогда как научно-дескриптивный дискурс неорганичен для христианского содержания. В итоге, состав антропологии христианства предстает трояким: антропология в узком смысле - антропология (под формой) богословия - антропология (в форме) аскетики, причем главными служат две последние составляющие.
Под формой богословия закодированы, прежде всего, онтологические аспекты антропологии, где закрепляется определенная связь антропологии и онтологии, раскрывается бытийное существо феномена человека и ситуации человека. Соответственно двоякой структуре богословской основы христианства, сущая в ней антропология распределяется между тринитарным и христологическим богословием. Первое утверждает христианскую концепцию бытия как «личного бытия-общения», бытия Святой Троицы, единосущного Бога в трех Лицах (Ипостасях); второе устанавливает отношение и связь человека с этим бытием. Антропология аскетики представлена в радикально ином, практическом дискурсе, но прямо продолжает антропологию христологии, раскрывая, каким образом человек реализует указанные отношение и связь. Вкупе же оба крипто-антропологические дискурса определяют облик христианской антропологии, конституируя ее главные отличительные черты:
1) онтологическая структурированность: христианская антропология не есть речь об единственной природе (способе бытия). Человек определяется не только заданной природой, в которой он пребывает, но также отношением к иной природе (Божественной). Наряду с этим, однако, имеет место
2) онтологическая цельность, холизм: человек, будучи сложен в своем составе, - в бытийной судьбе и отношении к Богу есть единое целое;
3) онтологический телеологизм и динамизм (процессуальность): христианская антропология говорит о бытийном назначении человека, которое должно достигаться;
4) онтологическая свобода: человек имеет выбор принять или отвергнуть, исполнять или не исполнять бытийное назначение;
5) открытость в мета-антропологический (эсхатологический) горизонт: исполнение бытийного назначения влечет онтологическую трансформацию, преодоление границ наличной ("падшей") человеческой природы. Антропология Православия передает это преодоление концепцией обожения; однако конкретный образ его характеризуется лишь в особом эсхатологическом дискурсе, норма которого обозначена в Новом Завете: «Еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему [Христу]» (1. Ин. 3,2).
Третья же компонента, антропология в узком смысле, типологически восходит к дуалистической антропологии греков, в которой Ум, духовное начало в человеке, признавался Божественным и выделялся из человеческого состава, конституируя отдельный дискурс, не считаемый частью антропологии, - так что последняя оставалась усеченной. Этот усеченный тип антропологии затем утвердился в новоевропейской эпистеме, ибо возврат к античности, бывший магистралью развития западной мысли, сочетал в себе две нераздельные стороны: реконструкция эллинского разума одновременно и необходимо была деконструкцией христианского антропологизма. Для такого понимания антропологии, антропологическое содержание христианства оставалось скрытым - и потому объявлялось скудным.
Вместе со всем вероучением, ключевые позиции христианства в антропологии заложены в Новом Завете (где во многом восприняты из Ветхого); в частности, все особенности (1-5) коренятся и прослеживаются в посланиях апостола Павла. Однако систематического выражения они достигли только в эпоху Соборов и патристики, начиная с IV в. До этого периода и масштаб, и суть расхождений между античностью и христианством в понимании человека не были достаточно осознаны, и, в частности, не было ясной границы между холистическим (христианским) и дуалистическим (языческим) типами антропологии. Поэтому у всех авторов доникейской антропологии развитие христианских концепций сочетается с трактовкою многих тем в русле языческой мысли, прежде всего, платонизма и стоицизма, реже - гностиков.
Одно из важных продвижений ранней эпохи - отчетливый тезис об обожении человека у св. Иринея Лионского (II в.): «Христос Иисус стал сыном человеческим для того, чтобы человек сделался Сыном Божиим»
[2]. Но у того же Иринея в его учении о «рекапитуляции» путь человеческой природы, искупленной Христом, рисуется в присущей платонизму циклической парадигме, как путь возврата к изначальному неущербному состоянию.
Наиболее ярко это переплетение эллинских и христианских мотивов выступает у Оригена (III в.). Христианская антропология впервые получает у него очертания систематического учения, включающего все основные разделы: о творении и падении человека; о душе и теле; об образе и подобии Божием; об Искуплении и Спасении; о Воскресении. Состав и структура учения, его главные направляющие ясно определяются библейскими и новозаветными представлениями; но в конкретных решениях обильно присутствуют спиритуалистические, интеллектуалистские, дуалистические тенденции, родственные неоплатонизму, который в те же годы развивал Плотин, соученик Оригена по александрийской школе философии Аммония Мешочника. Ряд теорий Оригена - в том числе, в антропологии, платонические доктрины предсуществования и переселения душ - был осужден на V Вселенском Соборе (553), но труд различения и отбора в его наследии продолжался в Церкви и дальше. Полное рассечение, однако, недостижимо по неоднозначной природе александрийского дискурса: так, в учении о Воскресении Ориген следует циклической парадигме, заявляя, что «конец всегда подобен началу»; но одновременно он говорит и о «духовных» или «прославленных» телах, принимаемых по Воскресении, что явно противоречит совпадению конца с началом.
Соборная и (Восточно-)патристическая антропология
Патристика и Вселенские Соборы создали двуединую основу христианской мысли. В учении о Св. Троице ключевую роль играет выработанный отцами-каппадокийцами, свв. Василием Великим, Григорием Богословом и Григорием Нисским (IV в.), концепт Лица, или Ипостаси (ipostasiz). Он должен был передать специфический род бытия каждого из собранных во Троице - Отца, Сына и Духа. Предикатом такого бытия виделась, прежде всего, самодостаточная отдельность и конкретная выраженность, индивидуальная отличность, чему отвечало бы понятие индивидуальности, индивида, особи - как носителя определенной роли, обличья, маски (prosopon, лат. persona).
Однако для бытия Божественного (совершенного, абсолютного) каппадокийцы усмотрели и утвердили необходимость еще другого предиката: все и всякое содержание данного бытия обладает совершенной полнотой выраженности, явленности, открытости, оно всецело явлено налицо. Определенно-особливое, окачествованное бытие во всецелой полноте выявленности (невозможной в здешнем, эмпирическом бытии) и есть, по определению, Лицо, Ипостась.
Следующий онтологический тезис утверждает, что ипостасное бытие имманентно сопряжено с троичной структурой: сопоставляемая ему сущность, усия (ousia) едина для всех трех Ипостасей, Отца, Сына и Духа. Ипостаси связаны меж собой различающими их отношениями порождения (Сына Отцом) и исхождения (Духа от Отца чрез Сына), но, кроме того, в силу единосущия, также и некоторой общей соединенностью специфического характера: Они «соединяются, не сливаясь, но совокупно друг с другом сопребывая и друг друга проникая (pericwrein) без всякого смешения и слияния»
[3].
Возникающее здесь важное понятие взаимопроникновения, «перихорисиса» (лат. circumincessio) происходит от глагола «обходить по кругу» и носит особый характер, не статичный, но и не динамический, выводящий к представлениям об энергии и общении. Две материальные среды, проникая друг друга, неизбежно образуют смешение или слияние; но (совершенное) взаимопроникновение, сочетаемое с (совершенным) сохранением собственной идентичности - (совершенная) взаимопрозрачность, взаимооткрытость - есть специфическая особенность и способность личного бытия. Можно заметить, далее, что именно такая особенность присуща (совершенному) общению, как его определяющая характеристика.
Трактуя перихорисис как совершенное взаимообщение Ипостасей, мы приходим к онтологической характеризации Св. Троицы как горизонта личного бытия-общения. Развитие данного аспекта триадологии приводит к понятию Божественной энергии, которая принадлежит Сущности и является общей всем Ипостасям. Введенный уже у каппадокийцев, концепт Божественной энергии был развит св. Григорием Паламой (XIV в.) в обширное богословие энергий, которое, тесно соединяясь с исихастской аскетикой, заняло центральное место в православном учении об обожении человека.
Бытие человека характеризуется христианством как тварное (сотворенное) бытие: Божиим актом творения возникшее из ничто ("Все сотворил Бог из ничего", 2 Мак 7,28). Этим актом Бог полагает тварному бытию начало, но Он не полагает ему конца, так что тварное бытие может априори иметь два модуса, соответственно, наделенный и не наделенный предикатом конечности. Хотя пребывание в конечном (оконеченном) модусе необязательно для твари, но эмпирическое бытие конечно, что в сфере живого выражается, прежде всего, в форме смертности. Этот факт пребывания мира и человека в нетребуемой Богом конечности Библия представляет посредством мифологемы падения и первородного греха.
Библейское учение глубоко антропоцентрично: в отличие от античной картины мира, здесь человек - не часть, а средоточие тварного бытия, и вся речь о судьбе последнего есть речь о человеке, так что онтологически тварное бытие отождествляется с бытием человека. Деяние Адама конституирует мир как бытие падшее, греховное, смертное ("Бог смерти не создал» (Прем 1,13), «Смерть чрез человека» (1 Кор 15,21)). Ясно, однако, что при такой остро негативной квалификации здешнего бытия, не может не ставиться вопрос о возможности изменения его: преодоления падения и греха.
В христианстве ответ на этот вопрос есть, собственно, сам Христос: событие Боговоплощения и Жертвы Крестной, в котором совершаются искупление и спасение человека, и в нем - всей твари. Содействующими спасению оказываются два фактора в конституции твари: наличие непадшего модуса тварного бытия, который мог бы служить бытием твари спасенной, а также одно из главных выражений библейского антропоцентризма - положение об образе и подобии Божием в человеке (Быт 1,26).
Толкование и развитие последнего положения - постоянная тема христианской антропологии, выросшая в особое «богословие образа". Патристическая трактовка темы, ставшая основной на Востоке, видит в Богочеловеческом соответствии «по образу» и «по подобию» различный онтологический характер. Образ Божий в человеке рассматривается как более статичное, сущностное понятие: его обычно усматривают в тех или иных имманентных признаках, чертах природы и состава человека - элементах троичного строения, разуме, бессмертии души, и т.п., причем соответствие полагают символическим. Подобие же рассматривается как динамический принцип: способность и призванность человека уподобляться Богу, которую человек, в отличие об образа, может и не осуществлять, утрачивать. Впервые намеченная у Оригена, детально развитая Григорием Нисским, эта трактовка проходит чрез все этапы православной мысли, порой возникая и на Западе, - вплоть до современных систем «эволюционной теологии» (о.Сергий Булгаков, Тейяр де Шарден и др.).
Прямым развитием концепции «уподобления Богу» в православной мысли явилось учение об обожении. Общепризнано, что это учение «определило всю антропологию Православия»
[4]; и основание к столь сильной оценке состоит в том, что данное учение не просто дополняет антропологию, но изменяет сам ее тип.
Это значение его выявилось не сразу. У Иринея Лионского, затем систематичнее - у Афанасия Александрийского и каппадокийцев, идея обожения предстает в своих христологических аспектах: событие Боговоплощения выступает как указание и призыв к соединению человека с Богом во Христе, утверждаемому как бытийное назначение человека; а догматы о природе Христа, о соединенности в Нем природы, а также воли Божественной и человеческой, выступают как предпосылки, создающие онтологические условия для такого соединения. (Отсюда уже видно, что идея обожения подводит к выводу о прямом характере связи и общения человека и Бога, вразрез с идущими от античности представлениями об опосредованной, иерархической связи.)
Но, наряду с этим, по мере становления восточнохристианской аскезы, обожение также утверждается как цель, телос исихастской аскетической практики - духовное состояние, к которому направляются и которого актуально (хотя и не в эсхатологической полноте) достигают подвижнические труды. Оно оказывается концептом уникального рода: соединительным звеном, в котором смыкаются воедино, ставятся в нераздельную взаимосвязь патристическое богословие и аскетическая практика. Эта двунаправленная природа обожения раскрывается у преп. Максима Исповедника (VII в.), в трудах которого восточнохристианское учение о Боге и человеке оформляется как особый дискурс, синтез патристики и аскетики, иногда именуемый мистическим богословием. В итоге, как необходимое продолжение и завершение, в антропологии Православия входит «Аскетическая антропология».
Аскетическая антропология
Исихастская традиция (см. ИСИХАЗМ) складывается с первых шагов христианского монашества, как одно из двух его русл, развивающее отшельническую, «пустынножительную» аскезу (в отличие от общежительной). Мы выделяем это русло, поскольку именно в нем аскеза конституируется как феномен, в котором реализуется особый тип антропологии, антропологическая стратегия или модель, имеющая обожение своим телосом. Аскетическая практика должна здесь носить особый характер, поскольку ее цель и смысл онтологичны: устремляясь к обожению, она должна затрагивать фундаментальные предикаты человеческого существования, сам род бытия человека. Иными словами, она направляется к границе горизонта человеческого существования: является практикой антропологической границы. Как таковая, она входит в сферу мистического опыта, является мистико-аскетической практикой. Эти определяющие черты присущи, однако, не одному исихазму: они характеризуют класс явлений, именуемых духовными практиками.
Духовная практика - методически выстроенный процесс ауто-трансформации сознания и всего существа человека, направляемый к антропологической границе. Такой процесс обычно членится на стадии-ступени, в строгом порядке восходящие от вводных этапов приуготовляющего очищения к некоторому «высшему духовному состоянию", несущему в себе телос всего процесса и отражающему специфику данной практики. Продвижение процесса осуществляется с помощью методик, выполняющих две задачи: концентрацию внимания (вспомогательная задача) и фокусирование энергии, подчинение всех активностей человека достижению «высшего духовного состояния» (главная задача). Но выход к антропологической границе не осуществим чисто управляемым путем, как последовательность заданных операций; ключевую роль на высших ступенях процесса играют факторы спонтанности, лежащие вне контроля сознания.
Описанная парадигма охватывает древние школы Дальнего Востока (классическая йога, тибетский буддизм, дзен и др.), исламский суфизм, православный исихазм; к ней тесно примыкают некоторые направления мистики, в частности, неоплатонизм; с ней отчасти граничат древние и современные психотехники, методики продуцирования экстатических и иных измененных состояний сознания. Для традиционной антропологии духовные практики были явлением маргинальным, сродни аномалии и патологии; но адекватное понимание их требует иной антропологии, ибо в них изначально заложен свой оригинальный антропологический подход. Человек здесь рассматривается как, прежде всего, энергийное образование (конфигурация, «тело»), совокупность разнообразных энергий - нравственно-волевых движений, умственных помыслов, телесных импульсов... - и по отношению к такому подвижному, пластичному образованию оправдана стратегия онтологической трансформации, достижения антропологической границы путем некой особой перестройки энергийных конфигураций. Итак, для энергийной антропологии, духовная практика - центральный концепт; но такая антропология покуда не развита: анализ энергийных конфигураций в антропологии требует нового понятия энергии, которое соответствовало бы «энергиям» исихазма, «дхармам» йоги и т.п.
В рамках общей парадигмы исихазм выделен многими принципиальными чертами. Укажем две: 1) строгая методология, наличие развитого «органона", системы принципов проверки и истолкования опыта; 2) бытие-общение, предполагающее сохранение индивидуально-личной идентичности, уникально в качестве «высшего духовного состояния». Во всех восточных практиках, языческой мистике и проч., таким состоянием служит растворение и утрата идентичности, достигнутость имперсонального бескачественного бытия, неотличимого от небытия (нирвана, Великая Пустота и др.). Ядро исихастской практики - школа молитвенного делания: непрестанное творение молитвы Иисусовой (Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного), исключающее всякую образную медитацию, активность воображения, но предполагающее активность претворенных эмоций. Характер молитвы меняется с углублением практики; в целом же, вся «лествица» аскезы включает следующие основные ступени: покаяние, или «врата духовные» - борьба со страстями - исихия - «сведение ума в сердце», т.е. объединение, связывание в одну структуру умственных и аффективных энергий - бесстрастие - «чистая молитва», не нуждающаяся в темпоральной развертке - созерцание нетварного света - преображение и обожение. Важная черта практики - ее холистичность: ею захватываются все уровни организации и, в частности, соматика человека; «тело обоживается вместе с душою»
[5]. Другая существенная черта - утверждение равноценности и стремление к синтезу Ума и Сердца как центров и верховных начал в человеке, в отличие от эллинской традиции, ставящей выше Ум, и исламской, возвышающей Сердце.
На высших ступенях делается все более значительным и явным присутствие и решающее действие в духовном процессе спонтанной энергии, которая воспринимается человеком как не принадлежащая ему и рассматривается вероучением как Божественная энергия, благодать; специальное понятие СИНЕРГИИ (см.) описывает постепенно складывающееся согласное сообразование свободной человеческой энергии с Божественной энергией. Зрелая форма, которую принимает учение об обожении в Византии XIV в., в трудах св. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ (см.), характеризует обожение как полноту синергии, совершенную энергийную соединенность Бога и человека, прообразом которой служит соединенность двух энергий во Христе, по определению VI Вселенского Собора. Эти совершенство и полнота преодоления антропологической границы достигаются лишь в эсхатологическом горизонте, обозначаемом догматом Воскресения. Однако в подвиге достигается приближение к границе, отмеченное реальными эффектами трансформации наличной человеческой природы. Примером их служит феномен «умных чувств» - возникновение на высших ступенях новых перцептивных модальностей, прежде всего, «духовного зрения», активность которого составляют световые созерцания, признаваемые в Православии сверхприродными созерцаниями света, тождественного Свету Фаворскому, что осиял апостолов в Преображении Христа.
ЛИТЕРАТУРА
Св. Григорий Нисский. Об устроении человека. СПб. 1995. Немесий Эмесский. О природе человека. М. 1994. С.С. Хоружий. Аналитический словарь исихастской антропологии. // С.С. Хоружий. К феноменологии аскезы. М. 1998. Theologie de l'homme. Essais d' anthropologie orthodoxe // Contacts (Paris). 1973. V. 25. Nr. 84.
ВЕЩЬ В РАБОТЕ. КРИТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
ПРОЛОГ: ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ ЧЕЛОВЕКА
...Есть старая цирковая реприза, имеющая множество вариаций: «Дали подержать». На арене – Рыжий, нелепая и наивная, бестолковая фигурка. Кругом него люди, жизнь, снуют деловые, занятые персонажи; и кто-то на бегу, устремляясь куда-то мимо, сует ему в руки большой и неуклюжий, непонятный предмет. Растерянно озираясь, он стоит, бросает взгляды то на предмет, то вокруг по сторонам. Однако вручившего нет уже, а предмет – в руках; и мало-помалу Рыжий свыкается с предметом, окружает его вниманием; постепенно он начинает чувствовать себя и осмысливать как Держателя Предмета. Когда же он совсем вошел в эту роль, сжился с Предметом – следует столь же неожиданная, брутальная развязка: предмет грубо отбирают, награждая Рыжего тумаками. Рыжий рыдает.
Рыжий – я, каждый из нас. Предмет – человеческая участь, природа, жизнь: la condition humaine. Так, по крайней мере, заставляет считать наш прямой опыт собственной ситуации; таков этот опыт в непосредственной его данности, до всех редакций, пока на голос непредвзятого, из души, чувства и ощущения: Дар напрасный, дар случайный... – еще не послышалось назидания: Не напрасно, не случайно! Немудрящая реприза вобрала в себя едва ли не все главные слагаемые сырого антропологического опыта. Ибо всё так и есть: каждого наделяют неким устройством, внешним и внутренним, некой природой, движущей им, но ему самому неведомой, наделяют на некий ограниченный срок; и это всё – устройство, природа, срок – нисколько не в его власти, не в его ведении – «дали подержать». Как Рыжий, каждый может это тематизировать: может выяснить, что он, человек, сотворен Богом, или занесен с Альфы Волопаса, или произошел от обезьяны. Отсюда, в свою очередь, будет что-то следовать. Изменить ничего нельзя, но можно обдумать. Впрочем, нельзя и исключать, что пристальное обдумыванье не откроет в ситуации и каких-нибудь возможностей к изменению.
Итак, помимо рыданий, Рыжему еще можно рефлектировать; и ясно, что его рыдания задают сверхзадачу его рефлексии. Есть, пожалуй, единственная необходимая предпосылка человеческого существования: оно должно быть возможным. «Быть» означает здесь: представляться самому человеку, восприниматься, переживаться им. И самое удивительное в человеке – его фантастическая способность добиваться выполнения этой предпосылки – как в отношении существования вообще, как такового, так равно и в отношении конкретных, сколь угодно немыслимых, нечеловеческих образов и условий существования. Нас занимает сейчас существование вообще. Представить его возможным (а если выйдет, то и наилучшим из всего возможного, достойным, возвышенным) призван верный слуга, послушный ум Рыжего, Hure Vernunft; и в исполнении задачи он проявляет поистине неистощимую изобретательность. Рождается множество решений, приспособленных ко всем эпохам, обществам и сословиям, выраженных во всех формах, жанрах, дискурсах. Необычайной убедительности здесь достигает искусство. «Я телом в прахе истлеваю – умом громам повелеваю». Это звучит. И все же наиболее прочного успеха добивается не эстетическое сознание, а религиозное и философское.
Когда-то один человек понял: мир, в котором убили Сократа, его учителя, безусловно, не есть настоящий мир. Как есть другой «Юрий Милославский», более настоящий, чем господина Загоскина сочинение, так есть другой мир, в котором Сократа убить нельзя, и только этот мир – настоящий. Конечно, и прежде, до него, иным думалось и верилось так, но он это понял до конца и до глубины, понял всем существом – и сумел сделать это высокой истиной, философской истиной. Высокой философской истиной стал самый надежный способ сделать существование возможным: отмена непереносимой единственности реальности. Есть настоящий мир, и ему имя – мир умопостигаемый, или бытие, или абсолютное бытие. В бытии не только не убивают Сократа, там не разыгрывается и ситуации «дали подержать», так что эта ситуация тоже ненастоящая. Рыжий перестает всхлипывать. Он обращает взоры и помыслы к бытию. Он сам, его ситуация отходят на второй план, они теперь лишь низкая «эмпирия»; в центре, фокусе мысли оказываются высокие истины, метафизические предметы. Проходят чредой века; воздвигается величественное сооружение классической европейской метафизики. Там есть всё – разумеется, в настоящем виде, умопостигаемом, в форме идеи. Есть, стало быть, и человек, хотя его разглядишь не сразу. Теперь он уже не столь важен, и его место в сооружении, или «антропология» – отнюдь не главное здание, а какой-то из дальних флигелей, где он к тому же содержится в расчлененном виде, как нечто смешанное и составное, определяемое целым набором разнообразных начал. Это составное сущее не чинит особых проблем для метафизического разума: человек неизменен и есть то, что он есть, иными словами, некая статичная данность; как такового, его можно охватить дефиницией, заключить в сеть категорий. Подобное обращение с человеком укореняется прочно и надолго: став умопостигаемым, Рыжий польщен и не возражает.
Хотя и нельзя сказать, чтобы Рыжий был целиком удовлетворен, чтобы метафизический образ себя самого и своей ситуации он бы безоговорочно счел с подлинным верными. Сомнения возникали – но до поры они не могли быть выражены в равноценной форме и на равноценном уровне; «метафизика» на много веков стала синонимом философии. Тем хуже для философии, однако! Сомнения питались реальным опытом, в котором человек видел, ощущал несогласие, расхождение с метафизической картиной; и на базе этого опыта возникала «многодонная жизнь вне закона». Изначально сюда немалой частью входил мистический опыт; но и не только он. Чувства и эмоции человека плохо укладывались в нормативные дискурсы метафизики; нормативная этика, неотторжимая часть метафизической дескрипции человека, никогда не могла вполне объяснить реальных человеческих действий. Со временем расхождения накапливались и усиливались. Разделяя судьбу всех зданий, и скромных, и грандиозных, строение классической метафизики ветшало, и будет верным сказать, что главным источником разрушительного процесса служила антропологическая реальность. Затем, в 20 столетии этот процесс резко изменяет свой характер, из постепенного он становится катастрофическим, обвальным. Он принимает всеохватный характер: с одной стороны, «жизнь вне закона» (метафизического) обретает свой язык, развивается основательная, кардинальная критика метафизического способа (хотя в гораздо меньшей мере возникают состоятельные, полноценные альтернативы ему); в то же время, опыт истории, опыт жизни доставляет радикальные, драстические несоответствия с метафизической картиной реальности, и метафизический дискурс оказывается явно неспособен дать понимание важнейших феноменов наступившей эпохи.
Сегодня процесс кризиса метафизического мышления – а с ним и классической европейской антропологической модели – практически достиг финала. Продолжая метафору, мы не скажем, что величественное здание – в руинах; но оно стало памятником прошлого, школой и кладовой мысли, а не ее творческой мастерской. Нового здания покуда нет – и Рыжий волей-неволей снова оглядывается по сторонам. Надо ли строить новое? слышны громкие голоса, что умнее существовать, занимая старые обиталища и их деконструируя на дрова. Очень может быть... Но в любом случае, Рыжему надо заново понять многое, заново разглядеть, что же за Предмет ему дали подержать. Критическое обозрение старых позиций – необходимое начало для продвижения к этой цели.
ГЛАВА 1. Генезис основных принципов классической европейской модели Человека: Аристотель, Боэций
Предмет этой книги – Человек в его отношениях с его Границей: определяемый, конституируемый Границей – в философии; влекомый к ней, испытующий ее – в жизни. Мы убедимся, что такой подход – не сужение и не ограничение речи о Человеке: так может ставиться тема о Человеке как таковом. И, как я полагаю, лишь так она может ставиться в свете сегодняшней реальности Человека: тревожной, зыблющейся, неопределенной.
Открывающая книгу метафора говорит, что речь о ее предмете сегодня не может вестись на прежних основаниях классической европейской метафизики. Предстоит найти новый язык, новые принципы для антропологического дискурса, и современная мысль уже весьма активна в решении встающих проблем. Движимый и направляемый новым опытом, поиск в то же время неизбежно развертывается в освоенном пространстве мировой мысли о человеке, в диалогическом взаимодействии с традицией – или точней, с традициями, ибо рабочее поле мысли расширилось и глобализовалось, все более органично включая не только Запад, но и Восток. И вместе с тем, в этом расширившемся поле не может не служить особою, выделенной областью именно классическая европейская метафизическая традиция – та самая, в которой мы более не можем остаться. Это единственная область, где в распоряжении гуманитарной мысли есть достаточная система правил (само)организации и критериев (само)проверки: достаточная не в смысле позитивистской эпистемологии Поппера или Витгенштейна, а в смысле концептуальной структуры философского дискурса, менее формализуемой, но в своем роде не менее строгой и не менее обязательной. Поэтому лишь посредством соотнесения себя с этой областью мысль обеспечивает свое пребывание в сфере мыслительной культуры, без риска впасть – не столько в древнее «варварство» (едва ли оно есть еще на Земле), сколько в новейший беспредел тотального уравнивания и обесценивания всех установок, культурных, внекультурных, антикультурных... И это значит, что всякий опыт продвижения мысли заново обозревает «основоустройство», Grundverfassung, классической европейской метафизики, входя в тесную связь с теми или иными его элементами и темами.
Из таких тем для нас особенно важны две: базовая модель Человека, созданная в рамках классической метафизики, а также судьба концепта энергии, который в этой метафизике, в конечном итоге, создан не был – но тем не менее имел в ней драматичную и содержательную историю. В этой книге, однако, мы будем заниматься лишь первой темой.
С не столь большим упрощением, классическую европейскую концепцию человека можно представлять стоящей на двух краеугольных понятиях: на применении к человеку понятия сущности (как сужающий вариант, субстанции) и понятия субъекта. Введение в антропологический дискурс каждого из них – ступень кардинальной важности, ассоциируемая с определенным именем в истории философии: сопоставление человеку понятия сущности есть вклад Аристотеля, понятие же субъекта – вклад Декарта. В качестве существенной промежуточной стадии между ними, стоит выделить также вклад Боэция: введенное им понятие «индивидуальной субстанции» в ретроспекции предстает в точности – средним звеном, переходным этапом от человека Стагирита к человеку Картезия.
1. Человек Аристотеля
Разумеется, в грандиозном ансамбле философии Стагирита сущность, , отнюдь не является специально антропологической категорией. Сущность – вершина в системе его понятий, принцип максимальной общности и эвристической силы, объединяющий собою весь аристотелианский порядок вещей. Поэтому, когда человек характеризуется как «сущностное образование», сущность и одновременно набор, собрание сущностей, он не специфицируется этим, а напротив, универсализуется, интегрируется в эссенциалистский миропорядок, объемлющий и чувственные, и умопостигаемые предметы. Выделение же, спецификация человека производится по дальнейшим принципам и признакам. Так, живое, а в его составе и человек, выделяется свойством порождения сущностей: «Все природное способно порождать себе подобную сущность… Человек способен порождать те или иные сущности из определенных первоначал»
[1]. Что же до человека как такового, то «человек есть в первую очередь ум… человеку присуща жизнь, подчиненная уму»
[2], а ум, в свою очередь, трактуется Стагиритом как способность постижения первоначал, оснований, достоверного, научного знания (ср. «Никомахова этика», кн. VI, 1141а 3-7). В приведенной цитате вторая часть – существенное развитие первой: специфическим отличием природы человека служит не столько ум сам по себе, сколько именно «жизнь, подчиненная уму», или же просвещаемая, регулируемая и управляемая умом деятельность: «Стремящийся ум или же осмысленное стремление… именно такое начало есть человек
[3]… Назначение человека – деятельность души, согласованная с суждением»
[4].
Как «стремящийся ум», человек представляет собой деятельный центр, источник «поступков», т.е. действований, сопряженных со стихией разума, с активностями анализа, суждения, выбора. За счет этой связи возникают разные категории поступков, и деятельная, «практическая», по Аристотелю, сфера человека приобретает развитое строение, многомерность. Дискурс Аристотеля не так подчеркнуто иерархичен, как дискурс Платона, но в нем столь же прочно присутствует аксиология; к вещам и явлениям прилагаются понятия высшего и низшего, благородного и низменного, более или менее достойного… С аксиологической шкалой сразу же, изначально связан и Аристотелев человек: «Ум – высшее в нас, а из предметов познания – высшие те, с которыми имеет дело ум»
[5]. Отсюда аксиологическая шкала переносится и в практическую сферу, на многообразие действий и поступков, – и, как первое главное следствие аксиологически-иерархического устроения этой сферы, возникает понятие «назначения» человека, уже нами встреченное выше. Коль скоро в человеке есть «высшее», то его действия, его жизнь, существование обретают назначение – служить этому высшему: «Надо делать все ради жизни, соответствующей наивысшему в самом себе»
[6]. Тем самым, среди всех категорий поступков выделяется наиважнейшая категория, поступки, служащие реализации назначения человека; они получают имя «нравственных». Полнота же осуществления назначения человека – не что иное как счастье (ср.: «при счастье не бывает ничего неполного»
[7]). Так конституируется этический дискурс, этическое измерение человеческой деятельности, «практики». Счастье () – высший принцип, вершина этического дискурса, а этика, наука нравственного действия, направляющего к достижению счастья, утверждается как главный вид знания в практической сфере.
Эта классическая концептуальная схема Стагирита станет универсальной основой европейского этического дискурса – т.е. системы индивидуальных установок, стратегий человека – на все будущие времена (межиндивидуальные, социальные стратегии составляют сферу политики). Не столь универсально, однако, конкретное наполнение этой схемы, которое определяется отождествлением «высшего» в человеке с умом. Из этого отождествления вытекает другое – отождествление счастья и назначения человека с погруженностью в самодостаточную, не имеющую эмпирических интересов, прикладных целей деятельность ума, – что именуется созерцательной жизнью, . «Деятельность ума как созерцательная…помимо самой себя не ставит никаких целей… она и будет полным счастьем человека
[8]… Кто проявляет себя в деятельности ума… устроен наилучшим образом и более всех любезен богам… Он же, видимо, и самый счастливый»
[9]. Выделение и возвышение ума сближает человека Аристотеля с руслом дуалистической антропологии, в котором человек представляется двоицей противоположных, противостоящих друг другу начал или природ, смертной плоти и бессмертной души (духа). Это древнее русло, идущее от орфиков и пифагорейцев, включающее платоников и гностиков, не иссякло и в христианскую эпоху, поскольку традиция европейского идеализма восприняла античную установку, обособляющую и возвышающую начало ума. При этом, дуализм, вносимый в природу человека этой установкой, стал еще резче, поскольку, в отличие от античной онтологии единого бытия, онтология христианства утверждает разрыв, онтологическую дистанцию между горизонтами здешнего, эмпирического, и абсолютного, божественного; и хотя по внешности тезис Гегеля «Разум есть божественное начало в человеке»
[10] лишь повторяет Аристотелево «Ум в сравнении с человеком божествен»
[11], в действительности, он вносит в природу человека неведомую античности онтологическую двойственность. Однако в христианской мысли есть и иное русло, церковно-патристическое, мало представленное в философии, но строго хранящее источные установки христианского мироотношения; и в этом русле нет ни дуализма в антропологии, ни интеллектуализма, идеала интеллектуального созерцания в этике. Оно основывается на холистическом образе человека, в котором ум составляет единство со всем человеческим существом (хотя обладает своей спецификой и наделяется особой задачей), и мы будем подробно говорить о нем ниже.
Итак, в измерении деятельности, «практики» (а это деятельное измерение для нас будет на первом плане), эссенциалистская антропология Аристотеля сводится, в существенном, к эвдемонистской и интеллектуалистской этике. Для дальнейшего важно отметить и некоторые другие ее особенности. Самая выпуклая и наглядная из них – нормативность, неизбежно сопутствующая эссенциальному дискурсу. Сущности связаны меж собой линейными причинно-следственными отношениями, действие которых носит характер безусловной необходимости. Реальность Аристотеля охватывается сплошной сетью причин и целей, и все, происходящее в ней, строго целенаправленно, телеологично. «Относительно всего, что называется случайным, всегда можно найти определенную причину, а не случай… Ничто не происходит случайно»
[12]. В сфере человеческого существования эта тотальная целенаправленность не снимается и даже не умаляется данными человеку возможностями выбора и принятия решений: здесь также существует полная и предзаданная система целей, и в поле решения и выбора – не цели, а только средства: «Сознательный выбор касается средств к цели…
[13] Решение наше касается не целей, а средств к цели»
[14]. Универсальный принцип регламентации всего существования человека – закон (). Это понятие трактуется достаточно обобщенно: принадлежа, в первую очередь, сфере правовых отношений, оно переносится на всю деятельную сферу (хотя все же не расширяется за пределы антропологической и социальной реальности, до «законов космоса», и т.п.: «Закон (в числе прочего) велит быть благоразумным, приобретать имущество, заботиться о теле и тому подобное
[15]... Мы будем нуждаться в законах, охватывающих всю жизнь»
[16]. В итоге, человеческое существование всецело регламентировано сетью законов, действие которых выражается, очевидно, в нормах и правилах, – и хотя Стагирит еще не вводит категории «нормы», по праву можно сказать, что его этический дискурс и шире, дискурс всех индивидуальных и социальных стратегий человека носят нормативный характер.
Следует также указать, как выражены у Аристотеля аспекты статичности и динамичности, неизменного и меняющегося в антропологической реальности. Очевидно, что онтология единого бытия предопределяет онтологическую статичность антропологической модели: во всем, что свершается с человеком и что ему надлежит свершать, природа человека пребывает неизменной. Вместе с тем, имеется и элемент процессуальности (движения, изменения), который присутствует в представлениях о реализации этического идеала, достижении счастья; но этот элемент заключается лишь в переориентации жизненной практики на удовлетворение высшего в человеке, ума. Процессуальность такого рода – общая черта метафизики Стагирита: так проявляется присутствие в этой метафизике понятия энергии, важнейшего философского нововведения Аристотеля. В отличие от платоновой идеи, аристотелево понятие сущности включает аспект осуществления, актуализации – извлечения, изведения данной сущности из потенциальности в актуальность. Этот аспект ее (который мы будем детальнее разбирать в следующей главе) выражают понятия энтелехии и энергии: сущность, рассматриваемая как полнота осуществленности, – энтелехия, само же действие осуществления, активность актуализации есть энергия; так что можно сказать, что энтелехия есть сущность, поставленная в связь с энергией, увиденная в элементе энергийности. За счет этих понятий метафизика существенно углубляет свое видение реальности и расширяет ее орбиту, включая в нее действия и процессы. Однако одновременно она ограничивает себя определенным пониманием, определенной моделью процесса как такового – моделью, в которой всякий процесс видится «энтелехийно», как актуализация некой сущности. В дальнейшем, и в науке, и в философии такая модель окажется слишком узкой.
Надо заметить, однако, что в антропологии Аристотеля и, в частности, в его этике, понятия энергии и энтелехии, задающие наиболее глубокий уровень философского анализа, вовсе не применяются. Это симптоматично. Философствование греков далеко не было антропоцентричным, и антропологический дискурс нацело отсутствует в «Метафизике» Аристотеля, будучи сосредоточен не в философии, а в «практических науках», в этике, главным образом, и отчасти в политике, где философская рефлексия не достигала предельной глубины. Классическая европейская метафизика Нового Времени возродила структуру античной системы с присущей ей неразвитостью и вторичностью антропологического дискурса. Здесь, в частности, лежат и корни того, что становление философской модели человека в русле, идущем от античной философии к новоевропейской метафизике, затянулось на два тысячелетия, отделяющие Аристотеля от Декарта.
Прослеживая собственно философскую нить, мы оставляем в стороне развитие антропологических концепций в западной теологии (впрочем, оно и не было значительным). Как сказано выше, на всем пути до Декарта мы выделим всего лишь один промежуточный этап.
2. Человек Боэция
Выводы нашего беглого обзора антропологии Аристотеля двойственны: мы видим основательную, почти всестороннюю развитость этой антропологии, наличие в ней ответов на все (или почти все) принципиальные вопросы о человеке, и в то же время, ее, если угодно, несуществование: несуществование в качестве философской антропологии, полноправного раздела в составе Philosophia prima, и существование лишь в ряду «практических приложений» метафизики. Эта двойственность менее всего случайна. Закладывая фундамент концептуального мышления с помощью новооткрытых мощных орудий Сущности, Категории и Силлогизма, Стагирит действовал этими орудиями там прежде всего, где они оказывались действенны. Он концептуализовал то, что в первую очередь поддавалось концептуализации; а человек, уже и античный человек, был сложен, многолик, изменчив и для концептуализации трудно уловим. С ним приходилось поступать дисциплинарно, подчиняя его Законам, – что делали практические дискурсы, Этика и Политика, и откладывая, оставляя в стороне его собственно философское понимание, введение в Метафизику. За одним кардинальным исключением: в метафизику вполне органично включался Ум, и она охотно, с увлечением развивала речь об Уме; однако, как предмет метафизики, Ум отделялся от человека, и речь о нем уже не была частью антропологического дискурса.
Как сказано выше, эти структурные особенности равно присущи и античной, и новоевропейской метафизике. Антиантропологизм, вытеснение человека – имманентная черта метафизики как таковой, и человек – извечный Фирс метафизики: таково амплуа, прочно определенное ему в ней ее отцом. Но в ходе европейской истории был период, когда это амплуа на время поколебалось – или точнее, когда рефлектирующая мысль готова была покинуть метафизические рамки в пользу некоторого иного способа, который не вытеснял бы человека, а ставил его, напротив, в центр. Разумеется, этим поворотом к человеку – даже, если угодно, антропологической революцией – было пришествие христианства: онтологическое событие Боговочеловечения, воплощение Бога в обычном порядке человеческого существования, в образе сына плотника, не могло с силой не обратить мысль к человеку – его природе, судьбе, границам. Христианство несло в себе мощный импульс антропологической переориентации всего мироотношения и мировоззрения; и все же, в ходе формирования христианского вероучения, в эпоху патристики и Соборов, христианская антропология не была создана в собственно философской форме. Был создан богатый антропологический дискурс, однако он обладал непростым строением. Главные тезисы о человеке и его ситуации в бытии были здесь выражены в особом новом дискурсе «догматического богословия». Этот дискурс имел принципиальные отличия от философского дискурса (нам сейчас нет нужды обсуждать существо этих отличий и порожденную ими проблему конфликта философии и богословия), и даже не был, по крайней мере, явно, антропологическим дискурсом: его антропологическое содержание было имплицитным, закодированным в форме высказываний о Боге. Другой важной составляющей христианской антропологии была практическая антропология развивавшейся в восточном христианстве аскетической традиции – и она была еще дальше от философского дискурса. Ее содержание, включавшее и глубокие антропологические открытия, оставалось долгое время замкнуто в сфере практической религиозности, не получая продумывания и осмысления вне рамок самой традиции и ее специфического языка. В итоге, с приходом христианства философия не испытала кардинального антропологического поворота. Вместо этого она первоначально оказалась оттеснена богословием, а когда затем постепенно начала восстанавливать позиции, то, не пройдя внутренней трансформации, скорее отталкивалась от христианского богословия и влеклась к прежнему античному способу. Окончательным воссоединением с этим философским способом стала мысль Декарта.
Творчество Боэция – та фаза богословской мысли на Западе, когда собственно богословие еще не совсем отделилось в ней как от философии (метафизики), так и от антропологии. Категории личного бытия, которые усиленно разрабатывались греческой патристикой и выступали в ней как специфически богословские понятия, у Боэция еще свободно рассматриваются и как понятия антропологические – что приносит для антропологии заметную пользу. Боэций – не слишком оригинальный и крупный, однако пытливый и честный философский ум. Как философ, он принадлежит к руслу аристотелизма в позднеантичной редакции Порфирия; но когда те или иные факторы толкают его к выходу за пределы этого русла, он способен представить самостоятельное философское решение. Соответственно, мы не обнаружим существенной оригинальности в его Комментарии к знаменитому Введению Порфирия к «Категориям» Аристотеля, однако в трактате «Против Евтихия и Нестория», где он обращается к философской тематизации проблемы лица и личности в рамках латинской терминологии, ситуация складывается иначе.
Направляющей нитью здесь служит трактовка этой проблемы в греческом патристическом богословии; и можно сказать, что у Боэция постановка и решение проблемы представляют собой как бы умаленное подобие патристической разработки. В трудах греческих Отцов строилась конституция личного бытия как особого онтологического горизонта, иного по отношению к здешнему бытию, причем необходимый фонд понятий и самый дискурс, выражающие эту конституцию, создавались заново и впервые. Как христианин V века, Боэций не мог не сознавать, хотя бы интуитивно, наличия этого онтологического измерения проблемы; но как философ, он не мог достичь его схватывающего узрения (оно будет достигнуто лишь в зрелой схоластике). Поэтому, в терминах позднейшей философии, рассмотрение Боэция развертывается не в онтологическом, а лишь в онтическом плане и, ориентируясь на греческий образец, оно представляет собой не столько создание нового круга понятий, сколько его трансляцию, перевод. Однако трансляция осуществлялась не только с греческого на латынь, но одновременно – из патристического богословия в традиционный метафизический дискурс, которому еще предстояла долгая жизнь; и за счет этого опыт Боэция занимает самостоятельное место в метафизической традиции и классической антропологической модели.
Руководясь патристической разработкой личностных понятий, Боэций приходит к существенному развитию и видоизменению аристотелианских концептов. Модифицируется уже верховное понятие, сущность. У самого Стагирита оно обладало огромной широтой, будучи объединяющим термином для всех «имен бытия» – характеризаций реальности и ее элементов по любому положительному содержанию, материальному или нет, К сущностям принадлежали и универсалии, и субстанции, и единичные предметы, образуя обширную, разветвленную номенклатуру. Отнюдь не так у Боэция: по верному суждению современного комментатора, «Боэций понимает сущность достаточно узко и вполне в духе нашего времени – как то, что определяет специфику предмета и составляет его природу»
[17]. Подобная переинтерпретация весьма показательна. Как мы замечали, у Аристотеля в его антропологии изначальной заботой была универсализация человека, его подведение под общие начала, встраивание его в некоторый закономерный порядок реальности. Боэций же видит свою задачу в прямо противоположном. Закономерный Аристотелев Универсум для него уже данность, и философская трактовка лица, личности представляется как проблема спецификации, т.е. исчерпывающей характеристики частного, отдельного, но в то же время и автономного, самодовлеющего. Именно на последнем аспекте настаивала греческая патристика, всячески выдвигая и акцентируя его; именно в силу него удовлетворительным решением не могло быть прежнее понятие Аристотеля-Порфирия, определявшее индивидуальное сущее по неповторимости полного списка его свойств (вещи «называются индивидами, потому что каждая из них состоит из такого набора собственных свойств, который не может быть тем же ни в одной другой [вещи]»
[18]). Если в Комментарии к Порфирию Боэций приводит и обсуждает это понятие без всякой критики, то в трактате «Против Евтихия и Нестория» оно уже недостаточно. Чтобы адекватно выразить понятие лица, Боэций, как мы скажем сегодня, формирует новое семантическое гнездо.
К специальной терминологической работе вынуждает, по Боэцию, бедность латинского лексикона сравнительно с греческим: латинскому persona, непосредственно обозначавшему лицо, личность, отвечают два разных греческих слова, и . При этом, по прямому значению, persona передает именно (оба слова первоначально обозначали театральную маску, личину); для точной же передачи смысла – а именно она, «ипостась», выступает ключевым термином в патристическом дискурсе – желателен какой-либо другой, специальный термин. Таким термином Боэций избирает субстанцию, трактуя ее этимологически, как кальку ипостаси (sub-stantia = = под-лежащее). Подобное переосмысление субстанции – очередной существенный отход от Аристотеля; причем более полно смысловому содержанию патристической «ипостаси» соответствует, согласно Боэцию, оборот « индивидуальная субстанция». Итак, семантическое гнездо понятия личности образуют субстанция (центральный термин, сдвинутый далеко от своего аристотелианского значения), индивид, лицо (persona); итоговой же сводной формулой становится знаменитая дефиниция: «Определение личности найдено: она есть индивидуальная субстанция разумной природы, naturae rationabilis individua substantia»
[19].
Для верного понимания этой хрестоматийной формулы стоит еще учесть, что на пути к ней ориентирами для Боэция служили не только разработки патристики, но также представления римского гражданско-юридического сознания, которые связывали с понятиями лица и индивида идею «особы», «юридического лица», обозначавшегося в Риме, приблизительно с I в. н.э., тем же термином persona. Все же обстоятельства вкупе ведут ко вполне прозрачным выводам. В греческой патристике семантическое гнездо личности выражает основоустройство горизонта личного бытия, онтологически отличного от здешнего (эмпирического, наличного) бытия, и принадлежит не дискурсу метафизики, а дискурсу догматического богословия; при этом его антропологическое содержание лишь опосредованно и имплицитно. Его логическим развитием станет расширение за счет энергийных понятий, достигнутое в поздневизантийском исихастско-паламитском богословии Божественных энергий. В философии же Боэция семантическое гнездо личности выражает основоустройство индивидуального человеческого бытия; оно принадлежит дискурсу метафизики и существенно развивает его антропологию. Сравнительно с антропологией Аристотеля, антропология Боэция – значительное продвижение процесса философской индивидуации, то есть формирования метафизического концепта индивидуального человека как автономного, самодостаточного агента мышления и действия. Ее логическое развитие – полное завершение процесса индивидуации, достигнутое у Декарта, в концепте метафизического субъекта. Кратко резюмируя, с Боэцием мы на полпути к субъекту.
ГЛАВА 2. Человек Картезия
В отличие от Аристотеля и Боэция (но подобно Платону), Декарт – философ с миссией, с вестью: ему открылась некая важнейшая истина, и его мысль движима стремлением донести, продемонстрировать, утвердить эту истину-весть. Нисколько не будучи по натуре проповедником, тем паче пророком, он вместе с тем абсолютно убежден в великом масштабе своего открытия и заявляет об этом масштабе со всей уверенностью, в манере, так сказать, тихого харизматика. По Декарту, в его учении вечные вопросы человеческой мысли, фундаментальные метафизические апории, такие как существование Бога и бессмертие души, навсегда перестают быть апориями и вопросами, получая «самые строгие и очевидные доказательства». Эти доказательства «по строгости и очевидности равняются доказательством в геометрии и даже их превосходят»
[20].
Больше того, они таковы, что «никогда и никоим образом дух человека не сможет открыть лучших»
[21]. И еще того больше: учение Картезия вообще освобождает человечество от необходимости дальнейших занятий философией: «Автор в своих «Медитациях» достаточно углубился в метафизические предметы и установил их твердость и достоверность (certitude) настолько, что другим уже не стоит пытаться этого делать и напрягать подолгу свой ум размышлениями о подобных вещах»
[22]. Помимо философии, учение охватывает и естественные науки, где открывает вещи не менее великие: «Хотя люди сейчас отказываются принять это объяснение природы света, через 150 лет они ясно увидят, что оно прекрасно и истинно»
[23]. Неудивительно, что мсье Бриду, подготовивший современное издание Декарта и в своих комментариях не скрывающий восхищения его творчеством, не может как бы со вздохом не сказать и о его «безмерной амбиции». – История, однако, оправдала философа в его амбициях, хотя при этом вовсе не подтвердила львиную долю его открытий (за важным исключением математики). Многосмысленная ситуация! Не только упомянутое «объяснение природы света», но и все почти декартовы объяснения физических, физиологических, психических явлений оказались фантазиями, «более строгие, чем в геометрии» доказательства недоказуемых метафизических постулатов с неизбежностью обнаружили капитальные изъяны – но при всем том философская и научная мысль Европы изменила свой характер, строй, курс и начала развертываться в пространстве, организованном по Декарту, – в
декартовых координатах, как основанная им аналитическая геометрия.
Весть, что явилась Картезию в ночь 10 ноября 1619 г., была из редкого рода. Как повелось с античности, мудрецы получали и возвещали откровения вглубь, в первооснову вещей, либо прозрения вдаль, в судьбы мира; другой же цех служителей разума подвергал откровения и прозрения скептической критике, напирая на необходимость проверки и доказательства, строгих правил познания. Поздней это получило название, соответственно, онтологической и гносеологической (эпистемологической, когнитивной) установок в философии. Но весть Декарта – именно когнитивного характера, она утверждала возможность и необходимость нового рода познания, ясного, строгого и достоверного, охватывающего все вещи мира, все явления, равно чувственные и умственные. Подобная весть не столь поражает воображение, однако, как показала история, ее воздействие – в случае удачи
[24] – оказывается глубже и шире, ибо влечет обновление всей структуры и организации знания, смену самого познавательного способа, навыков действия человеческого разума: что мы называем сегодня –
переход в новую эпистему. Когда философ впервые предал перу и бумаге свою весть ( в «Правилах», 1628 г.), и еще более, когда он впервые обнародовал ее (в «Методе», 1637 г.), он уже имел и четкое начертание пути к новому знанию, принципов и положений, определяющих этот путь. На всех дальнейших этапах эти принципы и положения его учения лишь повторялись и закреплялись, приобретая большую отточенность, а также дополнительное обоснование в ответах на выдвигавшиеся возражения. В нашу задачу не входит, разумеется, прямолинейное, как в учебнике, изложение декартова учения; но, чтобы выделить заключенный в этом учении антропологический подход, концепцию человека, нам надо пристально взглянуть на его общие очертания, основоположения и установки, оценивая их sub specie anthropologiae.
Чтобы откровение о новом способе знания стало превращаться в учение, Декарту необходим был прежде всего исходный плацдарм, «малейший спасенный кусочек», как скажет Гуссерль: образчик, островок нового знания, безусловно обладающий его свойствами. Эти искомые свойства с самого начала предносились ему как те, которыми мы сегодня определяем строгое научное знание; и он резюмировал их в знаменитой формуле, унаследованной современной феноменологией: знание достоверное, ясное и отчетливое, clara et distincta perceptio (intellectio, visio, contemplatio). Формула несла у него очень емкое содержание; в частности, как он разъяснял, условия ясности и отчетливости вовсе не повторяли друг друга: « Я называю
ясным такое знание, которое налично и явно для внимательного духа…
отчетливым же такое, которое настолько четко (précise) и отлично от всех других [познанных содержаний], что объемлет в себе лишь то, что обнаруживается надлежаще рассматривающему его»
[25]. Поэтому философию Декарта открывает образцово-показательный познавательный акт, в котором добывается первый пример, эталон ясного и отчетливого, несомненного знания. Как сегодня известно каждому, первенцем и краеугольным камнем нового способа познания явилось положение:
Cogito ergo sum;
Я мыслю, следовательно, я существую. Описание акта , впервые данное в «Методе», затем повторяется с малыми вариациями во всех основных текстах. Ядро познавательного метода, главное орудие продвижения к истинному знанию, составляет, как говорит Декарт, установка радикального сомнения. Как правило, ее чрезвычайно акцентируют, следуя за самим философом, который в часто цитируемых пассажах из Части 4 «Метода» описывает ее в весьма сильных выражениях: «Если единственным моим устремлением служит поиск истины,… необходимо, чтобы я отбросил как абсолютно ложное все то, в чем я могу вообразить хотя бы малейшее сомнение… Поскольку наши чувства иногда нас обманывают, я предположил, что нет вообще ничего, что было бы в самом деле таким, как они показывают… Я отбросил все доводы, которые прежде принимал как доказательства [в математике]. И наконец, я решил считать, что все вещи, приходящие мне на ум, не более истинны, чем видения моих снов»
[26]. Стоит, однако, сказать подробней о сомнении у Декарта: на поверку, оно не так радикально, как можно решить из этого описания, и гораздо более функционально, служебно. Декартово сомнение ограничено, так сказать, и в начале, и в конце. В Части 3 «Метода» он сам пишет, что развивал установку сомнения лишь с целью отыскать несомненные основания для намечаемого строительства: «Я вовсе не подражал скептикам, что сомневаются ради того, чтобы сомневаться, и настаивают (affectent), будто они никогда не выносят никаких решений, ибо все мои цели, напротив, были лишь в том, чтобы увериться и отбросить зыбкую почву и песок, найдя глину или камень»
[27]. (Это методологическое сомнение Гуссерль затем признает вполне совпадающим с одной из главных исходных установок феноменологии, «трансцендентальной »). Когда же камень найден, и на нем начато строительство, Декарт резко ограничивает свои сомнения: мавр сделал свое дело. Об этом философ уже не заявляет во всеуслышание, но мы видим, что в отношении своей метафизики он почти полностью отвергает сомнения оппонентов (кои не все безосновательны!) и не выдвигает никаких собственных, которые могли бы вести к развитию, углублению основ учения; а в естествознании он даже обнаруживает явную нехватку критического сомнения, следуя за своими непроверенными фантазиями. В целом можно сказать, что доминирующий пафос мысли Декарта – никак не скептический релятивизм, которым всегда заканчивали адепты тотального сомнения, но прямо обратное: пафос безграничной постижимости всего, доступности всех вещей самому надежному, истинному познанию. Бесспорно, что этот заразительный, завораживающий пафос распахивающегося неограниченного простора – не для фантазий, но для постижения новых и новых подлинных истин! – крайне содействовал историческому успеху философии Картезия.
Ниже мы вернемся еще не раз к акту вывода Cogito, в нем есть целый ряд важных для нас моментов. Но сейчас последуем дальше за философом. Убедившись в несомненном существовании мыслящего Я, он желает точней увидеть и описать этот форпост истинной реальности – и очень быстро, на протяжении одного абзаца, заключает, что в нем не содержится абсолютно ничего, помимо самой определяющей его мыслительной активности. Вывод достигается путем эвристического приема, который Декарт будет применять постоянно и который можно назвать приемом мысленного отъятия: если возможно «ясно и отчетливо», не воображением, а аналитическим разумом, представить себе нечто одно существующим без другого, то это другое не принадлежит к сущности или природе первого. В данном случае, таким путем от мыслящего Я отсекаются все телесные свойства и предикаты, всякая связь с телом, а также и с любым местом и пространством: со всем порядком пространственной и материально-телесной реальности, который Декарт характеризует одним предикатом протяженности (extensio, étendue), находя его главным и достаточным. (Как сформулирует он поздней, «природу тел составляет лишь протяженность, а не вес, твердость, цвет и т.д.»
[28]. В итоге, «Я есть субстанция, вся сущность или природа которой только в том, чтобы мыслить, и которая для своего бытия не нуждается ни в каком месте и не зависит ни от каких материальных предметов … Я, т.е. душа, посредством которой я есть то, что я есть, целиком отлична от тела… и если бы его вовсе не было, она не перестала бы быть тем, что она есть»
[29]. Я или Дух, или Душа, или Мысль (Мышление) – все это у Декарта синонимы – есть лишь исключительно «мыслящая вещь», «вещь, которая мыслит»; и «дух человека не причастен ни к чему, принадлежащему телу»
[30]. Так прямое развитие философского рассуждения, где добывается первая истина Декарта, незамедлительно приводит философа ко второй истине, не менее кардинальной: к фундаментальной дихотомии Мыслящее – Протяженное, Res Cogitans – Res Extensa. Как все свои основоположения, Картезий в дальнейшем не устанет повторять эту истину, заново воспроизводя ее вывод, глубже обосновывая, шире развертывая. Он подчеркнет, что и тело, в свою очередь, всецело отлично от «души», т.е. мышления и сознания, и не нуждается в ней для своего существования, всей своей нормальной активности (и это – новаторский, неаристотелев тезис, из которого вырастает идея человека-машины, механистическая концепция телесной деятельности). Будет установлен набор свойств обеих природ: душа проста, неделима, а потому и неразрушима, бессмертна; тело сложносоставно, подвержено повреждению и разложению, смертно. Два набора не совпадают ни в чем, и формулировка дихотомии заостряется: «Две природы не только различны, но неким образом противоположны»
[31]. При этом, термин «Я» удержан сугубо за «вещью мыслящей» (ср.: «Я абсолютно отрицаю, что являюсь телом»
[32]); термин же «человек» нередко – как, скажем, в названии «Трактат о человеке» – обозначает человека телесного, и тогда то целое, которое человечество привыкло считать человеком, остается вовсе без имени; но все же чаще философ, по нуждам изложения, сохраняет имя человека для совокупности, двоицы Дух и Тело. Однако в любом случае, в дискурсе Декарта «Я» не есть «человек», а есть отделенная от всего телесного и пространственного чистая мыслительная активность, которую Он, как мы видели, полагает субстанцией; это – метафизическое Эго, или же «познающий субъект», оказавшийся столь ценным для последующей философии.
Таким образом, вторая истина Декарта вполне уже вводит нас in medias res, в средоточные идеи и темы его мысли. Но, прежде чем перейти к их антропологическому содержанию, целесообразно еще отметить некоторые глобальные черты декартова учения и, в первую очередь, увидеть его общие онтологические позиции. Задавшись этой последней целью, мы замечаем, что отношение декартова дискурса к онтологии своеобразно: он как бы уклоняется, уходит от нее по касательной. Хотя все главные сочинения философа построены как систематические, фронтальные изложения его учения ab ovo – и в их числе, в ответах на Третье возражение к «Медитациям», есть даже изложение ordine geometrico с дефинициями и аксиомами – мы тем не менее нигде не найдем отдельного свода его онтологии, хотя онтология всегда и твердо считалась основной частью метафизики, метафизикою par excellence. Это, однако, не должно удивлять нас: с самого мы подчеркивали, что уже «весть» Картезия, исходная движущая интуиция его мысли, носит не онтологический, а гносеологический характер, как весть о новом способе знания; и эта гносеологическая, когнитивная ориентация не утрачивается никогда, настойчиво проводясь философом во всех текстах. Достаточно всего одного примера: в «Началах», последнем суммарном изложении всего учения, Декарт, описывая строение «истинной философии», говорит, что первая часть ее – метафизика, «содержащая принципы познания» – а не положения о Боге, бытии и мире, как формулировала бы школьная традиция; и далее он включает в эту философию все естественные науки, приходя к знаменитой формуле: «Философия подобна дереву, корни которого – метафизика, ствол – физика, а ветви – все другие науки, сводящиеся к трем главным, медицине, механике и морали»
[33]. Отсюда явствует, что «истинная философия» понимается и строится у Картезия отнюдь не по образу привычной системы основоположений, открываемой положениями онтологическими, но как полная система познавательных принципов и установок во всех сферах реальности: на современном языке, эпистема. В подобной структуре онтология оказывается скорей имплицитной, возникающей при развертывании эпистемы, как приложение и следствие констатируемых «принципов познания». (Ниже мы вернемся к значению этого революционного
эпистемологического поворота метафизического дискурса). – Помимо того, к уклонению от онтологии, к минимизации онтологического дискурса вела и другая, внешняя уже причина. Онтология – в самом ближайшем соседстве с теологией, а в отношениях с сей последней, как широко известно, философ был до крайности опаслив и осторожен. Тут даже нет нужды в знании фактов биографии: регулярные заверения в его текстах о полном признании всех прерогатив теологии, об уважении ее границ, отказе вступать на ее суверенную территорию говорят сами за себя
[34]. Для опасений и осторожности были все основания: независимо от того, насколько открыто выражались теологические аспекты учения Декарта, это учение и по существу, и по духу радикально расходилось с христианской ( даже не обязательно католической) теологией своей эпохи. Эпистема Декарта – эпистема Нового времени, устав секуляризованного разума, который до конца отделил себя от теологии и поверяет себя, свою деятельность только собственными нормами. Чтобы убедиться в этом, достаточно беглого взгляда на концепцию Бога у Декарта и ее функцию в его учении.
«Под именем Бога я понимаю субстанцию бесконечную, вечную, недвижимую, независимую, всеведущую, всемогущую и которою сотворены и произведены я сам и все другие вещи»
[35]. Такова, по Декарту, «идея Бога», имманентно присутствующая в нашем разуме. Слишком известно, и мы не будем на этом останавливаться, что, полагая идею Бога одной из врожденных данностей мышления (ср.: «Мы не могли бы вспомнить, когда наша идея Бога была нам сообщена Богом, ибо она всегда была в нас»
[36]), Декарт прямо и быстро заключает от этой данности к существованию Бога, развивая некую версию онтологического доказательства, нисколько не новую в основной логике, однако, сравнительно с прежними версиями, смещенную более в гносеологический план, по общей природе картезианского дискурса. Философ придавал большую важность этому доказательству, и вовсе не только оттого, что, как дело богоугодное, оно могло быть свидетельством его христианской благонадежности. Существование Бога критически важно для самого декартова учения, причем в его ключевой части, концепции познающего разума. Разум имеет связь с Богом, и именно эта связь, только она, может обеспечить то, что деятельность разума, познание, доподлинно ведет к знанию истины. В самом деле, «Бог есть источник всякой истины»
[37], и способность к познанию, которую Декарт именует «природный свет», дана нам, вложена в нас Им; и отсюда следует, что «все, что мы ясно познаем как истинное, является истинным… ибо иначе у нас были бы основания считать Бога обманщиком»
[38]. Это также значит, что «истина и достоверность всякой науки зависят от знания об истинном Боге: покуда я не имею этого знания, я не могу совершенно знать что бы то ни было»
[39]. Понятийный комплекс
Бог – Истина – Разум – Познание наделяется у Декарта богатой системой логических импликаций и концептуальных взаимосвязей, в совокупности охватывающих почти весь фундамент его эпистемологии; в частности, сюда входит и знаменитая его тема о «невозможности Бога-обманщика». Нам, однако, не требуется рассматривать эту систему во всей полноте; для общей характеристики (квазиимплицитных) теологии и онтологии Декарта достаточно выделить некоторые отдельные звенья.
Заметим, прежде всего, траекторию декартовой мысли: эта мысль приходит к Богу, отправляясь, как в любом его рассуждении, от своего постоянного и единственного первопринципа, – мыслящего Я. (Ср.: «Бытие или существование нашей души или нашего мышления я принял за Первопринцип»
[40]). Затем, убедившись в существовании Бога и эксплицировав набор основных атрибутов идеи Бога, мысль весьма скоро вновь возвращается к сознанию; но она возвращается, так сказать, не с пустыми руками. Вследствие доказательно установленного существования Бога – и с некоторыми допущениями о характере своей связи с Богом (неповрежденность этой связи никаким искажением, «обманом Бога»
[41]) – сознание обретает гарантии своей
состоятельности, достаточности своих средств и критериев для актуального достижения истины обо всех вещах. После этого мысль Декарта уже больше не обращается к учению о Боге – и мы имеем полное право заключить, что лишь гарантии-то и были целью экскурсии в горний мир. Проделанный мыслью путь
Сознание – Бог – Сознание предстает своеобразным аналогом марксовой операции
Товар – Деньги – Товар, а Бог выступает источником произведенной «прибавочной стоимости» – кардинального атрибута истинности всех ясных и отчетливых содержаний сознания (разума). С приобретением этого атрибута, разум становится способен к полностью самостоятельному осуществлению высшей цели своего существования, которую «весть» Декарта с самого начала утверждала в построении «совершенной науки обо всем множестве вещей». Что же касается Бога, то при всей важности Его роли как единственного источника и гаранта полноты возможностей разума, нельзя не увидеть, что по существу эта роль есть роль гаранта собственной ненужности: возникающая картина реальности включает существование Бога лишь в качестве некой «закадровой предпосылки», формального разрешения на существование всего происходящего. Само же происходящее, весь мир – арена деятельности разума, всецело полномочного и действующего по собственным законам, сколь бы философ ни добавлял, что эти полномочия и законы – от Бога. Бог Декарта – внешний и бесконечно удаленный гарант истины, вытесненный за пределы всего процесса существования мира и самоосуществления мыслящего разума. Естественно, что, продолжая развиваться в декартовой установке истинности и достаточности своих законов – и достигая блестящего прогресса на этом пути – научный разум все менее ощущал нужду во внешнем гаранте. Наследником Картезия не мог не стать Лаплас, который уже полностью «не нуждался в этой гипотезе».
Итак, теологические позиции Декарта раскрываются как позиции деизма и секуляризации мысли. Что касается онтологических позиций, то они менее революционны. Декарт не имел здесь новых идей, и мы видим, как его дискурс примыкает к тем руслам и концепциям, что могли представляться близкими, созвучными его эпистеме. Очевидно, что онтологической базой для утверждения Богоданных, укорененных в Боге – в этом смысле, Божественных – способностей и прав разума могла хорошо служить онтология мира-в-Боге, восходящая к христианскому платонизму классической патристики и не столь задолго до Декарта мощно и впечатляюще развитая Николаем Кузанским. Декарт знал сочинения Кузанца, упоминал их, и в истории мысли их имена рядом, как имена ключевых фигур в становлении новоевропейского мировоззрения. Но если в развитии установок секуляризации Декарт уверенно уходит вперед, то в области онтологии его мысль – скорей вариации на темы Кузанского, темы онтологии мира-в-Боге (что, конечно, объясняется вторичностью и имплицитностью онтологии в его дискурсе). Как известно, онтология мира-в-Боге или
панентеизм, принимает, что вещи и явления тварного мира наделены идеальной сущностью, которою они причастны Божественному бытию, суть в Боге; и соответственно, мир в целом также присутствует в Божественном бытии своей сущностью, которая и есть мир в Боге. Суждения и положения в текстах Декарта, несущие онтологическое содержание, как правило, согласуются с этой онтологической парадигмой, а некоторые даже воспроизводят ее типичные формулировки: так, он упоминает «семена истины, сущие в наших душах» (вариация патристического понятия «семян-логосов»), говорит, что «Бог, творя меня, вложил в меня эту идею [идею Бога] как печать мастера на своем изделии»
[42] (метафора с явно панентеистским смыслом) и т.п. С другой стороны, однако, панентеизм был слишком близок к платоновскому учению об идеях, ко всему руслу платонизма, с которым заметно расходилась декартова эпистема (ниже мы еще будем обсуждать их соотношение). Поэтому онтология Декарта не есть полностью ортодоксальный панентеизм, каким он дан, в первую очередь, у Кузанца; но все же, как мы увидим сейчас, эта онтология еще остается в пределах панентеистской парадигмы.
В заключительной, Шестой Медитации мы читаем: «Все, чему учит меня природа, содержит некую истину. Ибо под природой, в общем смысле, я разумею не что иное как самого Бога, или же тот порядок и устройство, какие Бог устроил в сотворенных вещах. В частности, под моей природой я понимаю совокупность всего, данного мне Богом»
[43]. Эти слова – несомненная декларация панентеизма: ибо, как заявляется здесь, «порядок и устройство, какие Бог устроил в сотворенных вещах», Декарт не отличает от «самого Бога» – т.е. признает их непосредственно сущими в Боге, Божественными. Но мы должны при этом учесть, что эти слова, как и весь текст Декарта, надо читать в гносеологическом дискурсе. «Порядок и устройство» тварных вещей суть, как выразится позднейшая философия, не эмпирические, а умопостигаемые их свойства; в своем чистом, истинном виде они открываются и существуют в познании, в разуме: принадлежат собственно к
его сущности. Акцент цитаты смещается, и ее смысл оказывается совпадающим со смыслом обширного ряда высказываний Декарта, которые все говорят одно: именно законы разума, очищенные от искажающих влияний чувственных восприятий и воображения, – т.е.
сущность разума – философ полагает непосредственно Божественными. Сущность познающего разума, его законы и нормы, порядок и устройство: по Картезию, это и есть «мир в Боге»! И мир в Боге этим исчерпывается: можно убедиться, что никаких иных содержаний Декарт в нем не предполагает. Уже здесь видно различие с концепциями панентеизма и платонизма, мыслящими мир в Боге, умопостигаемый мир, куда более расширительно, в частности, с присутствием в нем «семян» и чувственных, телесных вещей. Но более существенно другое отличие. Мы видим, что связь Бога и мира остается у Декарта сущностной, эссенциальною связью, однако эта связь теперь утверждается в специфическом гносеологическом повороте. Разум есть когнитивная инстанция, не сущее как таковое, а сущее познающее, «вещь мыслящая»; и это значит, что сущностная связь Бога и мира актуализуется в познании и есть существенно
когнитивная связь. – В итоге, онтологическая позиция Декарта выступает как панентеизм, подвергнутый модуляции в гносеологию, перенесенный в гносеологическое измерение: кратко,
гносеологический или эпистемологический панентеизм.***
Из сказанного уже совершенно прозрачно, что антропология Декарта есть по своему существу анти-антропология: ибо ее исходный и главный тезис о человеке есть тезис о его отсутствии в качестве целостного единства. Мы, разумеется, имеем в виду то, что назвали выше «Второй истиной» Декарта: положение о дихотомии Res Cogitans – Res Extensa. Очевидным образом, это положение несет антропологический смысл, устанавливая фундаментальное рассечение человека. Как мы говорили, духу декартова дискурса вполне отвечало бы даже отсутствие всякого термина для совокупности двух полностью и во всем противоположных субстанций, «Мыслящей вещи» и «Телесной машины». Явившийся философу идеал абсолютно ясного и достоверного знания на всю жизнь наполнил его очистительным пафосом, стремлением до конца расчистить пути к такому знанию, убрать все помехи для совершенного познавательного акта. И он неуклонно убирает. Главная начальная задача – усмотреть, выделить саму инстанцию чистого познания, адекватного агента-исполнителя совершенного акта. Человек как целое, во всей сложности и пестроте своего состава, помыслов, восприятий, желаний… – заведомо не есть безупречный исполнитель – и философ без колебаний вычеркивает его из своей философии. В центр ставится то, что, как он находит, единственно способно нести миссию познания: мысль, с хирургической решительностью отсекаемая от всего, что не мысль – всего, связанного с чувственно-телесным, «протяженным». В дальнейшем, «покорствуя природе», то бишь, реальному положению вещей, Декарт вынуждается умерить свой пафос радикального разделения двух природ; на некоторой (достаточно поздней) стадии творчества, он обращается к описанию промежуточных явлений, что порождаются с участием и той и другой инстанции, и «Души» и «Тела». Так возникают «Страсти души», явно не самый блестящий текст философа. Ниже мы обсудим этот трактат, но сразу можно сказать, что в его цели не входит восстановление единства человеческого существа. Существующие явления никогда не рассматриваются как акты целостные, полагаемые из единого деятельного центра, но трактуются исключительно как акты встречи, контакта двух противоположных субстанций. Всегда и всюду установка философа – только установка рассечения, и антиантропология остается последним словом антропологического дискурса Декарта.
Нам же, соответственно, остается лишь обозреть части этого разъединенного дискурса как они есть: «Субъекта», «Тело», или же «Человека-машину», «Страсти», или смешанные явления. Следом за тем, мы попытаемся свести части воедино, чтобы, увидев очертания целого, достичь все же некоторой суммарной характеристики человека Картезия.
А. Субъект, или субстанциализированное сознание. Итак, исполнить миссию совершенного познания способна мысль человека, мыслящее Я. Это исходная интуиция и установка Декарта; но с самого начала в эту установку входило и важное дополнение: полноценный исполнитель миссии – только чистая мысль, та, что движется лишь по собственным законам (кои, как мы помним, Божественны и ведут к истине). В обычном же своем бытовании, мысль включает и другие активности, такие как воображение, воля, которые отличны от чистого постижения или понимания (entendement), однако тоже принадлежат к Res Cogitans и противоположны Res Extensa. Таким образом, Я, как Мысль, (Мышление) структурируется в своем содержании. Первая дефиниция в геометрическом изложении Метода гласит: «Под мыслью я понимаю все, что присутствует в нас таким образом, что мы это немедленно и непосредственно сознаем (sommes connaissants).Тем самым, все действия воли, понимания, воображения и чувств суть мысли»
[44]. Как видно из этой дефиниции (затем повторяемой в «Началах»), «мыслящий» полюс декартовой дихотомии как широкое понятие, не сводящееся к чистому познающему разуму и объединяющее все мыслительные активности, ближе всего соответствует современному понятию
сознания – с важною оговоркой, что «мыслящая вещь» Декарта, в отличие от наших представлений о сознании, трактуется как субстанция. Термин же «субъект», равно как и выражение дихотомии в форме «расщепления субъект – объект», еще не употребляются у Декарта, представляя собой позднейшее немецкое привнесение; мы будем пользоваться ими, памятуя о различии между «субъектом познания» и «субъектом сознания».
Не исчерпывая собой сознания, познающий разум есть тем не менее исполнитель высшей миссии сознания, и потому представляет собой его главную и важнейшую составляющую, его raison d’кtre. Философская дескрипция его активности, или же конституция познавательного акта, есть средоточие и ядро всей эпистемы Декарта, так что наш долг – описать основные элементы этой конституции. Все когнитивные установки Декарта направлены к идеалу строгого научного познания; однако систематический органон научного познания еще отнюдь не создан в его трудах: пред нами лишь общие черты и отдельные элементы. Выдвинув и усиленно подчеркнув идею необходимости цельного познавательного метода, философ в то же время оставил собственный метод во многом недоочерченным. Прежде всего, это касается выбора общей ориентации, общего типа когнитивного аппарата: должен ли когнитивный процесс ставить во главу угла опытные или же умозрительные критерии и средства? Как мы знаем сегодня, первый путь ведет к познавательной парадигме эмпирической и экспериментальной науки, второй же – к феноменологической парадигме познания как интенционального акта интеллектуального всматривания; и обе парадигмы обладают весьма различными свойствами и сферами применения. Дискурс же Декарта – на распутье. С одной стороны, мыслитель тяготел к изучению явлений природы, («великой книги Мира», как он выражался), к естественнонаучной проблематике, – что неизбежно склоняло к экспериментальной парадигме, но, с другой стороны, в числе его самых стойких убеждений – глубокое недоверие к чувственному опыту, его данным, и столь же глубокое доверие к внутренним нормам и законам чистого разума.
Опытная ориентация была традиционным отличием английской мысли, и поучительно видеть, как во всех контактах Декарта с ее представителями (в дискуссии с Гоббсом по поводу его Возражений на «Медитации», в переписке с маркизом Ньюкаслом) с наглядностью выступает различие мыслительных школ. Декарт-метафизик мешал Декарту-естественнику: прежде всего мешал его мысли развить необходимую и назревшую концепцию научного эксперимента, без которой уже не могло продвигаться опытное познание. Мотивы совершенно ясны: в ставимом и проводимом эксперименте чистый разум добровольно соединяется с чувствами, образуя нераздельный умно-чувственный комплекс; тогда как по картезиевой дихотомии разум всегда обязан избегать смешения с чувствами. – Напротив, с феноменологическим руслом у философа нет столь же коренных расхождений, и хотя все новоевропейские парадигмы научного познания имеют основания себя возводить к Декарту, однако у парадигмы феноменологической эти основания наиболее весомы. В когнитивных установках Картезия можно и должно видеть дальний прообраз феноменологической теории познания. Даже не всегда дальний: когда во Второй Медитации Декарт вводит понятие «умственного обозревания-обследования» (inspection de l’esprit), которое в ходе познания следует превратить из «несовершенного и смутного» в «ясное и отчетливое», когда он отличает «обозревание умом» и от «видения глазами», и от силлогистического вывода, – он уже определенно протофеноменолог. В целом же, можно согласиться, что пресловутая установка ясного и отчетливого познания оставалась у самого Декарта скорее девизом и призывом, по частоте повторений порой походя на заклинание; и феноменологический органон интенционального опыта, наследуя эту установку, вполне адекватно воплощает ее в конкретную, детальную когнитивную процедуру. Разумеется, этот органон наследует не только картезианской, но и платонической философии, и в духе последней, он вовсе не разделяет резкого декартова противопоставления мысли и «протяженности», пространства, не отвергая возможности некой ноэтической пространственности и заведомо отвергая дихотомию Res Cogitans – Res Extensa. В целом, здесь перед нами – одна из самых существенных и самых насыщенных линий в дальнейшей истории декартовой эпистемы; но за ее раскрытием, которое далеко увело бы от нашей темы, мы должны отослать к «Картезианским медитациям» Гуссерля.
Не представляя собой последовательной дискурсивной реконструкции когнитивного акта, декартова эпистемология тем не менее содержит каркас, базисные элементы такой реконструкции. Большая часть из них уже присутствует в выводе «Первой истины» Картезия, положения Cogito ergo sum. Из элементов, привходящих в дальнейшем, важен, пожалуй, всего один, который следует назвать сразу: вслед за конституцией субъекта (в главном, достигаемой с выводом Первой и Второй истин), Декарт намечает и отвечающую субъекту эпистемологическую перспективу: перспективу, в которой может осуществляться уже не только самопознание, но познание любых вещей. Закономерным образом, это –
субъективистская перспектива, в которой дескрипция реальности, после установления собственного существования, начинается с вопроса о существовании внешних вещей. Таким путем следует мысль Декарта в заключительных Пятой и Шестой Медитациях, которые открываются характерным исходным тезисом субъективистской перспективы: «Прежде рассмотрения, существуют ли вещи вне меня, я должен рассмотреть их идеи, какими они присутствуют в моей мысли»
[45]. Данная логика опять-таки не чужда феноменологической установке, и в развертываемом далее рассуждении Декарта можно даже увидеть некоторую аналогию перехода от чисто субъективистской перспективы к трансцендентальной субъективности.
Переходя от перспективы к самому когнитивному акту, мы видим, прежде всего, что его совершающее орудие, познающий разум, Декарт трактует самым традиционным образом, в зрительно-световой метафоре, укоренившейся еще до Аристотеля: это – «природный свет», la lumiére naturelle, который «естественно присутствует в наших душах». Он не находит нужным анализировать его, сближая, тем самым, с непосредственно понятными данностями, «внутренними свидетельствами» сознания (о которых скажем чуть ниже); но все же в одном из писем мы найдем не столь односложную характеристику: «Я различаю два вида природных наклонностей (instincts): одна наклонность присуща мне как человеку и является чисто разумной; это природный свет, или intuitus mentis, и им одним лишь стоит гордиться. Другая же принадлежит нам, равно как животным, и является неким стремлением (impulsion) природы к сохранению нашего тела, получению телесных удовольствий и т.п.; и ей отнюдь не всегда должно следовать»
[46]. Что касается самого осуществления акта, то наиболее детально Декарт характеризует его начальные стадии, соответствующие установке радикального сомнения. О ней мы уже говорили выше; но надо сейчас добавить, что к этим же начальным стадиям относится и еще один фактор, который Декарт явно включил в конституцию акта, лишь отвечая на возражения по поводу своего вывода Cogito. Этот фактор – еще одно немаловажное ограничение установки сомнения, помимо уже отмеченных: Декарт принимает, что в сознании присутствуют некоторые изначальные и несомненные истины, которые весьма существенны для всякого акта познания, но сами не нуждаются ни в выводе, либо доказательстве, ни даже в дефиниции, поскольку «понятны» сами по себе и из себя, без обращения к другим вещам. В первую очередь, к таким истинам принадлежат те, что необходимы для вывода Cogito: что такое сама мысль, существование, сомнение. Декарт впервые утверждает их специфический статус в Ответах на Шестые Возражения, заявляя, что они познаются «внутренним знанием, которое всегда предшествует знанию обретенному и которое присуще каждому»
[47]. Позднее в письме к Арно он добавит в их ряд также связь тела и души, при этом слегка иначе характеризуя их природу: «Что не телесная душа может двигать тело, показывается не каким-либо рассуждением или сравнением, а повседневным опытом, самым очевидным и достоверным; это одна из вещей, которые известны сами по себе и только затемняются, когда мы хотим объяснить их другими вещами»
[48]. Наконец, наиболее подробная характеристика – в диалоге «Разыскание истины». Здесь философ прямо утверждает подобные данности сознания как особый род вещей: надо «отличать вещи, что нуждаются в дефиниции, от тех, которые могут быть поняты сами по себе». И здесь же – относительно «ясное и отчетливое» описание их природы: «Что такое сомнение, мысль, существование… невозможно узнать… иначе как самому по себе и убедиться в этом знании иначе как по собственному опыту, с помощью того сознания или внутреннего свидетельства, которые каждый находит в себе, когда рассматривает что-либо… Чтобы знать, что такое сомнение и мысль, достаточно сомневаться и мыслить. Это научит нас всему, что на сей счет можно знать, и даже скажет нам больше, чем самые точные дефиниции»
[49]. Это неплохо сказано, но, конечно, позиция философа здесь зыбка и оспорима: он не оградил введенный им род вещей никакими критериями и границами – и, допустив, что существует некий фонд вещей, которые «понятны сами по себе», по сути, открыл возможность кому угодно включать туда что угодно.
Также уже с начальных стадий когнитивного процесса проявляется хорошо известная установка декартовой эпистемологии: полное отрицание «аргументации от авторитета», недопущение любой опоры на предшествующую традицию мысли. Картезию свойственно скептическое, если не прямо пренебрежительное отношение ко всем прошлым и настоящим мыслителям и их достижениям. В «Письме к переводчику», помещаемом перед текстом «Начал», он резюмирует всю историю философии весьма в стиле характеристики граждан города N Собакевичем: «первые и главные» философы Платон и Аристотель, и они равно не достигли ничего определенного (certain), с тою лишь разницей, что Платон это честно признавал, тогда как Аристотель пытался выдавать шаткое за прочное; в последующие же века «те, что хотели быть философами, по большей части слепо следовали за Аристотелем»
[50]. Но смысл указанной установки слабо связан с этим историческим скептицизмом или нигилизмом, он лежит глубже. Уже на первых страницах «Метода» Декарт заявляет: «Ни на один момент я не должен удовлетворяться мнениями других»
[51]: и суть – в этом. В конечном счете, дело не в том, насколько бесспорны выводы Аристотеля или Платона, но в том, что выводы –
мнения других, они получены ими, а не самим Картезием, – и потому не принадлежат к выстраиваемой им
перспективе субъекта. Принадлежит же к ней только то, что его собственный познающий разум усмотрел ясно и отчетливо – и это означает, что любое положение, чтобы быть принятым этим разумом, должно быть воспроизведено им самим, вместе со всем своим выводом. – Так негативная установка по отношению к философской традиции оказывается существенно позитивным и конструктивным элементом конституции когнитивного акта в субъективистской перспективе.
Вместе с тем, за этою установкой проступает и некоторая серьезная проблема. Декарт подверг деконструкции когнитивную валидность философской традиции, увидев традицию, как «мнения других», и мы признаём, что это законная позиция субъективистской перспективы. Однако, как сразу ясно, такая позиция может идти гораздо шире: точно на том же основании, в субъективистскую перспективу не должен включаться любой опыт «других», если только он не воспроизведен заново и самостоятельно в собственном опыте субъекта. (Сам Картезий отверг бы такую экстраполяцию, поскольку считал, что его Метод не следует распространять за пределы сферы научного познания, где должен сохранять права лишь обыденный здравый смысл; но с философской точки зрения, он здесь проявлял непоследовательность, и экстраполяция законна). В итоге, мы обнаруживаем, что строгое, последовательное проведение выдвинутых Декартом когнитивных принципов ведет, вообще говоря, к обособленности и отъединенности познающего субъекта от всех «других», к исчезновению у него базы общих, разделяемых с «другими» понятий и позиций, т.е. базы для межчеловеческой общности и общения. Иными словами, здесь в острой форме появляется сакраментальная «проблема Другого», оказавшаяся в центре поисков европейской философии последних лет. При этом, появление проблемы следует ставить в связь отнюдь не с гносеологией Декарта как таковой, но со всей магистральной линией развития западной мысли о человеке: уже и «человека Боэция» мы характеризовали как шаг в направлении декартовой концепции субъекта; а постдекартова метафизика, (при решающем участии Канта, но не забудем и Беркли) полностью реализовала заложенные в этой концепции возможности законченной и совершенной субъективистской перспективы. Как известно, философского субъекта, созданного этою линией, сегодня уже постигла смерть; и в числе основных причин, он пал также и жертвой собственного совершенства: его субъективность была настолько чистой и полной, что в рамках его конституции никакого удовлетворительного решения проблемы Другого, или же проблемы интерсубъективности, достичь не удалось. Ниже нам еще предстоит обсуждать этот узел проблем.
Далее, пора указать фактор, который всегда усиленно заботит Декарта: предупреждение, выявление, исправление ошибок и искажений в процессе познания. Они возможны, разумеется, во всем ходе когнитивного акта, но особенно важно уделить им внимание вначале, пока они не принесли непоправимых последствий. Картезий говорит много об ошибках; демонстрация негодности прежнего подхода к познанию, как чреватого всяческими ошибками, входит в само назначение его Метода, в его «весть». Возможные ошибки (искажения, заблуждения, погрешности…) весьма разнообразны, но есть один их главный и безусловный источник. Это – неучет фундаментальной дихотомии: несоблюдение познающего орудия, способности понимания, постижения (entendement) в должной чистоте, в изоляции от замутняющего воздействия телесно-чувственной реальности. Опасность такого воздействия существует постоянно, поскольку, согласно Декарту, способность постижения у человека имеет тройственную структуру: наряду с высшей, и даже Божественной, способностью чисто интеллектуального постижения (intellection, conception), она включает две низшие способности, воображение и чувственное восприятие (перцепции, «чувства»); и если первой способности отвечает активность разума, остающегося в своей сфере, то в действиях воображения и чувств разум входит в связь с противоположным полюсом дихотомии, телесной природой. Но лишь пребывая в собственной сфере, разум может надежно рассчитывать на достижение ясного и отчетливого, достоверного знания! Данные же воображения и чувств несут на себе свойства телесных стихий, где все темно и смутно, спутано и неоднозначно; и некритическое включение, примешивание этих данных к деятельности разума – важнейший источник когнитивных ошибок. Вновь и вновь Декарт поднимает, муссирует тему об ошибках и искажениях, присущих данным воображения и чувств, перебирает набор примеров, когда эти данные обманывают… Тема, казалось бы, очень не нова, начиная с Аристотеля, к ней обращались многие, и едва ли найдешь философа, который стоял бы за слепое доверие к чувствам, а тем паче, к фантазиям воображения, – чего же стулья ломать? Но для Картезия тема наполнена новым смыслом, новой принципиальностью: теперь здесь – один из главных аргументов в пользу его дихотомии, в пользу невозможности достоверного познания без радикального отделения «мыслящего» от «протяженного». Шестые Возражения на «Медитации» оспаривают тезис о большей достоверности понимания, нежели чувственных восприятий; и, парируя, он углубляет анализ чувственного восприятия, выделяя в его строении три ступени (мы опишем их ниже, говоря о чувствах в завершение конституции субъекта). – Итак, ошибки, вносимые в познание чувствами и воображением и придающие продукту познания свойства материальных стихий, смутность и темноту, – вот основной и важнейший вид ошибок, который должна учитывать конституция когнитивного акта.
Декарт указывает также и ряд других видов. Большая часть из них рассматривается в конце первой части «Начал», где названия глав образуют как бы сжатый перечень: «71. Первая и главная причина наших ошибок – детские предрассудки… 72. Вторая же в том, что мы не можем забыть эти предрассудки… 73.Третья в том, что наш дух утомляется, внимательно следя за всеми предметами суждения… 74. Четвертая в том, что мы передаем мысли словами, которые выражают их неточно».
[52]. Обсуждение этих видов ошибок не несет уже для философа столь важной идеологической нагрузки, но ценно для нас тем, что здесь становится конкретней и содержательней его концепция сознания. Мы видим, что представлениям детства с их стойкостью придается чрезвычайное значение; Декарт замечает, что если ошибки от воображения и чувств носят характер «замутнения» Природного Света, то предрассудки детства несут его «ослепление». Он также затрагивает в связи с ошибками и тему внимания, концентрации разума, находя, что «трудней всего для души, когда она сосредоточивается на чисто умопостигаемых предметах, которые не воспринимаются ни чувством, ни воображением»
[53]; причем и здесь причина связана с детством: она в том, что изначально, в детстве, у человека имеются только две низшие способности постижения; и т.д. Разбираемый перечень отнюдь не объявляется исчерпывающим; философ понимает и признает, что ошибки и заблуждения могут вкрасться неисчислимыми путями. Так, ко многим заблуждениям ведут страсти: к примеру, «любая страсть представляет нам то благо, к которому она стремится… гораздо большим, чем в действительности»
[54]. Обсуждает также Декарт ошибки памяти и их роль, и еще некоторые другие, – так что в итоге, анализ ошибок познания составляет у него, пожалуй, наиболее разработанный раздел в конституции когнитивного акта.
Напротив, центральная часть этой конституции, где должен быть представлен сам когнитивный механизм, который производит продукт познания, удовлетворяющий заданным критериям, не получает у Картезия систематической разработки. Тем не менее, основные принципы этого порождающего механизма все же присутствуют у него, хотя их роль и не акцентирована. Именно, в качестве таких принципов можно рассматривать выделенные нами выше «феноменологические» элементы. В основе их – понятие inspection de l’esprit (что можно передать и как интеллектуальное всматривание) и в целом, они приближают декартов когнитивный акт к интенциональному акту. Далее, существенная особенность механизма – его чисто интеллектуальный характер: если Гуссерль включит воображение в круг способностей, участвующих в интенциональном акте, то Декарт, как мы говорили, усиленно отрицает всякую положительную когнитивную роль воображения и чувственного восприятия. Детальный анализ познавательного акта во Второй Медитации приводит к выводу: «Его [познаваемого предмета, куска воска] восприятие, или точнее, действие, которым его апперципируют (on l’aperçoit), не есть ни зрение, ни осязание, ни воображение, и никогда ими не было, хотя вначале и представлялось так, – но исключительно умственное узрение, которое может быть несовершенным и смутным, каким было вначале, или же ясным и отчетливым, каким стало теперь, в зависимости от того, меньше или больше направлено мое внимание на те вещи, которые в нем присутствуют и составляют его»
[55]. Как видим, в качестве решающего когнитивного фактора Декарт здесь указывает внимание, которому в феноменологическом органоне будет отведена самая значительная роль. Наконец, итог когнитивного акта философ описывает более подробно, в особенности, в «Началах»: это – обретенная несомненная и достоверная истина, знание ясное и отчетливое, etc. Но, как часто бывает, большая подробность не совсем на пользу предмету: детализация видов и свойств истины отчасти заслоняет ведущую интуицию, согласно которой акт познания в своем итоге воспроизводит предмет в форме полной реконструкции ансамбля его смысловых, или эйдетических содержаний. (Эта интуиция выступает наиболее явно в трактовке объективного знания («Начала», 1, 45-46), приведенной частично выше). В целом же можно заключить, что у Картезия остается совсем немного до того, чтобы конституция когнитивного акта приняла законченную форму прогрессивно продвигающегося, все более прецизионного интеллектуального фокусирования.
***
Чтобы продвинуться от конституции когнитивного акта к полной конституции субъекта, напомним строение картезианского субъекта-сознания, каким оно представлено в Первой книге «Начал». По Декарту (как позднее по Канту, в целом, повторяющему Картезия), деятельность мышления двоякого рода: «Все способы мышления могут быть сведены к двум общим, один из которых заключается в апперцепции посредством понимания, а другой – в вынесении решений посредством воли. Поэтому чувствовать, воображать и даже постигать чисто интеллигибельные предметы – все это суть лишь разные способы апперцепции; тогда как желать, испытывать отвращение, убеждаться, отрицать, сомневаться суть разные виды воления»
[56]. Суждение же, по Декарту, - синтетический акт, в котором совместно участвуют и воля, и постижение. Нет нужды повторять здесь классическую и общеизвестную картезианско-кантовскую трактовку отношения разума и воли, но стоит все же указать наиболее существенные для Картезия моменты. Во-первых, воля по самой своей природе есть свободное начало, для Декарта (как и в русском языке) она почти синоним свободы, и эта свобода воли (libre arbitre), составляющая «главное совершенство человека», принадлежит к числу обсуждавшихся выше непосредственных данностей разума и опыта, не требующих вывода или доказательства. Затем, сфера воли (та сфера, где воля может осуществлять себя, вынося решения) совпадает со всем горизонтом сознания – и тем самым, она несравненно шире сферы разума, которая объемлет предметы, доступные пониманию. Говоря проще, мы вольны решать во множестве ситуаций и областей, где вовсе не обладаем пониманием. Здесь, по Декарту, коренится одна из главных причин ошибок и неверных действий человека; но философ сразу же предлагает и способ, как ее устранить. «Мы никогда не совершим ошибки, если будем судить лишь о том, что постигаем ясно и отчетливо»
[57]; а потому рецепт правильного поведения состоит в координации воли с разумом: «Природный свет учит нас, что понимание всегда должно предшествовать решению воли»
[58].
Этот третий момент в декартовой трактовке воли становится ключевым положением в развитии
этики Декарта. Занимая довольно малое место в его учении, она умещается почти всецело в рамки проблематики воли и разума. Как мы уже можем ожидать, этический дискурс также подвергается встраиванию в гносеологизированную субъективистскую перспективу. Необходимые предпосылки для этого доставляет тезис: «Воля человека такова, что по своей природе может стремиться только к добру»
[59]. В «Геометрическом изложении» Метода данный тезис включен в число «аксиом» и выражен более развернуто: «Воля направляется свободно и добровольно (ибо такова ее сущность), но при этом безошибочно, к добру, которое ясно познано ею»
[60]. Тезис означает, что Декарт примыкает к традиции, идущей от Августина и трактующей зло чисто привативно, как недостачу в наличии добра; но, неуклонно воплощая свою эпистему, философ переводит эту классическую позицию в гносеологическое измерение, так что зло у него – недостача
знания о добре. Коль скоро воля заведомо стремится к добру, зло и грех могут твориться лишь по незнанию, в порядке ошибки: «Я простираю ее [волю] на те вещи, которых не понимаю; с легкостью заблуждаясь меж них, она принимает зло за добро, или ложное за истинное. И вследствие этого я ошибаюсь и грешу»
[61]. Как видим, понятие греха, этического проступка, также переводится в гносеологический дискурс: грех – вид ошибки в познании, и как зло, так и грех равно проистекают из несовершенных познавательных актов. Такую позицию верно передает краткая формула, встречаемая у Декарта: «достаточно правильно судить, чтобы правильно поступать». Формула вызвала обвинения теологов, увидевших в ней пелагианство, утверждение достаточности собственной воли человека для спасения; и Декарт парировал обвинения обычным своим приемом, указав, что его рассуждения не заходят на территорию теологии: «То «правильно поступать», о котором я говорю, относится не к области теологии, где говорят о благодати, а только к моральной и натуральной философии, где благодать не рассматривается»
[62]. – В целом же, этический дискурс очень бегло очерчен у Декарта. Лишь незначительно детализируясь в учении о страстях, он оставляет в стороне большинство этических апорий и принципиальных проблем. Вершина дискурса, понятие добра, не подвергается анализу; любовь не рассматривается как этический принцип, оставаясь вне этики – равно как этика вне любви – и мы можем лишь заключить, что для мысли Картезия, этика – весьма побочная тема.
Оставшиеся элементы в конституции Субъекта, воображение и чувственное восприятие, включаемые Декартом в состав способности постижения, отчасти уже обсуждались нами при описании конституции когнитивного акта. Их негативная роль в этой конституции, как факторов, «замутняющих Природный Свет», – основной момент в их трактовке у Картезия; к нему достаточно добавить немногое. Что касается воображения, то нам следует осмыслить характерную черту, кратко отмеченную выше: Декарт не признает за воображением никаких положительных функций и возможностей в процессе познания – и это прямо расходится не только с обычными представлениями о «творческой роли воображения», но и с конституцией интенционального акта в феноменологии, где, по Гуссерлю, «свободная фантазия» доставляет интеллектуальному всматриванию модели, примеры, образцы, используемые для достижения ясного и отчетливого узрения смыслового облика предмета познания. Сюда присоединяется еще то, что в своем собственном дискурсе Декарт активно использует эвристический прием, который сегодня именуется «мысленным экспериментом» и заключается в анализе искусственных ситуаций, создаваемых в воображении специально для демонстрации или проверки тех или иных положений. При этом, его «мысленные эксперименты» включают ситуации как укладывающиеся, так и не укладывающиеся в рамки эмпирической реальности (пример первых – превращения куска воска во Второй Медитации, пример вторых – искусственные миры, где развертываются «Трактат о свете» и «Трактат о человеке»). – Из вопросов, встающих здесь, легче всего объясняется неприятие идеи «творческого воображения»: эта идея действительно не входит в органон научного познания (а входит лишь в более широкую картину, объемлющую процессы рождения новых идей и теорий). Вопросы же о «мысленных экспериментах» и о роли воображения в интеллектуальном всматривании глубже и интересней. Мы начинаем видеть не только близость, но и отличия в декартовой и гуссерлевой когнитологии: эти отличия лежат там, где конституция интенционального акта примыкает к руслу платонизма. «Свободная фантазия» Гуссерля должна доставлять детали к смысловой картине, эйдосу, конструируемому в умном пространстве, – и тем самым, она связана именно с платоническими элементами указанной конституции. Но Декарт мыслит интеллектуальное всматривание, работу Природного Света, более позитивистски, без примеси платонизма, – и в его конституции когнитивного акта «свободная фантазия» не нужна. В его упрощенном понимании, «воображение… есть не что иное как определенное приложение познавательной способности к телу, которое теснейше (intimement) присутствует в ней»
[63], и если для платоника воображение уносится в умный мир, то для Декарта эта направленность на тело, замутняющая познание, всегда остается главной и решающей чертою воображения. Геометрическое воображение не является исключением, ибо геометрические фигуры – отнюдь не идеальные образы в умопостигаемом мире: имея протяженность, они принадлежат к телесному полюсу дихотомии (давая, тем самым, яркий пример различия платоновой и декартовой дихотомий). Поэтому Декарт, чтобы включить геометрию в орбиту своего Метода, делает ее аналитической, обращает от фигур к уравнениям. И в свете сказанного, мы можем также сделать догадку, что и его «мысленные эксперименты» в его глазах не были деятельностью воображения: вероятно, он предпочитал относить их к чисто интеллектуальной активности, считая, что оперирует в них не телами, а уже идеями тел, что, как известно, у него, в отличие от Платона, означало понятия.
Наконец, чувственные восприятия подходят уже вплотную к границе субъектной сферы: это та часть «мыслящей вещи», которая тесней и ближе всего соприкасается и взаимодействует с «вещью протяженной». Поэтому в теме о чувствах у Декарта уже присутствует в качестве существенного аспекта анализ
физиологии чувств. Этот аспект входит и в дефиницию чувственного восприятия, данную в «Началах»: «Мы называем чувствами, или же восприятиями наших чувств… различные мысли нашей души, происходящие непосредственно из движений, которые возбуждаются в мозгу путем передачи по нервам»
[64]. Трактуя чувства как «мысли», феномены сознания, Декарт, в первую очередь, озабочен их отличением и отделением от возбуждающих их материально-пространственных факторов. Здесь его описание достигает известной убедительности и, в общем, принципиально не расходится с современными представлениями. Рецепторы, которыми снабжены органы чувств, реагируют на определенные виды явлений «протяженной» реальности тем, что формируют сигналы, импульсы возбуждения; сигналы передаются по нервам в мозг; будучи там восприняты, они вызывают те или иные реакции сознания, или «мысли». При этом, как усиленно настаивает философ, события на разных концах нервного канала коммуникации связаны меж собой только причинно-следственным отношением и никак иначе; по своей природе и свойствам, исходный эмпирический феномен и проистекающий феномен сознания не имеют ничего общего между собой. Нам понятен этот усиленный акцент: Декарт снова на страже дихотомии. Его описание, повторим, убедительно, причем, нарочито употребляя современную терминологию (рецепторы, сигналы, канал коммуникации), мы хотим подчеркнуть, что весь этот понятийный арсенал, по сути, уже имеется у Декарта, и даже не очень имплицитно. Пред нами один из примеров нового научного сознания в действии.
При всем том, в этой трактовке чувств – как и далее, в трактовке страстей – декартова фундаментальная дихотомия, конечно же, оказывается под вопросом. Оба рода явлений в самой своей природе и структуре соединяют оба полюса дихотомии, принадлежа и «мыслящему», и «протяженному», осуществляя их связь. Декарт, разумеется, анализирует эту связь (пример чего мы только что видели); но, направляя анализ на ее конкретный механизм и особенности, он полностью обходит более общий и кардинальный «кантианский» вопрос: Как возможна эта связь? Меж тем, его учение, несомненно, рождает такой вопрос. В начальных разделах этого учения все усилия прилагаются к тому, чтобы убедить в предельной дистанцированности двух природ, их абсолютном различии, в полном отсутствии у них общих свойств, вообще – чего бы то ни было общего, и в том числе, общей почвы, общей сферы действия. Тем самым – приходится заключить – для них нет и никакого места встречи, нет самой возможности встречи. В самом деле, о какой встрече может идти речь, если «протяженное» существует исключительно в пространстве, а «мыслящее» не имеет никакого отношения к пространству?
История, однако, необратима, и мысль Декарта не следует кантианской логике. В данном пункте в ней побеждает логика обыденного сознания: связь Тела и Души существует самоочевидным образом, и философу надлежит показывать и доказывать лишь то новое и непривычное, что он утверждает: а именно, полную противоположность этих двух природ. Что же касается связи, то, коль скоро сам факт ее не нуждается в доказательстве, философу остается лишь описать ее и разобрать, какова она есть. Не в сочинениях, а только в позднем письме к Арно мы нашли процитированные выше (см. прим. 48) лаконичные строки о существе одного из видов связи Души и Тела: способность Души двигать Тело Декарт относит к разряду непосредственных данностей сознания, не требующих ни доказательства, ни объяснения. О самой же связи как таковой никаких философских суждений нет, и метафизический вопрос о ее возможности не возникает у философа. Тема о связи взаимно противоположных природ, «мыслящего» и «протяженного», не получает метафизической постановки, а переводится или соскальзывает в эмпирический дискурс, начинаясь сразу с чисто эмпирического постулата: «Хотя душа соединяет нас со всем телом, она совершает свои главные функции в мозгу»
[65]. Этот неоднократно повторяемый постулат в «Страстях души» получает подробную детализацию, характер которой ясен из названия главы: «31. О том, что в мозгу существует малая железа, в которой душа совершает свои функции более непосредственно (plus particuliérement),чем в других частях [мозга]»
[66]. Названная «малая железа» есть пресловутый conarium, шишковидная железа (эпифиз), с которою связана долгая и бесславная история псевдонаучных спекуляций. Обсуждая учение о страстях, мы еще столкнемся с ней, а сейчас лишь заметим, что, постулируя такую локализацию или «седалище» (siége) для «мыслящей вещи», Декарт вновь оставляет в стороне рождаемые постулатом метафизические вопросы: становится ли мозг (или conarium) седалищем души в силу воления последней или в силу неких своих особых свойств? И какими особенными свойствами должна обладать некая точка пространства, чтобы «в ней совершались главные функции» радикально непространственной души? И насколько оправданно само утверждение этой радикальной непространственности, если душа имеет «седалище» в очень определенном месте пространства и все ее главные функции пространственны? – и т.д.
Как видим, проблематика чувственных восприятий у Декарта не менее связана с Res Extensa, нежели с Res Cogitans. Но прежде чем прямо обратиться к противоположному полюсу дихотомии, отметим еще несколько моментов этой довольно обширной у него проблематики. В небольшом подразделе в конце «Начал», Декарт дает ей сводное изложение, начиная с классификации чувств: пять перцептивных модальностей именуются здесь «внешними чувствами» и подразделяются по «тонкости» (самая тонкая – зрение, самые грубые – осязание и вкус); к ним он добавляет два «внутренних чувства», первое из которых – совокупность всех естественных потребностей, второе же – совокупность «страстей» (радость, печаль, любовь, гнев…). Здесь же дан и анализ каждого из семи чувств, сводящийся целиком к описанию их физиологических механизмов и включающий в себя известную долю примысливания и фантазий (элемент, который получит наибольший простор в учении о страстях). Этот анализ интересен для нас лишь тем, что дополнительно иллюстрирует, как представлял философ смешанные явления, «междумирье» своей дихотомии; но есть и такие моменты в теме чувств, что заслуживают упоминания по существу. В Ответах на Шестые Возражения Декарт дает содержательную характеристику структуры чувственного восприятия, охватывающую уже не только физиологию. Он выделяет три ступени этой структуры, из которых две первые отвечают вышеописанному передаточному механизму восприятия (внешнее воздействие на телесный орган и непосредственная реакция сознания на дошедший импульс), тогда как третья осуществляет оценку, интерпретацию данных разумом на базе всего предшествующего опыта: она «объемлет все суждения, которые мы, начиная с детства, привыкли делать об окружающих вещах на основе производимых ими впечатлений или движений в органах чувств»
[67]. Понятно, что добавление этой ступени – ценное углубление трактовки чувств. И наконец, весьма стоит отметить сжато развитую Картезием мысль о существовании порога, «предела разрешения» чувственных восприятий и о том, что этот порог не должен стать пределом познания. Исходя из своей идеи бесконечной делимости всего протяженного, он замечает, что за некоторым пределом части тел неизбежно делаются слишком малы, неуловимы для чувств; однако разум может и должен «судить о том, что происходит в этих малых телах… по примеру того, что происходит в телах, нами воспринимаемых,…и таким путем осмыслить все, что существует в природе»
[68]. Познание чувственно воспринимаемых тел должно происходить с помощью законов геометрии и механики, справедливость которых отнюдь не ограничена порогом чувственных восприятий. Перед нами – явно поставленная задача изучения микромира; и когда философ открывает разуму этот новый горизонт, в его тоне звучит подлинный ренессансный пафос познания: «Я полагаю, что не желать выйти за пределы зримого значит наносить человеческому разумению большой вред»
[69].
Со всем сказанным, в конституцию Субъекта осталось добавить всего единственный пункт, но этот единственный – из важнейших. Изредка употребляя этот термин, мы пока откладывали его обсуждение: декартов субъект, «мыслящая вещь» – субстанция. В историческом контексте, это положение видится естественным и неизбежным, само собой разумеющимся: ничего иного не содержала и не подсказывала философская традиция. Но ведь мысль Декарта сразу поставила себя в особое положение! Она отвергла всякую подсказку, всякую базу традиции и объявила, что принимает в свой состав не «мнения других», а исключительно плоды собственного ясного и отчетливого усмотрения. В рамках такой позиции, положение о субстанциальности «мыслящего» априори могло и не приниматься, и его принятие – философское решение Декарта, показывающее пределы его обновления дискурса и его независимости от традиции. Значение этого решения для путей европейской мысли – и собственно в философии, и в антропологии – весьма велико и будет еще обсуждаться нами. Сейчас же мы лишь рассмотрим декартов концепт субстанции в его приложении к субъекту.
Нельзя сказать, что Декарт попросту воспринял существовавшее до него понятие субстанции, уже оттого, что это понятие заметно варьировалось (как мы, в частности, видели при обсуждении субстанции у Боэция). В его трактовке, понятие несет уловимую печать его учения, печать гносеологического поворота философского дискурса. В самом деле, вот дефиниция, данная им в Геометрическом изложении: «Всякий предмет, в котором, как в своем подлежащем (sujet) непосредственно пребывает или чрез посредство которого существует некоторый постигаемый нами предмет, т.е. некоторое свойство, качество или атрибут, реальную идею коего мы имеем в нас, именуется субстанцией»
[70]. С одной стороны, мы здесь вполне в русле классической этимологизирующей трактовки (субстанция = sujet = подлежащее); однако эта трактовка теперь встроена в объемлющий контекст процесса познания, в котором главная инстанция – познающий разум, субъект. По сравнению с дискурсом Аристотеля, как равно и Боэция, роль субстанции оказывается более формальной и служебной: она требуется для инвентаризации продуктов познания, т.е. всевозможных свойств явлений – как
то, что способно быть носителем, «седалищем» свойств, как подлежащее или «имя существительное» в грамматике философского дискурса, к которому могут относиться атрибуты, «прилагательные». К такому смыслу понятия толкает и пояснение, следующее сразу за дефиницией: «Ибо у нас нет никакой иной идеи субстанции, точно говоря, кроме того, что она – это вещь, в которой формально существует то, что мы постигаем или то, что объективно присутствует в какой-либо из наших идей»
[71]. Этимологической, или «грамматической» дефиниции, как известно, равносильна другая столь же традиционная дефиниция субстанции как самодовлеющего сущего; и ее мы также находим у Декарта: «Когда мы постигаем субстанцию, мы постигаем лишь вещь, существующую таким образом, что для своего существования она нуждается лишь в себе самой»
[72]. В такой форме – напомнили философу – дефиниция имеет теологическую некорректность; и он охотно сделал в сторону теологии реверанс, ничуть не вредящий его деистической установке: субстанция нуждается для своего существования лишь в себе самой – и, конечно же, в изволении (concours) Бога. Сам Всевышний – единственная субстанция, для которой дефиниция справедлива без оговорки; и все устроение реальности по Картезию объемлется тремя основоположными субстанциями: Бог – Дух («субстанция, главный атрибут и природу которой составляет мышление») – Тело.
Понятие субстанции дает большие удобства в проведении философских рассуждений, открывая широкие возможности для формализации философского дискурса, превращения его в алгебру понятий. Ко времени Декарта, философия знала это уже давно; но она еще недостаточно знала и сознавала, что платой за удобство оказывается бесплодие философии, утрата дискурсом творческой, порождающей способности. К чести Картезия, роль схоластической алгебры субстанций в его дискурсе невелика
[73]. В частности, это сказывается в том, что деления Я на более частные субстанции он не вводит: ни воля, ни понимание (апперцепция), ни виды апперцепции (интеллектуальное познание, воображение, чувства) не квалифицируются им как отдельные субстанции, но выступают как активности, или же предикаты Духа как единой субстанции.
В. Тело-Машина. При изучении субъекта, фундаментальная дихотомия Декарта привлекается им постоянно, анализируясь, по преимуществу, в своем духовном полюсе. Тема о теле, телесности человека также открывается обращением к дихотомии, однако теперь пристальнее рассматривается ее «протяженный» полюс. Прежде всего, вновь и вновь категорически подчеркивается непричастность тела к мышлению: «Тело не может мыслить… Мнение, что части мозга участвуют вместе с духом в образовании мыслей, не основано ни на каких положительных доводах»
[74]. Однако декартова дихотомия несет в себе не только отрицательные, но и важные положительные утверждения о теле. Как равноправный полюс дихотомии, тело – самостоятельная субстанция, т.е. существование тела не зависит ни от каких внешних для него инстанций в тварном мире, и в первую очередь – сюда и направлено острие тезиса! – не зависит от противоположного полюса дихотомии, Духа, Я. Но что такое «существование тела»? Как полюс дихотомии, «тело» означает
все в человеке, что не есть мышление, – и оно понимается, тем самым, отнюдь не как одна лишь материя телесности, или совокупность телесного состава человека, но как телесность деятельная, функционирующая, как тело с работой всех его внутренних систем (коль скоро эта работа не есть мышление). Соответственно, «существование тела» есть нормальное, обычно наблюдаемое существование живого тела, попросту говоря,
жизнь тела: но только с исключением всех проявлений мышления. В силу дихотомии, подобное существование не только возможно, но именно оно и есть – род, способ существования телесной субстанции. «Если бы в нем [теле] не было никакого духа, оно не прекратило бы никаких видов движений, какие совершает сейчас, когда оно движимо не приказаниями воли (тем самым, и не посредством духа), а только посредством системы своих органов»
[75]. Очевидно существенное отличие от Аристотеля и всей восходящей к нему традиции: дух (душа) не требуется, чтобы сделать тело «одушевленным», живым; душа – источник не самой подвижности тела, а только некоторых его избранных активностей. По современным представлениям, это близко к тому, чтобы относить центральную нервную систему к одному полюсу дихотомии, а систему вегетативную – к другому. Можно тут вспомнить одну цитату, принадлежащую еще позапрошлому столетию: «Вопрос о взаимодействии духа и материи есть, как всякому известно, больное место картезианского дуализма»
[76].
Итак, анализ телесного полюса дихотомии приводит к любопытным выводам. По ближайшем рассмотрении, этот полюс предстает как оригинальный философский конструкт: тело человека, полностью действующее, живущее, однако взятое вне мышления, лишенное мышления. Этот конструкт и есть знаменитое
тело-машина, декартова идея тела. «Я рассматриваю тело человека как машину, построенную и состоящую из костей, нервов, мышц, вен, крови и кожи»
[77]. Нам понятна теперь философская основа этого тезиса. Практическим же воплощением его служит «Трактат о человеке», представляющий собой детальную дескрипцию картезиева конструкта, тела-машины в его работе. Как физиологическая модель середины 17 в., конструкт имеет сегодня лишь узкий историко-научный интерес, и для нас нет никаких причин входить в его содержание. Отметим только, что для Декарта, для его научных позиций, имела немалое значение сама машинность, т.е.: механичность модели: построение полного механического описания человеческого организма, со всеми его функциями, было несомненным триумфом механики как Универсальной Науки о Мире. Но и механицизм Картезия нам незачем обсуждать подробней; нас занимают лишь философско-антропологические аспекты декартова подхода к телу.
Прежде всего, выяснив декартовскую идею тела, мы можем до конца уяснить и общее отношение философа к телесной стихии. Уже подчеркнутая «антиантропологическая» установка рассечения человека со всей определенностью ставит его мысль в русло дуалистической антропологии. В этом древнем русле, едва ли не древнейшем из всех, идущем от орфиков и пифагорейцев, все учения и концепции противопоставляли дух или душу телу, плоти, возвышая первое над вторым и соревнуясь между собой в резкости их противопоставления; причем основанием для возвышения духа всегда служил постулат о его Божественности, той или иной форме его причастности Божественной природе. Все эти родовые черты мы видим и у Декарта, так что его позиция, на первый взгляд, вполне традиционна, типична для данного русла – и может там помещаться где-то среди учений, достаточно крайних по резкости рассечения человека и вместе с тем, наиболее философски зрелых, отрефлектированных. Наилучший образец таких учений в до-декартовой философии – неоплатонизм. Нас тянет к выводу, что ближайшим соседством для антропологии Декарта должна быть антропология Плотина, и к этому выводу еще подталкивает тот факт, что плотинов дуализм мы в свое время характеризовали почти теми же выражениями, как сейчас – «антиантропологизм» Декарта: «дуалистическое рассечение в неоплатонизме столь глубоко, что в неоплатоническом дискурсе собственно нет человека!»
[78]– Однако пока наши типологические аргументы были слишком общего сорта, au vol d’oiseau. Если же обратить внимание на конкретные особенности и мотивации декартовой дихотомии человека, то родство с Плотином, как и со всей исторической традицией антропологического дуализма, драстически уменьшается. Едва ли не самой яркой, выпуклой чертой традиции всегда было негативное отношение к телу и плоти. Оттенки отношения варьировались, в них могли быть враждебность, гнушение, презрение, простое пренебрежение, суеверная боязнь… Но в спектре негативных характеристик были непременны религиозно-онтологические и аксиологические оценки. Антропологическая дихотомия всегда означала установление иерархии: два полюса человека, его духовная и телесная природы противопоставлялись как высокое и низкое, лучшее и худшее, достойное и недостойное, ценное и менее ценное… Имманентной чертой традиции была религиозно-онтологическая, аксиологическая и, как правило, этическая девальвация тела. В философии это порождало и питало тенденцию к спиритуализму, пониманию философии как философии духа, итинерария духа, устремляющегося прочь от плоти. И именно у Плотина, в его обращенном к духу призыве «бегства в дорогое отечество», спиритуалистический пафос и порыв достигают наибольшей силы. Возвращаясь же к Картезию, мы видим, что сходства, действительно, закончились. Почти ничего из описанного у него нет, но зато есть совсем иные черты. Главным и первоочередным образом, дихотомия Декарта несет эпистемологическое содержание. Философ не отвергает и онтологического аспекта: как выше мы говорили, его «гносеологический панентеизм» находит законы чистого разума непосредственно Божественными, тогда как за другим полюсом дихотомии, конечно, не утверждается подобных свойств. Тем самым, дихотомия имеет и иерархический характер. Но и то, и другое, и онтологичность, и иерархичность, для Декарта – достаточно побочные черты. У него нет никакой тенденции усиливать, акцентировать иерархичность, нет девальвации и принижения тела, тем паче, гнушения, презрения. Суть дихотомии – Картезий прав – вполне ясна и проста: из двух ее полюсов, познающим орудием служит исключительно один, дух, и всякое его смешение с другим полюсом, телом, – помеха великой миссии познания, независимо от того, хорош или плох сам по себе этот другой полюс. В Ответах на Вторые Возражения философ говорит, что те, кто утверждает причастность тела к мышлению «достаточно часто испытывали от него [тела] помехи в своих действиях, и это [их позиция] подобно тому, как если бы некто, с детства имевший оковы на ногах, решил, что эти оковы – часть его тела, и они ему необходимы, чтобы ходить»
[79]. Пожалуй, это – самый «анти-телесный» пассаж у Декарта, и его стиль с классическим образом оков вполне отвечает дискурсу старого спиритуалистического дуализма. Но смысл его, тем не менее, отнюдь не тот, что в традиции, он – чисто гносеологичен. Дурно не тело, а лишь чинимые им помехи познанию: ничего иного мы не прочтем нигде у Декарта.
Но надо пойти и еще дальше. Великая миссия познания, требуя отсечения всего телесного от
орудий познания, одновременно ставит это же телесное, протяженное в центр как
предмет познания. Разум должен быть строго отделен, очищен от всех влияний тела и мира – чтобы посвятить себя совершенному познанию тела и мира. В ряде мест Декарт эксплицирует тот порядок осуществления миссии познания, которому следует его Метод: Установление существования Я, как Первофакта – Установление существования Бога – Познание мира. Очевидно, что в данном порядке две первые задачи для него выступают как вполне обозримые, и их выполнение целиком достигается в его главных текстах; последняя же задача мыслится безграничной. Но еще более существенно другое: в рамках миссии, взятой в целом, две первые задачи неизбежно видятся как подготовительные по отношению к третьей, служащие созданию для нее базы и предпосылок. И это впечатление не обманывает. Сколь бы ни была значительна Philosophia prima, созданная Декартом, но в его эпистеме она имеет лишь ограниченные задачи, предназначаясь быть прологом, преддверием к главному и безграничному делу разума – всестороннему познанию мира, ведущему к пользе человека и общества. (Принцип пользы, полезности также занимает видное место в эпистеме). Сильней всего этот мотив звучит в разговоре с Бурманом: «Не надо особо погружаться в метафизические предметы… достаточно получить о них общее представление и запомнить выводы, иначе дух слишком удаляется от чувственных и физических предметов, а именно их рассмотрение всего желательней для людей, ибо в нем они бы в изобилии нашли то, что полезно для их жизни»
[80].
Без натяжки можно сказать, что Декарту предносилась картина познания как технического прогресса, служащего источником улучшения нравов, общества и человека: картина, составляющая идеал новоевропейской цивилизации. И едва ли мы ошибемся, сказав, что эта ориентация, а точней, переориентация разума и познания – самое революционное в его учении. Мы постоянно говорили, что новизну его мысли составляет гносеологический или эпистемологический поворот, перевод метафизической проблематики в эпистемологический ракурс, или дискурс. Сейчас, однако, можно заметить, что для истории мысли было не новым, а достаточно традиционным выражать назначение разума и человека на языке познания; и исполнение этого назначения весьма часто – к примеру, во всей платонической традиции – описывалось как идеальное познание-созерцание. Кардинальное отличие Декарта – именно в направленности, в целях познания! На поверку, у него происходит полный переворот, инверсия освященной веками иерархии познания: всегда и незыблемо считалось, что разум восходит от «низких истин» эмпирии – к «вечным истинам», от наблюдения обычных окружающих явлений – к созерцанию «вещей Божественных», что бы под ними ни понималось. Но разум Картезия следует обратным путем: занявшись ненадолго «вопросом о Боге» (дабы получить от Бога водительские права), он переходит, как к самому главному и серьезному, к изучению явлений. Плотин стыдился тела, в своей философии не желал входить в связанные с ним темы, даже в ущерб полноте анализа
[81], и страстно звал дух к «бегству в дорогое отечество», к Единому. Декарт же пишет подробный трактат о теле и не призывает разум ни к какому бегству, ни к какому созерцанию «вещей Божественных». Так ближайшее соседство – тоже реальное, не измышленное нами! – сочетается с полной противоположностью, причем почти в том же самом: в трактовке исповедуемого обоими гениями глубокого антропологического дуализма. История мысли – поучительное занятие… Конечно, Декарт не отрицает существования «вещей Божественных», но он устраняет их из горизонта познания – а по существу, и сознания, передав в ведение теологии, а от последней тщательно отгородившись, устроив для нее своего рода splendid isolation или почетное гетто. В результате, признание их существования оказывается простой словесной условностью, не влияющей на программу деятельности разума – и поворот разума в установку, всецело обращенную к миру, достигает успешного довершения. Этот поворот есть подлинная, коренная секуляризация мысли – поистине, коперниканский переворот! – и я убежден, что, по всей справедливости, сакраментальная формула должна быть переадресована от Канта Картезию.
Сказанное не может не иметь и прямо относящегося к нам, антропологического значения. Войдя глубже в картезианское отношение к «протяженному», к телу и миру, представив идейный контекст этого отношения, мы видим, что все это не заставляет изменять начальные общие оценки: конституируя телесность человека, с одной стороны, и его мышление, с другой стороны, как полюсы резкой бинарной оппозиции, декартова речь о человеке неоспоримо принадлежит руслу дуалистической антропологии. Но в этом русле она представляет собой радикально новое, революционное явление: она основывает гносеологизированный и секуляризованный антропологический дуализм Нового Времени. В терминах антропологии, его кардинальное отличие заключается в отказе от стратегии или парадигмы мета-антропологического восхождения-трансцендирования. Об этой парадигме мы еще будем много говорить ниже, даже дадим ей, на декартов манер, «геометрическую дефиницию», однако сейчас удовлетворимся предварительной характеристикой, связывающей ее со старинным языком «восхождения». Парадигма не ограничена рамками дуализма, она описывает некоторую стратегию человека, независимо от того, мыслится ли его природа цельной или рассеченной. Сама же стратегия заключается в осуществлении устремления («восхождения») Человека к Инобытию, онтологически Иному, с финалом, мыслимым как претворение в Иное, или что то же, трансцендирование, актуальная онтологическая трансформация. Реализация стратегии – онтологический и мета-антропологический процесс, который проходит человек, либо, в дуалистических концепциях, некая выделенная, избранная часть его природы, «душа». Явно или неявно, данная парадигма всегда была «подлежащим» не только христианского, но и значительно шире, религиозного мироотношения как такового. Коперниканский переворот Декарта выводит разум из этой парадигмы. В декартовой эпистеме разум не совершает онтологического трансцендирования; он изначально божествен в достаточной для себя мере и таковым остается. При этом, он может и должен усовершаться, очищая себя; и установка «очищения» есть совпадающий элемент с парадигмой восхождения. Но смысл установки уже другой: очищение декартова разума – не онтологическая, а сугубо эпистемологическая процедура, которая в дальнейшем будет осмыслена Кантом как формирование «трансцендентального» разума, или же некое сугубо когнитивное трансцендирование. (Как мы уже не раз видели, сдвиг или модуляция дискурса из онтологии в эпистемологию – типичная черта в соотношении учения Декарта с предшествующей мыслью). – Т.о., принятие, усвоение новой эпистемы несло с собою отход европейской мысли от базовой парадигмы онтологического трансцендирования. На языке антропологической модели, которую мы будем развивать в этой книге, это означает, что начали изменяться отношения Человека с его Границей. Подобные изменения – самые крупные из всех, какие возможны в ситуации Человека. Mein Liebchen, was willst du mehr?
С. Зона связи. Выше мы уже неоднократно затрагивали смешанные явления, в конституции которых принимают участие оба полюса дихотомии, и сознание, и тело. Сейчас нам предстоит дать сводное обозрение их сферы, и начать следует с того, какова же природа связи этих полюсов, их соединенности в человеке. Этот вопрос мы тоже затрагивали, заметив, что у Декарта нет его рассмотрения, хотя в его учении он встает как серьезная проблема:
Что такое соединение и соединенность пространственного и непространственного, отсутствующего в пространстве? Такая лакуна симптоматична, поскольку в системе понятий Декарта имелась лишь одна возможность «ясного и отчетливого» ответа на вопрос: допущение, что элемент непространственный есть действие, а пространственный – действующий агент; а это отвечало бы отвергнутому Декартом положению «тело мыслит». Но, избегая острия проблемы, философ все же пытается дать некие формулы или образы для характеристики природы связи. В Ответах на Шестые Возражения он вводит различие между «единством природы» и «единством состава (composition)», понимая под вторым единство двух разных элементов сложного целого; и утверждает, что мыслящее и протяженное «обладают лишь единством состава, в том смысле, что они сочетаются в одном человеке, как кости и плоть в одном животном»
[82]. В Ответах на Возражения Арно найдем также тезис, что «дух субстанциально соединен с телом, [однако] это субстанциальное соединение не мешает тому, чтобы можно было иметь ясное и отчетливое понятие духа как полного в себе предмета»
[83]. Вводимое здесь понятие субстанциального соединения (union) двух всецело различных субстанций не слишком ясно, но по контексту можно предположить, что имеется в виду включенность обеих субстанций в «сущность человека», и в этом случае «субстанциальное соединение» имеет тот же смысл, что и «единство состава». Не однажды Декарт указывает, что связь духа и тела в его учении рисуется иначе, чем в платонизме (современники сразу же начали сближать новую дуалистическую концепцию с древней). По Картезию, эта связь тесней, она не соответствует платоническим образам души, использующей тело лишь как пристанище: «Я не просто помещаюсь в теле, как кормчий на судне, но я связан с ним теснейше, слит так, что составляю с ним одно целое. Иначе, когда мое тело поранено, я бы не ощущал боли… но замечал бы рану лишь пониманием, как кормчий замечает поломку в судне»
[84]. На этой цитате стоит немного остановиться. Платон не счел бы ее состоятельным возражением против его представлений о связи духа и тела: ощущения, о которых говорит Картезий, не принадлежат духу в платоновском понимании, для платоника и рана, и боль от раны – дела тела, и никакой тесной связи двух полюсов эта боль не доказывает. Не увидим и мы сегодня в этом доводе оснований считать, что какая-либо из двух позиций истиннее другой: несостоятелен любой дуализм, какую бы бинарную оппозицию он ни устраивал из человека. Но мы заметим, что из приведенных слов ясно выступает действительное открытие Декарта: в отличие от Платона, он включил в дух данные чувств, включил все, что мы знаем сегодня как
содержания сознания; и то, что получилось, назвал «Я». Это означает, что Декарт, в самом точном смысле, открыл сознание; тогда как Платон еще сознания не открыл.
В целом, однако, смешанные явления – та сфера, где философу менее всего удается воплотить свою эпистему. Их описание далеко от строгого следования Методу, когда прежде всего полагаются немногие Первые Принципы, и затем все утверждения «ясно и отчетливо» выводятся из них, и только из них, по сформулированным правилам. Применяемая здесь эпистемология, равно как и метафизика, почти не выходит за рамки старого аристотелизма; а, в основном, Картезий здесь вынуждается быть попросту эмпириком. Хуже того: эмпирического материала постоянно недостает, и тогда описание дополняется примысливанием, которое у Декарта, увы, гораздо чаще представляет собой неумеренную фантазию, чем обоснованную научную интуицию. Аристотелев подход выдвигается с самого начала: классификация смешанных явлений, структурирование всей области их производится на основе классической оппозиции Стагирита, действие – претерпевание. Новая наука не будет так подходить к описанию явлений, но мы видим, что к старому школьному подходу тут толкает сама декартова дихотомия: требуется описать явления, которые определены как явления встречи, соединения двух природ; и наиболее общим принципом кажется разделять такие явления по тому, какая из участвующих природ служит действующей, и какая – претерпевающей.
Действие души – воления (volontés), и к смешанным явлениям принадлежит один их определенный вид: «Есть два вида волений. Один суть действия души, в ней же и завершающиеся, как то, воление любить Бога или вообще приложить мысль к некоторому нематериальному предмету; другие же суть действия, завершающиеся в теле, как то, воление прогуляться, при котором ноги двигаются и начинают ходьбу»
[85]. К волениям, входящим в круг смешанных явлений, Декарт относит и воображение, хотя с оговоркой, указывающей на долю произвола в таком решении, поскольку в структуру воображения входит восприятие, элемент пассивный: «Когда душа воображает … ее восприятия зависят, главным образом, от воления, создающего апперципируемые вещи, и потому [эти явления] рассматриваются скорее как действия, нежели как страсти»
[86]. Что касается претерпеваний души, то они имеют такие же два вида: душа может претерпевать воздействия со стороны себя самой, либо со стороны тела. Оба вида объемлются термином «восприятия» (perceptions). Кроме того, в согласии с с изначальным аристотелевским смыслом понятия, все претерпевания как таковые могут обозначаться и термином «страсти» (passions): «Можно называть страстями вообще все виды наших восприятий и познания, поскольку часто не душа делает их такими, каковы они суть, и она всегда получает их от вещей, ими представляемых»
[87]. Декарт, однако, предпочитает дать термину более узкое значение, выделяющее такие претерпевания души, в которых роль тела в некоем смысле минимизирована или опосредована; для них он всегда использует сочетание двух слов, «страсти души», а не просто «страсти». «Восприятия, относимые нами только к душе, суть те, действие которых ощущается непосредственно в самой душе и для которых не известно никакой ближайшей [имеется в виду, телесной] причины: таковы чувства (sentiments) радости, гнева и подобные им, которые возбуждаются в нас иногда предметами, затрагивающими наши нервы, а иногда также иными причинами… Только этот род восприятий я называю страстями души»
[88]. Из всей сферы смешанных явлений, именно на «страстях души» Декарт сосредотачивает главное внимание, посвящая им особый трактат. Нам в ретроспективе ясна тенденция, сквозящая в этом выделении: мысль философа пробивается к тому, чтобы нащупать и выделить, очертить некую область, которая в позднейшей психологии будет областью «душевных явлений».
Понятно, однако, что «страсти души» не исчерпывают всех претерпеваний души, связанных с телом. Общим термином для всей области этих претерпеваний служат «чувства» (sens): Декарт принимает широкое значение термина, следуя за языком, который в большинстве европейских наречий, включая русское, именует «чувствами» и внешние перцепции, и душевные эмоции, и потребности (как мы помним, две последние категории у Декарта носят название «внутренних чувств»). Перечисление всего содержимого этой области найдем в «Началах»: «Есть определенные вещи, которые мы ощущаем в нас и которые нельзя отнести ни только к душе, ни только к телу, а можно отнести лишь к их тесному соединению: таковы чувства жажды, голода, эмоции и страсти души, которые зависят не только от мысли, как то, эмоция гнева, радости, печали, любви и т.д.; таковы же все чувства – света, цвета, звука, запаха, вкуса, тепла, твердости и все прочие качества, относящиеся к осязанию»
[89]. В совокупности с «волениями, завершающимися в теле», данное перечисление составляет полное описание области смешанных явлений. Представленная классификация этих явлений, как замечает и сам Декарт, далеко не обладает четкостью и однозначностью: в первую очередь, оттого что в сфере феноменов сознания сама оппозиция
действие – претерпевание зыбка, неоднозначна и часто попросту условна. В очень многих явлениях роль души может описываться двояко, как в терминах действия, так и в терминах претерпевания: «Хотя для души хотеть (волить, vouloir) чего-то является действием, можно также сказать, что здесь у нее страсть воспринять то, чего она хочет. Здесь восприятие и воление суть одно и то же, и выбирается имя, отвечающее более благородному, так что обычно тут говорят не о страсти, а о действии»
[90]. От полной условности классификацию ограждают, однако, некоторые актуальные отличия волений души от ее страстей: «Воления… целиком во власти души, и тело может лишь косвенно изменять их, страсти же [в широком смысле любых претерпеваний], напротив, всецело зависят от порождающих их действий, и душа может лишь косвенно их изменять, за вычетом тех, причина которых она сама»
[91].
Рассмотрение феномена «страстей души» в общем контексте учения о душе (духе, Я, сознании) – центральная задача психологии Декарта и ее главное содержание. В решении выделить эти явления, положив их в основу особого антропологического раздела, промежуточного между учением о духе и учением о теле, философ достаточно традиционен; начиная с античности, общие представления о человеке, антропологические концепции и учения практически всегда выделяли меж сферами Разума и Тела, Плоти некую промежуточную область. Она долго не могла получить четких границ и даже определенного названия, пока наконец в рамках христианской трихотомии человека за ней не был закреплен аристотелев термин «душа», понимаемый, однако, в значительно измененном и суженном смысле. Учение Декарта – важный, но еще далеко не завершающий этап в этой эволюции души и конституции психологии: «душа» еще сохраняет у него старое значение, однако в понятии «страстей души» и в развитии учения о страстях его мысль, как мы отмечали, уже продвигается к оформлению особой предметной области «душевных явлений». Чтобы оценить это продвижение, следует рассматривать психологию Декарта в сопоставлении с двумя референтными дискурсами, между которыми она располагается в истории предмета: разумеется, с воззрениями современной научной психологии, но также и с позициями древней практической психологии христианской аскезы, в рамках которой было впервые развито учение о страстях.
Трактат о страстях открывается и строится как строгий научный текст, желающий дать систематическое описание-исследование определенной области явлений. Эта область прежде рассматривалась с сугубо ошибочных позиций, и свой подход Декарт представляет всецело новым: «Я должен буду писать так, как если бы рассматриваемые предметы до меня никто не затрагивал»
[92]. По правилам своего Метода, он начинает с построения эпистемологической базы: определяется круг объектов и процессов, устанавливаются главнейшие отношения между объектами, указываются главнейшие механизмы, управляющие процессами. Вводятся основные понятия, подлежащие изучению: воления, восприятия, страсти в широком значении, страсти души; устанавливаются взаимосвязи и наиболее общие свойства этих понятий. Далее, вслед за созданием базы ставится и решается первая крупная проблема: построение полной системы страстей души. Решение осуществляется с помощью единого принципа: поскольку «главные и стандартные (ordinaires) причины страстей… предметы, действующие на чувства, … следует лишь рассмотреть по порядку, какими различными способами наши чувства способны возбуждаться действующими на них предметами»
[93]. В итоге, выстраивается обширная номенклатура страстей, которая дополняется их классификацией и наделяется богатой структурой. Главный принцип структуры – выделение шести «первичных» (primitifs) страстей: восхищение, любовь, ненависть, желание, радость, печаль; «все прочие суть комбинации каких-либо из этих шести, либо их разновидности»
[94]. Каждая из первичных страстей подвергается отдельному анализу; для первичных страстей, а также и для большинства остальных описывается их внутренний механизм, посредством которого они порождаются и действуют. Отдельно описываются и систематизируются внешние проявления страстей. Легко согласиться, что названные результаты образуют солидный фундамент учения о страстях. Успешно завершив возведение этого фундамента, в заключительной части трактата Декарт переходит к рассмотрению более частных проблем: особенности отдельных страстей, способы и стратегии обращения души со своими страстями, возможности воздействия на них, и др.
Это резюме трактата не стилизовано нами специально под описание современной научной работы: текст Декарта действительно написан так, он подчинен правилам организации научного дискурса, почти в современном понимании этих правил. Тем не менее, резюме еще далеко не дает полного представления о трактате. Мы описали задачи, которые ставит и решает текст: так сказать, уровень замысла. Не описали же мы пока, как текст решает эти задачи – т.е. уровень исполнения. И едва мы переходим на этот уровень – за наукообразным фасадом открывается самая причудливая картина. Дело в том, что, желая построить научное учение о страстях, философ начинает применять свой принцип дихотомии души и тела в такой сфере, где он теряет почву реальности и становится измышлением, влекущим на путь грубых фантазий. Дихотомия Декарта была философским (эпистемологическим) открытием, проложившим путь к конституции нужнейших для философии и психологии концептов – Эго, Сознание, Субъект. Но а сфере учения о страстях философ принял ее в качестве естественно-научного принципа – и на базе этого принципа принялся строить прямолинейные описания того, как именно «душа» эмпирического человеческого существа претерпевает действия «тела», рождая определенные страсти. То была ошибка, которую хорошо выразил некогда Антоша Чехонте: если можно сказать «я друг этого дома», это еще не значит, что можно сказать «я друг этого кирпичного дома»; наука же называет такую ошибку употреблением понятия или приема вне сферы его корректного применения. Далее, чрезмерная вера Декарта в свою дихотомию совокупилась с чрезмерной же верой его в механику – и, увы, весь «научный аппарат» его учения о страстях есть плод сего нездорового совокупления. Незадолго до текста о страстях, в начале 40-х годов, был написан «Трактат о человеке», где Декарт развил механико-физиологическую модель тела-машины: модель затейливого переплетения системы разнообразных трубок, по которым под действием чисто механических сил циркулируют разнообразные жидкости, пары, тонкие и грубые частицы. В учении о страстях философ распространяет эту модель с описания телесных функций на функции сознания. Результат мог быть только плачевным: если в первом случае возникает любопытный и даже, пожалуй, героический пример законченного механистического редукционизма, то во втором редукционизм соединяется с полным вымыслом. В трубочную механику требовалось включить прямые переходники от тела к душе, аналоги перцептивных механизмов в модели тела. Но для эмоций и страстей подобных аналогов не существует, и в модель вводятся чисто фантастичесие элементы: переходный пункт из одной природы в другую (уже упомянутый conarium, эпифиз, где якобы сосредоточены все функции души), а также особая предаточная среда, «некий весьма тонкий воздух или ветр, именуемый животными дэхами (esprits animaux)». Эти-то два агента и выполняют всю работу: для каждой из страстей философ измышляет свой механизм или пожалуй сценарий их совместной деятельности. В итоге же, на месте предполагавшейся научной теории страстей оказывается мыльная опера «Похождения Шишковидной Железы и Животных Духов».
Если механическая модель служит для описания внутреннего механизма страстей, то для построения их системы и установления их взаимосвязей используется по преимуществу другой дискурс, базирующийся не на данном механизме, а на непосредственном наблюдении и обычной логике. Так, восхищение Декарт ставит на первое место, в вершину всей системы страстей, на том основании, что это самая непосредственная из страстей, способная вспыхнуть до всякого познания вещи; надежда, опасение, ревность, уверенность и отчаяние объединяются вместе, в одну группу, оттого что все они выражают разные степени обладания или не-обладания некоторым желаемым благом; и т.д. Как ясно уже из этих примеров, это отнюдь не дискурс, строимый на философских концепциях или научных доказательствах, и ни из каких немногих общих Первоначал, как следовало бы по Методу, декартова система страстей не выводится. Гораздо ближе мы здесь к дискурсу простого морализма, «житейской мудрости», который имел расцвет во Франции и во всей Европе в 17 в. В этом жанре большой простор субъективности, и важное значение приобретает личность философа; лучшие образцы жанра – те, в которых за текстом ощутимы высота духа, пронзительность видения человеческой натуры, особое богатство опыта… Но этих свойств не демонстрирует текст Декарта; пред нами скорее морализм средней руки – и средней души: во всем сквозят умеренность, добропорядочность, осторожность, так что в аспектах личных Декарт тоже кажется близок к Канту (хотя тот несравненно прямодушнее).
Наконец, как мы замечали, следует сопоставить декартов опыт психологии, в качестве ближайших референтных дискурсов, с научной психологией и с аскетикой. Сопоставление с первой уже, по сути, проделано; стоит разве что добавить один момент. При создании новой научной области, одна из главных задач – отыскание, формирование, конституция системы или хотя бы отдельных базовых понятий данной области, выражающих специфическую, несводимую природу ее явлений. Но подход Декарта, принципиально редукционистский, не ставит такой задачи, и это с самого начала ограничивает его возможности на пути к научной психологии. Что же касается аскетики, то сам Декарт не раз отмечает, что в трактовке различных страстей и их отношений его учение отличается от принятого церковного учения о страстях; последнее же, в целом, следует подходу аскетики. При этом, однако, все указываемые им расхождения восходят скорее к терминологии, к исходному пониманию страсти: аскетическое понимание имело практические генезис и основу, оно рождалось из опыта раннехристианского монашества и вовсе не ориентировалось на Аристотеля; более узкое декартово понятие «страстей души» подходило ближе к нему, но также отнюдь не совпадало полностью. Но главные отличия трактовки Декарта от аскетической традиции совсем не в этом, они много глубже. Независимо от терминологии, от дефиниций, сам феномен страстей, вся область их обладали для Декарта совершенно иным смыслом, ибо интегрировались в иную общую антропологическую парадигму. Для аскетики страсти были препятствием на пути восхождения к Богу: восхождения, в котором виделись смысл и назначение человека (и которое в наших терминах значило не что иное как вышеупомянутое «мета-антропологическое восхождение-трансцендирование). Такой взгляд имплицировал предельно активное отношение к ним, и главным предметом аскетического учения о страстях было их преодоление, а затем искусство избегать самого зарождения их. Но, как мы говорили, мысль Декарта покидает парадигму мета-антропологического восхождения-трансцендирования, – и именно это коренное обстоятельство влечет главные различия двух подходов к страстям. Исчезает стратегия претворения человеческой природы – ergo, исчезает и задача общего преодоления, искоренения страстей в целом, как таковых. Обращение души со страстями, по Декарту, – не борьба, а балансирование, соизмерение, расчетливая коммерция; и финальный вывод его трактата гласит: «Мы видим, что все они [страсти] по природе благи»
[95].– Различие, на поверку, оказывается кардинальным. В аскезе страсти – религиозный, онтологический и психологический феномен; в деистической секуляризованной парадигме Декарта остается лишь чисто психологический аспект, и при этом этическая оценка явления меняется диаметральным образом.
***
Итак, нам представились, по очереди и по отдельности, разделы учения Декарта, относящиеся к человеку. Далее, как предполагалось, мы должны дать характеристику целого, сложив из частей некоторый общий облик человека Картезия. Желая увидеть такой облик, мы должны, прежде всего, поставить вопрос: чем объединяются у Декарта описанные части, Субъект-Сознание, Тело-Машина, Сфера Смешанного? Каковы у него идеи, понятия, установки – вообще, любые «параметры» – которые относятся разом ко всем этим частям и тем самым характеризуют человека-в-целом, человека как определенное единство? Ответ оказывается затруднительным. Вновь обозревая учение, только что подробно описанное, мы как будто нигде не обнаруживаем нужных предметов. Это озадачивает нас и заставляет задать следующий вопрос: а какие собственно предметы должны были обнаружиться? Что должно входить в эти объединяющие, интегральные понятия и параметры, коих мы искали и не нашли? Установить их исчерпывающую систему было бы, пожалуй, еще затруднительней, но в этом и нет нужды; мы можем удовлетвориться главными видами, которые достаточно очевидны. В первую очередь, к характеристикам человека-в-целом принадлежат те антропологические понятия, которые являются и онтологическими, характеризующими сам способ бытия человека: таковы понятия, выражающие фундаментальные предикаты данного онтологического способа (как то, конечность, смертность) или прямо связанные с ними. Они усиленно изучались в экзистенциализме, причем исходной задачей изучения всегда ставилось именно обоснование и удостоверение их онтологической природы, сущностного отличия их от простых психологических категорий. Общеизвестными примерами их служат бытие-к-смерти, забота, тревога и проч. Заметим, что признание их онтологическими, а тем самым, и интегральными характеристиками человека отнюдь не требует принятия той или иной экзистенциалистской доктрины: оно вытекает из их принадлежности основоустройству смертности или иного предиката бытия человека. Мы будем называть этот род понятий экзистенциальными предикатами. Далее, в круг интегральных характеристик входят понятия и установки религиозной жизни: всегда и во всех обществах, вплоть до появления глубоко секуляризованных, религиозная сфера была главным и самым явным источником и примером, ареной проявления человека-в-целом. В своем доктринальном выражении религия и религиозность могли быть дуалистичны, спиритуалистичны, могли исключать «плотского человека» из отношения к Инобытию, но в антропологическом аспекте это не меняло дела: самореализация человека в орфическом культе, как и в холистической духовной практике, была его целостной, интегральной активностью; разве что деистическая религиозность, как редуцированная форма, прямо предшествующая секуляризации, может быть исключением из этого правила. И наконец, в число основных видов интегральных проявлений следует включить проявления интерсубъективные, феномены человеческого общения. Как не раз демонстрировала, обосновывала современная философия – убедительнее всего, вероятно, Левинас, хотя в христианской мысли разных эпох также можно указать яркие утверждения этой идеи, – отношение к Другому (другому человеческому лицу, «ближнему» и т.п.) тоже должно рассматриваться как онтологический предикат, оно выступает в антропологической структуре не одним из частичных и частных отношений, но как отношение целостное и личностное, конституирующее для человека-в-целом.
Итак, дискурс религиозной жизни, мир интерсубъективности, межчеловеческого общения, экзистенциальные предикаты – все это суть аспекты и измерения человека-в-целом, элементы его основоустройства. (Повторим, список может быть и продолжен, мы не стремимся к полноте). Все эти аспекты и измерения, действительно, практически отсутствуют в дискурсе Декарта, разве что при тщательном разыскании мы найдем какие либо их бледные и умаленные подобия, тени. Так, в «Страстях души» есть и некая трактовка любви. Здесь, в виде исключения, томистская теология созвучна Декарту и помогает ему, ибо она утверждает первичность познания по отношению к любви. ( Как мы показывали
[96], позиции православной мысли в этом противоположны). Декарт усиленно акцентирует этот примат познания, замечая, в частности, что, когда он соблюден, то никакая любовь не может быть чрезмерной, в том числе и любовь к себе самому. Но и не только познание первичней любви. «Более первична и необходима … ненависть, чем любовь, поскольку важнее отбрасывать вещи, что могут вредить и разрушать, чем приобретать такие, что добавляют какие-либо совершенства, без которых можно просуществовать»
[97]. Описываемая здесь человеческая способность, «без которой можно просуществовать», абсолютно не совпадает с той, что признается верховным началом и религиозной, и интерсубъективной сфер. Поэтому имя, сохраняемое за этим ублюдочным конструктом, может лишь ввести в заблуждение: в действительности, в учении Декарта нет любви, как нет в нем и смерти (есть только списание отслужившей машины), нет Бога Авраама, Исаака и Иакова и нет еще многих вещей, отмеченных нами и не отмеченных. Для верной оценки нельзя не взглянуть на откровение Декарта в свете откровения Паскаля. Мы видели, что приобрел Декарт, а следом за ним и все человечество, воплощая откровение новой эпистемологии: приобрели цельную эпистему, перспективу видения и способ познания, максимально ориентированные к целям полезного освоения мира, на современном языке, научно-технического прогресса. Но за эти приобретения, как тоже видим, пришлось расплачиваться утратами; и сегодня вновь человечество усиленно размышляет, является ли плата оправданной.
Возвращаясь же к общему облику «человека Картезия», мы получаем ответ на наш первый вопрос об этом облике. Человек Картезия – кардинально разделенный человек; его разделение – исходная методологическая позиция философа, его разделенность – финальный метафизический и антропологический итог. Разделенности не противостоит ничто, «смешанные явления» – лишь акты встречи двух во всем противоположных природ, над диадой которых не надстраивается никакого интегрирующего дискурса, никакой речи о человеке-в-целом, так что в определенном смысле, человека нет вообще; есть только двоица: Субъект и Телесная Машина. Этот вывод не неожидан, напротив, еще в начале разбора антропологии Декарта мы говорили, что установка рассечения человека господствует в этой антропологии до конца. Тогда, однако, это было лишь недоказанным заявлением; теперь же мы, вполне по Декарту, достигли ясного и отчетливого знания – попутно убедившись, что разделенность означает и существенные антропологические лакуны, зияния в образе человека.
Сказанное может создать впечатление, что описанные свойства декартова субъекта и декартова человека – плоды философского произвола их творца, так что они могут проистекать из частных особенностей мыслей и личности Картезия. Конечно, нельзя полностью отрицать такую зависимость, ибо на каждом творении найдутся следы творца; и все же в целом данное впечатление было бы глубоко неверно. Декартов субъект и декартов человек – плоды европейского философского процесса не в меньшей мере, чем детища гения Декарта. Вернемся к магистрали развития европейской концепции человека, главные предыдущие этапы которой мы связали с именами Аристотеля и Боэция. Наш основной вывод об этих этапах состоял в выделении ведущей тенденции развития: мы усмотрели ее в процессе философской индивидуации, постепенном становлении концепта самодовлеющего индивидуального совершителя разумных актов. И не столь трудно увидеть, что декартов субъект в его главных, определяющих чертах является необходимым продуктом этого процесса, логическим завершением становления. В основе конституции субъекта, дихотомии Res Cogitans – Res Extensa и всей декартовой метафизики лежит когнитивный акт, в котором философ усматривает фундаментальную связь-импликацию, равно эпистемологическую и онтологическую, Cogito ergo sum. Припомним постановку этого классического акта – и мы увидим, что он ставится, выстраивается Картезием как мысленный эксперимент на себе, заключающийся в отыскании неотчуждаемого ядра себя, или же когнитивный акт, направленный к установлению предела индивидуации: установлению локуса, фокуса, очага несомненного сосредоточения самодовлеющей мыследействующей индивидуальности. Если же так, то этот Первоакт, с которого началась философия Декарта, был прямым исполнением исторического задания. Cogito, «мыслящая вещь», субъект – то, что мы называли «первой истиной» Декарта, – возникает именно как предел индивидуации, как последнее основание и неотчуждаемое ядро самодовлеющей мыследействующей индивидуальности. Что же касается «второй истины», дихотомии Res Cogitans – Res Extensa, то, хотя в реконструкции антропологии Декарта именно она выходит на первый план, но логически и эпистемологически, она – не продукт нового независимого когнитивного акта, но лишь аспект, углубление, договаривание первой истины. «Так получается». Прямою целью, заданием, исходившим от философского процесса, было отыскание предела индивидуации – и таким пределом оказался субъект, тогда как тело в этот предел не вошло. Тем самым, в реальности, служившей предметом когнитивного акта, – реальности индивида – была усмотрена дихотомия. Как видим, никакого места для произвола нет, и дихотомия Декарта – отнюдь не плод его субъективных решений и предпочтений (хотя, как мы увидим, обсуждая учение Канта, усовершенствование эпистемологического метода приводит и к изменению характера дихотомии).
Сознание современников приняло «вторую истину», как и первую, с большими сомнениями и возражениями (которые частью отражены в корпусе «Медитаций»). Исключение тела из предела индивидуации, из «неотчуждаемого моего» могло также казаться идущим вразрез с непосредственным самонаблюдением, для которого тело представляется – вспомним Мандельштама – «таким моим», а мысли, идеи – напротив, скорей «ничьими», всеобщим во мне. В этом отношении, пожалуй, современное сознание более готово принять дихотомию. К примеру, вот характерная деталь: визуальный дискурс массовой научной фантастики, где в изобилии предстают существа с самыми невероятными, причудливыми телами и единственным неизменным элементом – сознанием, прямо визуализует логику Декарта: я могу представить свое тело совершенно иным, могу представить, что у меня вовсе нет тела, но никогда не могу представить отсутствие сознания. Муссируемая тема об иных формах разумной жизни, опыт многих современных антропологических практик – все это вкупе склоняет современного человека к декартову выводу: мое тело – вариантно, но мое сознание – моя судьба.
Однако, признавая оправданность дихотомии, мы в то же время далеко не полностью соглашаемся с ее трактовкою у Картезия. Важнейшее из всех несогласий коренится в следующем: наличие дихотомии само по себе отнюдь не доказывает, что эта дихотомия является последней инстанцией конституции человека и наряду с ней, «над ней», в данной конституции нет никакого объединяющего уровня или дискурса. Вопрос о таком уровне обсуждался выше, и мы убедились, что существует целая сфера различных интегральных проявлений человека, в которых человек выступает как цельность и единство, а не как рассеченный человек Картезия. Важно понять, что существование содержательного дискурса нерассеченного человека не отменяет декартова рассечения, не означает неистинность дихотомии, однако означает ее неполноту, ее ограниченную валидность как тезиса о человеке. Это объясняется принципиальным различием между эссенциальным и неэссенциальным (деятельностным, энергийным) дискурсами, которое будет играть огромную роль в наших антропологических разработках. Объединяющий дискурс составляют не сущности, а проявления человека, – и потому его существование означает лишь, что в когнитивном Первоакте, в котором Декартом были усмотрены Cogito и дихотомия, равно как и во всех актах рассеченного человека, подобные проявления не обнаруживают себя. Сознание Человека Картезия лишено интегральных проявлений, оно не является религиозным сознанием, не является любящим сознанием, сознанием в опыте бытия-к-смерти и т.д. Но это еще вовсе не значит, что Человек Картезия – ошибка и фикция. Реальный человек очень может быть таким.
Все это обсуждение может рассматриваться как итоговая дискуссия двух базовых черт Человека Картезия в их взаимосвязи: его индивидуализма (Человек Картезия – законченное воплощение принципа индивидуации) и его дуализма, рассеченности. Следующей из таких черт, также требующей итоговых замечаний, является субстанциальность: мы помним, что оба полюса своей дихотомии, как «мыслящее», так и «протяженное», Декарт характеризует как субстанции. Для самого философа эта черта не была в числе главных, поскольку не принадлежала к его открытиям и нововведениям; однако она приобрела первостепенную важность в дальнейшей судьбе его концепций. Разбирая конституцию субъекта, мы описали понятие субстанции у Декарта. Если оставить обычный декартов сдвиг к гносеологической трактовке, это понятие можно считать довольно традиционным, близким к обычному аристотелевско-схоластическому руслу. У Боэция, как мы говорили, понятие субстанции использовалось для внедрения индивидуации философского дискурса; однако Картезий, проводя индивидуацию по-своему и радикально, не нуждается в субстанции для этой цели. Нам сейчас незачем дополнительно обсуждать концепцию субстанции как таковую, но весьма важно обсудить факт субстанциальности субъекта. В анализе конституции субъекта мы указали, не входя в доказательства, что этот факт, т.е. наделение «мыслящего» статусом и природой субстанции, есть отдельное решение Декарта, не вытекающее из его других решений и тезисов. Но это обстоятельство весьма существенно для дальнейшего, и в нем следует ясно и отчетливо убедиться.
В очередной раз обращаясь к Первоакту, в котором совершается открытие «вещи мыслящей», пристальней взглянем на эту «вещь», чтобы рассмотреть: что же именно открывается? При этом, в ретроспективе, из нашего времени, мы заранее знаем, что, если когнитивный акт был действительно усмотрением «мыслящей вещи», мышления, то никакой субстанции данный акт открыть не мог, поскольку мышление и сознание имеют природу активности, а не природу субстанции. Поэтому, более точно, цель нового обращения к Первоакту такова: мы хотим проверить, описывает ли Декарт непосредственно усматриваемое в акте как субстанцию? Если это так, то его философское наблюдение уже сразу, имманентно, содержит в себе субстанциализирующее примысливание, и знаменитый Первоакт сегодня, увы, не может быть признан чистым актом (чистым опытом). Если же нет, то наше предварительное заключение было верным, и философ, осуществив и описав чистый, истинный когнитивный акт, затем post factum, в порядке отдельного решения, приписал его продукту субстанциальность. – И мы убеждаемся с удовлетворением, что Первоакт и его автор выдерживают проверку. Во всей дескрипции акта, усматриваемое в нем представляется без всякого примысливания. Это выражается в том, что все непосредственные результаты усмотрения передаются глагольными и отглагольными формами или существительными, означающими действие, а не состояние или сущность; в первую очередь, тут «мыслящее» и «мышление» как действие. Декарт справедливо фиксирует усматриваемые содержания как имеющие природу действия – и ничего кроме действия, никаких сущностей и субстанций, в акте не обнаруживается. И закономерным итогом такого акта оказывается формула Cogito ergo sum, которая – обратим внимание и подчеркнем! – тоже говорит исключительно о действии, носит чисто глагольный характер. О субстанциях тут вовсе нет речи, и мы можем повторить наше неоднократное заявление, усилив его и уточнив: Декарт открыл настоящее сознание, «без недозволенных вложений».
«Вложение» возникает, однако, быстро. Переходя от дескрипции к дискуссии, интерпретации акта, Декарт немедленно снабжает причастные формы существительным, и перед нами уже «мыслящая вещь». Это совсем невинная операция, во французской речи она не воспринимается как «опредмечивание», потому что la chose – легкое словцо, добавляемое всюду как автоматизм языка, это скорей русская «штуковина», чем «вещь», она нисколько не Gegenstand и даже едва ли Sache, ибо в ней не предполагается никакой Sachlichkeit. И все же этого уже достаточно для субстанциализации. В числе определений субстанции есть тоже очень невинно звучащие, например, такое: «Понятие субстанции означает вещь, которая может существовать сама по себе, без помощи какой-либо другой субстанции»
[98]. Дух же явно «существует без помощи» – и без всяких сомнений, без разбирательств, кажущихся ненужными, он наделяется статусом субстанции.
Так происходит субстанциализация сознания и субъекта в философии Декарта. Сегодня мы знаем, что именно это свойство субъекта повлекло в конце концов его смерть после продолжительной и тяжелой болезни. Но мы только что убедились и в том, что мысль Декарта не была изначально и безраздельно только субстанциалистской мыслью. Скорей напротив: именно в своем аутентичном ядре, своих главных, новых идеях и установках она имела иную направленность, иные потенции. Употребляя снова современные формулы, смотря из сегодняшней перспективы, можем сказать и так: мысль Декарта – в частности, и его антропология – несла потенции «преодоления метафизики». Нам следует эксплицировать и оценить эти потенции. Подмеченный выше факт заключается в том, что Эго, сознание, мышление были исходно усмотрены у Декарта в их истинной природе действия – и лишь затем субстанциализированы. Особо заметной дистанции между двумя этапами в дискурсе Декарта нет, возможно, ее не было и в уме философа, и все же для нас здесь принципиальный момент: пусть даже полуусловно, но в мысли Декарта, его учении, улавливается философская альтернатива, теоретическая возможность не сделать сознание субстанцией – и тем придать философии иное, не-субстанциалистское и не-эссенциалистское направление.
Что означала такая возможность, была ли она реальна? Ответ на второй вопрос можно дать сразу: возможность была заведомо нереальна. Если бы Декарт – или любой другой западный философ до недавней эпохи – решился придать сознанию и мышлению статус активности, действия, а не субстанции, для него это означало бы попросту необходимость тут же изыскать другую субстанцию, чьею активностью являлись бы мышление и сознание. Если «мыслящее» есть действие, т.е., сказуемое, глагол в грамматике дискурса, оно должно быть отнесено к некоторому подлежащему. И такой путь вовсе не открывает ценных творческих перспектив: ибо той субстанцией, которая осуществляла бы мышление как свое действие, могло быть лишь тело или мозг; так что альтернатива оказывалась на поверку мнимой, рождая лишь старый, отвергнутый Картезием вариант плоского материализма: «тело мыслит». Действительная новая перспектива открывается в единственном случае: если философ, признав мышление деятельностью, вместе с тем, не будет приписывать эту деятельность никакой субстанции, никакой сущности, не будет заключать ее ни в какое подлежащее. Однако прямое и радикальное утверждение мышления как «бессубъектной деятельности» было неведомо европейской философии вплоть до Ницше. Открыто и последовательно оно проводилось не в западной, а только в восточной, прежде всего, буддийской мысли, было позицией буддизма; и только нездоровая фантазия может рисовать появление буддийской концепции сознания в Европе Декарта. Об опытах изучения и разработки данного русла в современной европейской мысли мы еще будем говорить. В большинстве своем, они прямо, а порою и резко, отталкивались от Декарта; но наши замечания позволяют сказать, что субстанциальный субъект, предмет отталкивания для всех новых попыток, – это не столько сам истинный Декарт, сколько непреодоленный аристотелианский атавизм в его мысли.
(Упомянем попутно, что подобных – и немаловажных – атавизмов у Декарта немало, вопреки гордо заявленной им независимости от философской традиции. В целом ряде пунктов его учения проявляется жесткий эссенциализм, несвойственный его живой мысли, несущий явную печать школьно-аристотелевского дискурса. Вразрез с основной линией своей философской интуиции, рисующей сознание в элементе действия, Декарт отрицает всякое движение в сфере сознания: «Движение и дух суть два рода, всецело различные»
[99]. Вследствие этого, сознание предстает не только субстанцией, но субстанцией, полностью статичной, что уже совсем отдаляет от реальности. Не подвергается сомнению и полное господство причинно-следственной связи, которая безоговорочно признается универсальным законом и духа, и мира. Стоит указать, впрочем, что в свою эпистему Декарт включает лишь археологическую установку, т.е. отыскание начал, способов происхождения вещей, относя установку телеологическую, глубоко присущую христианской мысли, к области теологии: «Не следует рассматривать, для какой цели Бог создал каждую вещь, но только – каким способом она была, согласно Его желанию, произведена»
[100]. Это отсечение целевой причины станет одной из ведущих установок новоевропейского канона познания. В целом же, можно сказать, что за пределами ядра своего учения, системы из нескольких принципов и установок, утверждаемых ревностно и последовательно, Декарт совсем нередко усваивает без возражений и почти без поправок позиции старого аристотелизма: тут можно указать и его нормативную этику, и всю речь о Боге и бессмертии души, и еще многое. Едва ли это могло быть иначе: открыв путь к новому философскому способу, он заведомо не мог быть уже полностью внутри него).
Продвигаясь далее в нашем итоговом обозрении Человека Картезия, надо снова коснуться и той особенности, которую мы подчеркивали много раз: это – гносеологизм декартовой мысли, последовательный перевод декартова дискурса в эпистемологический план. Этот эпистемологический поворот имеет и антропологическое содержание, он тоже – определенная черта человека, поскольку, вместе со всеми сферами, гносеологизация проводится и в антропологии. Каких-либо новых вопросов она, однако, не вызывает сейчас. Как ясно сразу, декартова гносеологизация человека выражается в том, что миссия и назначение человека – познание. Правда, формулу надо уточнить, она некорректна в данной форме: миссия и назначение относятся лишь к субъекту, не переносясь на машину тела, которое лишь отправляет функции и никакой миссии иметь не может. Декартов субъект есть «познающий субъект», и выше мы описали структуру когнитивного акта, в котором совершается его самореализация. Весьма существенно также – в том числе, и для антропологии – как у Декарта трактуется сфера познания, его цель. Как мы выяснили (см. раздел «Тело-машина»), здесь происходит кардинальная «переоценка ценностей», в которой ориентация познания к «вещам божественным» сменяется ориентацией к полезному познанию мира; так что в главном содержании своей миссии субъект мыслится как миропознающий субъект и субъект прогресса. Данная переориентация и переоценка выражают деистический и секуляризованный характер эпистемы Декарта; и этот характер – еще одна базовая черта как эпистемы, так, вместе с ней, и антропологии Декарта: последняя, которую нам осталось затронуть.
Последняя черта – заведомо не самая маловажная; выше мы ее оценили как самую революционную особенность учения Декарта. Но сейчас мы должны увидеть ее в антропологическом аспекте, который не столь очевиден: секуляризация обычно рассматривалась в своих «коллективных» измерениях – исторических, социальных, культурных. Для раскрытия собственно антропологических импликаций внедрения секуляризованной эпистемы наиболее адекватным является язык отношений человека с границей горизонта своего существования (Антропологической Границей). Антропологическая Граница – центральное понятие той концепции человека, которую мы намерены развить в этой книге (ранее оно вводилось нами в книге «О старом и новом»). Его подробное обсуждение будет дано в ч.II, а здесь нам достаточно понимать его на предварительно-интуитивном уровне, как область (но область в деятельностном, энергийном измерении) всех «граничных» или «предельных» проявлений человека, т.е. таких, в которых начинают претерпевать изменения фундаментальные признаки, предикаты способа существования человека. Феномены религиозной жизни связаны с областью (топикой) «онтологической Антропологической Границы»: проявления, образующие ее, суть результаты устремления человека к Инобытию, онтологическому Иному. Как мы уже говорили выше (именно в связи с обсуждением секуляризации), осуществление устремления к Инобытию есть фундаментальная стратегия Homo Religiosus, которую мы именуем стратегией или парадигмой мета-антропологического восхождения-трансцендирования. Там же было указано, что секуляризация означает отказ от этой стратегии. Но отказ, отбрасывание некоторой стратегии – лишь негативная характеристика антропологических следствий секуляризации; желательно продвинуться дальше. Влечет ли секуляризация появление какой-либо другой доминирующей антропологической стратегии, на место отвергнутой? – Ответ заведомо положителен. При этом, подобно тому как старая, оставляемая стратегия выражала определенный тип отношений человека с Антропологической Границей, так и новая, шедшая ей на смену, также может быть охарактеризована через эти отношения. Новый тип отношений был, однако, своеобразен: его суть заключалась в отсутствии отношений.
Одна из самых избитых культурфилософских тем – это тема о новом мироощущении, родившемся у человека Ренессанса и Нового Времени: о том, что это мироощущение было исполнено пафоса, героического восторга, furore eroico, и пафос этот был связан с распахнувшимся бесконечным простором мира, был пафосом безграничности. Сейчас нам нужны, однако, эти трюизмы. Становление секуляризации – период открытия новых и новых горизонтов, которые представлялись безграничными; оно неразрывно сопряжено с ощущением и утверждением безграничности и бесконечности как главных качеств и предикатов мироздания – а отсюда и человеческого существования, поскольку человек – как мы это видели у Декарта – начинает видеть свою суть в развертывании отношений с мирозданием. Бесконечности мироздания естественно и необходимо соответствует бесконечность возрастания миропознающего субъекта в своем полезном познании: бесконечность совершенствования, «прогресса». Мир в декартовых координатах – принципиально бесконечный мир, и продвижение в нем также бесконечно. Граница мироздания отступает и растворяется (в любом из двух смыслов) – и следом за ней, неизбежно растворяется Антропологическая Граница: определяя себя из отношения к безграничному мирозданию, человек, в свою очередь конституируется как «безграничное». Отношения человека с Антропологической Границей более не тематизируются, они отмирают и выпадают из конституции человека. Это и есть искомое нами выражение антропологической сути секуляризации: в антропологической сфере, переход в секуляризованную культурно-цивилизационную парадигму означал изъятие, устранение из конституции человека отношения к Антропологической Границе. В дальнейшем нам предстоит еще немало говорить об антропологии секуляризованной парадигмы, и мы увидим, что эта антропология таит в себе неожиданности: по самой своей природе, «безграничные» антропологические стратегии, выстраиваемые разумом Ренессанса и Просвещения, обречены были уступить власть «фигурам безумия». Но это уже не эпоха Декарта и не его ответственность.
Мы же не без сожаления прощаемся с философом, оставляя с собою для дальнейшего рассмотрения долепленного им Классического Европейского Человека. В последний период европейской мысли и этот человек, и главный автор его, мягко говоря, не были прославляемыми героями, их склоняли и прорабатывали, и волей-неволей нам тоже придется еще вернуться к их грехам и огрехам – очень скоро, в начале очередного раздела. Но сейчас, прощаясь, очень стоит вновь благодарно упомянуть хотя бы самое главное, чем обязано Декарту наше понимание человека. Открытие сознания! Как мы пытались показать, открытие Картезия – не только хулимый всеми «субъект», в его мысли присутствует, и кое-где – начиная с сакраментальной формулы Cogito ergo sum – дает знать о себе также и настоящее, живое сознание, а не опредмеченный фантом. Эпистемологический поворот: и он тоже был положительным, освобождающим поворотом для философии, ее шансом уйти от омертвевшего стереотипа философствования как строительства из субстанциально-эссенциальных кирпичей: шансом «преодоления метафизики». Даже дихотомия человека, которую в ее сути никак не назовешь подарком для антропологии: среди многого, что Декарт сделал с ее помощью, не только установление правил познания, но и отчетливая постановка проблемы идентичности человека. Во Второй Медитации эта ключевая проблема антропологии весьма занимает его, и он, пускай в рамках дихотомии, представляет некоторое ее решение: «Душа не сложносоставна, она… чистая субстанция. Хотя все ее акциденции меняются, она постигает одни вещи, вожделеет других, ощущает третьи и т.д., это всегда та же самая душа; между тем как тело человека не остается тем же, уже оттого что очертания (figure) его отдельных частей меняются»
[101]. В итоге, Классический Европейский Человек наделяется идентичностью определенного рода, которую естественно называть субстанциальной идентичностью. И этот ряд приобретений можно было бы продолжать.
Но, разумеется, отдавая дань признательности, мы не можем уйти от исторической истины. Мысль Декарта – восхитительно живая, сильная мысль, и сегодняшний взгляд видит в ней немало возможностей выхода, прорыва к радикальной смене старого способа, к преодолению метафизики. Но почти все эти возможности остались – возможностями. Роль Декарта в философской традиции – не преодоление метафизики, а ее продление, снабжение ее ресурсами на следующую долгую эпоху. Пресловутая «субстанция» осталась невзятой крепостью, рубежом, на котором останавливается декартово обновление традиции. Что можно тут сказать? Очень хотелось бы, чтобы мысль Декарта, открыв сознание, поставив его в центр философского дискурса, представила бы его в его истинном элементе, деятельностном и энергийном, как событие, как происходящее: какой поворот, какой импульс это придало бы всему видению реальности! Но… lе plus fort esprit de France ne peut donner que ce qu’il a.
Экскурс: Очертившийся облик Европейского Человека:
«Портрет о пяти чертах»
Границы и рубежи, членения и периодизации, которые проводятся в реальной истории – будь то история обществ или история мысли – всегда немало условны и конвенциональны, проводимы ради удобства профессоров и студентов. Не отрицая этого, мы все же убеждены, что не удобства ради, а в силу самых неоспоримых предметных факторов мысль Декарта следует считать рубежом в развитии европейской концепции человека. С появлением Человека Картезия процесс создания европейской антропологической модели был, в целом и главном, завершен. Глядя с птичьего полета, мы увидим следующие два – два с половиной столетия как время жизни этой модели в качестве общепринятой и господствующей, в чем-то дорабатываемой (всего более, Кантом), но существенно не меняющейся. Этому способствует, что все это время антропологический дискурс слабо выражен в европейской мысли: как мы говорили, Декарт придал этой мысли антиантропологическую направленность; и, вполне удовлетворяясь субъектом, она не вспоминает о человеке. Но история движется, и 20 век стал решающим и последним в судьбе модели; ей не удалось перейти в третье тысячелетие. Уже на грани 20 века ее ситуация начинает претерпевать резкие перемены. Даже те философские опыты, что не отвергают, а скорее развивают ее – сюда мы бы отнесли все русло феноменологии – уже глубоко ее трансформируют. Но главные перемены заключались в росте открытого неприятия, критики самих оснований модели. Начало конца – тотальная, сокрушительная критика Ницше. Затем одно за другим возникают направления, где ставится на первый план именно то, что в модели оставалось слабым местом, лакуной: экзистенциальная проблематика, интерсубъективная (диалогическая) проблематика, по-новому возвращаемая в философию религиозная проблематика; и наконец, падает последний бастион, главное оправдание модели – субъект-объектная парадигма научного познания, которую современная наука, начиная с квантовой механики, уже не признает адекватной своей эпистемологической ситуации. Финал кризиса – постмодернизм и постструктурализм. Констатировав «смерть субъекта» и завершив преодоление метафизики глобальной деконструкцией оснований всего «логоцентрического» философского дискурса, они утверждают «энтропийную» установку абсолютного уравнивания любых стратегий означивания реальности.
Установка сомнительна, но проделанная расчистка почвы полезна. Возникает предельно открытая ситуация поиска новых принципов понимания человека, с учетом всего существующего спектра философских идей, духовных и культурных традиций. Классическая модель не должна нигилистически отбрасываться, ибо другой, столь же глубоко разработанной, нет и, верно, еще долго не будет. Но она должна сегодня рассматриваться в новом, предельно расширенном контексте: в сопоставлении, в конфронтации со всеми возможными антропологическими альтернативами, включая максимально удаленные от нее. Последние, очевидно, принадлежат уже не западной, а восточной мысли – и это значит, что в эпоху глобализации формирование новой модели человека также становится глобальной задачей и должно осуществляться на глобальном материале.
Нам необходимо понять, что же именно, какие содержания, какие черты классической модели ныне оказываются полностью отброшенными; какие, возможно, выживают, сохраняют ценность для будущего. Поэтому описанные кратко последекартовские этапы также важны для нас, и в данном разделе мы рассмотрим их более развернуто. Для начала же представим беглый общий «портрет» модели, какой она рисуется у Декарта, – и убедимся в том, что этот «портрет» можно рассматривать как итог, синтез всей предшествующей европейской мысли о человеке.
Реконструировав в предыдущем разделе Человека Картезия, мы в заключение выделили его базовые, основополагающие черты. Набор их составили: индивидуированность – дуалистичность – субстанциальность – гносеологизированность (примат когнитивной функции) – секуляризованность. Мы проанализировали эти черты по отдельности, в простом рядоположении, и теперь требуется увидеть внутренние связи, логическую организацию всего набора – так, чтобы черты сложились в некую связную картину. Из обсуждения в Разделе 3 уже явственно выступала выделенная роль черты индивидуированности. Черта эта означает, что Человек Картезия возникает как итог, финал процесса философской и индивидуации и представляет собой собственно сам предел индивидуации (Cogito, «мыслящее»), взятый купно с телом, с которым он эмпирически сопряжен, но от которого метафизически всецело отличен. Данное содержание мы будем выражать краткой формулой: Человек Картезия есть индивид; определение введенного термина полностью ясно из предыдущей фразы. Мы убедимся сейчас, что индивидуированность является в определенном смысле первичной по отношению к другим чертам, а также играет центральную, объединяющую роль во всем наборе. Действительно, это – первичная черта Человека Картезия, поскольку она, вольно выражаясь, появилась раньше него, служа Декарту если не прямым заданием, то ориентиром, который он имел в поле зрения, полагая основы своего учения; в известной мере, ради этой черты, с нацеленностью на нее и создавался субъект. Мы отметили также, что рассечение человека и невключение тела в состав субъекта возникают у Декарта как один из результатов когнитивного акта усмотрения субъекта: проводимая в этом акте индивидуация направляется к вычленению неотчуждаемого ядра человека, и телесность усматривается как нечто, не обладающее неотчуждаемостью, допускающее отчуждение. В рамках рассуждения Декарта, основоустройства его учения, это заключение основательно, и мы принимаем, что в возникающей антропологической модели, в «портрете» Классического Европейского Человека, его рассеченность вытекает как следствие из его полной индивидуированности. Напомним, однако, что у Декарта дихотомия переносится также с метафизического на эмпирический уровень, и в качестве психосоматического принципа, она уже не выдерживает никакой критики. Это было осознано относительно быстро, и в дальнейшей судьбе модели подобной экстраполяции мы уже не наблюдаем.
В других базовых чертах при ближайшем рассмотрении также обнаруживаются связи со свойством индивидуированности, и благодаря этому они, в свою очередь, могут интерпретироваться как входящие в ее икономию, что то же – как предикаты способа существования индивида. Может показаться, на первый взгляд, что для субстанциальности это не так: при ее обсуждении выше мы специально аргументировали, что придание результату когнитивного акта Декарта («Первоакта») статуса субстанции есть необязательное решение, своего рода «приписка» Декарта. Действительно, субстанциальность «мыслящего» не обнаруживается непосредственно в Первоакте, где усматривается предел индивидуации; но тем не менее, есть другие прочные нити, которые связывают индивида с нею. Две главные из них надо указать обязательно, они существенны в общем «портрете». Нить первая – прямая и очевидная смысловая связь. Характеризуя предел индивидуации как самодовлеющую мыследействующую единицу, мы до сих пор оставляли без внимания важнейший предикат этой единицы, выражаемый первым термином в формуле: предикат «самодовлеемости», означающий автономный, независимый, самостоятельный способ существования. Меж тем, этот-то предикат и связан непосредственно с субстанциальностью. Обсуждая понятие субстанции, мы больше выделяли пока ее смысл как «подлежащего»; но субстанция – не только подлежащее, она есть также «само-стоящее», обладающее упомянутым способом самостоятельного существования, (соответствующую дефиницию Декарта мы приводим на с.56). Больше того, для западного сознания – что, в частности, видно из указанной дефиниции – обладание таким способом существования никак иначе и не мыслилось, кроме как в форме субстанции. В итоге, субстанциализация «мыследействующей единицы» выступала как необходимое средство наделения ее требуемым способом существования. И в этой необходимости проявляется уже вторая из нитей, связующих субстанциальность и индивидуированность: у них – общая укорененность в устоях западного мышления, его определяющих особенностях. Мы квалифицировали субстанциализацию Cogito как «аристотелианский атавизм» Декарта. Эту оценку сейчас надо уточнить и расширить: дело не только в Аристотеле. Как тенденция к индивидуации уловима и прослеживается от самых истоков западного мышления и менталитета, пробиваясь сквозь стихийно-коллективную природу архаического и мифологического сознания, воплощаясь в социальных практиках Рима задолго до полного метафизического выражения и наконец достигая с Декартом философского господства, – так, параллельно с этой тенденцией и обычно в тесном единстве, союзе с ней, уловима и прослеживается другая: тенденция к эссенциальному и субстанциальному представлению содержаний мысли. Эта тенденция играла решающую роль для становления мышления в понятиях, оформления философии как дискурса и дисциплины: ибо вела к организации философской мысли в правильные суждения о «предметах мысли», в высказывания с полной структурой, наделенной главным членом, подлежащим. При этом, связь эссенциально-субстанциального мышления с самой основой строения философского дискурса обретает характер полного смыкания благодаря ключевому грамматико-философскому факту: субстанция и подлежащее суть попросту одно и то же, одно слово и, в существенном, одно понятие, лишь взятое в разных смысловых планах и сферах функционирования. В отличие от первой, вторая тенденция достигла полного выражения и господства уже у Аристотеля и с тех пор никогда не утрачивала этого господства, вплоть до эпохи коренной критики и деконструкции всего западного метафизического способа. И очевидный вывод отсюда тот, что, возникая в рамках западной философской традиции, и «мыслящее», и индивид («мыслящее», сопряженное с телом) заведомо не могли избежать «заключения в подлежащее», остаться вне эссенциально-субстанциального дискурса. Как выше мы видели, Человек Аристотеля и Человек Боэция прочно и полностью принадлежат этому дискурсу; не менее прочно ему принадлежит и весь путь к индивиду, на всем своем протяжении. Мог ли финал пути быть иным? Субъект Декарта, т.е. субстанциализованная «мыслящая вещь», добавился к тому же семантическому гнезду субстанции и органично влился в него, став главным, еще лучшим именем для подлежащего, чем сама субстанция. Мы же, в итоге, ставим субстанциальность Человека Картезия непосредственно рядом с его первичной чертой, индивидуированностью, признавая обе черты столпами, несущими элементами всей его конструкции.
Две остающиеся «портретные черты» , как показывает их обсуждение в Разделе 3, близко связаны меж собой. Но связь их с уже рассмотренными основными чертами также достаточно тесна и довольно прозрачна. Как мы только что подчеркнули, одна из главных движущих пружин процесса философской индивидуации – интуиция автономности, независимости, самодостаточности, рождаемой в этом процессе «мыследействующей единицы», «совершителя разумных актов». И мысль Декарта, его тексты ярко показывают прямую связь этой интуиции с переходом в секуляризованную эпистему: наглядно видно, что данная интуиция служит движущею пружиной также и этого перехода. Тут есть железная логика: если сознание вдохновляется идеей независимости и самодостаточности человека, стремится прежде всего утвердить эту независимость, для него едва ли возможно утверждать с равной силой и противоположный полюс Богочеловеческого отношения: сохранить в полном объеме всю многообразнейшую и тесную, интимную связь-зависимость человека с Богом, какую признает подлинно религиозное (отнюдь не только христианское) миросозерцание. Той сферой, где человек может проявлять себя как независимый мыследействующий агент, ареной его независимости и самодостаточности служат, прежде всего, отношения с окружающим миром; так что первое действие обсуждаемой идеи состоит в том, что она толкает обратить больше внимания на эти отношения. И здесь, в этой сфере, развертывается поистине цепной, неостановимый процесс: чем дальше, глубже развиваются отношения человека с миром окружающих явлений, тем больше здесь открывается задач и возможностей; тем более важной и обещающей представляется эта сфера; и тем шире и шире оказывается диапазон независимости и самодостаточности человека. И неизбежно формируется убеждение, что именно здесь лежат главные задачи человека, здесь – главное поле его деятельности, его самореализации. Это убеждение уже косвенно затрагивает религиозную сферу, отношения с нею: оно означает смену приоритетов в определении целей и задач деятельности человека, сферы его самореализации; и эта смена влечет отодвигание религиозной сферы, икономии отношения человека к Богу. Однако процесс и в данном аспекте неостановим: отодвигание обречено углубляться, достигая предельной степени, фазы развитого деизма (как мы говорили, именно к этой фазе принадлежат теологические позиции Декарта). Следующим порядком, отодвигание переходит в отрицание, что соответствует завершающей фазе полной секуляризации. Антропологическим же содержанием всего процесса является, как мы показывали, формирование «безграничного» секуляризованного человека.
Мы очень бегло описали здесь то, что многократно описывалось во всех подробностях: логику движения европейского сознания из теоцентрической парадигмы Средних Веков в секуляризованную парадигму Ренессанса и Нового Времени. В нашем контексте, она раскрывается как логика, в силу которой тенденция к индивидуации порождает и питает тенденцию к секуляризации. Как было указано, для западной мысли, в ее глазах, независимость и самодостаточность «мыследействующей единищы» обеспечиваются, в первую очередь, субстанциальностью, и тем самым, субстанциальность – тоже в числе факторов, питающих тенденцию к секуляризации. Но здесь есть также более прямая и одновременно более глубокая связь. Конечно, утверждение субстанциальности не мешает тому, что мы называли «реверансом в сторону теологии»: формальным признаниям превосходства Божественного бытия, всяческого несовершенства человека, подчиненности человека и мира Богу и т.д. Однако акцент на обладании собственной субстанцией отодвигает, затушевывает онтологическую недостаточность способа существования человека – и тем неизбежно изменяет характер религиозности, и окраску, и само содержание отношения человека к Богу. Патристика воздерживалась от того, чтобы утверждать некий определенный сущностный статус за тварным падшим бытием, предпочитая характеризовать этот способ бытия привативно, как онтологически неполное, ущербное, и тем самым, поддерживая в отношении человека к Богу исконный лейтмотив тяги, устремления к полноте бытия от собственной бытийной неполноты и ущербности. Напротив, утверждение субстанциальности субъекта явно содействует тому, чтобы этот лейтмотив заглушался и уходил; под его влиянием, бытийная неполнота перестает ощущаться жизненным фактором и становится фактором формальным, теоретическим. Из отношения человека к Богу уходят качества жизненной нужды, истовой потребности, экзистенциальной жажды – и это означает не что иное как переход данного отношения в деистическую парадигму; дальнейший сдвиг в полностью секуляризованную парадигму лишь вопрос времени.
Следом можно сделать еще одно наблюдение. Сказанное напоминает, что икономия отношения человека к Богу главной своей частью, ядром, принадлежит области интегральных проявлений человека (каковы «жизненная нужда», «экзистенциальная жажда» и проч.), и потому в дуалистической модели человека эта икономия, как и вся сфера религиозного, обречены быть сугубо редуцированными. Выше эта особенность уже обсуждалась, и сейчас мы возвращаемся к ней, поскольку она добавляет еще одну связь в нашем наборе «портретных черт»: дуалистическая рассеченность человека также предрасполагает к деистическим и секуляризованным установкам. На первый взгляд, этому прямо противоречит классический пример дуалистической антропологии неоплатонизма, где утверждение радикальной дуалистичности человека даже не просто совмещается с напряженной мистической Богоустремленностью, но активно ей служит: устремление к Единому – предельное углубление рассеченности человека, вплоть до полного разделения двух взаимно враждебных полюсов его природы. Обращение к этому примеру полезно, оно помогает уточнению понятий и разграничению сфер. Спросим: а что такое в реальности «предельное углубление рассеченности человека»? – и сразу увидим, что это углубление может быть лишь некой весьма холистической антропологической стратегией, тщательным выстраиванием и выдерживанием неких определенных и явно необычных отношений человека с его телом. Конечно, онтологический процесс устремления к Единому предполагается исключительно интеллектуальным, он совершается с «душой» и никак специально не затрагивает тела (не требует, в том числе, и «умерщвления плоти»); и тем не менее, этот онтологический процесс необходимо имеет антропологический аспект, а в этом аспекте он столь же необходимо носит холистический характер. Еще очевидней это скрытое присутствие отнюдь не дуалистической, а холистической антропологии в другой античной разновидности радикального дуализма, у орфиков: ибо орфизм был формой мистериальной религиозности, которая вся, как таковая, носит ярко выраженный холистический характер, вовлекая в свою икономию все уровни человеческого существа и все виды антропологических проявлений. Этот амбивалентный, парадоксальный характер античных форм антропологического дуализма напрямик связан с много обсуждавшейся, поистине хрестоматийной цельностью античного человека: античность могла выдвигать сколь угодно резко дуалистические доктрины, но при этом, антропологическая модель, которая воплощалась в ней (в том числе, и адептами подобных доктрин) всегда соответствовала человеку с богатой, полномерной сферой интегральных проявлений: в этом смысле, цельному человеку. Однако дуалистичность Классического Европейского Человека носит уже иной характер: тот репертуар антропологических стратегий, который предполагает новая антропологическая модель, находится в действительном согласии с нею. Выше мы могли в этом убедиться: данный репертуар включает в себя, на первом и главном месте, стратегии субъект-объектного познания явлений, и в таких стратегиях, за что ручается не только Декарт, но весь позднейший органон научного познания, человек актуально выступает как рассеченное, или же точней, усеченное: как «познающий субъект». И эта, новоевропейская форма антропологического дуализма действительно, как мы и сказали, редуцирует – если не ампутирует – сферу интегральных проявлений человека, содействуя появлению человека секуляризованного.
Из всего сказанного уже довольно ясна и сеть связей последней из наших основных черт, «гносеологизированности» Человека Картезия. Наиболее тесной является опять-таки связь с секуляризованностью; обе черты взаимно питают и усиливают друг друга. Мы уже повторяли основные банальности, относящиеся к этой связи: установки секуляризации формируются, главным образом, именно в познавательной деятельности человека и эффективнее всего укрепляются успехами этой деятельности, рождающими впечатление могущества и полновластности человека; так что «гносеологизированность» человека предрасполагает к секуляризации и содействует ей. Обратное также верно: секуляризованность предрасполагает к примату когнитивной функции, поскольку секуляризованный индивид усматривает свое главное дело, поле своей самореализации именно в познании, а точнее, в полезном миропознании, освоении-использовании окружающего мира (если угодно, и в покорении: эта установка уже ясно заявлена у Декарта). Стоит разве что уточнить, что сама когнитивная функция, примат которой здесь утверждается, трактуется у Декарта как установка познания человека и мира (включая, разумеется, мир интеллигибельных истин); она не обращена к Богу, и Богопознание практически отсутствует в системе понятий и во всем дискурсе Декарта. При этом, к сфере миропознания переходят – конечно, претерпевая редукцию, – некоторые антропологические функции, которые несли Богопознание и устремление к Богу. Так, здесь по-прежнему признаются несовершенство и неполнота человека, желательность его совершенствования; но если в теоцентрической парадигме совершенствование, преодоление несовершенства и неполноты мыслились достигаемыми через устремление к Богу, то совершенствование «познающего субъекта» предполагается полностью осуществимым на путях успешного познания. Далее, важна (хоть тоже банальна и очевидна) связь примата (миро) познания с дуалистической рассеченностью человека. Плод и носитель рассеченности – бесплотный субъект, и как мы постоянно повторяем, – миссия субъекта – познание, он есть «познающий субъект». В этом определении существа и призвания субъекта заключены сразу две импликации, связующие дуалистичность и гносеологизированность человека, как прямая, так и обратная. Ясно, прежде всего, что первое свойство влечет второе: когда в итоге декартова Первоакта усмотрена рассеченность человека и конституирован субъект, немедленно возникает и примат когнитивной функции, коль скоро в ней – назначение субъекта. Обратно, если познание выдвигается в качестве ведущей антропологической установки, на первый план выходит задача совершенной постановки когнитивного акта, и ее выполнение, как показывают тексты Декарта, если и не влечет дихотомию человека с необходимостью, то, во всяком случае, благоприятствует ей и предрасполагает к ней.
***
Набросанная система связей и отношений достаточно богата, и наделяясь ею, набор «портретных черт», основоположений антропологической модели, превращается в законченный идейный каркас. Перед нами возникает Классический Европейский Человек в его внутреннем строении, концептуальной структуре. Окидывая его общим взглядом, мы прежде всего констатируем: человек состоялся. Пред нами не рассыпающийся набор разрозненных, взаимно противоречивых свойств, но крепко сколоченный ансамбль, где ни одна черта не является чужеродной и выпадающей: сиречь, полноценная антропологическая модель. Какова же эта модель, что за человек перед нами?
В ансамбле основных черт модели можно выделить два блока: один из них определяет статус, природу человека, тогда как другой – сферу и способ, характер его самореализации. В первый блок входят индивидуированность, дуалистичность, субстанциальность: они образуют основу конституции того новосозданного рода сущего, что есть «индивид», рисуя нам «субъекта» (предел индивидуации, мыследействующую единицу, признаваемую субстанцией), связанного с иной субстанцией, «телом», посредством декартовой дихотомии, т.е. отношения противопоставленности «мыслящего» и «протяженного». Другой блок составляют дуалистичность, гносеологизированность, секуляризованность: они описывают самореализацию индивида в эпистеме субъект-объектного познания, рисуя его как сущее, ставящее познание своей целью и смыслом, специально приспособленное к миссии познания (дуалистичность) и понимающее познание секуляризованно, как бесконечный прогресс полезного освоения-использования мира, несущий также с собою бесконечное совершенствование человека и решение всех его проблем. Как видим, разделение довольно условно и функционально, причем наши блоки перекрываются, поскольку дихотомия человека играет важную роль в обоих выделенных аспектах. Но при всем том, с его помощью облик индивида представляется наглядно и просто.
Система отношений «портретных черт» выявляет также одно поучительное обстоятельство: во всех без исключения чертах мы обнаружили связь с секуляризованностью. Не случайно эту черту мы поставили последней в наборе: все предыдущие ведут к ней, так что она выступает как бы логическим выводом из всей системы, всей внутренней структуры модели. Данное наблюдение позволяет лучше понять не одни лишь антропологические аспекты секуляризации. Секуляризация – глубочайший рубеж, самая кардинальная трансформация европейской истории, общества, человека, и для ее наступления, несомненно, требовались мощные факторы и весомые предпосылки. Разумеется, эти факторы и предпосылки немало анализировались; и если старая наука ограничивала свой анализ уровнем усредненного, всеобщего (т.е. социо-историческими, идейно-культурными, религиозно-духовными аспектами), то в последние десятилетия внимание уже привлекал и человек. В новейших течениях исторической науки, в постмодернистской культурной антропологии делаются исследования и появляются методики, раскрывающие на конкретном историческом материале – в том числе, и в процессах секуляризации – реакции, установки, структуры сознания человека; но рассмотрения феномена в самом его существе, как определенной трансформации базовой антропологической модели, покуда не достигалось. Поэтому наше наблюдение о том, что все основополагающие черты Человека Картезия, индивида, так или иначе выводят, влекут, предрасполагают к секуляризованности, – отнюдь не лишнее добавление в картину явления. Здесь весьма проясняется его антропологический механизм: мы видим, что, по всей своей внутренней структуре, индивид предопределен к секуляризации, и едва ли она могла не сделаться его судьбою.
Еще наглядней, очевидней в «портрете» выступила и особенность, не раз уже отмечавшаяся, самая общая и самая важная для нас: возникшая антропологическая модель – анти-антропологична. Впервые мы констатировали эту особенность, как только были описаны «две истины» Декарта, порождающее ядро его учения. В антропологическом аспекте, «Вторая истина», дихотомия Res Cogitans – Res Extensa, – не что иное как радикальный деконструирующий принцип. Очевидно, что конструктивный философский подход к антропологической проблеме предполагает продумывание антропологического опыта и фонда представлений о человеке, с целью претворения этих представлений в понятие, концепт. Но принцип Декарта концептуализует, наделяет философским статусом и смыслом некие две стороны человека, отсекаемые друг от друга и объявляемые полярной противоположностью друг другу, – и как следствие этого, сам человек лишается философского статуса и смысла. Он делается простой совокупностью, формальной суммой этих своих сторон и, не имея какого-либо самостоятельного, несводимого содержания, которое отсутствовало бы в них и было присуще лишь человеку-в-целом («интегрального» содержания, в наших терминах), – оказывается для философии предметом пустым, несуществующим. В частности, он не способен и послужить основой для концептуализации, формирования концепта. Проблема человека снимается, заменяясь проблемой субъекта (вкупе с проблемами изучения телесной машины и смешанных явлений – проблемами, уже прикладными, скорей физиологическими и психологическими, чем философскими). Эта философская деконструкция закономерно отражается на терминологическом уровне. Когда представление о человеке-в-целом сделано философски пустым, сам термин «человек» делается также пустым и как бы вводящим в заблуждение. Мы говорили, что в дискурсе Декарта уловима тенденция к тому, чтобы, оставив имя «человек» за телесной машиной, не называть вообще никак обессмысленную сумму Я и тела; и философски это было бы честно и правильно. Вполне допустимо сказать, что в учении Декарта, в его картине реальности нет человека: ибо нет никакого ясного образа (тем паче понятия) человека как такового, «всего человека», в полноте его содержания, состава и свойств.
Эти выводы, возникающие уже на базе одного лишь ядра, ведущих принципов метафизики Декарта, закрепляются и усиливаются при более полном взгляде на эту метафизику. Рассмотрев ее причастные к антропологии разделы, учение о теле и учение о страстях души, мы нашли, что кардинальные факты сопряжения, соединенности обоих полюсов дихотомии в одном человеческом существе и наличия обширной сферы явлений, связанных с обоими полюсами одновременно, получают весьма неубедительную, несовершенную трактовку, скорее на эмпирическом уровне и с уходом от принципиальных философских вопросов. По сути, сопряжение «мыслящего» и «протяженного» в человеке остается неотрефлектированным, философски темным. Сам же человек предстает, в итоге, как некий плохо обозримый и крайне неестественный, если не сказать абсурдный, конструкт: некое «антропологическое образование», состоящее из очень многообещающего субъекта с разумом как у самого Бога, с ясными целями и безграничными задатками, и из нелепого привеска к нему – физиологического автомата, чуждого всякому смыслу и служащего лишь оковами и помехой в разумной активности субъекта. Как уже сказано, никакого философского концепта этому «образованию» не отвечает; и когда мы используем для него термин «индивид», надо помнить, что у нас данный термин – не концепт, а только обозначение. Наконец, к неестественности добавляется существенная неполнота: как мы тоже выяснили, у этого «антропологического образования» редуцирована, либо ампутирована вся богатая, разнообразная сфера интегральных проявлений человека.
В свете сказанного, Человека Картезия явно нельзя назвать ни совершенным, ни хотя бы удовлетворительным философским решением проблемы человека. В философию был введен субъект, но субъект, как признавал сам Декарт, – не человек. Сам же Человек Картезия, или индивид, как мы сейчас резюмировали, во-первых, не до конца отрефлектирован, концептуализован, так что не вполне «введен в философию», во-вторых, крайне неестественен по своему облику, по конструкции, и в-третьих, антропологически не полон, частичен. Стало быть, и индивид – не очень-то человек; человек же – нечто другое по отношению и к субъекту, и к индивиду. Что же есть это «другое»? Задав этот сам собой встающий вопрос, мы обнаруживаем, однако, что весьма долгий период европейская философия практически не задавалась им, но прочно приняла решение, предложенное Картезием, в качестве основы своих антропологических позиций. К тому были веские причины.
Будучи скверным решением проблемы человека, индивид и субъект в то же время оказались удобным и эффективным решением целого ряда других проблем, большой практической важности для европейской цивилизации. Центральная из них нами уже указывалась и обсуждалась: это, разумеется, проблема научного познания, ради наилучшего решения которой Декартом и создавались основы его учения. Как известно, субъект служит краеугольным камнем того новоевропейского способа познания, на котором базировались все научно-технические революции и без которого немыслимо появление и развитие индустриального общества, – так что поистине, если бы субъекта не было, его бы следовало выдумать. Но когнитивная миссия, как бы она ни была важна, – далеко не единственная миссия субъекта. Уже говоря о Боэции, мы отметили, что тенденция индивидуации, которую мы нашли направляющей и формообразующей для западного менталитета, выражалась не только в философской мысли, но и в общественных практиках (причем здесь ее развитие могло и опережать философское оформление, как это было в Древнем Риме). Эти социальные или социо-антропологические практики, подобно сфере познания, представляют собой развертывание, икономию некоторого определенного аспекта или рода активности человека: как, скажем, практики правовые, практики в сфере нравственных отношений, экономических и т.п. В каждой из таких практик центральную роль играет фигура, аналогичная агенту познания в когнитивной сфере, т.е. человек, рассматриваемый в пределах определенной области своих проявлений: участненный до этой области. И отсюда уже понятно, что, когда тенденция индивидуации получила окончательное и образцовое философское выражение в фигуре субъекта, – субъект доставил теоретическую основу для всего репертуара этих практик. Он стал «универсальным подлежащим» для всех видов осуществляемых в них активностей; стал универсальной моделью человека участненного (мы говорим, главным образом, о социальных практиках, ибо для многих практик антропологических – скажем, соматических или психопрактик – субъект как «подлежащее», вообще говоря, негоден). Произошло самое широкое тиражирование субъекта, во всех требуемых вариантах: возникли субъект права, нравственный субъект, субъект производства, потребления… И снова понятно, что это всепроникающее внедрение субъекта в фактуру социального существования надолго закрепило его господство и намного затруднило его критику. Человек-в-целом был вытеснен отовсюду, и создавалось полное впечатление, что если он и есть вообще, то не более, как некое «добавочное совершенство, без которого можно просуществовать», как славно выразился Декарт о любви.
Прочность положения, занятого субъектом и индивидумом в европейской философии, всем европейском способе мышления, поддерживалась их исторической укорененностью. С самого начала мы представляли мысль Декарта стоящей в магистральном русле европейской философии, к главным чертам которого мы относили тенденцию к индивидуации. Не будет лишним добавить, что эта мысль наследует и ряду других существенных линий в европейской философии, культуре, духовности. Держась ближе к теме о человеке, укажем прежде всего, что Человек Картезия продолжает и выражает антропологические интуиции Ренессанса. Верность Декарта духу и принципам ренессансного миросозерцания несомненна, его текст явственно доносит даже характерный творческий темперамент, который историки культуры привыкли связывать с Ренессансом: темперамент, где соединяются страсть к познанию и абсолютная уверенность в уже открывшейся, уже обладаемой истине, уверенность в своей правоте и неукротимый напор победительного продвижения мысли, и безграничная энтузиастическая вера в человека, а значит – и в себя (или, возможно, в себя, а значит – и в человека). То, как говорит он о своих открытиях, не раз вызывает в памяти слова Бруно: «от этих истин расширяется грудь и сильней бьется сердце!» – и эта явная близость тем значимей, что личные темпераменты неистового ноланца и осторожного, интравертного француза полностью противоположны.
Мысль Ренессанса была более идеологией, нежели философией, ренессансная антропология была декларативна и эклектична. Тем не менее, здесь ясно заявлялись главные установки, и из них выступал как будто довольно определенный образ человека. В нем были хрестоматийные ренессансные мотивы утверждения могущества и «достоинства человека» (по формуле Пико), был пафос безграничных возможностей творческого развертывания человека в познании безграничного мироздания. На языке наших «портретных черт» это значило, что здесь выдвигались, прежде всего, секуляризованность и примат когнитивной функции; конечно, присутствовала тенденция и к индивидуации, ярко выраженная в культе сильной творческой личности. Однако мы не найдем здесь дуалистичности, рассеченности человека; напротив, верным будет сказать, что в ренессансном видении человек представал единством, гармонической цельностью. Установкой Ренессанса был подлинный антропологизм, а не анти-антропологизм; антропология Ренессанса утверждала цельную, холистическую, секуляризованную индивидуальность, безгранично реализующую себя в творческом миропознании. Но эта антропология, повторим, была не столько философской концепцией, сколько красивой заявкой; и как таковая, она видела и учитывала отнюдь не все внутренние связи и следствия утверждаемых ею принципов. Поэтому мысль Декарта, соединявшая верность духу и направлению Ренессанса с философской проработанностью и глубиной, неизбежно должна была внести в эту антропологию некоторые коррекции. Когнитивный Первоакт Декарта показал, что пределом индивидуации и «подлежащим» активности познания служит не гармонический и утопический цельный человек, а «мыслящее», которое было тут же превращено в субстанцию и субъекта и усмотрено как полностью чуждое, иноприродное всему прочему в человеке, «протяженному». В итоге, единство и цельность человека оказались несовместимы с определяющими чертами миропознающей секуляризованной индивидуальности, и эта индивидуальность была конституирована как декартов индивид, дихотомически рассеченный и антропологически неполный. В этом и состояла декартова философская коррекция: холистический секуляризм Ренессанса в антропологии Декарт перевел в русло антропологии дуалистической. Это же можно сказать и так: ренессансную веру в человека Декарт скорректировал до веры в субъекта; и при такой коррекции антропологизм Ренессанса перешел в анти-антропологизм Нового Времени.
Отчасти сходной представляется и роль Декарта по отношению к другой линии в европейской мысли о человеке. Мы говорим о древней линии дуалистической антропологии, орфической, платонической, неоплатонической, преобладавшей в античности и сохранившей немалое влияние в христиансткую эпоху. Соотношение Декарта с этою линией затрагивалось нами не раз и в разных аспектах; сейчас мы хотим лишь резюмировать его общий характер. Справедливо считать, что антропология или анти-антропология Декарта наследует и этой линии, которую мы также характеризовали как анти-антропологию. Но, как и в отношениях с ренессансной традицией, Декарт здесь снова – и продолжатель, и преобразователь. Суть трансформации, совершенной им, мы уже выяснили выше: если прежние дуалистические доктрины сосредоточивались на онтологической проблематике и носили религиозный, а часто и спиритуалистический характер, то Картезий переводит эту старинную, онтологически и спиритуалистски ориентированную анти-антропологию в гносеологизированное и секуляризованное русло, тем самым сообщая ей – опять-таки дух Нового Времени.
Вкупе, эти замечания ретроспективного характера позволяют уже с полным правом повторить нашу оценку места и роли анти-антропологической концепции Декарта: Человек Картезия может рассматриваться как итог и синтез предшествующей европейской мысли о человеке, надолго ставший господствующей моделью для мысли последующей. Или то же, короче: Человек Картезия – не кто иной как Классический Европейский Человек. Нам предстоит проследить его судьбу, и ближайшая крупная страница в ней – кантовский этап.
ГЛАВА 3. Апогей классической модели: Кантовы антропотопики
В формировании концепции человека, отвечающей последним столетиям европейской истории, центральную роль без колебаний отводят Канту. Это справедливо, но вместе с тем и парадоксально. Справедливость непосредственно очевидна: не только в чистой философии, но и во всем мировоззрении Нового Времени, идеи и представления, связанные с человеком, в большинстве своем или принадлежат Канту, или восходят к нему, или же получили у него свое зрелое оформление. (Понятно, что наше утверждение первопроходческой и основоположной роли Декарта не противоречит этому, однако вносит уточнение: общие контуры и установки европейской антропологической модели относятся именно к тому, что у Канта лишь «получило зрелое оформление», до этого уже появившись у Картезия). Парадоксальность же становится очевидна из нашего анализа антропологических структур европейской мысли. В Разделе 3 мы нашли, что антропологии Декарта присуща определяющая черта, которую мы назвали «антиантропологичностью», передав ее суть как «отсутствие человека в качестве некоторого целостного единства». Сейчас пора описать точней, что же мы понимаем под «антиантропологичностью». Что, в самом деле, означает «отсутствие человека как целостного единства»? Философия, в которой присутствует «человек как целостное единство», не заимствует его готовым откуда-либо, она должна сначала сама же создать его. В свою очередь, это означает, что философия должна тематизировать «человека как целостное единство»: дать философскую постановку проблемы полного антропологического описания, представив некие критерии цельности и полноты философской дескрипции человека. При этом, необходимо концептуализовать полномерность, полносоставность человека, а также полноту его охвата в философском дискурсе, т.е. представленность в нем всех основных измерений природы и активности человека. Если подобная тематизация налицо – и только в этом случае! – мы скажем, что философский дискурс конституируется как «философия человека». (Мы оставляем пока в стороне термин «философская антропология», нагруженный долгой историей трактовок и попыток реализации; ниже, при обсуждении мысли Шелера, мы вернемся к нему. За термином же «антропология» сохраним обычный широкий, размытый смысл всякого антропологического дискурса, речи о человеке). Если же в речи о человеке нет тематизации человека-в-целом, с предикатами и критериями единства, цельности, полноты, и напротив, присутствуют лакуны или иные факторы, исключающие полноту антропологической дескрипции, так что, в этом смысле, человек-в-целом изгоняется из дискурса, уничтожается, – мы говорим, что данной речи о человеке, данному опыту антропологии в той или иной мере присуще качество антиантропологичности. Стоит здесь подчеркнуть, что «философия человека», как мы определили ее, отнюдь не объявляет априорно человека цельностью и единством, но объявляет его целостность философской проблемой, априори допуская возможность любых решений. Напротив, антиантропологические концепции, согласно нашему определению, строят свой дискурс, априорно исключая конституцию человека как целостного, несводимого единства. И как можно удостовериться, этому определенно удовлетворяют все основные опыты антропологии в европейской мысли, от Платона и до Фуко.
Возвращаясь же к антропологии Канта, можно сказать, что парадоксальность ее центральной позиции в новоевропейских антропологических воззрениях заключается именно в ее антиантропологичности, которая сравнительно с учением Декарта еще углубляется и усугубляется. Как мы далее убедимся, в ней действительно нет самой темы о человеке-в-целом. Под антропологическим углом зрения, философия Канта начинается с исследования некоторой выделенной (именно, когнитивной) сферы антропологической реальности, которая рассматривается в качестве главной; затем данное исследование дополняется аналогичными исследованиями некоторых других измерений этой реальности. Тем самым, как речь о человеке, эта философия строится не в логике постановки и последовательного раскрытия проблемы человека, но скорей в логике поочередного рассмотрения отдельных сфер и постепенного накапливания антропологического материала – так сказать, собирания досье на человека. Касательно же всей совокупности полученного материала Кант не ставит вопроса – и сами мы также не можем заключить, оставаясь в рамках его дискурса, – не содержит ли эта совокупность принципиальных упущений, зияний в философском образе человека: ибо внутренние критерии законченности и полноты философской дескрипции человека не установлены. Специально же антропологическое сочинение Канта, «Антропология в прагматическом отношении» (1798), отделяется им от метафизики и строится в ином дискурсе, эмпирико-описательного характера. Отчасти (но лишь отчасти) эти особенности кантовской мысли о человеке имеет в виду Хайдеггер, когда он в книге «Кант и проблема метафизики» акцентирует «эмпирический характер антропологии Канта».
Здесь также выступает один момент, крайне характерный для мысли Канта и важный для общей оценки его антропологии. Дело в том, что трудно найти философа, который более Канта заботился бы о полноте охвата философского предмета, представленности всех его составляющих и сторон; однако при этом, все до последней детали – предмет, полнота, составляющие предмета, способ их представления… – рассматривается в рамках кантова трансцендентального метода. Предмет получает место в сетке дисциплин, крупную структуру которой образуют Metaphysica generalis (она же онтология и она же трансцендентальная философия) и Metaphysica specialis, куда входят теология, космология, психология. В соответствии с этим местом, для него выстраивается исчерпывающая систематика, включающая и его составляющие, и стороны, и отношения, и проекции; иногда она даже представляется в форме таблицы. Полнота здесь никак не оставляет желать лучшего; и есть всего лишь одна малая закавыка. Она в том, что когда перед глазами нормального, в особенности же, русского человека возникает большая, на страницу «Критики практического разума», «Таблица категорий свободы» с графами по «количеству» и «качеству», «отношению» и «модальности», – вопрос у него встает о совсем иной полноте: полный ли автор идиот или еще есть надежда? Человек Канта – то самое существо, что являлось в кошмарах героям русской литературы: существо, которое «хочет по табличке», осуществляет свою свободу (??) по табличке – и собственно, целиком из табличек и состоит. Выраженный в литературе ужас перед таким существом имеет прямое отношение к вопросу о «полноте антропологической дескрипции». То, что питает этот ужас, применительно к философии Канта можно передать так: кантова систематика антропологических понятий может быть полной в некоем своем формальном смысле, может включать реальные характеристики человека и его ситуации, но при этом действительный человек может нисколько не отражаться, не помещаться в ней. Самое важное в нем окажется не в клетках таблиц, а где-то между ними, и в этом, более существенном смысле, антропологическая дескрипция здесь может быть не только не точна, но вопиюще искажена. Сегодня многое из того, что герои литературы прошлого лишь чувствовали, нашло положительное, концептуальное выражение, и мы прочно знаем, что описанная ситуация – не простая возможность: доподлинно, в антропологической реальности, в действиях и поступках человека куда влиятельнее и глубже совершенно другие силы, принципы, связи, нежели те, что стоят у Канта в его таблицах, образуя топики и типики. Человек в самом деле не в их клетках, а между ними, и кантовы сети не улавливают его, они притащили мертвеца. И то, что подобная глубоко антиантропологичная антропология оказалась в центре, в основе классической европейской модели говорит многое о европейской антропологической мысли: мы можем заключить, что качество антиантропологичности присуще всему ее главному руслу и всему пути.
По поводу же антиантропологичности системы Канта надо сделать существенное уточнение. У Канта отнюдь нет утверждения, что его трансцендентальная аналитика, будь то в «Критике чистого разума», «Критике практического разума» или какой-либо совокупности текстов, доставляет полную трансцендентальную систематику человека как такового, подобно обычным предметам трансцендентальной философии. Человек как таковой не объявляется предметом в орбите трансцендентального метода, его статус в философии Канта сложнее и уникальней, но вместе с тем, и двусмысленней. Как хорошо известно, в конце «Критики чистого разума» сформулированы знаменитые три вопроса (1. Что я могу знать? 2. Что я должен делать? 3. В чем у меня потребность надеяться?), в которых «соединяются все интересы как спекулятивного, так и практического разума». Столь же известно, что во «Введении к Лекциям по логике» три вопроса дополняются четвертым, и весь список получает истолкование несколько иного рода, ориентированное именно к антропологии: «Поле философии… может быть сведено к следующим вопросам : 1. Что я могу знать? 2. Что я должен делать? 3. В чем у меня потребность надеяться? 4. Что такое человек?… В основе, все это можно причислять (rechnen) к антропологии, поскольку три первых вопроса сводятся к последнему»
[102]. Данные слова Канта указывают определенный способ прочтения его философии – или иначе говоря, они представляют собой мета-высказывание: тезис о том, что по отношению к его системе философии, над ней, существует мета-уровень, или мета-дискурс, в рамках которого вся эта система представляется некоторым новым и притом единым образом; и этот мета-дискурс есть «антропология», представляемая как раскрытие вопроса «Что такое человек?» Тем самым, этот мета-тезис Канта является и указанием на то, каково истинное отношение его системы к антропологии. Разумеется, многие ее категории несут антропологический смысл, и в ней есть уровень
непосредственного антропологического содержания, к которому и относились все наши суждения. Но истинное ее антропологическое содержание раскрывается лишь путем особого прочтения или дешифровки всей системы в целом как антропологии, или иными словами, путем надстраивания мета-дискурса; и это истинное содержание может, вообще говоря, оказаться весьма отличным от непосредственного. Человек как таковой, как предмет вопроса «Что такое человек?» выступает, таким образом, как не столько предмет, сколько «мета-предмет», не столько содержимое, сколько искомое трансцендентальной философии; и в свете этого, наши выводы об антиантропологичности последней могут быть и не вполне справедливы.
С другой стороны, не менее важно то, что антропологический мета-дискурс к трансцендентальной философии отнюдь не был выстроен; Кант лишь заявил о его возможности. Дальнейшая европейская философия не заинтересовалась этим заявлением и не делала попыток реализовать его; вместо этого, она приняла в качестве своей антропологической базы именно «непосредственную» антропологию Канта с ее антиантропологизмом. (Единственным исключением, уже в наше время, явился Хайдеггер, и о его рецепции кантовской антропологии у нас еще будет речь). Соответственно, и для нас нет иного выбора, как в дальнейшем обсуждении всюду иметь в виду лишь «непосредственную» антропологию Канта: единственную реально наличную.
***
В исходных установках своего философствования, отправных темах своей мысли Кант легко может показаться не столь радикален и решителен, как Декарт. Картезий сразу и напрямик входит в предмет и проблему – проблему, которую он видит главной и коренной; и движется к решению исключительно путем прямых личных отношений с предметом, не допуская между ним и собою никаких внешних инстанций, будь то свидетельства традиции, каноны дисциплины или любые другие направляющие указания. Из всей предшествующей философии для него заслуживают упоминания разве Платон и Аристотель, и то лишь ради заявления, что у них также почерпнуть нечего. Что же до Канта, то, по словам Хайдеггера, он отправлялся от «школьного понятия метафизики» своего времени – понятия, которое «можно передать дефиницией Баумгартена: Metaphysica est scientia prima cognitionis humanae principia continens. Метафизика – наука, содержащая первые принципы человеческого познания»
[103]. Он был тесно связан с этою школьной метафизикой, представленной ныне полузабытыми именами: детально в ней разбирался, писал о ней и явно не стал бы отрицать, что немецкая школьная философия и была исходной почвой для его мысли. В противоположность Декарту, здесь перед нами как будто не предметное, а «дисциплинарное» мышление, мышление школьно-схоластического типа, занятое не столько реальностью как таковой, сколько ее вмещением в дисциплинарные рамки и правила, дефиниции и классификации.
Как привычно в философии, истина отстоит далеко от первого впечатления. Действительная картина общего и различного, совпадений и расхождений у двух мыслителей гораздо глубже и поучительней. Прежде всего, на самом общем уровне, их объединяет эпоха (которую они же и создавали): и это уже немало. По убеждению человека Нового Времени и Просвещения, мироздание и человек были разумны и адекватны друг другу: человек наделен разумом, т.е. познающим началом, мироздание – разумным, т.е. познаваемым устройством, и таким образом, вся картина реальности естественно и необходимо представлялась в ключе познания. Способность познания оказывалась в кардинальнейшей роли, на нее возлагались все надежды, и ею определялись целиком и сущность, и ситуация, и миссия человека. И не будет ошибкой сказать, что центральной проблемой, занимавшей мысль Декарта и мысль Канта, была одна и та же проблема: а именно, проблема человеческого познания. Оба мыслителя – в том же русле когнитивно ориентированного философствования, начало которому положил Декарт и к которому, как видно из дефиниции Баумгартена (1743), принадлежала и предкантовская немецкая философия. Но далее следуют достаточно капитальные различия. Проблема познания изначально видится Кантом совершенно иначе: многоаспектней и глубже; и за счет этого, она оказывается у него не только когнитивной проблемой как таковой, но одновременно – проблемой онтологии, проблемой трансцендирования, а также, как мы увидим, и «дисциплинарной» проблемой, проблемой оснований и границ метафизики (откуда и связи со школьной философией предстают в новом свете).
В постановке Канта, средоточием проблемы выступает вопрос, занимавший очень малое место у Декарта: вопрос об основаниях познания, в свою очередь, сразу выводящий к вопросу об основаниях познающего разума. Для Декарта философское исследование когнитивной способности, по последнему счету, функционально. Мы ясно прослеживаем у него прагматическое отношение к акту и процессу познания: они должны приносить полезные плоды и для этого их данные должны обладать ясностью и отчетливостью, достоверностью и безошибочностью – возможность чего должны, очевидно, обеспечивать некие основания и предпосылки, которые, в силу данной цепочки причин, также следует выяснить. Но у Канта, для его философского сознания, вопрос об основаниях – не в конце цепочки причин, а напротив, в самом начале. Это – коренной вопрос, который должен быть задан о каждом предмете мысли и в свете которого предмет собственно и становится философским предметом; именно в ответе на этот вопрос развертывается философское продумывание предмета. У Канта он облекается в форму вопроса о внутренней возможности предмета; и в кантовском вопрошании: «Как возможно…?», обращаемом к любому явлению и предмету, сразу распознается известная с древности реакция аутентично философского сознания: философское удивление.
Чтобы держаться ближе к терминологии и схеме, уже принятым выше, при обсуждении учения Декарта, мы можем говорить, что ядро и основу критической философии Канта также составляет «конституция когнитивного акта»; но сейчас к этой формуле нужно существенное уточнение. С выдвижением в центр вопроса об основаниях познания, проблемой становится конституция такого когнитивного акта, в котором познание, как говорит Кант, «занимается не предметами, а способом нашего познания предметов»
[104]. Это особый род познания: познание, обращающееся на собственные основания, конституирующее и исследующее их посредством специфической активности, которая есть одновременно и постигающее всматривание в них и образование-выстраивание их (Bildung). В разных своих аспектах, оно обозначается целым рядом терминов: познание трансцендентальное, априорное, априорно-синтетическое, онтологическое, чистое; познание бытийного устройства (Seinsverfassung) сущего и т.д. Эти термины отнюдь не синонимы, но все они характеризуют род и способ познания, отчетливо не идентифицированный докантовской философией и принципиально отличный, по Канту, от обычного «познания, занимающегося предметами» и обозначаемого как опытное, эмпирическое, онтическое познание, познание сущего и т.д. При этом, по своему исходному смыслу, чистое познание, представляя основания познания как такового, должно служить фундирующим горизонтом для эмпирического познания – что, очевидно, должна обеспечивать его конституция. Нам нет разумеется, нужды излагать лишний раз эту классическую конституцию; но следует представить те ее понятия и те элементы ее основоустройства, которые необходимы для реконструкции
антропологического дискурса в критической философии.
Конституция чистого познания («априорного синтеза», «онтологического синтеза» и т.п.), осуществляемая в «Критике чистого разума», – крупномасштабное построение с редкостным, уникальным уровнем эвристики: как пресловутый самолет, который в полете изготовляет и выпускает из себя другой, более совершенный самолет, мысль Канта, двигаясь по сложным путям, одновременно и непрестанно вырабатывает новый, а затем снова еще новый концептуальный аппарат, изменяющий ее собственную природу, – и при этом неуклонно выдерживает направление основного продвижения, безошибочно приближаясь к поставленной изначально цели. Чтобы сжато описать этот уникальный tour de force чистого разума, мы воспользуемся его реконструкцией у Хайдеггера, где специально выделен нужный нам онтологический аспект. Хайдеггер разделяет процесс на следующие пять стадий.
1. Идентификация сущностных элементов чистого познания: по отдельности, вне их связей. Таковыми элементами признаются чистое созерцание и чистое мышление, в свою очередь, представляемое как набор понятий чистого разума (Notions).
2. Предварительное исследование сущностного единства чистого познания. Поскольку конституция равносильна установлению сущностного единства конституируемого, то это, в известном смысле, ключевая стадия; на ней выявляются средства и намечается стратегия решения стоящей проблемы. Выясняется, что орудием и средством осуществления единства, т.е. синтеза чистого созерцания и чистого мышления, может служить
способность воображения (Einbildungskraft): «Синтез, как мы в дальнейшем увидим, есть простое действие способности воображения, слепой, хотя и неотъемлемой функции души, без которой мы не могли бы иметь нигде и никакого познания, но которую мы лишь редко осознаем»
[105]. Само же единство полной сущности чистого познания включает три компоненты: «Первое, что должно быть нам дано для цели познания любых предметов априори, есть
множественность чистого созерцания;
синтез этой множественности с помощью способности воображения есть второе, однако это еще не дает познания. Понятия, которые доставляют
единство этому чистому синтезу и состоят попросту в представлении этого необходимо синтетического единства, являются третьим, [что нужно] для познания соответствующего предмета, и имеют основу в разуме»
[106]. Ввиду участия здесь «понятий (чистого) разума», к данной стадии принадлежит и аналитика этих понятий, представляющая и исследующая их как «онтологические предикаты», или, что то же, категории (трактовка которых у Канта не совпадает с аристотелевской).
3. Трансцендентальная дедукция. Рассмотрение единства чистого познания на предшествующей стадии еще не было полным осуществлением кантова методологического принципа вопрошания об основаниях. Это единство анализировалось как предположительно существующее, и еще не ставился вопрос о собственных его основаниях, его внутренней возможности. Данный вопрос составляет содержание очередной стадии онтологического синтеза, задачу которой Хайдеггер формулирует так: «В чистом синтезе должны мочь встретиться чистое созерцание и чистое мышление априори. Чем и как должен быть сам чистый синтез, чтобы быть достаточным для заданий подобного единения?… Прослеживание изначального само-формирования (Sich-bilden) сущностного единства онтологического познания есть смысл и задача того, что Кант называет «трансцендентальной дедукцией категорий»»
[107]. (При этом, понятие дедукции Кант употребляет в значении, принятом в сфере права, вместо обычного логико-философского значения). Данная стадия отличается тонкостью и запутанностью; ее трактовка заметно менялась самим Кантом во втором издании «Критики чистого разума» сравнительно с первым. К тому есть весомые причины: именно на этой стадии выявляется, что чистое познание есть в существенном
трансцендирование: обращенность, исхождение, исступление познающего вовне, от себя, из себя – к сущему; и лишь с появлением концепции трансцендирования в центре, в фокусе онтологического синтеза, получает освещение и оправдание само кантовское определение своего метода, специфического характера его понятий – как «трансцендентального», соотносящего с трансцендированием. Трансцендентальная дедукция должна раскрыть всю в целом структуру чистого синтеза таким образом, чтобы эта структура выступила как основоустройство трансцендирования. Одним из важных результатов ее является уточнение: совершающей силой чистого синтеза служит
трансцендентальная, или же «чистая продуктивная» способность воображения, поле которой не ограничивается содержаниями, почерпнутыми из опыта. Именно эта способность оказывается тем необходимым посредством, срединной инстанцией в икономии чистого познания, которая может свести вместе, сопрячь чистую апперцепцию и чистое созерцание.
4. Трансцендентальный схематизм. После стратегически ключевой второй стадии и концептуально решающей и центральной третьей, конституция входит в завершающие фазы. Как выяснено на третьей стадии, критическую важность для всей конституции в целом имеет активность трансцендентальной способности воображения, обеспечивающая единство чистого познания и выступающая как конститутивный элемент трансцендирования. Кант находит, однако, что при рассмотрении трансцендентальной дедукции специфический механизм, каким эта способность осуществляет свою единящую и трансцендирующую функцию, еще остается темным; и для изведения этого темного механизма в прозрачность выстраивается очередной круг новых идей и понятий. В трансцендировании как исхождении к сущему, к чувственной реальности, созерцание выступает как восприятие, оно должно облечься в чувственное; то же должно произойти и с другой компонентой чистого познания, апперцепцией: ее содержания, чистые понятия, также должны совершить это исхождение и облечение («очувствливание», Versinnlichung). «Горизонт трансцендирования может формироваться (sich bilden) лишь в очувствливании… трансцендирование формируется в очувствливании чистых понятий… [причем] это очувствливание также должно быть чистым»
[108]. Именно это чистое очувствливание чистых понятий, входящее в сущность трансцендирования, Кант выражает понятием «трансцендентальный схематизм», или же схемообразование, совершаемое чистой способностью воображения.
Введение новых терминов не слишком содействует прозрачности; основное продвижение к ней достигается в скрупулезном анализе понятий «схема», «образ», «чистый образ» (связанный с чистым созерцанием, каковое, по Канту, есть время), «схемообразование». Эта аналитика раскрывает двойственную, сопрягающую природу всех специфических понятий стадии схематизма. Само же понятие схемы обнаруживает такую природу сразу в нескольких отношениях. Прежде всего, схема осуществляет связь чистого созерцания с чистым понятием и апперцепцией: она сопоставляется чистому понятию таким путем, что в схемообразовании она одновременно связуется с чистым образом, лежащим в поле чистого созерцания; и, как явствует отсюда, схемообразование именно и есть тот механизм, посредством которого трансцендентальная способность воображения осуществляет свою единящую и трансцендирующую миссию. Далее, схема делает возможным «приложение категорий к явлениям», причем для передачи способа и характера этого приложения Кант вводит еще новое понятие «подчиненности» (Subsumtion), заимствуемое на сей раз из логики, и говорит о «подчиненности эмпирических (вообще, чувственных) созерцаний понятиям чистого разума». И наконец, в качестве почти тавтологической, но отнюдь не лишней, вариации последнего свойства, можно заметить, что, осуществляя посредствующую функцию между явлениями и понятиями чистого разума, кантова схема есть бинарный объект, соединяющий в себе чувственную и интеллигибельную стороны: «Это посредствующее представление должно быть чистым (без всякого эмпирического элемента) и, однако, с одной стороны, интеллектуальным, с другой же чувственным. Таковым представлением и является трансцендентальная схема»
[109]. Идея подобного бинарного «умно-чувственного» предмета очень вскоре будет развита Шеллингом в его концепцию символа, а затем станет ядром целой особой ветви «символической» философии и эстетики; и в свете теснейшей включенности кантовой «схемы» в его концепцию трансцендирования, нам открывается здесь нить, связующая трансцендирование у Канта с идеей символа.
Хотя целью всех построений данной стадии было достижение наглядности и прозрачности, однако не только ход рассуждений, но и конечные результаты их оказываются достаточно сложны, не прозрачны; недаром уже в поздние годы жизни сам Кант признавал схематизм «труднейшим пунктом» своего учения. Мы не склонны видеть в этом лишь чисто техническое обстоятельство: не отражается ли тут также и невозможность вполне наглядно и убедительно продемонстрировать природу исследуемых актов как «трансцендирование»? Или иными словами, не отражается ли тут то, что вводимая концепция трансцендирования остается – по крайней мере, в некоторых чертах – принципиально дискуссионной?
5. Полное сущностное определение чистого познания. Трансцендентальный схематизм с его комплексом понятий довершает конституцию чистого познания. Предметом заключительной стадии является уже не новое продвижение, но обозрение-осмысление общего результата, т.е. всех стадий вкупе; или, что то же, полное сущностное определение чистого познания в его основных аспектах. В главнейшем аспекте, чистое познание есть формирование трансцендирования; и Кант на данной стадии формулирует итоговое положение, которое не говоря прямо о трансцендировании, тем не менее, имплицитно доставляет подобное полное определение. Данное положение, которое именуется у Канта «высшим основоположением всех синтетических суждений», гласит: «Условия
возможности опыта вообще суть одновременно условия
возможности предмета опыта»
[110]. В этой формулировке в центр внимания ставится не затрагивавшийся в ходе конституции аспект проблемы оснований познания: внутренняя возможность познания (опыта) предполагает и возможность для познаваемого выступить предметом познания (опыта). Утверждение может показаться тривиальным или чисто формальным – и однако рассмотрение когнитивного акта под этим углом позволяет более полно выявить сущностную структуру заключенного в акте трансцендирования. В самом деле, если исходные определения трансцендирования характеризовали его со стороны познающего, как «обращенность-к» и «исхождение вовне», как активность экстатического характера, то взгляд со стороны познаваемого, предмета опыта, добавляет сюда, что те же условия, которые обеспечивают это «исхождение-к», одновременно обеспечивают предметное поле, доставляют горизонт исхождения; так что к характеристике трансцендирования как являющегося экстатической активностью, добавляется обладание горизонтом. Следующая формулировка Хайдеггера выражает сказанное несколько полнее и детальней: «Обращающееся к себе предоставление предстояния (Gegenstehenlassen) как таковое образует горизонт предметности вообще. Предваряющее и всегда необходимое в конечном познании исхождение к … (Hinausgehen zu) по этой причине есть постоянное стояние в исшедшести (Hinausstehen) к … (Экстаз). Но эта существенная исшедшесть (Hinausstand) к … именно в своем стоянии образует и доставляет себе – горизонт. Трансцендирование является экстатически-горизонтальным в себе. В этом членении единого в себе трансцендирования и выражается высшее основоположение»
[111].
Это выявление «горизонтального», или «горизонтного» аспекта в понятии трансцендирования имеет принципиальное значение для раскрытия онтологического содержания данного понятия и всей эпистемологии Канта. Бытийное устройство (познаваемого) сущего, онтологическое измерение его существования раскрываются, выступают в открытость лишь в некотором горизонте; и Хайдеггер пишет: «Онтологическое познание «образует» трансцендирование, и это образование есть не что иное как держание открытости (Оffenhalten) горизонта, в котором первоначально становится узреваемо бытие сущего»
[112]. Вслед за дискуссией трансцендирования, онтологическое содержание чистого познания – другой важнейший аспект, которого нельзя обойти в итоговом обозрении конституции. Сам Кант почти не пользуется терминами «онтология» и «онтологический», однако он с полной определенностью проводит отождествление: его учение, или «трансцендентальная философия» есть то же что «онтология» и то же что Metaphysica generalis (воздержание же от «гордого имени онтологии» связано более с деталями отношений трансцендентальной философии с прежней онтологией, которую Кант, впрочем, называет «трансцендентальная философия древних»). Как обозначение способа и горизонта мысли, «трансцендентальное» в дискурсе Канта равнозначно «онтологическому»; и вслед за рецепцией Хайдеггера, мы также будем именовать кантовы «априорный синтез», «трансцендентальное познание» и под. – «онтологическими».
Абсолютно ясно, что вышеописанная конституция нагружена самым существенным, весомым онтологическим содержанием. Sub specie ontologiae, все предприятие «Критики чистого разума» может характеризоваться, по Хайдеггеру, как «обоснование внутренней возможности онтологии». Здесь совершается
открытие и реконструкция внутренней онтологии когнитивного акта: последовательно развертываемая демонстрация горизонта онтологического познания, необходимо сопутствующего всякому онтическому (эмпирическому, опытному) познанию. Кант демонстрирует, что «не всякое познание является онтическим, и где таковое осуществляется, оно становится возможно лишь через посредство онтологического»
[113]. При этом, не просто демонстрируется существование некой «внутренней онтологии», заключенной в познании, но эта онтология, через свою связь с трансцендированием, получает сущностную дескрипцию в своем характере и типе: именно, «онтология есть не что иное как выразительное раскрытие систематической целокупности (des Ganzen) чистого познания, постольку, поскольку данная целокупность образует трансцендирование»
[114]. Ясно также и то, что в контексте европейской метафизики подобный опыт онтологии отличался кардинальной новизной и спецификой. Отличия лежали не в связи с трансцендированием, которая для онтологии всегда была привычна и традиционна, но в принципиально новой трактовке трансцендирования; а также одновременно в том, что и трансцендирование, и сама онтология представали у Канта интегрированными в основоустройство познания сущего (отнюдь не Богопознания) и вне связей с той проблематикой отношения здешнего бытия и инобытия, что от века считалась сферой и делом онтологии. (Если угодно, они могли трактоваться не как часть, а как некоторое необходимое расширение этого основоустройства, но это не меняло сути и не снимало новизны). Трансцендирование оказывалось «экстатически-горизонтальным» исхождением познающего разума вовне, к познаваемому сущему, онтология выступала «раскрытием целокупности чистого познания» – и будучи таким образом включены в икономию когнитивного акта, это уже были новое «когнитивное трансцендирование» и новая «когнитивная онтология».
Какие перемены это несло? Декарт, как мы говорили, придал европейской метафизике новое течение: гносеологизированное, минимизирующее онтологический дискурс и по возможности избегающее его, равно вытесняющее и онтологию, и теологию – «подальше, чтоб не мешали заниматься делом». Немецкая мысль не могла не уступить властному картезианскому импульсу; однако вытеснение онтологии не отвечало ее стойким тенденциям, особенностям ее типа и стиля. В этой логике, «Критика чистого разума» могла бы видеться как реванш онтологизма: полностью воспринимая декартов сдвиг метафизики в когнитивную перспективу, даже углубляя его, она в то же время возвращала центральное положение онтологии, осуществляя
ре-онтологизацию метафизики. Однако возвращалась в метафизику онтология уже иного, нового типа; и если учесть ее особенности, реванш окажется весьма сомнителен. Связь «когнитивной онтологии», или же онтологического познания, с опытным, эмпирическим познанием у Канта, мягко говоря, не очень проста, что видно даже из нашего беглого описания. Она носит обоюдный характер, включает в себя различные нити взаимозависимости и соподчинения, и рецепция трансцендентальной философии в дальнейшей истории мысли не раз менялась, относя эту философию, в зависимости от разных обстоятельств, то более к гносеологии, то более к онтологии. Неокантианство было сильным, длительным и хорошо аргументированным уклоном к гносеологической интерпретации; но сразу следом за ним Хайдеггер выдвинул свою радикально онтологизированную трактовку, где взгляд на «Критику чистого разума» как на теорию познания объявлялся «коренным искажением» и утверждалось, что «в «Критике чистого разума» впервые обосновывается онтология как базовый раздел метафизики в целом, и впервые онтология выводится к себе самой»
[115]. Нас же сейчас не занимает историко-философский аспект как таковой: мы привлекаем историю рецепции лишь с тем, чтобы извлечь из нее – в дополнение к непосредственному прочтению – некий надежный «общий знаменатель» в оценке существа и значения кантовской онтологии. И на этом пути мы заключаем, что в любом случае нельзя не признать: в рамках кантовского дискурса онтологическое познание, онтология не образуют самодовлеющей и самоценной сферы, они встроены в когнитивную перспективу как в объемлющий контекст и доминирующий дискурс. При всей своей гиперболизации онтологических сторон трансцендентальной философии, Хайдеггер вынужден констатировать: «Если онтологическое познание раскрывает горизонт, то его истина заключается в создании возможностей встретить (Begegnenlassen) сущее в этом горизонте. Кант говорит: онтологическое познание имеет лишь «эмпирическое употребление», т.е. оно служит тому, чтобы делать возможным конечное познание в смысле опыта обнаруживающего себя сущего»
[116]. Коротко говоря: «когнитивная онтология» – онтология, выполняющая служебную функцию в основоустройстве эмпирического познания.
К этому необходимо добавить другой немаловажный момент: онтология прежняя и традиционная, та онтология, которую Декарт лишь отодвигал, но не вступал в спор с нею, – в свете трансцендентального метода подвергается разоблачению, дезавуируется. Кант утверждает: тезисы и положения этой прежней онтологии имеют порочную внутреннюю структуру, являются суждениями недопустимого, некорректного типа, поскольку «притязают доставлять синтетическое знание априори о вещах вообще» или, иначе говоря, быть онтическим знанием априори, которое доступно лишь «бесконечному существу в едином интеллектуальном созерцании». Понятно, что эта аргументация Канта вместе со старой онтологией дезавуирует и ее элементы у Декарта – его идею Бога и доказательство существования Бога: «Путем метафизики достичь от познания
сего мира к понятию Бога и доказательству Его существования
путем достоверных (sichere) заключений невозможно»
[117]. Понятно также, что подобная аргументация применима – и Кант применяет ее – не только к онтологии, но и к религиозной сфере. Здесь разоблачению и отрицанию подвергаются коренные явления и формы духовной жизни, что всегда составляли и составляют основу икономии Богообщения и Богопознания. Кант указывает, что на их почве развиваются «антропоморфизм, суеверие и фанатизм», «мнимый опыт сверхчувственных созерцаний или тому подобных ощущений» и т.д. Он, вместе с тем, замечает, что в сфере практического разума, нравственной деятельности человека, его отношения с инобытием, Богом носят иной характер, чем в сфере спекулятивного разума, они расширяются и обогащаются. Но он усиленно подчеркивает, что обретаемое здесь «расширение» или «приращение» разума не расширяет понятийного познания, а ограничивается сугубо обеспечением этических оснований: в нем достигается «достаточное удостоверение реальности тех понятий, что служат для выражения возможности высшего блага, но без того, чтобы в этом приращении осуществлялось хоть малейшее расширение познания о теоретических основоположениях»
[118]. (К религиозной проблематике у Канта мы еще вернемся не раз, обсуждая его этику, а также черты секуляризованности в его антропологии). В нашем контексте, всю суть кантовской критики религиозной сферы можно свести к отрицанию возможности существования в этой сфере своего особого рода трансцендирования – т.е. того трансцендирования, о котором всегда говорит духовный и мистический опыт, которое принадлежит к глубинной основе этого опыта и которое заведомо и кардинально отлично от «когнитивного трансцендирования», введенного Кантом. – В итоге, позиции трансцендентальной философии таковы, что в согласии с ними, не может существовать ни иного корректного рода онтологии, кроме «когнитивной онтологии», ни иной обоснованной концепции трансцендирования, кроме «когнитивного трансцендирования». И это означает такое тотальное утверждение декартова направления, на какое едва ли когда-нибудь рассчитывал сам Декарт.
Сейчас, прежде перехода к антропологии Канта, нам стоит отметить еще некоторые особенности его эпистемологии, сравнительно с эпистемологией Декарта. (Впрочем, разделительная грань в столь гносеологизированном дискурсе почти условна: ведь конституция когнитивного акта – главная часть конституции познающего субъекта, а та, в свою очередь, – главная часть антропологии). В первую очередь, нам интересна степень близости и преемственности: выдвигая в центр метафизики эпистемологию, парадигму познания, выдвигали ли оба классика, в существенном, ту же парадигму? Общеизвестный ответ гласит: да, в общем и крупном, ту же – а именно, парадигму субъект-объектного познания. Мы, разумеется, согласны, и лишь добавим немногочисленные детали. Не менее общеизвестно, что кантова парадигма познания в дальнейшей рецепции была признана революционной, и ее внедрение именовано «коперниканским переворотом», основание для каковой формулы видели особенно в одном пассаже из предисловия ко второму изданию главной «Критики». В наших терминах, знаменитый пассаж говорит, что познание следует перевести из натуралистической перспективы («познание, организующее себя в соответствии с предметами»), в субъектную перспективу («предметы должны организовываться в соответствии с нашим познанием»). Утверждение революционности Канта в принципе не противоречит тому, что субъект-объектная парадигма введена была уже у Декарта, ибо введение «субъекта познания» еще далеко не равносильно введению субъектной перспективы: субъект может осуществлять познание и в натуралистической перспективе. Но мы хотим заметить, однако, что у Декарта вполне определенно присутствуют существенные элементы именно субъектной перспективы. В Разд. 3 мы специально выделяли их; как лишь один из примеров, напомним характерный тезис из Пятой Медитации: «Прежде рассмотрения, существуют ли вещи вне меня, я должен рассмотреть их идеи, какими они присутствуют в моей мысли». Поэтому родство двух эпистемологий идет глубже, и, в частности, Декарта по праву следовало бы считать соавтором «коперниканского переворота».
Вместе с тем, мы видим и ряд таких элементов когнитивной парадигмы, которые у Декарта еще отсутствуют, либо лишь бегло намечаются. Самый значительный из них – это, разумеется, онтологическое измерение когнитивного акта, главное открытие Канта и конституирующий источник трансцендентального метода. Его мы обсудили уже. Кроме того, лишь у Канта дескрипция когнитивного акта получает полную отчетливость во втором, объектном полюсе этого акта. Если у Декарта полюс объекта не был еще представлен со всей определенностью, то у Канта он выступает даже более отчетливо, чем первый, субъектный полюс: «Все наши представления связаны посредством разума с каким-либо объектом и, поскольку явления суть не что иное как представления, то разум направляется на нечто как предмет чувственного созерцания, но это нечто является вообще предметом созерцания лишь постольку, поскольку оно есть трансцендентальный объект»
[119]. Заметим тут, что субъектный полюс представляется у двух философов весьма по-разному, но об этом различии, особо важном для нас, речь будет ниже, в антропологической части. Вообще, поскольку вся система понятий трансцендентального метода – тесно связанное единство, то все основные эпистемологические концепты Канта несут печать метода, выступают в трансцендентальном освещении. В частности, значительной трансцендентальной спецификой отмечены понятия созерцания и способности воображения, играющие центральную роль в кантовской эпистемологии. Способность воображения, по Канту, – более узкое понятие, одна из частных разновидностей созерцания, определяемая в «Критике чистого разума» как «способность представлять предмет также и без его наличного присутствия (Gegenwart) в созерцании»
[120]; в другом тексте аналогичная дефиниция еще отчетливей: «Способность воображения (facultas imaginandi) есть способность созерцания также и без наличного присутствия предмета»
[121]. Кантовская трактовка этой категории познания абсолютно отлична от трактовки Декарта, видевшего в воображении лишь замутняющую помеху для целенаправленного продвижения познающего разума. По Канту, напротив, роль воображения конструктивна и позитивна; он выделяет целый ряд видов этой способности (чистая, продуктивная, репродуктивная и др.), разбирает ее ценные синтезирующие и созидающие (schaffende) возможности и как мы видели, наделяет трансцендентальную способность воображения ключевой функцией в когнитивном акте: функцией, сводящей воедино апперцепцию и созерцание. Характерно, однако, что место, отводимое воображению в общей структуре познавательных способностей, остается при этом неизменным: тем самым, которое некогда для него нашел Аристотель. В «О душе» Стагирит устанавливает тройственный порядок, помещая воображение, между чувственным восприятием, и разумным пониманием, (см. ГЗ); и этот порядок закрепляется на всю историю мысли. При всех различиях Декарта и Канта, оба классика, следуя за Первым, воспроизводят тройственную эпистемологическую структуру, ставшую универсальной: чувственное восприятие – воображение – апперцепция. Кант именует эту триаду «субъективными источниками познания, на которых базируется возможность опыта вообще».
Что же до созерцания, то система его нагрузок, функций и связей столь обширна, а концептуальная структура столь богата, что есть все основания говорить о присутствии в составе трансцендентальной философии особой «трансцендентальной теории созерцания». Однако для нас нет никаких оснований эту теорию излагать; для нашей темы интересен, пожалуй, всего один ее пункт: ее отношение к зрительной парадигме познания, что даже не с Аристотеля, а с Платона, была магистральным руслом европейской когнитологии, основываясь на оптической аналогии или метафоре, т.е. на представлении деятельности познающего разума по образцу активности зрения. Тут ярко выступают специфические черты кантовского стиля мысли. В контексте философской традиции, позиция Канта отказывается представлять проработку разумом умственного предмета в оптической парадигме, как рассмотрение интеллигибельного предмета, «умное зрение», «интеллектуальное всматривание» и т.д. и т.п. В его терминах, зрительная метафора должна была бы выражаться понятием «интеллектуального созерцания». Он ясно видит всю логику, толкающую к введению этого понятия, не раз подходит к нему вплотную, обсуждает его, признавая, что «нельзя утверждать, что чувственное (Sinnlichkeit) есть единственный возможный вид созерцания»
[122] … и – и отказывается его вводить. Это, однако, не порождает лакуны в его построениях. Будучи магистральным, русло оптической парадигмы все же никогда не было единственным, ибо, очевидным образом, проработка интеллигибельного предмета может также вестись по иным принципам, в русле аналитики суждений, или же «аналитической философии», в обобщенном смысле. У Канта же все когнитивные функции, которые несло бы «интеллектуальное созерцание», принимает «понятие» или «мышление», «понятийное мышление» и т.п., так что (чистое) познание «состоит из понятия и созерцания» (причем Кант, не подпадая под влияние платоновского учения об идеях, не сближает свое понятие и понятийное мышление с оптической парадигмой). Первой из названных сфер познания занимается, как известно, трансцендентальная логика, второй – трансцендентальная эстетика; вся трансцендентальная философия представляется как сумма сих двух, а мы сегодня заключаем, что от эпистемологии Канта нити ведут к обоим современным направлениям в теории познания, и к феноменологии (лежащей в «оптическом» русле), и к аналитической философии (уже в современном смысле). При этом, можно напомнить, что понятие интеллектуального созерцания, от которого Кант упорно уклонялся, было-таки введено его продолжателями еще при его жизни
[123], вошло в арсенал классического немецкого идеализма и имело содержательную дальнейшую историю. Но нам для понимания кантовских концепций более существенно увидеть причины отказа от понятия: они связаны с сильной апофатической окрашенностью всей кантовской трактовки интеллигибельного предмета, ноумена. Ноумен, он же пресловутая вещь в себе, для Канта не может быть полноценным содержательным понятием: «Понятие ноумена – просто
граничное понятие (Grenzbegriff) для того, чтобы ограничить притязания чувственного, и потому имеет лишь негативное употребление. Оно … совпадает с ограничением [области] чувственного, не будучи способно установить нечто положительное, помимо границы (Umfang) этой области»
[124]. Кант утверждает также, что интеллектуальное созерцание есть род созерцания, доступный лишь бесконечному существу, составляющий Божественную прерогативу; и в свете этого, не лишены известной почвы мнения, согласно которым подчеркнутое выделение Кантом определенных сфер непознаваемого – и, в частности, концепция вещи в себе – несет отпечаток его пиетистской религиозности.
***
Не раз уже подчеркнутая нами «антиантропологичность» европейской философии сказывается, в частности, в том, что у Канта, как и ранее у Декарта, мы не найдем антропологии, которая была бы представлена как таковая и собрана воедино, в готовом отдельном виде. Поэтому всякое изложение их антропологии необходимо носит характер реконструкции. В случае Декарта, принципы этой реконструкции были просты и очевидны: мы констатировали, что к декартовой антропологии следует относить три большие темы его учения: концепцию или конституцию субъекта (хотя и не сведенную воедино, но требующую лишь несложного извлечения), теорию «механического тела» и учение о «смешанных», т.е. духовно-телесных явлениях (протопсихологию). Хотя само учение Декарта, по нашей терминологии (см. начало раздела), и не было «философией человека», однако результат соединения этих частей еще сохранял явную антропоморфность и мог рассматриваться как некоторый (пусть и весьма специфический, редуцированный, etc.) образ человека, как «Человек Картезия». В случае же Канта, ситуация куда менее прозрачна. Предмет диктует правила обращения с ним: реконструкция антропологии Канта должна была бы начинаться с вопроса об основаниях и способе реконструкции, кантовского вопроса: «Как возможно?» Однако мы уже знаем – исходя из указаний самого Канта – что попытка реконструкции кантовской антропологии таким ортодоксально трансцендентальным путем равнозначна, на языке Хайдеггера, «обоснованию метафизики в повторении», а в нашей терминологии, выстраиванию особого мета-дискурса над трансцендентальной философией «Критик». Подобное предприятие заведомо не вместимо в наше обозрение европейской антропологической модели, и мы будем вынуждены следовать, в терминах Канта, скорее эмпирическому, чем трансцендентальному методу: рассматривая трансцендентальную философию как внешний предмет, производить дескрипцию его антропологических содержаний, однако и дополнять ее – тем самым, все же поднимаясь над эмпиризмом – анализом природы этих содержаний и их интегрирующим структурированием с новых позиций. Непрозрачность же в том, что кантов дискурс в своих принципах и контурах не имеет уже никакой сообразности человеку, антропоморфности (что, как известно, в Европе считалось философским достоинством), и реконструкция, в известной мере, вынуждена двигаться наугад: в отличие от ситуации с Декартом, мы почти не представляем заранее, каким путем и в какой образ человека сойдутся – да и сойдутся ли? – находимые антропологические элементы.
Нет, однако, сомнения, что главным антропологическим локусом, средоточием антропологического содержания философии Канта служит субъект, и более точно, познающий субъект (именно его мы будем ниже понимать под «субъектом» – пока не пойдет речь о субъекте нравственном). Так было и у Декарта. При общем критическом отношении к предшествующей философии (естественном у мыслителя, стремящегося начать свою философию если и не совсем с чистого листа, как Декарт, но с нового метода), Кант, в целом, принимает исходные позиции его метафизики: «Проблематический идеализм Картезия… разумен и согласуется с обоснованным способом философского мышления»
[125]. Преемственная роль Канта по отношению к Картезию особенно прямо выступает как раз в теме субъекта: развитие концепции субъекта у Канта в ее главных чертах осуществляется в ходе критического анализа соответствующей концепции Декарта и декартовой «Первой истины», тезиса Cogito ergo sum. Как заранее ясно, Кант принимает основу и общее направление открытого Декартом подхода к теории познания: а именно, представление когнитивного акта и процесса в субъектной перспективе; но он расходится с ним в методологическом аспекте, поскольку с позиций трансцендентального метода, мысль Декарта заведомо слишком эмпирична, близка к натуралистическому описанию и недостаточно входит в проблематику оснований познания. Первое, что не раз подчеркивает Кант, – «
Я мыслю есть эмпирический тезис», и он дает свою интерпретацию положения Cogito ergo sum, находя в нем иные основания и иную смысловую структуру: «
Я мыслю есть эмпирический тезис, и он содержит в себе тезис «Я существую». Однако я не могу сказать: все, что мыслит, существует…Поэтому мое существование не может быть усмотрено как следствие из тезиса «Я мыслю», как это утверждает Картезий… но оно тождественно этому тезису… Надо заметить, что когда я называю «Я мыслю» эмпирическим тезисом, я не хочу сказать, что
Я в этом тезисе есть эмпирическое представление; скорей, оно чисто интеллектуально, поскольку принадлежит к мышлению вообще»
[126]. В своем критическом пересмотре декартовой концепции субъекта (Я, духа) и его «Первой истины», Кант совершает их «трансцендентальное претворение», трансформацию в трансцендентальный дискурс, и, как мы уже видим, для этой цели им, прежде всего, проводится строгое разнесение, разведение эмпирического и «чистого» горизонтов; аналогичное разведение требуется и для аналитических и синтетических суждений.
Самые существенные отличия концепции субъекта у Канта – не столько в свойствах субъекта как такового, сколько в особенностях его места и роли в трансцендентальной философии. «Трансцендентальное претворение» субъекта само по себе не совершает с ним никаких разительных превращений. Он сохраняет все старые имена: Я, Душа («Я, как мыслящий, есмь предмет внутреннего чувства и называюсь душой»
[127]), он наделяется субстанцией (как и велит Аристотель, кантова «душа есть субстанция. По своему качеству, простая»
[128]); что же до новых свойств, то, как любой предмет трансцендентальной философии, он раздваивается на (эмпирическое) явление и (интеллигибельную) вещь в себе, а также приобретает дополнительный аспект «трансцендентального субъекта, который эмпирически нам неведом». Но этот новый аспект не играет особенно активной роли. Главное в другом: через посредство субъекта, как мыслящего и познающего агента, определяются и вводятся в аналитику когнитивного акта все понятия и категории этой аналитики. Разумеется, иначе и быть не может; подобная функция субъекта – никак не специфика трансцендентальной философии. Однако специфика, и самая заметная, – в том, какую роль играет ансамбль этих понятий и категорий, сравнительно с ролью самого субъекта.
«Человеческий разум по своей природе архитектоничен, т.е. он рассматривает все знания как принадлежащие к некой возможной системе»
[129]. Мы не сказали бы, что этот тезис Канта бесспорен; но никак нельзя сомневаться в том, что он полностью верен относительно самого философа. Разум Канта в высшей степени, гипертрофированно архитектоничен, и все его «Критики» – бесконечная цепь демонстраций того, как любое понятие может стать поводом и плацдармом для выстраивания очередного комплекса понятий, очередной таблицы, топики, систематики… – причем эти комплексы отнюдь не рядополагаются в простую линию, в список, но, в свою очередь, образуют комплексы комплексов, стройные многомерные конструкции, подлинную архитектуру понятий: Кант мастер в выборе терминов. Мы уже могли видеть образчик этой архитектуры в представленной выше схеме конструкции чистого познания: каждая из ступеней этой конструкции означает появление новой понятийной системы, введение новых методологических и эвристических принципов. Будучи связаны многообразными отношениями, категории и понятия, образующие эту архитектонику чистого разума, составляют между собой sui generis сообщество, республику категорий. Но вот что здесь для нас важно: в этом многообразии связей, определяющих строение и функционирование сообщества категорий – а тем самым и конституцию познания – связь с субъектом, как правило, уже не играет никакой роли! Субъект послужил некогда средством введения категорий. Это не отрицается и не забывается, однако оказывается на поверку третьестепенным: в возникшей архитектонике познания, категории выступают не как
отнесенные к субъекту, но всего лишь как
принесенные им; и это формальное происхождение, общее для всех категорий, совершенно не существенно для тех реальных и очень разных функций, какие они несут в познании. De facto, кантовская конституция чистого познания – аналитика и архитектоника самодовлеющего сообщества категорий.
Все это означает, что в кантовой конституции познания совершается низложение, низведение субъекта: он перестает быть конституирующим принципом этой конституции и не является производящим началом дискурса трансцендентальной философии. Для того же, чем он становится здесь, Кант, мастер терминологии, в очередной раз находит отличный термин – транспортное или перевозочное средство (Vehikel)
[130]: «Понятие или, если угодно, суждение:
Я мыслю… есть транспортное средство вообще всех понятий, в том числе, и трансцендентальных… Тезис:
Я мыслю… содержит форму вообще всякого суждения разума и сопровождает все категории как их транспортное средство»
[131]. Кант показывает и механизм этой транспортной функции субъекта: «
Я мыслю… [есть] положение, выражающее восприятие своей самости (selbst)… Это внутреннее восприятие есть не более чем простая апперцепция:
Я мыслю, которая делает возможными даже и все трансцендентальные понятия, в которых она именуется (heißt): Я мыслю субстанцию, причину и т.д.»
[132]. Еще полней данный механизм раскрывает Хайдеггер, комментируя это место Канта: «Однако
Я мыслю всегда уже есть «Я мыслю субстанцию», «Я мыслю причинность», и соответственно, «в» этих чистых единицах (категориях) оно уже «именуется»: «Я мыслю субстанцию», «Я мыслю причинность» и т.д. Я есть «транспортное средство» категорий, поскольку оно в своем продвигающемся обращении-к (Sich-Zuwenden-zu)… выводит их туда, откуда они как упорядочивающие представляемые единицы (Einheiten) могут осуществлять единение (einigen). Т.о., чистый разум есть «из себя» представляющее предобразование (Vorbilden) горизонта единства»
[133].
Итак, в трансцендентальной философии конституция (чистого) познания переходит из субъектно-центрированной организации, какую она имела у Декарта, в форму систематики самодовлеющего сообщества категорий, трансцендентальных предикатов. Обоснование этой глубокой структурной перестройки у Канта (а следом, и у Хайдеггера) оставляет, в целом, впечатление, что за нею лежат как предметные аргументы (в частности, достаточно основательная критика внутреннего опыта как источника чистого познания), так все же и субъективные мотивы, гипертрофированная «архитектоничность» кантова разума, рождающая тягу к трудноостановимому умножению концептуальных схем и конструкций. Данная перестройка несет и немалые антропологические последствия. Как мы говорили в Разд. 3, уже и организация философии вокруг фигуры субъекта, в корне не совпадающего с человеком, питает антиантропологические тенденции. А когда даже и такая фигура удаляется «на конюшню», и философия превращается в дискурс с бесфигурным типом организации – совершается крупный дальнейший шаг по пути де-антропологизации, расчеловечения философской речи.
Стоит рассмотреть ближе род и степень этого расчеловечения или, иными словами, охарактеризовать способ отсутствия (разъятия, разложения) субъекта в трансцендентальной философии. Предельной степенью является анатомическое разъятие, но как легко видеть, у Канта еще не достигается этой степени. Категории чистого познания суть (трансцендентальные) предикаты и как таковые, они характеризуют деятельного, а не умерщвленного субъекта. Это подсказывает другую метафору, другой род разъятия: папка доносов, досье, либо научный дневник наблюдений за подопытным существом – т.е. собрание отчетов о действиях субъекта. Но здесь степень отсутствия, разъятия оказывается, наоборот, недостаточна: если из доносов или научных наблюдений возможно, в принципе, сложить полную картину деятельности субъекта, его «портрет» в деятельностном измерении, то в «папках» трансцендентальной философии находятся не сами действия, а их всяческие проекции, отражения: действия под углом трансцендентальной аналитики или диалектики, паралогизмов, антиномий или идеалов и т.д. и т.п. Сложить из таких отражений фигуру деятельного субъекта – не говоря уж о человеке – невозможно. Если же уточнить этот вывод, он в точности совпадает со сказанным выше: «сложить фигуру человека», т.е. ответить на вопрос «Что такое человек?» в трансцендентальной философии возможно лишь путем выстраивания над этой философией некоторого мета-дискурса.
Однако присутствие человека в философии Канта не ограничивается присутствием-отсутствием познающего субъекта в когнитивной перспективе чистого разума. Безусловно, эта перспектива – средоточие мысли Канта, ее ядро, из которого поверяются все другие разделы его философии; и потому находимое здесь антропологическое содержание надо считать главной и определяющей частью антропологии Канта. Именно оно определяет характер того, что же за «весть о человеке» являет собой кантовский этап Европейской Антропологической Модели. Однако в других разделах кантовой философии – прежде всего, в его этике – речь о человеке бывает даже более явной и более развернутой; и поскольку здесь она более проста, облечена в более доходчивую форму, то эти другие части антропологии Канта, хотя, в конечном счете, и не могли быть решающими для судеб модели, но были известны шире и пользовались большим влиянием.
Если бы мы только что не рассмотрели архитектонику чистого разума, то, разумеется, ожидали бы, что сфера практического разума, т.е. нравственных действий человека, организуется вокруг фигуры протагониста сферы, совершителя этих действий:
нравственного субъекта. Мы его, действительно, здесь находим: «Человек есть субъект нравственного закона»
[134], – пишет Кант; но этот тезис обнаруживается лишь в заключительных разделах «Критики практического разума» и никак не представляет собой ведущего принципа, который определяет способ раскрытия предмета. Способ раскрытия оказывается совсем иным, отнюдь не организованным вокруг фигуры нравственного субъекта, и в этом нет ничего странного или удивительного. Зрелое и окончательное изложение этической концепции Канта появилось в форме второй из его «Критик» в том же 1787 г., что и окончательная вторая редакция «Критики чистого разума». Мы видели, какова участь субъекта в этой главной «Критике», где он был «познающим субъектом», и понимаем, что нет никаких причин, в силу которых нравственный субъект во второй «Критике» мог бы получить какую-либо принципиальную иную участь. Как заранее ясно, мы находим здесь тот же новоизобретенный философский метод: трансцендентальный метод, и ту же постановку проблемы: в форме вопроса об основаниях. В «Критике чистого разума», как мы говорили, Кант отправлялся от обычного, «школьного» представления своего времени о предмете – вскрывал отсутствие в этом представлении рефлексии оснований предмета – и развертывал самое фундаментальное решение проблемы оснований, дополняя дескрипцию предмета новым обосновывающим горизонтом (горизонтом онтологического познания) – так что в этом горизонте, за счет него, и вся картина предмета представлялась совершенно по-новому, в новых координатах, новой систематике и архитектонике понятий. В общем и целом, исследование нравственной сферы у Канта развивается в аналогичной логике.
Роль отправной «школьной» трактовки предмета исполняет общий каркас традиционной этики, эмпирически ориентированной и в общих понятиях, установках восходящей к Аристотелю (ср. краткое обсуждение его этики в Разд. 1). Кантова аналитика этого предметного поля, устанавливая в нем начальные дефиниции и взаимосвязи, выявляет ограничения, налагаемые эмпирической природой его принципов и положений. Кант квалифицирует эти принципы как «материальные» («Я понимаю под материей способности желания тот предмет, реальность которого является желанной»
[135]) и показывает их недостаточность для получения всеобщих законов. «Все материальные практические принципы как таковые суть одного и того же рода и подпадают под общий принцип любви к себе (Selbstliebe) или собственного блаженства (Glückseligkeit)… практические предписания, которые на нем [принципе любви к себе] основаны, никогда не могут быть всеобщими»
[136]. Но одновременно усматривается и способ продвижения в нужном направлении: «субъективные максимы» могут мыслиться как практические всеобщие законы для воли всякого разумного существа, если они будут рассматриваться «как такие принципы, которые в качестве определяющей основы воления содержат не материю, а лишь одну форму»
[137]. С этим направляющим указанием, как на средних стадиях конституции чистого познания, начинает формироваться фонд опорных понятий и установок, имеющих в той или иной мере уже отличную природу, способных служить для построения обосновывающего горизонта. Весьма быстро, единой взаимосвязанной группой, здесь возникают центральные концепты кантовской этики: свобода, долг, безусловный «нравственный закон» (он же «категорический императив» и «всеобщий практический закон, который дает человеку чистый разум»); затем к ним постепенно присоединяются «внемлющее почитание» (кантова Achtung, несомненно, есть предикат, включающий в себя «внимать»
[138]), «человечность» (Menschheit) и «личность» (Persönlichkeit) в человеке, принцип «человек есть цель в себе». Излишне напоминать определения и свойства элементов этого фонда, но существенно подчеркнуть их статус. На центральных стадиях конституции чистого познания, ключевые концепты этой конституции первоначально возникали (см. выше) как «предположительно существующее», как то, что
пока лишь должно составить содержание конституируемого обосновывающего горизонта. Точно такой же характер первоначально носят и ключевые концепты нравственной сферы; изменяется лишь характер или окраска долженствования: в сфере практического разума, оно также становится из логического практическим, нравственным. Философ констатирует: есть безусловная практическая необходимость в том, чтобы свобода, долг, нравственный закон были объективной реальностью. Они суть именно, что требуется обосновать. Остается доставить само обоснование.
По классической диалектике основы, обосновывающие начала должны быть независимы по отношению к обосновываемой сфере, должны иметь иную природу. В области чистого познания, обоснованием гносеологического акта выступает онтологическое (трансцендентальное) познание; вольно выражаясь, Кант открыл, что обосновывающие начала для гносеологии доставляет онтология. Описанный ход конституции нравственной сферы, с его постоянною параллелью конституции познания, уже предвещает, что же произойдет на заключительной и решающей стадии этой конституции: мы должны убедиться, что обосновывающим началом для нравственной сферы выступает «практическая онтология»: религия. Именно эту задачу и выполняет «диалектика чистого практического разума», последний раздел в главной части второй «Критики».
Выполнение задачи происходит классическим кантовским образом: вводится завершающее и верховное понятие всего этического дискурса, «высшее благо» (игравшее эту роль уже в античности и трактуемое у Канта как «безусловная полнота (Totalität) предмета чистого практического разума», «заданный априори объект нравственно определенного воления») – после чего ставится вопрос:
Как высшее благо практически возможно? Коль скоро высшее благо объединяет весь «предмет чистого практического разума» и есть притом «не просто объект, а и его понятие», то к нему сходятся все нити и к нему возводятся все понятия; и в силу этого, поставленный вопрос является исчерпывающим вопросом об основаниях нравственной сферы в целом. Развертывание этого финального вопрошания и выводит в религиозное измерение: «Нравственный закон путем понятия высшего блага как объекта и конечной цели чистого практического разума ведет к религии, т.е. к познанию всякого долга как божественного веления (Gebot), не как санкции, т.е. произвольного и для себя самого случайного подчинения чужой воле, но как сущностного закона каждого свободного воления самого по себе, который, однако, должен рассматриваться как веление высшего существа»
[139]. Конкретный же механизм подведения религиозной базы заключается в принятии
постулатов чистого практического разума. Именно они делают «практически возможным» высшее благо; а каковы их содержание и природа, лучше всего излагает сам Кант: «Эти постулаты являются не теоретическими догматами, а
предположениями, необходимыми в практическом отношении, так что они не расширяют спекулятивного познания, но придают объективную реальность идеям спекулятивного разума
во всеобщем (благодаря своей связи с практическим )… Эти постулаты суть
бессмертие, свобода, рассматриваемая положительно (как причинность некоего существа, поскольку оно принадлежит интеллигибельному миру) и
существование Бога. Первый вытекает из практически необходимого условия соизмерения продолжительности с полнотой исполнения нравственного закона; второй – из необходимой предпосылки независимости от чувственного мира и способности определять свою волю по законам интеллигибельного мира, т.е. свободы; третий – из необходимости условия такого интеллигибельного мира быть высшим благом, для чего надо предположить высшее самодовлеющее благо, т.е. существование Бога»
[140]. Смысл этой операции постулирования вполне очевиден: Кант говорит, что нравственное осмысление реальности
должно предположить возможность высшего блага (Постулат 3), а, следовательно, также и его природные условия (Постулат 1) и метафизические условия (Постулат 2). Связь же с нравственным законом, стоящим также в вершине этического дискурса, Кант характеризует так: «Идеи Бога и бессмертия являются не условиями нравственного закона, но только условиями [существования] необходимого объекта для воления, определяемого этим законом»
[141].
Конституция нравственной сферы на этом обретает законченность. Что же касается религиозной сферы, введенной в качестве обосновывающего принципа, то она в заключительной части конституции получает содержательное, хотя и очень беглое описание. Возникают понятия святости, благоговения, разумной веры, – даже «Царствия Божия» (отождествляемого с интеллигибельным миром), вводятся некоторые предикаты Бога. Не менее существенны и негативные суждения в этой сфере, т.е. указания на то, чего в ней нет, чем она не может и не должна быть. У Канта их целый ряд, и наиболее существенны три. Во-первых, это уже затронутое выше отграничение от сферы (чистого) познания, которое повторяется не раз: Кант усиленно подчеркивает, что для спекулятивного разума религиозные понятия и идеи «теоретически проблематичны», остаются всегда лишь «трансцендентными и регулятивными» и не доставляют никакого расширения познания. Во-вторых, это полное отрицание традиционного направления «естественной теологии», делающей богословские выводы из рассмотрения устройства и явлений физического мира. И наконец, что особенно для нас важно, это также отрицание всей сферы мистического опыта и шире, аутентично религиозного опыта, не сводимого к нравственному и способного доставлять подлинное, хотя бы и глубоко специфическое, Богопознание и Богообщение. Вкупе, эти отмежевания влекут четкий вывод: единственная сфера и единственное оправданное назначение религии – обоснование этики.
Возникающая трактовка религии опять-таки имеет близкую параллель в сфере чистого познания. В этой сфере весьма аналогичную трактовку получала онтология (и в известной мере, концепция трансцендирования): она также привлекалась в качестве обосновывающего принципа – тем самым, вбиралась в основоустройство соответствующей (когнитивной) сферы – и в заключение, Кант доказывал, что принимаемая ею там форма «когнитивной онтологии» есть единственная корректная и правомочная онтология вообще. Точно таким же образом, кантова этика поглощает религию, редуцируя ее к исполнению обосновывающей функции в своем составе. При этом этический субъект всецело поглощает религиозного, и понятие Бога делается чисто моральным понятием. Ход построений Канта неумолим и не делает исключений: говоря современным сленгом, во второй «Критике» Кант
употребляет религию, как в первой он
употребил онтологию, трансцендирование и субъекта. С еще большею резкостью это редуцирующее употребление проводится в «Религии в границах только разума», где, в частности, мы найдем общий категорический тезис: «Как положение, не требующее доказательства, я принимаю следующее: все, что, как полагают, человек может сделать угодного Богу, помимо доброго жизненного пути, есть пустое религиозное заблуждение и мнимое служение Богу»
[142]. Однако не безразлично и то, к какой именно служебной функции редуцируется религия. Редуцирующим, сводящим к служебной функции мы нашли и учение о Боге у Декарта (см. Разд. 3), но если у Канта Бог необходим как гарант безусловности нравственного закона, то у Декарта – как гарант безусловности законов и истинности результатов познания. И мы видим, что сдвиг служебной функции из когнитивной сферы в нравственную существенно меняет окраску отношения к Богу, тип религиозности. Тексты двух классиков ясно показывают: если «Бог как гарант познания» – позиция деизма, стремящаяся максимально дистанцировать Бога, то «Бог как гарант нравственности» – позиция пиетизма, способная включать в себя искреннее благочестие и благоговение.
Из других особенностей описанной конституции стоит отметить ее очень высокую постулативность, перегруженность «предположениями, необходимыми в практическом отношении». Подобный характер у Канта носят не только положения, прямо названные постулатами, но, на поверку, и многие другие, например, следующий важный тезис: «Человеческая природа определена стремиться к высшему благу»
[143]. По сегодняшнему опыту человека, его знанию о себе, этот тезис уже и не просто утопичен, скорее он лунатичен и смехотворен. Поэтому постулативность кантовой этики, влекущая постулативность и его антропологии, требует внимательного взгляда. Такой взгляд дает поучительные выводы. Первые возникающие впечатления – совсем не философского рода: мы различаем внутренние пружины, пафос, питающий и направляющий мысль Канта, – и мы не можем не воскликнуть: какой редкий, чудесный человек! Как за каждой строкой Декарта сквозит неукротимое стремление к ясному и достоверному знанию, так за строками второй «Критики» проступает нравственный пафос, непоколебимая нравственная основа личности самой высокой пробы. Нравственное основание человека и бытия для Канта – последняя и высшая достоверность, и все его постулаты, явные и неявные, суть выражения этой внутренней, «практической» достоверности. Вся же вторая «Критика» – истовая служба Нравственному Закону. Однако философ Кант, увы, отличный от Канта – нравственного субъекта, учит нас ставить вопросы, и мы не можем здесь не спросить: Но как же возможны вместе «достоверность» и «лунатичность»? И в свете этого вопроса, следом за поучительным
личным аспектом, открывается не менее поучительный
исторический аспект.
Сегодня этике Канта два столетия с лишком. Ровно половину этого срока назад, исследователь и издатель Канта Карл Форлендер писал в предисловии к новому изданию второй «Критики»: «Кант стал поистине Ньютоном этики. Он дал морали то, что дал математическому естествознанию автор «Philosophiae naturalis principia mathematica»: такие методические основания, которые лишь одни обещают долговечность и хотя в деталях допускают усовершенствование, но в последних основах не могут быть ни разрушены, ни заменены. Наше время признало это даже в более высокой степени, чем современники философа»
[144]. Мы бы несколько умерили данную здесь оценку кантовых свершений: этика Канта все же явно не обладала ни таким размахом и новизной, ни такой окончательной неоспоримостью своих оснований, как физика Ньютона. Ее зависимость от предшествующих концепций куда более значительна, и в своем общем типе она остается традиционной эссенциалистской и аристотелианской этикой, телеологичной и нормативной. Но в целом, конечно, слова Форлендера – справедливый баланс исторического пути этой этики за первый век ее жизни. Баланс за следующий век оказался диаметрально противоположным. Сегодня мы едва ли можем считать трансцендентально-религиозные основания кантовой этики более «нерушимыми», чем, скажем, основания этики предустановленной гармонии Лейбница-Панглоса: разрушены и те, и другие целиком. Тем самым, наш вопрос получает ответ, отсылающий к истории: в течение второго века своей жизни, кантовы постулаты стали из «достоверных» – «лунатичными». Но это, разумеется, не весь ответ. Отсюда следует, что сама достоверность постулатов была отнюдь не той, которую утверждал Кант: не абсолютной, а лишь относительной, историчной. Основания кантовой этики (как, впрочем, и всех этик в традиционном русле) оказались несостоятельны в том качестве, на которое они притязали: в качестве оснований нравственных свойств и поведения человека как такового, в его предполагавшейся вневременной сущности и безотносительно к эпохам его истории. И ясно, что истоки этой несостоятельности лежат уже не в этической сфере: они заключаются в некой не ожидавшейся радикальной изменчивости человека, некой антропологической динамике, само существование которой противоречит основам традиционных представлений о человеке, – и для своего понимания они требуют выхода в более широкий антропологический контекст, требуют новой фронтальной постановки проблемы человека.
Подобный выход мы попытаемся наметить в заключительной части этой главы. Сейчас же следует довершить наше обозрение антропологии Канта и прежде всего, характеристику нравственного субъекта, о котором еще надо сказать несколько слов. Поставив религию на службу собственной цели, нравственный субъект чрезвычайно вырастает в своем положении и значении; утверждается безусловный примат этического дискурса в системе ценностей. «Нравственный закон свят»
[145], и человек как существо, свободно следующее этому закону, обладает неотчуждаемым достоинством. Существует «нравственная ценность личности, а не только действий» человека, «человечность» (Menschheit) в личности человека следует почитать и беречь… – и вкупе это все значит, что религиозное обоснование этики оказывается далее у Канта обоснованием гуманистического дискурса ценности и достоинства человека. Этот гуманизм Канта – заметная черта его этики и антропологии, причем он утверждается в умеренном, взвешенном варианте, где нет ни крайностей гуманистической риторики Ренессанса с ее богоборческими нотами и непомерным возвеличением человека, ни антиклерикальных мотивов, обычно присущих гуманизму Просвещения, как и вообще большинству видов секуляризованного гуманистического дискурса. С другой стороны, он все же не может быть отнесен к руслу «христианского гуманизма»: при всей расплывчатости этого термина, он, тем не менее, определенно предполагает самостоятельное место и значение религиозной сферы; и отрицание собственных целей и задач этой сферы, не сводимых к этике, твердо свидетельствует, что кантовский гуманизм носит секуляризованный характер.
Дальнейшим развитием гуманистической тематики служит тема о положении человека в мироздании, в природе, выводящая, в свою очередь, к теме культуры. Как известно, концепт природы – предмет особой разработки у Канта, которая основывается на старом аристотелианском принципе тотального телеологизма (и потому развивается в разделе «Критика телеологической способности суждения» в третьей «Критике»). Поскольку же кантов человек, будучи взят как вещь для себя, явление, есть «природное существо», то данная разработка включает важные антропологические аспекты, служащие необходимым дополнением к речи о человеке как «разумном существе» в двух первых «Критиках». В силу телеологического принципа, природа есть «телеологическая система», в которую и входит человек как природное существо. Соответственно, проблема «Человек и природа» принимает форму вопроса:
Какова конечная цель природы в отношении человека? Кант обнаруживает здесь альтернативу: искомая цель может относиться либо к человеку и человечеству самим по себе, взятым отдельно и изолированно, вне отношений как с внешней, так и внутренней природой, – либо же человеку и человечеству, взятым во взаимосвязи, взаимодействии с природой. Как находит философ, единственной мыслимою целью первого рода является счастье человека, когда он достигает своего удовлетворения при благорасположении природы. Цель же второго рода означает, по Канту, полную сообразованность человека с природой, «пригодность и приспособленность к любым разнообразным целям, для которых природа (внешняя и внутренняя) могла бы употребляться человеком»
[146]. Кант делает решительный выбор в пользу второй возможности, с которой он связывает понятие культуры.
«Выработка приспособленности разумного существа вообще для произвольных целей (как следствие его свободы) есть
культура. Только культура может быть конечной целью, которую есть основание приписать природе в отношении человеческого рода (а не его собственное счастье на земле или попросту [участь] быть совершеннейшим орудием, создавать порядок и освещенность внеразумной природы вне него)»
[147]. Без последней части этого тезиса можно было бы решить, что концепция культуры у Канта означает, в первую очередь, техническую и умственную универсальность человека, которая обеспечивает полноту владения обстановкой, способность выполнения любых встающих задач. Несомненно, этот аспект универсальности – универсальной сообразительности, мастеровитости, орудийности – присутствует в кантовском понятии; далее он находит развитие, напр., в идее, которую можно назвать экологической: Кант утверждает, что в деятельности человека «устанавливается известное равновесие между производящими и разрушительными силами природы». Однако последнею частью тезиса Кант подчеркивает, что в сферу культуры входят и отношения с внутренней природой, «натурой» человека. Более того, мысль Канта ориентирована гораздо более гуманитарно, чем мысль Декарта, и в его разработке концепции на первый план выступают именно «внутренние» аспекты.
Кант говорит о культуре нравственного чувства, вкуса, эстетических суждений, развивает идеи окультуривания, культивации способностей и наклонностей человека, нравственных свойств и прочих сторон его натуры. Он также утверждает необходимость «развития человечности», т.е. постепенного «преодоления склонностей, которые больше принадлежат звериному в нас и сильнее всего противятся образованию, движущему нас к нашему высшему определению»
[148]. Поскольку же высшее определение человека – следование нравственному закону, то эта концепция культуры (родственная и преемственная античному идеалу «пайдейи») также оказывается в связи с нравственным законом, ставится в подчинение ему – чем вновь подтверждается и закрепляется примат этического дискурса. По логике, которую мы уже прослеживали, укорененность в высших, нравственных началах есть основание для высшего положения в окружающей реальности: так возникает антропоцентрическое решение проблемы положения человека в космосе. При этом, поскольку познание и разум также, конечно, входят в систему ценностей, а в культуре участвуют и познающий субъект, и нравственный субъект, то, по сути, именно субъект культуры (хотя Кант и не вводит такого особого понятия) оказывается вершиною мироздания. «Как единственное существо на земле, чей разум наделен способностью ставить себе цель по своему произволу, он [человек] есть титулованный господин природы
[149]… человек есть конечная цель творения… которой телеологически подчинена вся природа в целом»
[150]. Как видим, гуманизм Канта получает здесь заметное углубление, дополняясь достаточно радикальным антропоцентризмом (при сохранении примата этического дискурса).
Своею подавляющей частью все антропологические содержания философии Канта принадлежат двум рассмотренным нами областям: аналитике познающего субъекта и аналитике нравственного субъекта (которые строятся, как мы видели, почти целиком без самих субъектов, в форме систематики предикатов). Поэтому не затронутыми у нас остались лишь несколько пунктов, которые относятся к беглому появлению на страницах Канта еще нескольких субъектов или точнее, элементов еще нескольких бесфигурных, однако субъектных аналитик. Так, в третьей «Критике» и в текстах помимо «Критик» можно найти элементы аналитики социального и политического, в меньшей мере – хозяйственного и правового субъектов. Некоторые из них – как, скажем, кантовские идеи войны и мира, понятие гражданского общества – имели заметное влияние в идейной истории Европы; однако все это, в основном, уже уводит нас в сторону от антропологии. Стоит только упомянуть кантовское понятие «гражданина мира» (Weltbürger), как заключающее в себе, в принципе, антропологически существенную потенцию размыкания сознания индивида во всечеловеческую интерсубъективность. Однако в данном направлении это понятие у Канта не развивается.
***
Дальнейшая задача состоит в том, чтобы увидеть представленный опыт антропологии в контексте «европейской антропологической модели», как ее очередной этап. В нашей реконструкции этой модели, ее идейный каркас составляют «пять портретных черт», которые сейчас вновь следует напомнить: индивидуированность – дуалистичность – субстанциальность – гносеологичность – секуляризованность. Необходимо проследить судьбу каждой из этих черт в антропологии Канта, понять, сохраняется ли она и какой принимает вид. Встают и более общие вопросы: как изменяются взаимосвязи базовых черт, их относительная роль, важность? Можно ли по-прежнему считать их ансамбль основой, каркасом антропологической модели – или же каркас трансформируется, утрачивая одни черты и приобретая взамен новые? Наконец, приступая к ответам, мы сталкиваемся с еще более общим обстоятельством: независимо от судьбы конкретных черт, имеет место существенное изменение самого типа антропологии – подхода к человеку, способа представления человека. Более точно, мы имеем в виду изменение подхода не к человеку, а к субъекту, поскольку уже в антропологии Декарта непосредственным предметом стал, вместо человека, субъект. На этом этапе из антропологии исчез целостный подход к человеку, речь о человеке-в-целом, и мы отразили этот факт терминологически, приняв, что антропология Декарта обладает качеством «антиантропологичности» и не является «философией человека». Кант делает следующий крупный шаг по пути структурной деантропологизации, убирая фигуру субъекта из центра на задворки и придавая дискурсу структуру систематики самоорганизующегося сообщества предикатов. Этот шаг также влечет терминологические последствия: для дискурса с таким бесфигурным типом организации становится непригоден, неправилен термин «модель человека». В самом деле, всякая полноценная модель – действующая модель: такое представление предмета, которое, будучи упрощенным, неполным и т.п., в то же время сохраняет и представляет наглядно (в чем и смысл моделирования) главные принципы и ведущие элементы устройства предмета, причем в их собранности, в действии. Ум Декарта, в отличие от ума Канта, не столько архитектоничный, сколько именно моделирующий ум; и хотя в его антропологии отсутствовал человек-в-целом, но представление человека, тем не менее, было еще моделью: обозримой совокупностью элементов, показываемых в действии, – субъекта, живущего тела и явлений их сопряжения. Однако концептуальная архитектура Канта – не модельное представление; и кантовский этап европейской антропологической модели – уже не модель, а только антропология.
При обсуждении декартова этапа мы не раз подчеркивали ключевую роль свойства индивидуированности во всем идейном каркасе модели. Оно принципиально не может утратить эту роль, какие бы перипетии ни проходила модель; ибо именно к нему, к его воплощению, и направлялось создание модели, в нем ее цель и, если угодно, дефиниция: путь европейской антропологической мысли есть путь к индивиду, и затем – путь индивида. Однако на кантовском этапе обеспечение этого свойства уже не требовало новых значительных разработок. Конкретным выражение его в антропологическом дискурсе служит присутствие «предела индивидуации», «самодовлеющей мыследействующей единицы», и организация дискурса в перспективе, определяемой этим пределом. При этом, было бы естественно именовать предел индивидуации – индивидом; но, поскольку в учении Декарта этот предел есть Res cogitans, отсеченный от Res extensa, от тела, то мы, сохранив для «мыслящей вещи» имя «(познающий) субъект», определили индивида как «мыслящую вещь» в сопряжении с телом (что и отвечало декартовой концепции человека, «человеку Картезия»). Как мы видели выше, в главных основаниях Кант воспринимает декартову концепцию субъекта (хотя в ряде пунктов активно критикует ее, как обычно критикуют прямых предшественников). Отсюда следует, что и свойство индивидуированности сохраняет у него, в главных чертах, тот же смысл и статус. Удаление фигуры субъекта делает это свойство более имплицитным, однако не изменяет ключевых факторов, составляющих его выражение: конституция чистого познания в форме сообщества предикатов, хотя и не организуется «вокруг фигуры» субъекта, но тем не менее образует субъектную перспективу, а субъект, будь то на первом плане или нет, но присутствует в дискурсе и понимается, безусловно, как предел индивидуации. Больше того, поскольку дихотомия Res cogitans – Res extensa Кантом не принимается (к чему мы вскоре еще вернемся), то исчезает и почва для малоестественного различения между «пределом индивидуации» и индивидом: мы можем считать, что в антропологии Канта понятия «субъект», «индивид» и «предел индивидуации» совпадают между собой.
Следуя в общем русле, открытом мыслью Картезия, Кант поправляет, сглаживает его пионерские лобовые решения, методологически совершенствует их – нередко, весьма принципиально. Одну из главных таких коррекций мы встречаем в свойстве дуалистичности. Это свойство характерно для кантовой философии никак не менее, чем для учения Декарта, однако у Канта оно принимает иные формы. Инициировав и последовательно производя перевод философского дискурса в эпистемологический, когнитивный план, Декарт, однако, не проявил достаточной последовательности, строя свое дихотомическое членение реальности: дихотомия Res cogitans – Res extensa утверждается им не в перспективе чистого познания, но в качестве, с одной стороны, эмпирического тезиса (одного из результатов когнитивного Первоакта), а с другой стороны, догматического принципа в духе школьного аристотелизма, отвергаемого им же самим. Попытка проводить это натуралистическое и догматическое понимание дихотомии порождали цепь трудностей и несообразностей, сделав ее, как мы цитировали, «больным местом картезианства» (Вл. Соловьев). Кант заново пересматривает многострадальный Первоакт, на новых методологических основаниях. В призме трансцендентального метода, декартовская дихотомия Res cogitans – Res extensa исчезает, и на месте ее появляется новая дихотомия, уже соответствующая перспективе чистого познания. Эта фундаментальная дихотомия когнитивной перспективы имеет ряд выражений: ее полюсы соотносятся как сфера (чувственного) опыта и сфера (чистого) разума, как уровни эмпирического и чистого познания, как чувственный и интеллигибельный мир. В последнем случае надо иметь в виду, что Кант, как и Декарт, вовсе не склонен возвращаться на почву платонизма, и оба мира рассматриваются именно помещенными в когнитивную перспективу, как ее составные части. Чувственный мир – не просто мир вещей в пространстве, а мир вещей, доступных чувственному восприятию познающего субъекта, мир, низшей ступени познания: равно как интеллигибельный мир – не мир идей, а мир вещей, доступных чистому разуму того же субъекта, мир высшей ступени познания. Стоит отметить, однако, что, поскольку онтология у Канта также гносеологизируется, то описанная дихотомия является не только гносеологической, но и онтологической, в смысле кантовой «когнитивной онтологии».
В своей новой трансцендентальной форме, дуалистичность становится не столь значима для антропологии. Она делается принадлежностью конституции познания и уже не служит, как у Декарта, непосредственным свойством сущностной структуры, основоустройства человека как такового. Подобная перемена явно к лучшему, поскольку рассеченность декартова человека, как мы многократно убеждались в Разд. 3, создавала искусственные проблемы и ограничивала возможности антропологии Декарта: в частности, именно ею мы объясняли главные лакуны этой антропологии, отсутствие в ней всего спектра интегральных проявлений человека. Снятие тезиса об антропологической рассеченности снимает наиболее резкое различие между (познающим) субъектом и человеком как таковым – что, в свою очередь, позволяет Канту не разбирать, насколько остающееся различие еще существенно. Меж тем, оно становится лишь несколько менее существенно. Кантовская коррекция и переинтерпретация декартовой дихотомии нисколько не означала восстановления цельности человека, но означала лишь твердое помещение этой дихотомии в когнитивную перспективу, из которой она у Декарта «неуклюже высовывалась», но в которой собственно и должна была пребывать изначально. С этой точки зрения, можно сказать, что Кант не отвергает декартова рассечения, но отказывается придавать ему прямой антропологический смысл, вводить в конституцию человека как такового, относя его сугубо к основоустройству познания (судя по беглым замечаниям, он вполне принимает, что субъект в акте познания отсечен от тела, имеет тело внешним предметом). В итоге такой коррекции, философия уже не имплицирует отсутствия интегральных проявлений человека, но и не обретает никакого положительного антропологического содержания; а интегральные проявления, как мы увидим, все равно остаются отсутствующими в кантовской антропологии.
Далее, положение свойства
субстанциальности в философии и, в частности, антропологии Канта остается во многом тем же, что у Декарта. Для обоих классиков это свойство не служит ареной их собственных нововведений, но остается элементом, наследуемым из старой аристотелианской основы. В начале этого раздела мы постарались раскрыть те логические связи, в силу которых субъект практически не мог не мыслиться субстанциально; мы также приводили кантовское положение о субстанциальности души, имеющее стандартную аристотелевскую форму. Связь субстанции с субъектом выступает у Канта само собой разумеющейся, прочной и обоюдной (ср.: «Субстанция, т.е. нечто, что может существовать лишь как субъект, но не как простой предикат»
[151]). Разумеется, входя в трансцендентальную архитектуру сообщества категорий, понятие субстанции также получает трансцендентальное препарирование, интегрируясь в свой понятийный комплекс, куда входят акциденции, подлежащее, существование как субсистенция и как присущность, и проч. Главными элементами в смысловой структуре субстанции у Канта служат функции подлежащего и характер устойчивого, пребывающего начала, противопоставляемого всему изменчивому в структуре явления (ср.: «Субстанция, т.е.
пребывающее (Beharrliche), субстрат всего изменяющегося»
[152]). Как ясно отсюда, субстанция оказывается и основой, принципом решения проблемы (само)тождественности. Все это – достаточно традиционная, привычная трактовка понятия. Сознание философа явно не связывает с ним никакой особой проблемности и не подозревает о том, что именно в нем –
ген смерти всей европейской метафизики.
Очередное свойство, гносеологичность, сейчас почти не требует обсуждения: ему и был посвящен почти весь наш разбор кантовского этапа. Восприняв линию на эпистемологический поворот философии, с такой энергией и успешностью начатую Декартом, Кант продолжил и завершил этот поворот, придав ему новую глубину и принципиально иную природу: сделав его не поворотом от онтологии, а поворотом самой онтологии, ее внутренней трансформацией, включившей ее в эпистемологический дискурс, в когнитивную перспективу. Тем самым, поворот стал созданием нового универсального философского метода («Критика чистого разума» есть «трактат о методе», по словам Канта); и когда этот метод перед нами, мы ясно видим, что у Декарта, при всем истовом стремлении к методу, имелась еще только его прелюдия. Однако при всем кардинальном развитии, какое здесь получает гносеологизированность философского дискурса, роль данного свойства в антропологии, в образе человека, скорее уменьшается. Развив теорию познания до небывалой основательности и изощренности, Кант при всем том едва ли проникнут пафосом познания; в отличие от Декарта, он не утверждает познание в качестве высшей миссии человека. Взамен этого, весь пафос его отдается этике, нравственному, а не познающему субъекту, и высшую миссию человека он утверждает в служении нравственному закону.
Наконец, о судьбе свойства секуляризованности на кантовском этапе основное уже также сказано выше. По определению, данное свойство означает, что отношение человека к Богу, не обязательно устраняясь вообще, лишается, тем не менее, определяющей роли в стратегиях человеческого существования или, иначе говоря, в основоустройстве самореализации человека. Мы описали ту специфическую участь, которая постигает это отношение у Канта: вместе со своей икономией, образующей сферу религии, оно превращается здесь в обосновывающий горизонт этики, причем все аспекты и проявления религии, не вместимые в эту функцию, в основоустройство практического разума, отрицаются как заблуждения. При этом, однако, вместимая и принимаемая часть религиозной сферы относительно широка (как мы говорили, она включает в себя все основные элементы моралистической, пиетистской религиозности), и в существовании человека как нравственного субъекта она не вытесняется на периферию, а наделяется видным, почетным положением. Поэтому не так уж очевидно, что подобная участь должна рассматриваться как некая форма секуляризации; и в данной связи, следует еще раз напомнить и разъяснить наше антропологическое понимание последней.
В обычном принятом смысле, секуляризацию понимают как исторический и социокультурный феномен или процесс, суть которого составляет вытеснение религии из центра общественной и культурной жизни, лишение ее статуса регулятивного начала этой жизни и оставление за нею лишь роли одного из факторов частного существования индивида. В антропологическом контексте, это понимание требует, однако, дополнения и углубления, которые мы попытались представить выше (см. Раздел 3 и начало Раздела 4). Аутентичное существо религии как конститутивного принципа «религиозного человека» составляет реализация отношения человека к Инобытию, или же «онтологической Антропологической Границе», и основу этой реализации составляет стратегия или парадигма «мета-антропологического восхождения-трансцендирования». Инобытийная природа цели, а точнее, «транс-цели», «телоса» этой стратегии делает последнюю уникальной, выделенной в кругу всех антропологических стратегий: она принципиально не может быть подчиненной, служебной по отношению к какой-либо иной стратегии, ибо инобытийный телос заведомо не может быть достигнут «попутно», «заодно» с достижением некоторой иной, не инобытийной цели, утверждаемой как первичная и главная. И это означает, что наделение религии какою бы то ни было служебной функцией несовместимо с сохранением ею ее описанного (мета-)антропологического существа, ядра. При этом, служебная роль может быть вполне совместима с сохранением множества внешних сторон религии, сохранением, как мы видели, «видного и почетного положения», – но именно о таких ситуациях в русском христианстве говорится:
Бог не в бревнах, а в ребрах. Религия, исполняющая служебную функцию, вовсе не обязательно есть приватный или маргинальный феномен в фактуре существования, и тем самым, она вовсе не обязательно предполагает секуляризацию в обычном социокультурном смысле. (Подобных примеров множество, и религия по Канту входит в их ряд, вместе, скажем, с культами языческих императоров – что вряд ли понравилось бы философу). Но она обязательно – пустая оболочка религии, и потому – феномен секуляризации в нашем сущностном, антропологическом смысле. (Сказанное, конечно, не значит, с другой стороны, что религия не может или не должна иметь связи с этикой. Должна лишь быть противоположная иерархия целей: конституция отношения этики с
живой религией предполагает первенство инобытийного телоса. По своему характеру, эта конституция своеобразна: несмотря на иерархию целей, она воплощает не жесткое подчинение одной сферы другой, а их живую, обоюдную связь: установление отношения человека к Богу включает в себя определенные этические условия, предпосылки
[153], а, будучи установлено, это отношение, в свою очередь, развивает вместе со своей икономией, в ее составе, и определенную этику. Ниоткуда не следует априори, что это должна быть кантианско-аристотелианская телеологическая и нормативная этика и, будучи представлена в развернутом виде, конституция этико-религиозного отношения имела бы мало общего с «Критикой практического разума»).
Итак, в сфере антропологии возникает свое понятие секуляризации: последняя должна трактоваться здесь как лишение примата – а отсюда, в силу ее специфики, и отмирание – стратегии отношения человека с его онтологической Границей («стратегии мета-антропологического восхождения-трансцендирования»). Это понятие не просто выражает в антропологических терминах обычное социокультурное понятие секуляризации, но и отличается от него по объему: «антропологическая секуляризация» включает и все явления, в которых религия, вне зависимости от своего внешнего, социокультурного положения и статуса, в своем существе редуцируется к некоторой служебной функции. (Это несовпадение объема понятий, вообще говоря, имеет обоюдный характер: мыслимы и такие ситуации, когда религия, будучи вытеснена к приватному и маргинальному статусу, тем не менее, подлинно реализует отношение человека к Инобытию). Тот род секуляризации, который мы обнаружили в учении Декарта, соответствовал обоим понятиям, это была секуляризация и в социокультурном, и в антропологическом смысле. У Канта же мы находим иной род: здесь имеет место «антропологическая секуляризация», которая, вообще говоря, может и не являться «социокультурной секуляризацией». Чтобы полностью раскрыть антропологическое содержание этого свойства, нам следует еще, не ограничиваясь негативным выводом об исчезновении некоторой антропологической стратегии, показать, какой вид принимают в ее отсутствие отношения человека с Антропологической Границей. В случае Декарта мы убедились, что эти отношения, как и сама идея Антропологической Границы, вообще элиминируются, выпадают из конституции человека, как следствие утверждения идей бесконечного мироздания и бесконечного прогресса познания. У Канта они также элиминируются, и субъект также представляется как «безграничное», вследствие открытости – и даже необходимости – для него бесконечного прогресса; однако, в соответствии с приматом этического дискурса, прогресс оказывается нравственным. Обеспечивают же этот прогресс постулаты чистого практического разума и, в первую очередь, постулат бессмертия. «[Поскольку] полное соответствие воли с нравственным законом… требуется как практически необходимое, а достигнуто оно может быть лишь в бесконечно длящемся прогрессе, то из принципов чистого практического разума необходимо вытекает принятие такого бесконечного прогресса… Для разумного, но конечного существа возможен лишь бесконечный прогресс от низших к высшим ступеням морального совершенства…но этот бесконечный прогресс возможен лишь при предположении, что существование и личностность разумного существа продолжаются в бесконечность»
[154].Как видно отсюда, по своему глубочайшему убеждению в «практической необходимости», а
стало быть, и доступности бессмертия Кант лишь немногим уступает Федорову.
Стоит подчеркнуть также, что, вопреки внешнему впечатлению, в учении Канта секуляризация принимает, в действительности, гораздо более глубокую и радикальную форму, чем в учении Декарта. Оба учения соотносятся здесь точно так же, как они соотносятся в свойстве гносеологизированности. Декарт осуществляет гносеологизацию философии, уходя от онтологии, отодвигая ее: и он осуществляет секуляризацию, отодвигая Бога и религию так, чтобы освободить от них сферу самореализации человека (т.е. по Декарту, деятельности познания). Стратегия же Канта в обоих случаях куда основательней, необратимей. Он переосмысливает и трансформирует онтологию так, что она уже не конкурирует с гносеологией, а подкрепляет ее, как ее обосновывающий горизонт; и он переосмысливает и редуцирует Бога и религию так, что они уже не конкурируют с секулярной самореализацией человека (по Канту, нравственной деятельностью); но подкрепляют ее, как ее обосновывающий горизонт. В известном смысле, секуляризация достигает здесь полноты, ибо Кант секуляризовал саму религию: вместо того, чтобы оттеснять ее еще на сколько-то дюймов, он превратил ее из альтернативы секуляризованному миру в одну из функций его устройства. При этом, достигает полноты, замкнутости и сам этот мир, мир индивида и «гражданина мира»: когда онтология и трансцендирование целиком вобраны в обычное познание, а религия и религиозная жизнь – в этику, – из мира стало некуда и незачем выходить, исступать, стремиться.
Из этого обозрения «пяти портретных черт» видно, что все они продолжают принадлежать к основоустройству, каркасу антропологии Канта, хотя при этом одни из них (индивидуированность, субстанциальность) уже не требовали обширной разработки и не получали особенно большого внимания, тогда как оставшиеся испытали в горниле трансцендентального метода кардинальное претворение и стали предметом новых капитальных концепций и построений. Но сейчас мы уже не скажем, что они исчерпывают этот каркас. Из нашего описания кантовского этапа выступают, по крайней мере, еще две особенности, которые, по их значению для антропологии, необходимо добавить к прежде выделенным. Одна из них – отказ от организации категорий познания «вокруг фигуры» субъекта познания, «конгруентно» этой фигуре, – в пользу совершенно иных принципов организации, при которых субъект исчезает из вида, оставаясь только «транспортным средством». Другая же – беспрецедентное возвышение нравственного субъекта и утверждение этической сферы в качестве высшей сферы самореализации человека. По своей роли в кантовой антропологии, эти особенности, в известной мере, противоположны друг другу. Полная декомпозиция субъекта познания существенно удаляла трансцендентальную философию от речи о человеке, служила крупным добавочным элементом антиантропологичности. Нравственный же субъект, хотя и препарировался трансцендентальной философией по тем же антифигуративным принципам, однако производил более человеческое впечатление. К тому было несколько причин. Во-первых, сообщество категорий чистого практического разума не столь обширно и сложноустроено, и оно менее заслоняет, элиминирует самого субъекта. Во-вторых, что еще важней, нравственные категории, включающие и понятия душевной, эмоциональной жизни, кажутся нам не такими отвлеченными, как категории познания, кажутся как бы говорящими прямо о человеке, хотя по концептуальной структуре они могут быть ничуть не менее дистанцированы от фигуры субъекта. И наконец, самым весомым, видимо, было и самое простое обстоятельство: свои этические воззрения Кант излагал в целом ряде текстов, и некоторые из них – напр., «Метафизика нравов», «Антропология в прагматическом отношении» – были написаны почти без трансцендентальной машинерии, в доходчивом и убедительном стиле с небольшими дозами проповеди. Поэтому присутствие в антропологии Канта нравственного субъекта, наделенного не меньшим значением и весом, чем субъект познания, действовало как весьма эффективный противовес многочисленным и глубоким антиантропологичным чертам этой антропологии, и крайне способствовало ее принятию и успеху.
Что же до черт антиантропологичности, которые тоже нужно отметить в итоговом обозрении, то выше говорилось уже достаточно об особенностях структуры и метода, таких как только что упомянутая антифигуративность трансцендентальной систематики. Сейчас осталось сказать о чертах содержания, т.е. о лакунах антропологии Канта. Здесь вновь нам удобно отправляться от картезианского этапа. Специфическая ущербная конституция Человека Картезия, имплицируемая дихотомией духа-сознания и тела-машины, служила изначальным препятствием к появлению понятия человека-в-целом в антропологии Декарта. Ближайшим образом, она мешала учету антропологических проявлений, которые служат выражением всего целостного человеческого существа («интегральные проявления», в нашей терминологии). Мы выделили основные виды подобных проявлений (экзистенциальные предикаты, феномены общения и феномены религиозной жизни) и констатировали, что интегральные проявления, действительно, составляют в антропологии Декарта область лакун. Ситуация на кантовском этапе иная, Кант не принимает картезианской дихотомии, и заведомых препятствий к присутствию интегральных проявлений в его антропологии как будто нет. Конечно, известным препятствием остается сам принцип субъективности философии, ибо любой субъект заведомо участнен и отличен от человека-в-целом. Но субъект Канта не столь драстически участнен, как субъект Декарта, порой Кант использует термины «субъект» и «человек» как взаимозаменяемые, и чисто методологически, расширение кантианского дискурса до речи о человеке-в-целом в некой степени мыслимо. Тем не менее, мы обнаруживаем характерную преемственность: хотя и в силу уже иных причин, иной логики, однако интегральные проявления человека почти полностью отсутствуют также и в антропологии Канта.
Экзистенциальные предикаты, как правило, восходят тем или иным путем к понятиям смерти и любви, двум фундаментальным реальностям человеческого существования. Поэтому о судьбе их в философии Канта достаточно говорит судьба этих фундаментальных понятий. Она очень заслуживает быть отмеченной: как и у Декарта (так что это становится уже стойкой чертой европейской модели), у Канта налицо полное нечувствие и любви, и смерти, их антропологического и онтологического значения. Таких тем нет в его антропологии. Проблема смерти искусственно снимается постулатом бессмертия, а что до любви, то она видится Канту одним из вспомогательных аспектов долга и подчинения. «Любить Бога означает… исполнять его веления охотно, любить ближнего значит: всякий долг по отношению к нему исполнять охотно»
[155]. В «Религии в границах только разума» мы найдем сходное определение любви как «любви к закону»; и эти замечательные дефиниции вполне стоят любви по Декарту (т.е. напомним, «совершенства, без которого можно просуществовать»). – Далее, сфера общения, интерсубъективных антропологических проявлений отсутствует вследствие свойства индивидуированности, субъектной структуры философии. Здесь была одна из главных позиций критики «классической европейской модели» в современной философии и одна из основных причин «смерти субъекта»: современная мысль, уделяющая огромное внимание интерсубъективной сфере, усиленно развивала критику философии субъекта во всех ее формах, квалифицируя ее как «философию Я», которая неспособна дать адекватное представление феноменов интерсубъективности и должна быть заменена «философией Мы». Таковой философии покуда не появилось, но критическое узрение «интерсубъективной лакуны» в философии субъекта было справедливо и полезно. – Наконец, судьба феноменов религиозной жизни у Канта нам известна: эта сфера подвергается глобальной редукции, частью ампутируясь, а частью включаясь в этику, причем включаемые элементы, переинтерпретируясь, выхолащиваются от своего аутентично религиозного содержания и престают быть интегральными антропологическими проявлениями. В частности, отношение человека к Богу, конститутивное для религиозной сферы, полностью теряет характер личного общения, и вкупе со сказанным выше, мы заключаем, что само представление о личном общении как особом антропологическом феномене (и уж тем более, как о мета-антропологическом) чуждо не только антропологии, а самому философскому сознанию Канта. К названным лакунам, пожалуй, можно добавить и дискурс тела, который, в отличие от учения Декарта, у Канта практически отсутствует (за вычетом темы чувственных восприятий и органов чувств, которая у них обоих отделена от темы телесности, ввиду своей тесной связи с познанием).
Но вся эта лакунарность, как и прочие антиантропологические элементы, лишь незначительно мешали тому, что в широком восприятии речь Канта о человеке оставляла впечатление великого уважения и внимания к человеку и человечеству. Кант одновременно использует оба значения немецкого Menschheit, сближая их, так что даже не всегда ясно, имеет ли в виду философ человеческий род или «человечность», суть человека, которую он видел как самое возвышенное начало, достойное глубокого почитания. Притом, это возвышенное видение человеческой природы далеко не было пустой риторикой, оно воплощалось в самых строгих конструкциях, какие до этого знала мысль. Два рода текстов Канта были удачным сочетанием: корпус «Критик» служил базой доверия к выдвигаемым идеям, тогда как популярные тексты широко доносили эти идеи. Существенно было также то, что идеи Канта заключали в себе не только лесть человеку, но и требовательность к нему; но самое важное, бесспорно, – в чем была эта требовательность.
Евангелие Канта – добропорядочная жизнь под девизом долга, в служении и поклонении долгу. Нет нужды объяснять, какой эпохе и обществу идеально подходило это евангелие. Неумеренность, одержимость Ренессанса, еще ощутимые в Декарте, миновали, и им на смену пришел мир буржуазного уклада и буржуазных добродетелей. Кант – его пророк и учитель. Его антропология, его этика, его политическая философия весьма действенно служили созданию и укреплению устоев этого мира: устоев как общественных, так и индивидуальных, личных. Они давали метафизическую, нравственную, даже религиозную санкцию общественным (предпочтительно, монархическим) началам, и они же давали основу для формирования и воспитания личности буржуазного индивида. Трудно представить более совершенное соответствие мыслителя и эпохи. По выражению сталинских времен, Кант был социально полезен, но не в меньшей степени он был и индивидуально полезен. В антропологии Канта буржуазный индивид был обеспечен и «окормлен», по его потребностям, всесторонне: он мог получить в ней способ осознания и понимания себя, объяснение своего положения в природе и мире, метод продвижения в познании, наставление в требованиях нравственности и долга, наконец, last but not least, заверение в своем достоинстве, благородстве, правах… – словом, все, если еще учесть, что интуиция или идеал полноты человека, еще жившие в Ренессансе, ушли из буржуазного сознания. – В итоге кантовского этапа, европейская антропологическая модель достигла, возможно, апогея в своем развитии. Ее задания, в основном, могли считаться исполненными. Центральная и ключевая концепция субъекта получила исчерпывающую разработку; отношения с метафизикой, онтологией, религией были выяснены фундаментально и, как можно было полагать, окончательно. И она достигла победы, закрепления и в своем внешнем положении. Она получила признание и влияние в европейской мысли, стала фундаментом ее позиций в антропологии, и могла также притязать на подтвержденность самою жизнью: европейский человек соглашался узнать себя в кантовом субъекте – особенно, в благородном и высокопорядочном субъекте нравственном. Слова «вечность» и «бесконечность» тогда легко стекали с пера; и, вероятно, не только сам философ, но и очень многие его читатели в следующих поколениях, вполне признали бы сложившуюся концепцию человека – вечной.
Однако незаметность ее пороков лишь делала их, в перспективе времени, еще более опасными. Как мы видели, неполнота, лакунарность в характеристике антропологической реальности не уменьшились, а скорей возросли, и порождались они, в основном, самим существом модели, ее субъектностью. Трансцендентальная архитектоника системы понятий лишила модель всякой сообразованности с «деятельной фигурой» и всякой ориентации на нее, так что, как мы заметили, модель едва ли уже могла и называться «моделью человека». Облик человека-в-целом стал полностью недоступен, неразличим, и в этом, действительно, была опасность. Пора объяснить, что наше настойчивое внимание к понятию человека-в-целом, к судьбе этого понятия, порождено совсем не академическим пристрастием к полноте, к учету всех малейших деталей. Не стоит за ним и известный гуманистический культ некой туманной, но непременно прекрасной «полноты человека», или же «полноты и богатства человеческой личности». Дело совсем в другом. Модель, которая не имеет полного образа своего предмета, не знает его полных очертаний, контуров, является эвристически ущербной, и эта ущербность весьма значима практически. Больше того, одни из примеров такой практической значимости развертывается сейчас, в наши дни. Когда модель отказывает, требует ревизии или полной замены, только полный образ предмета, т.е. понятие человека-в-целом, может дать наводящие указания для поиска новой модели, стать ориентиром в этих поисках. В противном случае, если такого образа нет – человек не знает, чего он может и чего не может от себя ждать, на что он способен и на что не способен; и он оказывается в дезориентации, в беззащитности от неведомого себе – себя. Антропологическая ситуация сегодня являет именно этот, достаточно противный случай.
Как всегда бывает, post factum мы различаем причины, пускай не все, видим «гены смерти» модели, ставшей несостоятельной. Если человек отказывается заниматься своей Границей, она сама начинает заниматься им. Если сознание отрицает существование у него Границы – тем самым, оно открывает дорогу, предоставляет свободу действия Бессознательному. Что может быть ответом на декларируемую «безграничность» человека и его разума, если не безумие? Что может быть ответом на «практически доказанное», навязываемое как долг бессмертие, если не самоубийство? Еще не на этапе Декарта, нет, но на кантовском этапе уже могло быть ясно, что это нехорошо кончится. Но именно кантовский этап стал этапом триумфа. Выдался редкостный период долгой стабильности, когда возможна была успокаивающая вера в предопределенность человеческой природы стремиться к благу, даже к Высшему Благу, и без конца усовершаться на пути этого благого стремления. Шел XIX век, справедливо названный золотым. Европейская антропологическая модель исправно работала, питая его собою. Все было так успешно, что все было непоправимо.
ГЛАВА 4. К пределам классического пространства
4.1. Антиантропология классического немецкого идеализма
1.
Неизбежным образом, после деяний Канта развитие европейской антропологии стало на некоторый период движением на гребне успеха. Это движение носило, однако, своеобразный характер: оно отнюдь не было простым следованием в русле Канта, прямым продолжением и развитием его идей. Европейская мысль вступала в бурное, героическое время, которое мы скучно зовем сегодня «периодом классического немецкого идеализма»; и кантова трансцендентальная философия была лишь вступительною, начальной частью открывавшихся пространств мысли. Разумеется, новая система такого масштаба и такой цельности не могла не приобрести своих энтузиастов и приверженцев, ортодоксальных кантианцев, и они вскоре же начали появляться по всей Европе; однако небывалая философская возбужденность германского разума породила тогда же и целую когорту самостоятельных мыслителей крупнейшего ранга. Можно сразу сказать: даже и среди них, на их фоне, философия Канта в части антропологии остается самым значительным и основательным опытом, и европейская модель человека по праву может именоваться моделью Аристотеля – Декарта – Канта. Но при всем том, классический немецкий идеализм, как по отдельности в каждом из крупных своих учений, так и совокупно, как течение мысли, также несет собственные антропологические идеи и доставляет определенное развитие классической европейской модели. Чтобы увидеть, что же представляет собой «антропология классического немецкого идеализма», надо, прежде всего, отметить главные родовые черты этого движения.
Как известно, философия Канта не появилась на свет как плод философского расцвета; напротив, она возникла в пору упадка творческого философствования и сама послужила главнейшим средством, импульсом, стимулом преодоления этого упадка, выхода из него. Но, чтобы понять генезис и природу нового мощного движения, которое быстрым, блестящим взлетом создалось в германской философии после Канта, сразу следом за ним, – недостаточно огульной негативной оценки предшествующей ситуации. Мы уже говорили, что мысль Канта отнюдь не находилась в отношении оппозиции и антагонизма к этой ситуации, но скорей находила в ней содержательную исходную почву. Шедшие следом представители молодой послекантовской философии – Фихте, затем Шеллинг, Гегель и др. – не обладали мирным, взвешенным темпераментом Канта; они несли, в большинстве, боевой и вызывающий дух «Бури и натиска» и будь то в отношении к предшественникам или современникам, стремились подчеркивать, как правило, свои отличия, а не сходства. И все же, в известной мере, предкантова германская философия должна быть признана добротной исходной почвой не для одного Канта, но и для всего широкого русла классического немецкого идеализма. Специфику этого русла, его особую марку во всей европейской философии составляет его собственный философский способ, который доставил, выражаясь его же языком, новую, более высокую ступень спекулятивного разума. Спекулятивное философствование получило здесь новый метод, несказанно обогатило свой понятийный аппарат и выросло в цельный, самодостаточный и всеохватный философский дискурс, который по концептуальной изощренности и богатству не уступал высокой схоластике, а по способу видения философского предмета, умеющему схватить предмет в его динамике, его жизни, был с нею попросту несравним: тут он в самом деле являл собой принципиально иную, высшую ступень философствования. Трудно поспорить, что подобные достижения осуществимы никак не с чистого листа, а только из подготовленной почвы – из развитой профессиональной традиции, школы. И предкантова немецкая философия, привычно хулимая в учебниках, сумела успешно выполнить роль такой школы.
Конечно, нельзя и незачем спорить с тем, что после Лейбница творческое движение в немецкой философии надолго застыло. Университетская философия сама определяла себя как «школьную метафизику»; ее главные фигуры, такие как Хр. Вольф, А.Г. Баумгартен и др., были формалистами – систематиками; а фигуры меньшего ранга в течение почти всего 18 в. с успехом добивались и добились того, что «профессорская философия» вплоть до наших дней стала синонимом скверной и засушенной философии. Но есть и другая сторона. То, что здесь подвергалось засушиванию, было освоенною неплохо базой классической европейской традиции, с особым вниманием не только к Аристотелю и Лейбницу как Альфе и (на тот момент) Омеге традиции, но также и к Декарту, поворотная роль которого полностью осознавалась. Засушивание не было и сведением к примитиву – явное доказательство чему в том, что начиная великое предприятие своих «Критик», Кант мог опираться на «Метафизику» Баумгартена. «Школьная метафизика» сохраняла – и предоставляла питомцам школы – не столь плохой уровень познаний, эрудиции и концептуальной культуры, меж тем как сама «школа» являла собой профессиональное сообщество с развитой инфраструктурой и активными внутренними контактами; философская переписка, обмен мнениями по актуальным вопросам, профессиональная полемика входили в нормы жизни сообщества.
Благодаря всему этому, новое слово Канта ни в коей мере не оказалось гласом вопиющего в пустыне. Рецепция трансцендентальной философии начинает формироваться немедленно и активно. Разумеется, она не была и не могла быть лишь положительной, восприятие было весьма пестрым; но в самой этой пестроте вновь сказывается здоровый философский организм с богатыми скрытыми ресурсами. Неизбежным образом, часть сообщества обнаруживала догматическое неприятие, выражающее боязнь нового, косность мысли и нрава, и защитную реакцию этой косности. Так себя проявила, например, профессура Тюбингенского университета, где обучался в начале 90х гг. знаменитый тройственный союз – Шеллинг, Гегель и Гельдерлин. Но на другом полюсе, почти немедленно возникают и поклонники, энтузиасты, пропагандисты нового учения и его творца. Самый, вероятно, восторженный и активный из этих кантианцев первого призыва, иенский профессор К.Л. Рейнгольд в феврале 1790 г. писал Якоби: «Я называю Канта Геркулесом среди мыслителей… Он создает эпоху, он – герой!» Еще более значительным был круг тех, кто пытался дать взвешенную профессиональную оценку, сочетающую признание достоинств с элементами критики. Как заранее ясно, в качестве пункта, вызывающего наибольшие сомнения и критику, сразу же выделилась – чтобы остаться на весь будущий период! – концепция вещи в себе. Содержательные возражения против нее выдвинули Соломон Маймон, известный и красноречивый скептик, Я.С. Бек и др.; и эта критическая линия, закрепясь, продолжилась во всем немецком идеализме. Более общие возражения, затрагивающие сами субъективистские основания эпистемологии Канта, ее «коперниканский переворот», развивал Якоби, пытавшийся противопоставить трансцендентальной философии «систему абсолютной объективности», где обосновывалась – но далеко, увы, не на уровне Канта! – когнитивная установка «неведения», ведущего, в отличие от рационального когнитивного процесса с его частичным и постепенным «знанием из вторых рук», – к «знанию из первых рук», питаемому верой и откровением. Шиллер в «Письмах о воспитании» (1793) представил романтическую реакцию на Кантову ригористическую этику долга, требуя примирить нравственность и чувственность, долг и личные склонности. – Все перечисленное показывает, что уже при жизни Канта рецепция его мысли успела сложиться, и довольно основательная, хотя, конечно, еще не ведающая о всем масштабе произведенного Кантом сдвига. Добавим еще, что по классическим законам школы, пайдейи, относительному консерватизму, сдержанной осторожности в среде учителей противостоял живой интерес, тяга к новому в среде обучаемых. Кант читался и дискутировался в возникавших спонтанно студенческих кружках; причем в качестве нового трансцендентальная философия оказывалась в одном ряду с явлениями, которых никак не одобрял благонамеренный ее создатель: с руссоизмом, антиклерикализмом, а иногда и безбожием, антимонархизмом – словом, со всею идейностью Французской Революции… Но самое важное – очень рано, когда еще даже не все основные тексты Канта успели появиться на свет, – идеи трансцендентальной философии начинают творчески развивать.
Первым на этом поприще, неоспоримо, был Фихте. Мы обратимся позднее к его учению, а сейчас лишь укажем, что почти все его основные сочинения появились еще при жизни Канта. Почетная роль первого труда, в котором идеи Канта были подхвачены и пущены в дело дальнейшего философского строительства, принадлежит «Опыту критики всякого откровения» (1792). За ним в середине 90-х гг. следует цикл работ, представляющих систему наукоучения и доставляющих Фихте (вкупе с анонимно выпущенными текстами о свободе мысли и о Французской Революции) громкую известность и славу; она, пожалуй, даже превосходила славу самого Канта за счет приемов ораторской риторики и гораздо более сильного звучания идеи свободы. В 1800 г. выходит «Назначение человека» и, в итоге, к началу 19 столетия первая из послекантовских больших систем классического немецкого идеализма была почти уже полностью создана. Вплотную за Фихте и под его прямым влиянием следует вундеркинд Шеллинг. Познакомившись с Фихте лично в 18 лет, летом 1793 г., он через год, прочтя «О понятии наукоучения», пишет за несколько недель свою первую работу, «О возможности формы философии вообще», достаточно высоко оцениваемую историками мысли. Когда же вскоре, весной 1795 г., появляется следующий текст, «О
Я как начале философии, или о безусловном в человеческом знании», – «стало ясно – так это увидели тогда, в том числе, и сам Фихте, – что философия, которая у Фихте устремлялась чрез Канта и далее, обрела юного гениального соратника».
[156] Затем тексты быстро становятся более самостоятельны, обнаруживая столь характерное для Шеллинга тяготение к натурфилософии; влияние Фихте начинает убывать, и вскоре за выходом в свет «Системы трансцендентального идеализма» (1800) сменяется периодом дружбы и сотрудничества с Гегелем (1801 – 1807, до негативных суждений Гегеля о философии Шеллинга во вступлении к «Феноменологии духа»). Тем временем, проблемно-тематический спектр, разброс философской мысли Шеллинга растет, выдавая, однако, не столько некий единый глобальный проект (как позднее у Гегеля), сколько нарастающие сомнения и искания. К 1809 г., к появлению «Исследований о сущности человеческой свободы», им созданы философия тождества, философия искусства, натурфилософия; но далее, как известно, следует резкий перелом – и поздняя шеллингова философия, возникающая после долгого перерыва, принадлежит совсем иному философскому способу, который он сам обозначал как «свободная теософия» и который крайне далек от строгого дискурса классического немецкого идеализма, отличаясь размытостью философского зрения и произвольностью гностических импровизаций. Это – диаметральная противоположность пути Гегеля: в том возрасте, когда Шеллингом было написано уже все, на чем зиждется его репутация классика, Гегель еще лишь находился на подступах к своей великой Системе. Возведение Системы, длившееся кропотливо до самой кончины Гегеля в 1831 г., – своего рода грандиозный эпилог, завершающий два героические десятилетия, за которые на рубеже 18 и 19 вв. создано было одно из главнейших, стержневых направлений в истории европейской мысли. Уже юному Шеллингу в начале этих десятилетий философская задача энтузиастически и уверенно рисовалась как дело создания большого целого, которое имело бы своим основанием систему Канта, до конца развивало заложенные в ней возможности и углубляло бы, а по возможности, и разрешало оставленные ею проблемы. Такое целое было создано, и оно определило собой все философское развитие наступавшего столетия.
Мы с умыслом позволили себе воспроизвести эту более чем известную философскую панораму. Нам необходимо и важно подчеркнуть весь масштаб классического немецкого идеализма как философского феномена, подчеркнуть его огромную цельность, концентрированную творческую энергию – ибо то, что мы далее увидим, говорит о совсем иных, контрастирующих свойствах и сторонах этого феномена. Нам предстоит убедиться – не побоюсь этого сказать – в фактическом банкротстве, провале немецкого идеализма в проблеме человека. Этот уникально влиятельный, уникально насыщенный этап европейской мысли для понимания человека оказался не столько даже пустым, бесплодным, сколько вредным. Это философское обстоятельство – не из очевидных, ибо антропологическая тематика здесь не игнорируется и речь о человеке отнюдь не вытеснена. Рождаясь в эпоху Французской Революции и поддаваясь немалому влиянию созданной ею атмосферы идей, классический немецкий идеализм воспринимает из этой атмосферы новый порыв самоутверждения человека – порыв к идеалам Ренессанса и Просвещения, утверждающим человека как «Человека Безграничного», обладателя высшего достоинства и неотчуждаемых прав, безграничных сил и возможностей развития. С особенной эмоцией и эмфазой эти мотивы звучат у Фихте. Но надо сразу учесть природу дискурса данного направления: ядро этого дискурса составляет созданный им специфический философский строй (заметно разнящийся у разных классиков направления) – особый спекулятивный метод, особый арсенал понятий и логика понятий; и потому обоснованные философские утверждения в его рамках – лишь те, что введены, претворены в этот «ядерный дискурс», выражены на его языке и по его правилам. Однако строгий «ядерный дискурс» никогда не исчерпывает собою всего дискурса; наряду с ним, полный дискурс с неизбежностью включает ту или иную долю обычной, непретворенной речи – описательной, декларативной, риторической и проч., которая образует, так сказать, «бахрому» дискурса, его обрамление, уже не имеющее философской обязательности. Применительно же к антропологии, это означает, что действительные антропологические позиции учений немецкого идеализма выражаются специальной речью соответствующих «ядерных дискурсов», тогда как обычная, прямая речь о человеке – как правило, только необязательная «бахрома», которая может иметь, а может и не иметь философского обоснования. И как раз у Фихте нас встречает разительный контраст между обилием антропологической риторики и бедностью, неопределенностью антропологического содержания, актуально претворенного в «ядерный дискурс».
Отделив «бахрому» и переходя к действительной философской антропологии «ядерного дискурса», мы немедленно обнаружим в нем то качество, которое мы в этих очерках именуем антиантропологичностью. Будучи присуще всей линии классической европейской метафизики, оно развивается вместе с ней, разнообразя свои формы и проявления (мы уже видели, что у Декарта и у Канта оно выступает по-разному) и постепенно усиливаясь. В послекантовском немецком идеализме оно достигает, пожалуй, апогея – так что далее, начиная с Кьеркегора, уже возникает обратная реакция, движение антропологического протеста. Первоначально антиантропологичность проявлялась, по преимуществу, в простой форме неполноты охвата феномена человека; и мы заметили и подчеркнули на примере Декарта, что эта неполнота относилась в первую очередь, к специфическим предикатам, характеризующим человека в целом, к «интегральным антропологическим проявлениям», среди которых мы выделили следующие три главных вида: экзистенциальные предикаты, образующие основоустройство конечности; интерсубьективные предикаты, образующие основоустройство межчеловеческого общения (во всей полноте видов этого феномена); и религиозные предикаты, образующие основоустройство целостной самореализации человека, осуществляемой в актуализации отношения к Инобытию. Уже и эта простая форма не возникает лишь из поверхностных, «вкусовых» предпочтений философов, но связана с коренными свойствами и базовыми структурами их учений, – и в силу этого, никак нельзя устранить антиантропологичность, попросту добавив, введя дополнительно отсутствующие предикаты в эти учения (мы это отмечали и у Декарта, и у Канта).
Еще в большей степени это верно для следующей, более усложненной формы антиантропологичности, которую мы обнаружили в системе Канта. Эта форма сразу и прямо связана с самой природой Кантова философского способа и дискурса. Способ все в большей мере становится законченно, замкнуто спекулятивным, и его категории радикально удаляются от непосредственной антропологической реальности, а его структуры, организуемые спекулятивной логикой, становятся абсолютно не связанными с собственно антропологическими структурами, с концептуальными «очертаниями фигуры человека». В итоге же, антропологическое содержание оказывается в подавляющей мере скрытым, имплицитным. Даже субъект познания, который, хотя и был уже не антропологическим понятием, а продуктом некоторого разложения человека, но все же нес в полном объеме, нерасчлененно, одну из основных антропологических функций, – у Канта подвергается еще дальнейшему расчленению, превращаясь в «перевозочное средство» категорий трансцендентальной аналитики и, тем самым, разлагаясь по всем этим категориям.
Словно Загрей, раздираемый на части в дионисийской мистерии, человек здесь оказывается весь и безостаточно расчленен, рассеян по всем стихиям-систематикам трансцендентального Универсума; причем расчленен не по принципам своей собственной организации, а по иным, чуждым. И как невозможно вновь собрать расчлененного и рассеянного Загрея, так же невозможно взять и сложить из деталей трансцендентальной архитектуры живого цельного человека. Выражаясь математически, трансцендентальный дискурс не рассчитан на решение «обратной задачи» и отнюдь не ставит перед собой таких целей. Что то же самое, в рамках этого дискурса невозможно ответить на вопрос «Что такое человек?» – ибо ответ должен был бы заключаться в глобальной переинтерпретации всего философского целого или, иными словами, в выстраивании над ним специального мета-дискурса, который осуществлял бы его антропологическую дешифровку. Как мы говорили, в философии Канта это существенное обстоятельство было признано ее творцом и хотя бы отчасти, бегло отрефлектировано (а продолживший такую рефлексию Хайдеггер выдвинул скромную концепцию, согласно которой недостающим мета-дискурсом, раскрывающим истинный антропологический смысл трансцендентальной философии, не может являться ничто иное кроме хайдеггеровской фундаментальной онтологии – так что «Бытие и время» выступало как необходимое завершение «Критик», явившееся чрез полтора столетия с ответом на их главный и последний вопрос).
Эту кантианскую формулировку: принципиальная невозможность ответа на вопрос «Что такое человек?» – мы можем принять в качестве дефиниции обсуждаемой формы антиантропологичности. В отличие от первой формы, это – внутренняя, структурная деантропологизация философии, более радикальная, внедренная на уровне самой онтологики философского дискурса. Прямые продолжатели Канта (в отличие от него самого) не были уже склонны видеть и признавать эту особенность в своих учениях. Спекулятивное философствование, достигающее в этих учениях своего апогея, самоутверждается в них как исчерпывающий философский способ, содержащий в себе ответы на все вопросы, первые и последние. Тем не менее, именно эта глубинная деантропологизация, которой подвергаются природа понятий и логика их связей, составляет неотъемлемую и характерную черту антропологии классического немецкого идеализма. В философии, наделенной такой чертой, человек скрыт, невидим, его присутствие – лишь амбивалентное присутствие-отсутствие. Поэтому эта антропология – существенно негативная антропология; и наша очередная тема заставляет вспомнить остроту известного фантаста Лема: Разумеется, никаких драконов не существует; но каждый из них делает это по-своему. В системах классического немецкого идеализма не существует человека как полноценного философского предмета. Но в каждой из них отсутствие человека осуществляется по-своему.
2.
В центре всего учения Фихте – его знаменитая концепция Я. Звучащая необычно, представленная ярко и сильно, она с полным основанием заслуживает своей знаменитости. Но это – знаменитость не бесспорного достижения, а скорей поражающего, странного феномена; к примеру, Бертран Рассел в ее очень краткой характеристике употребляет дважды слово «безумие». Основания для такого взгляда – на поверхности; и потому стоит указать совсем иной угол зрения, под которым появление шокирующего фихтеанского Я видится естественным и вполне подготовленным.
Фихте – непосредственный преемник Канта: первый после него, кто продумал проблематику трансцендентальной философии во всем ее комплексе и поставил целью реорганизовать эту философию к более прозрачной, связной, единой форме, в которой были бы до конца реализованы заложенные в ней тенденции, возможности и смогли бы найти ответ оставленные ею вопросы. Упрощено и обобщенно, главное из того нового, что принес Кант, можно резюмировать в форме двух крупнейших особенностей: трансцендентальный метод и субъективистская позиция философствования, «коперниканский переворот». Первая особенность означала внедрение последовательно спекулятивного «трансцендентального» дискурса, имплицируя организацию философского учения в форме единой спекулятивной системы. Но совершенный и законченный тип организации спекулятивной системы – монистическая система, в которой все базовые понятия, отношения, структуры изводятся или полагаются по единому методу из единого верховного принципа. В учении Канта с его членением на три Критики эта высшая степень связности и единства, прозрачности философского целого еще не было осуществлена, и полная реализация трансцендентально-спекулятивной природы этого учения могла естественно видеться в том, чтобы с помощью некоторого верховного понятия достичь полного «трансцендентального монизма». Выбор же такого понятия подсказывала вторая особенность. Коль скоро была избрана субъективистская позиция, ее также следовало выразить и раскрыть до конца, до предела; коперниканский переворот следовало представить с максимальной наглядностью и резкостью. Самый прямой путь к этому, несомненно, был в том, чтобы сделать верховным принципом монистической системы недвусмысленно субъективистский концепт; и столь же несомненно, понятие Я в качестве такого концепта находится вне конкуренции. – Такова внутренняя логика, следуя которой, рождается соединение трансцендентального монизма с предельным субъективизмом, – или же философия Я Фихте, не без основания иногда именуемая и религией Я.
Монизм спекулятивных систем классического немецкого идеализма должен был преодолеть специфическое препятствие, которое создавалось онтологией христианской картины бытия – не дуалистической в полном смысле, но содержащей существенный дуалистический момент: онтологическое расщепление и разрыв между Божественным и тварным бытием, Богом и человеком. В разделе о Канте мы довольно подробно описали, как в его системе элиминируется дискурс Инобытия, дискурс онтологических аспектов Богочеловеческого отношения, выражающий этот момент: в сфере чистого разума он элиминируется путем интеграции онтологии в когнитивную парадигму, а в сфере практического разума – путем интеграции религии в этику. Монистические системы продолжателей Канта отнюдь не отрицали таких решений, однако для них они не были достаточны: дабы достичь строгого монизма, здесь требовалось, в первую очередь, освободить от связи с дуалистическими структурами и дискурсами, от всякого их влияния, сам верховный принцип системы. Такое освобождение отвечало глубинной тенденции всей секуляризующейся метафизики Нового времени: постепенному возврату из онтологики христианской мысли, онтологики расщепленного бытия, в античную онтологику единого бытия-мышления. Классический немецкий идеализм стал существенным дальнейшим шагом в этом направлении; но все же, по самым разным причинам, возврат не проводился – и не мог быть проведен – во всей полноте, в качестве открытой, фронтальной философской стратегии (пожалуй, к такой стратегии наиболее приближался Шопенгауэр). В итоге, полнота монизма его систем в значительной мере должна была утверждаться волевым актом, вопреки сохранявшимся там и сям элементам дуалистической онтологики. Так возникали специфические концепты немецкого спекулятивного монизма – Я, Дух, Разум – изначальным и коренным свойством которых была онтологическая двусмысленность, неопределенность: способность нести предикаты, принадлежащие различным порядкам бытия. Лишь за счет этого они обретали другую, главную свою способность – способность конституировать, полагать из себя всю целокупную реальность, немало черт которой еще хранило печать христианской онтологики, глубоко чуждой рождавшемуся спекулятивному монистическому универсуму.
Фихтеанское
Я – едва ли не первый чистейший образец такого спекулятивного мега-концепта с ускользающими очертаниями. Первые разделы «Наукоучения», развертывающие его основоустройство, не оставляют сомнений в том, что его главное содержание – именно роль верховного всеполагающего принципа реальности. «Источник всей реальности –
Я… Изначально существует всего одна субстанция,
Я… В
Я положено все, и все должно быть зависимо от
Я»
[157] и т.д. и т.п. Эта полагающая и конституирующая роль реализуется с помощью спекулятивной логики
Я – одной из версий логики тождества, типичной и непременной принадлежности систем классического немецкого идеализма. «Противоположное
Я есть
Не – Я… В
Не – Я – отрицание, в
Я – реальность… Коль скоро положено
Не – Я,
Я не положено, ибо посредством
Не – Я,
Я полностью снимается.
Не – Я положено в
Я, ибо оно противополагаемо, а всякое противополагание предполагает тождество
Я, в котором положено, и того, что положено противополаганием.
Я не положено в
Я, коль скоро в нем положено
Не – Я… Я =
Не – Я;
Не – Я = Я».
[158] Необходимое положение
Я есмь Я, дающее
Я через само
Я, по содержанию отлично от формального тождества А = А; и т.д. Но за этим новым спекулятивным формализмом нетрудно различить, что логика, выстраиваемая на базе
Я, воспроизводит в общих чертах логику отношения Бог – Мир в пантеистической и панентеистической линии христианской мысли – ср., к примеру: «В вершине всего теоретического наукоучения поставлено положение:
Я полагает себя как определенное посредством
Не – Я».
[159] Таким образом, в качестве первого и основного пласта своего содержания,
Я возникает у Фихте как абсолютное всеполагающее начало, если и не Божественное, то уж, во всяком случае, демиургическое.
Я наделено «абсолютной бесконечной сущностью» и собственным бытием, заведомо не заимствуемым, не почерпаемым ни из какого внеположного источника: «
Я полагает изначально и просто свое собственное бытие».
[160] Я тождественно бытию и есть главное имя бытия. Во всем этом ряду базовых определений и свойств нет ничего, отсылающего к человеку, специфически связующего
Я с человеком. Введенный концепт не принадлежит антропологической реальности, это не антропологический концепт, и более того, он никак не может им быть.
Тем не менее, у Фихте он им становится; и даже без трудности. Путь перехода, сближения с антропологической реальностью очевиден, поскольку налицо имеется самая значительная соединяющая сфера – сфера познания. С самого основания новоевропейской метафизики, с Декарта, познающий разум стремится быть автономным и самодостаточным во всех отношениях; и в классическом немецком идеализме он наконец полностью достигает этого. Поэтому Я как конституирующее начало реальности естественно выступает и как конституирующий принцип познавательного акта и процесса познания, определенной когнитивной парадигмы – в пользу чего эффективно работает и магия имени: с переходом в сферу познания мы почти непроизвольно, автоматически начинаем воспринимать Я в качестве познающего агента, хотя главные определения, какими наделил его Фихте, не давали особых оснований для этого.
Здесь стоит сделать небольшое отступление о природе концепта. Как видим, Я Фихте, будучи абсолютным принципом, приобретает и антропологическое содержание, становится принципом, относящимся также и к человеку: обоюдоприродным (по крайней мере, как когнитивный принцип). В обсуждениях системы Фихте, это специфическое свойство часто интерпретируется как «имманентность трансцендентного», выражающая связь и близость Бога и человека, их встречу в неисследимых глубинах Я, которые суть и глубины внутренней реальности человека, – иными словами, здесь видится мотив своеобразного религиозного экзистенциализма. Такую интерпретацию можно подкрепить исторически: подобные мотивы явно не чужды традиции немецкой религиозной мысли – прежде всего, немецкой мистики почти на всех ее этапах: мистике Рейнской школы Экхарта и его продолжателей, мистике Ангела Силезиуса, Якова Беме и других; и эту мистическую линию вполне можно причислить к философской родословной Фихте. Однако, с другой стороны, взгляд по существу на формулу «имманентность трансцендентного» рождает определенные возражения. Разумеется, a priori и при любых условиях трансцендентное вовсе не имманентно. Чтобы оно им явилось, необходимы особые предпосылки, которые тщательно отыскиваются и анализируются в различных школах религиозной мысли и духовной практики; в общих же терминах, можно лишь сказать, что трансцендентное имманентизируется в целостном мета-антропологическом усилии, при определенных предпосылках энергийно-антропологического характера. Когда же – как в случае Фихте – необходимость этих энергийно-антропологических (как и вообще любых) предпосылок игнорируется, и имманентность трансцендентного попросту утверждается на чисто спекулятивном уровне, – порождается лишь наложение и смешение онтологических инстанций. Возникает концепт, который не позволяет различить эти инстанции, являя собою нечто подобное фигурам Эшера: при одном взгляде в нем видится Бог, при другом – человек (хотя при этом он вовсе не отождествляется с теологическим концептом Богочеловека). Поэтому мы не будем говорить, что в фихтевском концепте Я актуально осуществлен принцип имманентности трансцендентного; и сохраним за этим Я нашу прежнюю характеристику: мега-концепт с ускользающим онтологическим и антропологическим содержанием.
Возвращаясь же к когнитивной парадигме у Фихте, мы видим, прежде всего, что в общей основе и структуре, это – кантианская и субъект-объектная парадигма. В определенном аспекте своей связи,
Я и
Не – Я реализуются как субъект и объект (ср.: «Ради ясности, мы будем называть
Не – Я объектом, а
Я – субъектом»
[161]), хотя такая реализация отнюдь не исчерпывает их содержания. Однако Кантова трансцендентально-онтологическая основа когнитивной парадигмы получает у Фихте новую редакцию. Она имплицируется его концепцией
Я и неуклонно развертывает заключенные в этой концепции тенденции к самому радикальному субъективизму. Из сказанного они вполне уже очевидны: став познающим агентом,
Я удержало при себе и все предикаты и прерогативы всеполагающего и всесодержащего принципа – и оказалось поэтому крайне своеобразным агентом, глобальным и всеохватным. Иными словами, при такой концепции
Я, когнитивная перспектива неизбежно выстраивается полностью интериоризованной: заключенной без остатка внутри
Я. И Фихте утверждает эту ультрасубъективистскую перспективу решительно и отчетливо. «Я имею знание в самом себе... Не нужно никакой связи между субъектом и объектом, моя собственная сущность эта связь. Я субъект и объект, и эта субъект-объектность, это возвращение знания к себе самому и есть то, что я обозначаю понятием
Я… Я нахожу себя как субъект
и объект… Природа… всюду не выражает ничего кроме отношений и связей меня самого со мною же».
[162] Немедленное следствие этого – ультрасубъективистское решение проблемы восприятия, сознавания и познания реальности вне нас: «Я воспринимаю лишь себя самого, мое состояние… Сознание предмета есть лишь сознание порождения мною представления о предмете…
[163] Сознание вещи вне нас – продукт нашей способности представления… Совершая то, что мы называем познанием и рассмотрением вещей, мы всегда и вечно познаем и рассматриваем лишь самих себя».
[164] При этом, построение ультрасубъективистской когнитивной перспективы, всецело вобранной внутрь
Я, – несомненная часть ядерного дискурса Фихте, дающая содержательные решения встающих гносеологических проблем – в частности, интериоризацию качествований пространства и массы. Устанавливается триада базовых когнитивных способностей, которыми выполняется это всецело интериоризованное познание:
восприятие (оно конституирует свойства вещей),
созерцание (в согласии с Кантом, конституирует пространство),
мышление (конституирует расположение вещей в пространстве).
Вызывающий, гипертрофированный субъективизм эпистемологии Фихте стал самой известной – скандально известной, если угодно, – чертой его философии. Мы видели, тем не менее, что, в известном смысле, его появление естественно; к нему ведут достаточно реальные логические нити, и разве что крайняя степень, до какой он доводится, и решительность, волевой нажим, с какими он утверждается, – отражают личный темперамент и склонности философа. И, может быть, для самого Фихте более важной и личной являлась совсем другая черта его эпистемологии, уже не столь обсуждаемая: соединение сфер чистого разума и практического разума.
Сама по себе, описанная выше субъективистская когнитивная парадигма не удовлетворяет своего автора, как она не удовлетворяет и многочисленных критиков. Проделав (в ч. II «Назначения человека») ее детальное построение, он сам же затем высказывает все главные возражения: «Вся реальность уничтожается и превращается в сон
[165]… Нет ничего, абсолютно ничего, кроме представлений и определений сознания
[166]… Нет ничего длящегося, только сплошная смена. Я ничего не знаю ни о каком бытии, в том числе и о моем собственном… Образы – единственное, что есть… Я сам – только искаженный образ образа… Сознание – сон, мышление – сон об этом сне».
[167] И следует заключение: « «Ничего нет вне моих представлений» – смехотворная идея, не стоящая опровержения».
[168] – Однако чем именно вызываются неприемлемые свойства этой картины? Здесь Фихте уже расходится со своими критиками. Обычную объективистскую критику не удовлетворяет то, что картина – чисто субъективистская: в этом она кажется им ложной, противоречащей прочным представлениям о наличии у наших знаний, в особенности, у научного знания, определенной опоры и основы в реальности вне нас, не зависящей от нас. Но Фихте не удовлетворяет совсем другое: то, что картина – чисто когнитивная, и за счет этого – еще даже недостаточно субъективистская! Для него, знание, существующее само по себе, автономное, – как чуждый и нежеланный островок, остаток объективизма в субъективистском универсуме. Действительно, оно подчиняется лишь собственным правилам, считает себя полностью самоценным и ни от кого, ниоткуда вне своей сферы не принимает своих целей: предмет познается исключительно ради того, чтобы стать познанным.
Именно это и не удовлетворяет Фихте. Здесь на сцену выходит новый аспект его философии, не менее существенный, чем его концепция
Я и тесно связанный с нею: его
теория деятельности. В учении Фихте – подлинный культ действия и деятельности, причем познание, когнитивный акт, к деятельности не причисляется: это всего лишь «праздное рассматривание самого себя или восприятий» (возможность такой позиции – конечно, в известной относительности, амбивалентности дихотомии действие – претерпевание). Сфере деятельности отдается решительный приоритет и примат над сферой познания. Вторая должна подчиняться первой, и только из первой конституируется ценностное измерение реальности: «Ты существуешь для деятельности; твоя деятельность, только она, определяет твою ценность».
[169] Эта субординация познания – деятельности, теоретического – практическому связана с трактовкой деятельности в спекулятивной логике Наукоучения, отождествляющей деятельность и реальность (ср.: «Понятия самополагания и деятельности суть одно и то же… Деятельность есть положенная, абсолютная (в противоположность относительной) реальность… Реальность или как мы равным образом определили это понятие, деятельность»
[170]). Здесь уясняется до конца, в чем состоит для Фихте ущербность и недостаточность чистого познания: познание как таковое для него еще вне реальности и чтобы стать реальностью, войти в нее, оно должно соединиться с деятельностью, подчинить ей себя. С понятием деятельности Фихте связывает особый фундаментальный предикат человеческой природы – «влечение к деятельности», «стремление к абсолютной, независимой и самостоятельной деятельности (Selbsttätigkeit)», «реальная деятельная сила» и т.п. Именно он формирует и обосновывает мир человека: «Мы не действуем, потому что познаем, а познаем, потому что определены к действию… Для разумного существа, законы действия непосредственно достоверны; его мир достоверен лишь в силу того, что достоверны законы действия».
[171]В итоге, одна из наших «портретных черт» Новоевропейского человека – его гносеологичность, примат когнитивной установки – получает своеобразную модификацию или модуляцию: видоизменяется в примат деятельности, активизм. Первая и важнейшая особенность активизма Фихте в том, что он утверждается как активизм нравственный. Наши действия – действия в окружении других, по отношению к другим, «нам подобным существам», и такие действия подлежат нравственным условиям, должны управляться «гласом совести». Поэтому законы действия – нравственные законы, и сфера деятельности есть сфера нравственного действия, «практического разума». Вслед за Кантом, Фихте ставит в вершину этой сферы понятие долга: «Я истинно и достоверно имею определенный долг».
[172] В силу примата деятельности, определения, связанные с долгом, становятся первыми и главными определениями в мире человека: «Мое назначение – нравственное действие. Мой мир – это объект и сфера моего долга».
[173] Последний тезис – ключевое основоположение деятельностной и этицизированной онтологики Фихте – многократно варьируется, углубляется, усиливается: «Этот мир существует для нас лишь благодаря заповеди долга»
[174], «Наш мир есть очувствленный (versinnlichste) материал нашего долга»
[175] и т.п., вплоть до лапидарной формулировки, которую Фихте объявляет фундаментом всего своего учения: «Чувственный мир есть зримость нравственного, и ничего более».
[176] Как явствует отсюда, для нравственного действия, полностью сообразного долгу, мир прозрачен и проходим до конца; вбирая его в нравственное действие, мы схватываем его в полноте, и никакой сферы вещей в себе, недоступной для постижения, не остается. При этом, ультрасубъективистская позиция Фихте, тотально интериоризующая целокупную реальность, не противоречит необходимости нравственного действия и не подрывает нравственного закона: «Эти мнимые разумные существа вне меня – продукты моей активности представления… Но глас совести говорит: чем бы ни были эти существа в себе и для себя, ты должен обращаться с ними как со свободными, самостоятельными и независимыми от тебя существами. Не препятствуй им в осуществлении их целей, по мере сил помогай им, уважай их свободу, постигай их цели с любовью как твои собственные».
[177] Однако, действуя с тою же абсолютной обязательностью, нравственный закон у ультрасубъективиста Фихте все же обретает иной характер, чем у просто субъективиста Канта: как и все прочие законы и феномены, он также всецело интериоризуется: «Нравственный закон… есть одновременно само
Я, он исходит из внутренней глубины нашего собственного существа и когда мы повинуемся ему, мы лишь повинуемся самим себе».
[178]Примат дискурса деятельности, развитость его категорий естественно ведут к проблематике сознания и создают благоприятные предпосылки для ее разработки. Это не ускользает от взгляда Фихте; данная проблематика находит место во всех его главных текстах и, в частности, служит основной темой одного из поздних Берлинских курсов лекций, «Факты сознания» (1810). Однако возможности плодотворного углубления в темы сознания существенно умалялись двумя факторами: во-первых, недостаточным развитием феноменальной базы (психология как научная дисциплина, наука о сознании, далеко еще не была создана) и во-вторых, спекулятивной идеологией, истовой приверженностью спекулятивному методу, логика которого всегда высокомерно третировала логику фактов.
Основу продвижения Фихте в этой тематике составляют конструкции аффективной сферы – начал стремления, влечения, чувства – представленные в заключительной, Третьей части «Основ общего наукоучения» («Основы науки практического»). Разумеется, они возникают как очередные элементы основоустройства
Я. « Чистая, возвращающаяся в себя деятельность
Я по отношению к возможному объекту есть стремление, и притом… бесконечное стремление. Это бесконечное стремление в бесконечное есть условие возможности объекта: Нет стремления, нет и объекта».
[179] По Фихте, стремление связано отношением двойственности с рефлексией: «Всякая рефлексия основывается на стремлении; если нет стремления, нет рефлексии, и наоборот; они находятся во взаимодействии».
[180] В отличие от стремления, связанного лишь с возможностью объекта, влечение наделено определенным объектом и теснее связано с категориями здешнего бытия, с темпоральностью. «Стремление, воспроизводящее себя, длящееся, определенное… называется влечением… Влечение пребывает в субъекте и по своей природе не выходит за его пределы…
[181] Первое и высшее проявление влечения – влечение к представлению (Vorstellungstrieb)».
[182] Наконец, чувство (Gefühl) выражает дальнейшую ступень связанности вынуждающими и ограничивающими предикатами здешнего бытия: «Проявление неспособности мочь (Nicht-Können) в
Я называется чувством».
[183] Как и во всей классической традиции, природа чувства, по Фихте, –специфическое соединение действия и претерпевания. Но уже индивидуальный момент – то, что на первое место среди чувств у Фихте ставится «чувство силы», трактуемое им как принцип жизненной энергии, критерий жизни: «Чувство силы есть принцип всей жизни, это переход от смерти к жизни. Если есть лишь оно одно, жизнь еще в высшей степени неполна; но она уже обособлена от мертвой материи».
[184] Далее Фихте развивает своего рода алгебру чувств – систему формальных отношений, которым должны подчиняться чувства и их объекты. В зависимости от наличия или отсутствия гармонии между влечением и действием, определяются чувство удовлетворения (которое всегда кратко, преходяще, поскольку его вытесняет присущее человеку как постоянный фон чувство томления, тяги (Sehnen), где «внутренне соединены идеальность и влечение к реальности») и чувство неудовлетворенности, выражающее раздвоение субъекта.
3.
Можно сказать, пожалуй, что этот разобранный нами небольшой круг тем: концепция Я (включая конституцию ведущих модальностей сознания) – когнитивная парадигма – концепция деятельности – примат нравственного (интериоризованного, в отличие от Канта) долга и соединение сфер чистого и практического разума под эгидой практического, в служении долгу, – в основном, исчерпывает оригинальную разработку антропологической проблематики в «ядерном дискурсе» философии Фихте. В целом, за пределами названного, в этой философии еще остается весьма значительное антропологическое содержание; однако одной своей частью оно уже не принадлежит к оригинальным разделам фихтевского учения, ортодоксально следуя в русле Канта, тогда как другая выходит за пределы «ядерного дискурса», не имея обоснования из базовых принципов учения и представляя собою лишь «бахрому» дискурса, риторическую и декларативную речь.
К первой части следует отнести, прежде всего, религиозную проблематику. Такое суждение может показаться неожиданным, спорным, поскольку религиозные репутации тихого, благочестивого Канта и несдержанного Фихте, покинувшего Иенский университет из-за обвинений в атеизме, прямо противоположны. Тем не менее, различие – лишь в манере выражения. Фихте отнюдь не создал никакой своей религиозной позиции; но он с полным согласием присоединился к позиции Канта, проводящей тотальную редукцию религиозной сферы к служебной (обосновывающей) функции в рамках этики. Нижеследующий текст показывает это со всей ясностью. «Если некто называет закон, по которому из определения воли необходимо вытекает некоторое следствие, –
порядком – причем, в отличие от природного порядка, называет его моральным или интеллигибельным порядком… то, без сомнения, он полагает этот моральный порядок не внутри самого конечного морального существа, а вне его, – и тем самым принимает нечто помимо и вне этого существа…
[185] Именно это и есть, по-моему,
место религиозной веры: это – необходимая мысль и требование интеллигибельного порядка, закона, устроения или как угодно, согласно которому истинная нравственность, внутренняя чистота сердца, с необходимостью имеет следствие… Любая вера в нечто божественное, которая
содержит больше, чем это понятие морального порядка, есть, таким образом, выдумка и суеверие, которые могут быть безвредны, но всегда
недостойны нашего разумного существа».
[186]Далее, разом к обеим частям оказывается принадлежащим освещение проблем смерти и бессмертия. Они получают у Фихте много больше внимания, нежели у Канта, но в сути своей их постановка и решение базируются на чисто кантовской логике. Как и у Канта, человек Фихте бессмертен с необходимостью и по обязанности – за то, что на протяжении земной жизни он заведомо не успевает исполнить долг до конца. Но чистый философ Кант почти ограничивается этим тезисом и не развивает далее тему, поскольку в рамках трансцендентального метода в ней принципиально невозможно получить содержательные заключения; меж тем как Фихте, мыслитель-энтузиаст, заводит воодушевленную речь о будущей жизни, с красивыми картинками. «Эта жизнь дается нам для того и только для того, чтобы добыть нам прочную основу в будущей жизни… Другая жизнь будет жизнью созерцания…
[187] Я умру не для себя, а лишь для других, остающихся… для меня самого час смерти – час рождения к новой блистательной жизни…
[188] Смерть и рождение – попросту кольцо, которое образует жизнь сама с собою, и именно в кончине зримо является возвышение жизни».
[189] Этот панегирик смерти явственно перекликается с будущею утопией смерти как праздника у Ницше. Столь же очевидно, что оба образа смерти полностью покидают почву христианского миросозерцания, являя собой вольные вариации на языческие темы.
Весь немалый цикл тем, связанных с понятием
воли, мы также не решаемся отнести в отчетливо организованный и обоснованный «ядерный дискурс». Это понятие слишком важно для Фихте, слишком выделяемо и превозносимо им: Фихте – философ воли, не менее чем философ
Я! – и дискурс воли в его учении оказывается насыщен произвольными положениями и конструкциями. Вот первое и главное в фихтеанской трактовке воли: воля полагает свой собственный мир – «сверхчувственный вечный мир», особый порядок вещей, отличный от чувственного мира, «сверхземной» (überirdische). В качестве конституирующего принципа такого мира, она отождествляется с разумом: «Воля – жизненный принцип разума, она сама – разум, когда рассматривается как независимая и чистая. Разум, действующий посредством самого себя, есть чистая воля».
[190] Спекулятивная философия с ее культом разума – а в случае Фихте, «самодействующего разума», отождествленного с волей, – имеет очевидное внутреннее тяготение к платонизму и всегда с ним соседствует; однако системы классического немецкого идеализма не следуют просто в его русле, а создают собственные его модификации. Как мы указывали, у Канта интеллигибельный мир полагается в когнитивной перспективе, как мир высшей ступени познания; у Фихте – близкая вариация. «Вечный мир делается для меня ясней… Основной закон его порядка… – чистая и простая воля… Воля – действующее и живое начало разумного мира, как движение – действующее и живое начало чувственного мира. Я стою в средоточии (Mittelpunkt) двух противоположных миров, видимого, где решает действие, и невидимого, где решает воля;
Я - первичная сила обоих миров. Моя воля – то, что объемлет оба».
[191] Здесь Платонов мир так же (и еще более подчеркнуто) переводится в деятельностное измерение, но связан он уже не с познанием как таковым, а с нравственным действием; и кроме того, как и в теме бессмертия, дискурс, сравнительно с Кантовым, оснащается произвольными спекуляциями, уводящими его в «бахрому». Вот хотя бы: «Оракул вечного мира… возвещает мне, как приобщиться к бесконечной воле…
[192] Универсум… вечный ток жизни, силы и действия – из жизни изначальной…
[193] все живо и одушевлено… Единым током изливается формирующаяся (bildende) жизнь… как воздух и эфир Единого Мира Разума… и нет уже отдельного человека, но лишь единое человечество… непрерывное продвижение ко все большему совершенству по прямой, уходящей в бесконечность.»
[194] –Можно признать, что это недурно звучит; но философская основательность – а с ней, и антропологическая ценность – описанных построений невелика, и отнюдь не только из-за таких пассажей, по прямой уходящих в бесконечность. Еще существенней, что сам принцип воли, в своей абстрактной спекулятивности, как «вечная бесконечная воля», пребывает в совершенно неопределенном – и неопределимом! – отношении к человеку, к реальным фактурам человеческого существа и существования.
[195]Наконец, надо еще упомянуть некоторые особенности, весьма характерные и для антропологии Фихте и в целом, для всего духа его учения. Крайний субъективизм сочетается у Фихте со своеобразным коллективизмом. Как сквозной мотив, в его текстах немало раз возникает утопический социальный идеал, проект совершенного общественного и общечеловеческого устройства. В этой теме есть снова преемство и связь с Кантом, и точно того же рода как выше: если Кант ограничивается тем, что описывает принципы мира и справедливости в отношениях между нациями (и это взвешенное описание оказывается полезным и ценным в европейской практике, вплоть до наших дней), – то Фихте, который редко способен остановиться вовремя, рисует утопическую картину, когда «люди с необходимостью объединяются для общей единой цели, и возникает единое тело, живимое одним духом, одной любовью… Каждый поистине любит каждого как самого себя, как составную часть Великого
Я».
[196] Этот утопический тип социума, воплощающий принцип всеединства, был весьма популярен в русской мысли, где связывался с идеей соборности и со всем основанием считался выражением коллективистских воззрений. Поэтому его появление у Фихте, в его предельно субъективистском – и, тем самым, казалось бы, необходимо индивидуалистском – учении, можно было бы рассматривать как противоречие, непоследовательность – если бы в этом учении не обнаруживалось любопытное соединительное звено:
идея вождизма. Она выпукло предстает, например, в небольшом тексте-манифесте «О достоинстве человека», перекликающемся со знаменитой одноименной декларацией ренессансного гуманизма. Здесь мы находим понятие «высшего человека» – и выясняется, что соединение в «Великое
Я» («Великое единство чистого духа», «Единый дух во многих телах» и т.п.) мыслится как соединение вокруг этих высших людей, под их эгидой: «Вокруг высшего человека люди образуют круг… Их духи стремятся соединиться и образовать единый дух во многих телах. Все суть один разум и одна воля, и все выступают как соработники в великом единственно возможном Плане человечества. Высший человек мощно подъемлет свою эпоху на высшую ступень человечности».
[197]Это вождистское добавление к стандартным клише Просвещения и прогресса опять дает повод вспомнить Ницше (хотя здесь и нет прямого «моста к сверхчеловеку»); а также заставляет еще раз, по-новому взглянуть на один мотив, постоянно слышный у Фихте. Это уже не идейный, а скорей модальный мотив. В одной из последних цитат выше мы прочли: в великое единство любви люди объединяются
с необходимостью. Звучит странно: уместна ли, возможна ли вообще тут необходимость? Однако у Фихте так постоянно, это – основная тональность его учения: едва ли не все главные положения его системы, в особенности, его этики, утверждаются им так, будто они несут в себе волевое принуждение, повелительность, неумолимость… Но расхождение тона, повелевающего и принуждающего, с самим содержанием положений подрывает это содержание – и в худшем случае, содержание может обратиться попросту в свою противоположность! Мы читаем: «
Жизнь с необходимостью блаженна»,
[198] – и возникает ощущение какого-то гнетущего, нехорошего абсурда. Сразу вспоминается Кант: «Человеческая природа предопределена стремиться к высшему благу». Конечно, эти суждения – одного рода, такого, который сегодня мы никак не в силах связать с истиной и реальностью. И все-таки между ними ощутимая разница. Кант и в приведенном суждении, и в других подобных говорит о природе человека, проявляя такие представления о ней, которые для нас послужили предметом тихого умиления. Однако у Фихте – иной дискурс! Тут не суждение о природе, а волевое указание, предписание, вменяемое ее носителю. И вместо тихого умиления нам кажется, что такое предписание можно вполне представить начертанным над вратами нацистских лагерей – взамен знаменитого
Arbeit macht frei. Мы помним, как недавно в западной философии с огромным рвением устанавливали, разыскивали нацистские связи Хайдеггера и его мысли. Можно заведомо ручаться, что связи Фихте с этим явлением, хотя и посмертные, более основательны, чем у Хайдеггера.
«Наукоучение должно исчерпать всего человека»,
[199] – писал Фихте в 1794 г. с присущей ему решительностью замаха. Замах не был лишь пустой декларацией. Мысли Фихте действительно присуща стойкая антропологическая заинтересованность, обращенность к человеку, и тема о человеке для него всегда остается одной из главных, что свидетельствуется уже названиями трудов: «Назначение человека», «О достоинстве человека». Но вопреки этому, как ясно видно из нашего беглого обзора, некие более мощные, более эффективные особенности и механизмы этой мысли мешали тому, чтобы ее антропологическая заинтересованность привела к основательным достижениям. Я бы затруднился сказать, каковы положительные приобретения для мысли о человеке в системе Фихте. Главным и несомненным является собственно философское развитие: продвижение спекулятивного дискурса на новую ступень – ступень монистической системы, во всех своих частях, всех деталях полагаемой из единого верховного принципа. С этим продвижением, создаваемая система достигала более стройной и единой организации, делалась более прозрачной и проходимой (durchsichtig и durchgängig, излюбленные предикаты Фихте). Но одновременно, в качестве оборотной стороны этих же достижений, она становилась и более глубоко антиантропологичной. Мы убеждаемся, что спекулятивный способ и метод действительно несет в себе то свойство, которое выше названо второй, и более радикальной, формой антиантропологичности. Мы отмечали, что верховное начало системы Фихте, абсолютное
Я, полностью наделено этим свойством; затем мы усмотрели это же свойство в другом фундаментальном для Фихте понятии, понятии
воли; и нетрудно проверить, что им также характеризуется третье фундаментальное понятие системы Фихте,
деятельность. Соответствие всех этих базовых понятий – а с ними и всего фундамента философского учения – с антропологической реальностью, с человеком, не может быть эксплицировано отчетливо и однозначно. Сравнительно с учением Канта, стройность системы возросла, внимание к теме человека, во всяком случае, не уменьшилось – но при всем том, антиантропологичность усилилась и углубилась. И ясно уже, что за этим – общие свойства спекулятивного дискурса. Финальные выводы на сей счет мы сформулируем ниже, после краткого обсуждения антропологии Гегеля.
4.
Однако великая Система, всецело вбирая в себе реальность, переосмысливает и переозначивает ее, переопределяет понятия и предметы. Что такое «антропология Гегеля»? Необходимо сразу же провести различие между антропологией
у Гегеля (антропологической проблематикой, антропологическим дискурсом в Системе) и антропологией
по Гегелю (то, что именует антропологией сама Система). Напомним, что имя антропологии в Системе носит раздел, где описывается низшая форма низшей же ступени развития Духа («Субъективный дух является… предметом антропологии – как дух в себе или непосредственно; как таковой, он есть душа, или же природный дух»
[200]; затем идут феноменология, говорящая о сознании, и психология, «рассматривающая способности или всеобщие способы деятельности духа как такового»), и объем этого раздела – 25 из 577 параграфов «Энциклопедии». Без сомнения, это резкое сужение, умаление объема понятия говорит немало о том, какое значение придает Гегель антропологии и ее предмету; но все же данным разделом никак не исчерпывается антропологическое содержание Системы. При ее изумляющей, беспрецедентной всеохватности, антропологическая проблематика затрагивается в ней во многих и разных местах, под разными углами, в разных смысловых контекстах. Мы не ставим задачи выявить и описать всего эту криптоантропологию, рассеянную в гигантском космосе Системы; при цепкой связности всех частей этого космоса, дело потребовало бы изложения едва ли не всего целого (меж тем как заранее известно – с учетом всего, сказанного уже об антропологическом дискурсе классического немецкого идеализма, – что мысль философа отнюдь не сконцентрирована на человеке, и плоды реконструкции не могут быть особо значительны). В подобной ситуации, мы ограничимся тем, что попросту отметим ряд пунктов, несущих в себе существенное антропологическое содержание. Очевидно, что здесь неизбежен элемент выбора. Все наши замечания о спекулятивном дискурсе классического немецкого идеализма до сих пор исключительно подчеркивали его антиантропологический характер; но, как бы ни были они справедливы, нельзя ограничиться лишь такими чертами, говоря об антропологии (у) Гегеля. Великая Система бездонна, и помимо моментов, удаляющих европейскую антропологию еще дальше от человека, усиливающих ее антиантропологизм, в ней заведомо найдется и немало таких, которые углубляют понимание тех или иных проблем, сторон антропологической реальности. С этих положительных моментов мы и начнем; и ради объективного баланса, выберем по равному числу пунктов в положительной и отрицательной части.
Самый существенный из таких моментов в Системе отнюдь не принадлежит к ее антропологии, т.е. «антропологии по Гегелю» с ее урезанными границами. Он касается определенной части ее центральных понятий – именно, тех из них, что не являются специфической принадлежностью спекулятивного дискурса (каков, прежде всего, Гегелев «дух» во всех его видах), но входят и в антропологический дискурс, если тот понимается нормально, а не по Гегелю. Таковы, в первую очередь, понятия опыта, сознания и наличного бытия (Dasein). Когда работа «преодоления метафизики» в европейской мысли, на смену первым и частичным его попыткам у Кьеркегора, Ницше, Бергсона и др., начала приобретать прочный фундамент у Гуссерля и Хайдеггера, именно кардинальное переосмысление этих понятий стало ключевым элементом в продвижении к иному философскому способу. Это переосмысление существенно опиралось на углубленную разработку данных понятий у Гегеля и без нее едва ли было возможно. Отсюда следует и антропологическая значимость гегелевских разработок: европейская антропологическая модель, приобретавшая со временем все более резкие антиантропологические черты, – органическая часть классической метафизики; и наша критика, стремящаяся выявить эти черты, чтобы найти путь к преодолению антиантропологизма, непосредственно включается в работу преодоления метафизики, как ее необходимый аспект. Роль же Гегеля выступает, в итоге, двойственной: предельно усиливая, усугубляя антиантропологизм классической модели (как мы ниже увидим), его Система, благодаря принципиальному углублению самих концептуальных основ философствования, одновременно создавала предпосылки и готовила почву для будущего преодоления антиантропологизма.
Двойственность обнаруживается и в основоустройстве каждого из указанных базовых понятий: под нашим углом зрения, в этом основоустройстве, элементы и стороны, позднее воспринятые новыми теориями, преодолевавшими метафизический и антиантропологический способ, соединяются с другими, чисто спекулятивными и прочно принадлежащими этому способу. Так, понятие опыта у Гегеля в отдельных частях Системы может интерпретироваться как отвечающее такому же чисто спекулятивному опыту, каким он представляется в философии Фихте и раннего Шеллинга: опыту, что движется в плоскости спекулятивной логики тождества и не идет далее фиксации – разными путями, с разных позиций – тождества субъекта и объекта. Но главное содержание гегелевской концепции опыта – другого рода. Оно, как мы скажем сегодня, деконструирует оппозицию между помянутой спекулятивной концепцией опыта и противоположной эмпирической концепцией, что издавна и упорно проводилась английской мыслью. По Гегелю – как учит он, в первую очередь, в своей феноменологии – опыт есть существенно опыт сознания: действие сознания, являющееся познанием и предмета, и одновременно самого себя, сознания, – в котором сознание изменяется, испытывает некоторый «поворот»; так что опыт – это опыт сознания над сознанием и о сознании. Такая трактовка открывает далеко идущие возможности развития. «Поворот», превращение, испытываемое сознанием, раскрывается как самоиспытание сознания и как взаимоиспытание сознания и предмета. И подобное прогрессирующее, продвигающееся взаимоиспытание – уже нечто иное, нежели спекулятивное тождество, в утверждении которого у немецких мыслителей всегда оставался призвук то ли волевого нажима, то ли мистического экстаза. Здесь – ключ к выстраиванию определенной когнитивной перспективы и некоторому дальнейшему окачествованию самого опыта. Этим ключом воспользовался уже не Гегель, а Гуссерль; и в свете его феноменологии мы можем сказать, что гегелевская концепция опыта несла в себе определенные семена для построения субъектной перспективы познания и понимания опыта сознания как интенционального опыта.
Здесь мы уже затронули также концепцию сознания; и видно, что в своих потенциях развития, она тесно связана с концепцией опыта и вместе с нею создает предпосылки для появления феноменологических идей – в смысле уже гуссерлевской, а не гегелевской феноменологии. Мы обнаруживаем, что определенная идейная логика ведет от сознания и опыта по Гегелю – к интенциональному сознанию и опыту по Гуссерлю; и аналогичная логика ведет от понимания феноменологии по Гегелю (как, напомним, части Системы, где дух рассматривается как сознание, и одновременно, как «той части науки, где дух… лишь является, лишь связан с действительностью, но не есть еще действительный дух»,
[201] – т.е. в итоге, как науки, рассматривающей феномены сознания) – к феноменологии в смысле Гуссерля. Но очевидно и наличие чисто спекулятивного аспекта в этой концепции: гегелевское сознание не остается и не может остаться всецело лишь в сфере феноменологии (а для нас – антропологии), поскольку его понятию назначено проходить следующие воплощения-превращения в диалектическом процессе, и они выводят далеко за пределы этой сферы, экстериоризуя, гипертрофируя и мистифицируя исходное феноменологическое сознание.
Аналогичная ситуация связана и с концепцией
наличного бытия, Dasein. Судьбу и роль этого понятия в постклассической философии определило решение Хайдеггера, который твердо и однозначно поставил его в центре своей фундаментальной онтологии (тем самым, и антропологии), придав ему смысл определения способа бытия человека. (В данном контексте и смысле, в качестве его русского перевода утвердилось введенное В.В. Бибихиным «присутствие», понимаемое онтологически, как бытие-присутствие). Подобная трактовка явилась новой. У Гегеля наличное бытие, на общем уровне, толкуется в согласии с этимологией (Da-Sein, здесь-бытие), как бытие положенное и наличествующее, наделенное «местом» (не в пространственном смысле), определенностью, окачествованностью: «Наличное бытие есть бытие с некоторой определенностью, которая как непосредственная или сущая определенность есть качество».
[202] Понятие наличного бытия играет существенную роль в двух частях Системы, Логике и Феноменологии духа. В этих двух частях оно употребляется в несколько разных значениях; в сравнении с приведенным определением из Логики, в Феноменологии наличное бытие гораздо заметней сближается с сознанием и существованием. Тем самым, его смысл становится ближе к хайдеггеровскому истолкованию, хотя дистанция двух трактовок остается и здесь значительной, и решение Хайдеггера в любом аспекте представляется несомненной новацией. Тем не менее, анализ, проделанный А.В. Ахутиным, показывает, что понимания наличного бытия в «Бытии и времени» и «Феноменологии духа» связаны преемственной связью: «Гегелевское понятие определенной формы сознания как явления или наличного бытия (Dasein) духа может быть вполне осмысленно сопоставлено с хайдеггеровским Dasein… В “Феноменологии духа” Гегеля понятие мира сознания как Dasein – наличного бытия – духа (мышления-бытия)… ближе других к смыслу Dasein как человеческого бытия у Хайдеггера».
[203] Как и в случае понятий сознания и опыта, мы констатируем, что гегелевская работа с понятием подготавливала почву для будущего развития, преодолевавшего метафизику: в данном случае, почву для появления онтологии присутствия, тождественной (экзистенциальной) антропологии. Но, как и в тех случаях, мы видим также неустранимую, вездесущую печать спекулятивного философского способа, глубоко метафизического и антиантропологического. Из многих черт гегелевского Dasein, несущих эту печать, мы отметим всего одну, которая особо важна для антропологии. Наличное бытие, представленное в «Феноменологии духа», включает аспект или измерение историчности, это – историческое бытие. Будучи здесь связано с сознанием, самосознанием, существованием, оно передает и им это качество. Но историческое бытие – объективное и объективированное бытие; и таковы же, соответственно, историческое сознание и самосознание, которые образуются в опыте исторического бытия. Их объективная конституция проявляется далее в том, что они типизируются: реализуются как определенные исторически сформировавшиеся «нравственные характеры», экзистенциальные типы, как то скептик, стоик, художник и т.п. И эта типизация сознания, равносильная и типизации человека, есть резко антиантропологическая черта, выражающая железный объективизм Системы. (Напомним пастернаковское: «Принадлежность к типу есть конец человека, его осуждение».) Здесь проявляется та подчиненность и детерминированность человеческого бытия, которая исключает личностную стихию, аутентично-личностную природу идентичности и конституции человека, и которая служит самой коренной и характерной особенностью гегелевой (анти)антропологии (ниже мы еще вернемся к ней).
Помимо того, что мы бы назвали у Гегеля феноменологическим комплексом или кластером из концептов опыта, сознания и наличного бытия, мы хотим отметить и еще некоторые элементы Системы, вносящие положительный вклад в антропологическую проблематику. Они, однако, уже не столь значительны и принципиальны. Представляют интерес для психологии те разделения и различения, которые Гегель усматривает в структуре индивидуальности на ступени «души ощущающей (fühlende)» (напомним, средней из трех ступеней его «Антропологии»: Душа природная – ощущающая – действительная). Предвосхищая известные позднейшие психологические теории, он выделяет в этой структуре два тесно связанных начала, пассивное и активное. Пассивная индивидуальность – чистый комплекс ощущений, чувственная субъективность; активная, или эгоистическая (selbstische) индивидуальность – «самость» (selbst), наделенный самосознанием партнер этой субъективности, для которого Гегель использует античное понятие «гения», своего рода «духа места» по отношению к чистой чувственности как простому «месту», вместилищу. «В неразрывном единстве души – два индивида; один не есть еще самость, он податлив, другой – его субъект, отдельная самость обоих индивидов… это – отношение младенца в лоне матери – отношение, которое ни чисто телесно, ни чисто духовно, но
психично: отношение
души… Эгоистический субъект может быть назван «гением» ощущающей индивидуальности… Мать – “гений” младенца».
[204] Очевидно, однако, что когда эта двойственная структура исчерпывает собой сознание и самосознание, последние отнюдь не достигают высших ступеней развития. Когда сознание и самосознание всецело замкнуты на чувственную субъективность – это означает, что бездейственны, отключены высшие формы деятельности сознания. Соответственно, «гений… не есть мыслящий и волящий свободный дух; тут индивид должен рассматриваться как погруженный в чувственную форму… Научное познание, философские понятия, всеобщие истины требуют другой почвы».
[205] Поэтому состояние, когда гений выступает господствующей формой сознания, Гегель квалифицирует как род болезни, к которому принадлежат, например, сомнамбулические или гипнотические явления, «магнетический сомнамбулизм и родственные ему состояния». Мы же скажем сегодня, что в данной теме у Гегеля сквозят, пожалуй, некоторые подступы и выходы к проблематике бессознательного (недаром здесь мы у него встретим даже и термин «бессознательное»). Хотя, разумеется, нет сомнений, что спекулятивный дискурс Системы, говорящий тут о «при-себе-сущей духовности» и «субъективной субстанциальности, имеющей лишь формальное для-себя-бытие», заведомо безнадежен для развития этой проблематики, требующей не спекулятивного, а специфически антропологического точного зрения.
Тем не менее, и эта тема о «гении», и ряд других в гегелевской антропологии свидетельствуют, что философу была отнюдь не чужда также и антропологическая наблюдательность. Она ярко выступает, в частности, в развитии темы о
привычке, Gewohnheit, – да, собственно, уже и в самом том факте, что привычке в разделе антропологии уделены немалые внимание и объем. Сейчас мы отлично знаем, как многообразно важен этот феномен, сколь много нитей ведет от него к самым разным антропологическим механизмам и практикам. Но так вовсе не было во времена Гегеля, когда речь о привычке принадлежала почти исключительно «бытовой психологии», резонерскому дискурсу житейской мудрости. Разрывая с этой традицией как «принижающей» и «недооценивающей» привычку, Гегель утверждает привычку в статусе универсального антропологического механизма: это – общий механизм закрепления самоощущения (Selbstgefühl) во всех его формах, «ставшая естественной, механической, определенность чувства, но также и интеллигенции, воли и т.д., коль скоро они принадлежат к самоощущению».
[206] В силу этой универсальности, «Форма привычки охватывает все виды и ступени деятельности духа»
[207], – и Гегель иллюстрирует этот тезис набором самых разных примеров, усматривая механизм привычки в прямохождении человека, акте зрения, феноменах памяти и воспоминания… «Мышление тоже нуждается в привычке и беглости как в форме
непосредственности… лишь благодаря этой привычке я
существую для себя как мыслящий».
[208] С помощью привычки, далее, обретается освобождение от многих порабощающих факторов существования – к примеру, от влияния впечатлений, воздействия восприятий. И всю эту основательную апологию привычки резюмирует вывод: «Привычка – самое существенное в
существовании всякой духовности в индивидуальном субъекте, – то, за счет чего субъект есть
конкретная непосредственность и
душевная идеальность, за счет чего религиозное, моральное и т.д. содержание принадлежит ему как
данной самости,
данной душе».
[209]Нетрудно было бы продолжить и далее это обозрение элементов Системы, обогащавших европейскую мысль о человеке. Но это продолжение уже не имеет принципиального значения; среди оставшихся элементов мы не найдем особо существенных и масштабных, и их учет не изменит общей оценки роли и места Системы в развитии классической антропологической модели. В первую очередь, такая оценка определяется коренными особенностями Системы в ее отношении к проблеме человека; и нам пора наконец отчетливо указать, что же главное в этом отношении. Рассмотрев учение Канта, мы обнаружили, что его трансцендентальная архитектоника в своем отношении к субъекту и человеку несет новую, более радикальную форму антиантропологичности – внутреннюю, структурную антиантропологичность, которая выражается в необратимой расчлененности и рассеянности человека по всем трансцендентальным структурам. Рассмотрев учение Фихте, мы нашли, что в нем данная форма еще усиливается за счет того, что это учение, организованное в систему спекулятивного монизма, полагается из определенного верховного принципа, который представляет собой «мега-концепт с ускользающим содержанием»: поскольку «ускользающим» является, в частности, и антропологическое содержание, этот верховный принцип несоотносим с человеком, находится в неоднозначном и до конца не эксплицируемом отношении к нему. У Гегеля же в его Системе, в дополнение к этим проявлениям антиантропологизма, возникает еще одно. Оно порождается объективистским характером Системы и, в совокупности со всеми прежними, доводит антиантропологизм классической метафизики до предельной степени.
«Для духа, человеческий образ – лишь первое явление его самого и язык для его более совершенного выражения».
[210] Это – одна из отчетливых формулировок «объективного антиантропологизма» Гегеля. Объективистская тенденция Системы выражается в ее тяготении к системной логике и аксиологии, которые утверждают приоритет системы над любой ее подсистемой. Применительно к концепции человека это ведет к тому, что человек, как любое из частных содержаний Системы, не совпадающих с ее полагающим принципом, Абсолютной Идеей, становится дериватом, производным и полагаемым содержанием. Так происходит за счет того, что начало разума абсолютизируется и отчленяется от человека, деантропологизируется и изымается из антропологии. Абсолютизированное, оно становится Абсолютным Духом или Абсолютной Идеей, верховным полагающим началом, первопринципом бытия и реальности. «Разум – божественное начало в человеке», – пишет Гегель; но это начало существует отнюдь не исключительно и даже не преимущественно в человеке. Множество его ступеней и форм охватывает всю реальность, весь глобальный Процесс Процессов: к примеру, в этом Процессе действуют разум государства, разум истории, неизмеримо превосходящие разум человека. Собственно же с человеком соотносятся лишь определенные низшие ступени и формы выражения разума. Т.о., в реальности, конституируемой в диалектическом процессе саморазвития Абсолютного Духа, человек занимает лишь определенную клетку на определенной ступени, не самой низшей, но и не высшей (аналогично эволюционистской картине).
Вбираясь в диалектический процесс как одно из перерабатываемых в нем содержаний, человек приобретает новый привативный, ущербный предикат:
частичность. Он не достигает в полной мере всеобщности, поскольку не объемлет всех ступеней процесса: подобно самому разуму, все его разумные действующие способности, предикаты в диалектическом становлении претворяются в спекулятивные категории и отделяются от него, деантропологизируются. Эта частичность соединяется с производностью, вторичностью, служебностью человека по отношению к нечеловеческому Первопринципу процесса: цитата, приведенная выше (а к ней легко присовокупить и другие подобные), отчетливо представляет человека как ступень и орудие Абсолютного Духа. Эту коренную черту Системы подкрепляет, усиливает и пресловутая концепция «хитрости» или «коварства» (Listigkeit) Духа, согласно которой человек Духом не только полагаем, но и манипулируем. Напротив, отнюдь не отменяет и не уравновешивает ее утверждение за человеком разумной активности и совершающегося самостановления. («Человек есть мыслящий дух»; как таковой, как осуществляющий мышление и познание, «Человек сущностно отличен от природы… Человек должен быть для себя самого тем, что он есть в себе… Этого “для себя” он должен достичь»
[211]; и т.п.). Подобная активность носит сугубо ограниченный характер, в пределах «клетки человека» в Системе, и разве что вуалирует, смягчает «объективный антиантропологизм» Системы. Здесь очередное усиление антиантропологизма по сравнению с Кантом, который выдвинул и проводил твердо принцип, утверждающий, что человек не может быть средством, а только целью.
«Объективный антиантропологизм» развернут и в целом спектре конкретных проявлений в различных разделах Системы. Здесь многообразно реализуется системный и объективистский принцип логического и аксиологического приоритета, первенства Системы, организованного целого, по отношению к своим частям, подсистемам. Производность человека и индивида облекается в наглядные и жесткие формы. Она начинает проявляться с первых же тем «Антропологии», где трактуются начальные определения и свойства души. Первичен здесь глобальный концепт – «всеобщая природная душа»; дискурс же индивидуальных образований и свойств конституируется как производный от глобального дискурса: «Всеобщая природная душа распадается в бесконечное множество индивидуальных душ… всеобщая природная душа в отдельных душах приходит к действительности».
[212] Душа индивидуальная имеет, т.о., отнюдь не собственную, а заемную действительность, которая делегируется ей от всеобщей природной души; и уже ясно, что эта установка ведет прямым путем к концепции индивида и человека, природа и сущность которого так же заемны, не принадлежат ему самому, но он ими наделяется от неких глобальных инстанций, больших формаций. Главные из таких надчеловеческих и определяющих, полагающих человека формаций у Гегеля суть Народ (Дух Народа) и, в особенности, Государство. «Свободная знающая себя субстанция, в которой абсолютное долженствование есть и бытие, имеет действительность как дух народа… Дух народа расчленяется в личностях… Но личность (Person) как мыслящая интеллигенция знает субстанцию как свою собственную сущность… созерцает ее как свою абсолютную конечную цель».
[213] Здесь – самое недвусмысленное утверждение радикальной производности личности. Сущность личности – дух народа, и наилучшее воплощение его – абсолютная конечная цель личности. Стоит помнить при этом, что гегелевское понятие духа народа (Volksgeist) пришло напрямик из дискурса немецкого романтизма, к которому Гегель был в молодости вплотную близок. Там оно выражало идеализацию начала народности в романтическом сознании – идеализацию, отчасти родственную руссоизму, но делавшую упор не на личности отдельного «естественного человека», а на коллективной, общенародной стихии, где якобы изначально воплощалась идеальная гармония личности и общества, единичного и всеобщего. (Эта романтическая идея заметно повлияла на ранних славянофилов в России и внесла вклад в формирование идеи соборности.
[214]) У Гегеля эта идеальная гармония переходит в жесткий диктат всеобщего, а дальнейшая эволюция – или деградация – идеи уводит уже и к крайним, тоталитарным формам коллективизма и национализма. Эти опасные потенции, заложенные в социальной мысли немецких романтиков и Гегеля, сыграли, увы, заметную роль в реальной истории 19 и 20 столетий.
К этому добавляется гегелевский культ государства – черта настолько известная, что в ее описании нет особой нужды. Существенно, что о культе тут можно говорить даже не фигурально: по Гегелю, государство и не просто богоустановленная, но прямо божественная инстанция; как он утверждает в «Философии истории», «Государство есть божественная идея как она существует на земле». Наряду с этим, государство и высшая этическая инстанция: «государство есть действительность нравственной идеи», – как сказано в «Философии права». Т.о., для человека государство не что иное как Абсолют, а нравственный долг – долг по отношению к государству; и, в итоге, отношение государства к человеку есть абсолютная власть, как внешняя, так и внутренняя, отношение же человека к государству – абсолютная внешняя и внутренняя подчиненность. Надо еще добавить, что отношение господства – рабства Гегель включает в основоустройство самосознания, и в этой связи библейская максима «Страх божий [= страх пред Господом] – начало премудрости» получает у него весьма примечательную секуляризованную редакцию: «Страх перед господином – начало премудрости».
[215] Неудивительно, что даже Рассел, дающий в своей «Истории» довольно почтительное и взвешенное рассмотрение Системы, пишет: «Учение Гегеля о государстве… оправдывает всякую внутреннюю тиранию».
[216] Логика оправдания гениально проста: тотальная подчиненность человека государству прямо отождествляется со всей полнотой человеческой свободы, поскольку Государство, по Гегелю, есть также и «действительность свободы в развитии всех ее разумных определений».
Из сказанного уже ясно, что эти позиции Гегеля, за которыми стояла вся ошеломляющая мыслительная мощь Системы, не могли не стать сильнейшим стимулом и удобнейшей основой для усиленного развития объективного антиантропологизма во всех возможных вариантах. В течение всей дальнейшей истории мысли, до наших дней, под их прямым или опосредованным влиянием создаются учения, системы, теории, представляющие человека продуктом самых различных Великих Начал и Глобальных Процессов: теории социоцентрические, материалистические, этатистские, коллективистские, эволюционистские, органицистские… Следующим порядком, на базе теорий создаются политические доктрины и формируются политические силы, которые развертывают порабощающие человека политические и государственные практики. Самым явным и самым значительным примером такого развития вещей служит марксизм, во всей совокупности его истории, его разветвлений и вариаций; но это далеко не единственный пример.
Не следует забывать, далее, что Система, разумеется, сохраняет и прежний «структурный антиантропологизм», поскольку человек подвергается в ней спекулятивному препарированию, в котором он исчезает, скрывается из вида, будучи разнесен по спекулятивным структурам, которые, как правило, не соотносятся каким-либо прозрачным образом с антропологическими структурами. Это – Кантова форма антиантропологизма, однако принципы препарирования теперь соответствуют не трансцендентальному, а диалектическому методу. Но, несомненно, более существенное отличие от Канта в том, что к спекулятивному разъятию человека добавляется объективистское низведение, редукция его до продукта, лишение самостояния и самоценности. И наконец, можно указать и еще одно отличие. Гегелевский дискурс – и, в частности, дискурс антропологический – гораздо более аподиктичен и окончателен, стремится к завершенности и достигает ее, нежели дискурс Канта. Поэтому о Системе вовсе нельзя сказать, что вопрос: Что такое человек? – в ней остается, в известном смысле, открытым и для окончательного ответа требует надстройки над нею особого метадискурса. Никакого метадискурса над ней надстроить уже нельзя. И это значит, что элиминация человека в Системе является не только более всесторонней и радикальной, но и более законченной и необратимой.
Поэтому мы действительно можем заключить, что в учении Гегеля антиантропологизм классической европейской модели человека достигает своего апогея, предела.
5.
Обрисовавшаяся картина антропологии – или антиантропологии – классического немецкого идеализма, пожалуй, уже довольно ясна и цельна, и нам остается лишь включить этот очередной блок в общий контекст нашего антропологического анализа, идейный и исторический. Мы, правда, ничего пока не сказали об антропологии Шеллинга, третьего из создателей послекантовского этапа немецкой мысли. Однако для нашего сжатого анализа, выделяющего лишь главные вехи в судьбе классической антропологической модели, она не может добавить практически ничего существенного. Такое суждение может показаться странным, спорным, поскольку на всем долгом философском пути Шеллинга, труды его не уходили от антропологических тем и содержание, затрагивающее антропологию, в них обширно. Но дело в том, что странен и сам этот философский путь. Говоря кратко и обобщенно, на первом этапе творчества, этапе влияний Фихте и сотрудничества с Гегелем, человек не был в центре интересов Шеллинга и в фокусе его философского зрения, и в темах, причастных к антропологии (прежде всего, темах познания), его позиции не содержат чего-либо крупно отличающегося от рассмотренных нами позиций его соратников по движению. А длительный позднейший этап оказался отчего-то таков, что у мыслителя изменилось само философское зрение. Оно утратило фирменные достоинства классического немецкого идеализма, методологическую строгость и зоркость, – и уже любые предметы для него были не в фокусе. На рубеже перехода стоят «Философские исследования о сущности человеческой свободы» (1809) с их знаменитой теорией «темной праосновы» в Боге, развивающей мистические интуиции Беме. И здесь, и в последовавшей затем «философии мифологии и философии откровения» темы о человеке затрагиваются очень немало – трактуются проблемы свободы и воли, зла и греха, любви, счастья, творчества, отношения человека и Бога и проч. Но, на поверку, здесь практически нет реального антропологического содержания! речь о человеке не имеет под собой почвы не только антропологического опыта (такой почвой не может похвастать весь классический немецкий идеализм), но даже спекулятивного опыта. Дискурс «свободной теософии» – бесконечное комбинирование отвлеченных метафизических принципов, отчасти вновь продуцируемых, но в большей части заимствуемых из мистической и гностической традиции; и такой дискурс есть своего рода нарративная метафизика, теософическое сказительство…
Как и для кантовского этапа, задача введения послекантовской антропологии классического немецкого идеализма в идейный контекст европейской антропологической модели заключается, в первую очередь, в выяснении связей этой антропологии с системой из «пяти портретных черт», характеризующих модель: индивидуированность – дуалистичность – субстанциальность – гносеологичность – спекуляризованность. Увидеть судьбу каждой из этих черт не составляет особенного труда; но, делая это, мы убедимся, что на новом этапе их система сама по себе уже не передает полностью специфической природы возникающей (анти)антропологии: в учениях спекулятивного монизма ключевое значение приобретают те новые антиантропологические особенности, которые мы описывали.
Роль этих особенностей ярко выступает при рассмотрении уже первой из этих черт, индивидуированности. Как мы подробно говорили в предыдущих разделах, эта черта играла роль путеводной нити в процессе становления классической антропологической модели: все это становление направлялось интуицией отыскания, выделения (а, может быть, и выделывания) ядра-предела индивидуации, элементарной мыследействующей инстанции-единицы, единичного самодовлеющего мыследействующего агента. Такое отыскание давало основу, ключ для решения двух коренных проблем: проблемы (само)идентичности человека и проблемы познания; и нужным решением явились концепции субъекта и индивида, которые оказались весьма жизнеспособны и, меняя свои формы, развиваясь, стали непременной частью учений классической метафизики. Разумеется, мы их находим и в системах послекантовского немецкого идеализма; но здесь с этим основоустройством индивидуации, ставшим уже традиционным, тесно соединяется другая, очень отличная идейная нить. Изначальная идея «самодовлеющего мыследействующего агента», лежащая в истоке индивидуированности, получает неожиданный поворот! Вдохновленный успехом Канта, этот идеализм имел свою изначальную идею и даже пафос: пафос возвеличения, абсолютизации спекулятивного мышления, утверждения полной неограниченности его мощи, его возможностей. И под его влиянием, идея-интуиция «самодовлеющего мыследействующего агента» вырастает и превращается в идею абсолютного мыследействующего агента, носителя абсолютного мышления, обладающего не просто познающей, но абсолютно полагающей способностью.
На сцене европейской философии являются новые для нее герои: Абсолютное Я, Абсолютный Дух, явно происходящие от скромного субъекта Декарта-Канта, однако неизмеримо выросшие, вознесшиеся над ним. В них сочетались и воплощались обе главные черты, что были привнесены продолжателями Канта: 1) абсолютизация спекулятивного разума; 2) на базе этой абсолютизации, совершенствование общей структуры системы спекулятивного разума до наиболее совершенного типа монистической системы. Поэтому их появление обеспечило успех проекта спекулятивного монизма – но при этом, оно совершенно не стало успехом для антропологии. Как мы уже говорили, они представляли собой «мега-концепты с ускользающим антропологическим содержанием», и принятие такого концепта в качестве Первопринципа философской системы заведомо вносило в нее существенную антиантропологичность. Кроме отмеченных уже выше граней этой антиантропологичности, можно еще добавить в связи с индивидуированностью, что на прежних этапах этот предикат, как мы указали, нес в себе содержание, связанное не только с познанием, но и с идентичностью человека (хотя этот аспект в нем и не был на первом плане). Хотя бы в некоторой мере он давал философское выражение представлению о конкретном человеке, отдельной человеческой индивидуальности и, в принципе, это выражение могло далее дополняться элементами, передающими единственность, уникальность каждой индивидуальности. В спекулятивном монизме с его безусловным приматом всеобщего и третированием частного, данный аспект был утрачен полностью. И именно это полное отсутствие отдельного человека, живой, уникальной человеческой индивидуальности, было той чертой немецкого идеализма, что вызывала ярое возмущение и протест Кьеркегора.
На двух следующих чертах, дуалистичности и субстанциальности, мы в нашем кратком обозрении можем не останавливаться. Они не играют крупной роли в системах спекулятивного монизма, и с ними здесь не связано принципиальных новаций. Все авторы этих систем выражали несогласие с декартовой дихотомией, рассекавшей человека на «мыслящее» и «протяженное». Данное рассечение, действительно, снимается в их учениях; но можно заметить, что его отсутствие сочетается с наличием других рассечений, не менее травматичных для человека. В силу свойства, названного нами «структурной антиантропологичностью», здесь происходит разложение человека по чистым формам спекулятивного разума, ступеням и структурам спекулятивного дискурса. Как мы говорили, эти структуры, в основном, не имеют прозрачной связи и соответствия с собственно антропологическими структурами – и вследствие этого, в подобных учениях невозможен ответ на вопрос: Что такое человек? – Что же до субстанциальности, то достаточно указать, что, хотя в логике Гегеля концепт субстанции получает новую разработку ab ovo, его функции в Системе в целом, остаются традиционны. Важно также отметить, что и Гегель, и Фихте без колебаний утверждают субстанциальность своих мега-концептов, Абсолютного Духа и Абсолютного Я. За счет этого, в сфере антропологии, полагаемой этими принципами, субстанциальность закрепляется еще прочнее.
Переходя к свойству гносеологичности, мы констатируем для начала, что, как и положено по школьным представлениям о «субъективизме» и «объективизме», когнитивная парадигма у субъективиста Фихте и объективиста Гегеля имеет прямо противоположную природу. Выше мы бегло описали когнитивную перспективу у Фихте, найдя ее полностью интериоризованной, вобранной без остатка внутрь Я. У Гегеля мы не описывали ее, однако подчеркнули полную сущностную производность, несамостоятельность всех индивидуальных формаций по отношению к формациям – носителям всеобщности: народу, государству и, в первую очередь, самому полагающему Первопринципу, Абсолютному Духу. И отсюда ясно уже, что когнитивная перспектива здесь полностью экстериоризована (объективирована): познает не индивид, а нем и чрез него – высшая инстанция, наделившая его сущностью. Но эта картина требует немедленного углубления. Обсуждая свойство индивидуированности, мы заметили, что в системах спекулятивного монизма их Верховное Начало (Абсолютное Я, Абсолютный Дух) – есть также не что иное как «абсолютный мыследействующий агент», который и должен занимать положение в фокусе когнитивной перспективы. Соответственно, субъективистская когнитивная парадигма Фихте конституируется Абсолютным Я; и, на поверку, когнитивные парадигмы спекулятивных монистов Фихте и Гегеля, в главном и существенном, совпадают. В обоих случаях познает абсолютный мыследействующий агент – и лишь описание этого познания строится в одном случае в субъективистском, интериоризованном дискурсе, тогда как в другом – в объективистском, экстериоризованном.
Подобная версия когнитивной парадигмы имеет небезразличные для нас особенности. Прежде всего, она до известной степени выводится из антропологии, и с тем отдаляется от конкретной базы антропологического опыта, становясь отвлеченно-спекулятивной и, если угодно, в некой мере мистифицированной. С другой стороны, в ней обретает усиленную, яркую форму один аспект когнитивной парадигмы, которого до сих пор у нас не было причины касаться: связь между познанием и властью. В когнитивной перспективе, полагаемой абсолютным агентом, познание связано, как мы говорили, не просто с познающей, а с абсолютно полагающей способностью. Но такое познание есть прямо и непосредственно – власть, господство! Здесь перед нами открывается один характерный элемент, мотив идейной атмосферы послекантовского немецкого идеализма: пафос познания, присущий всей новоевропейской культуре, принимая гипертрофированную форму пафоса абсолютного познания, становится одновременно пафосом абсолютного полагания, пафосом господства – так что этот последний может и выйти на первый план, заслонив собой остальное.
Тема «знание и власть» приобретает здесь специфические оттенки. Поскольку в последний период она сделалась популярной до избитости, мы не станем глубже в нее входить, напомнив лишь, что в классической метафизике она возникала уже у Декарта, где трактовалась в достаточно уравновешенной форме: как указывает Картезий, познание окружающего мира дает и власть над ним, которая заключается в способности и возможности изменять мир, обустраивая его к своему благу и удобству. Но в послекантовском немецком идеализме, переводясь в дискурс абсолютного, тема заостряется и рискует принять опасную, тоталитарную форму: Абсолютное знание как абсолютная власть. Эту тенденцию немецкой мысли улавливали и отмечали в русской религиозной философии, именуя ее «уклоном в человекобожие», «теургическим и демиургическим соблазном» и подобными звучными именами.
Здесь, т.о., рассмотрение свойства гносеологичности вплотную смыкается с обсуждением
секуляризованности, последней из «пяти черт». В данной теме послекантовские системы не принесли принципиально нового – прежде всего, потому что в сущностном отношении нечего уже было приносить: как мы объясняли в кантовском разделе, у Канта секуляризованность философии уже достигает полноты, поскольку отношение человека к Богу здесь лишено самостоятельного онтологического содержания и редуцировано к служебной функции. Поскольку, однако, у продолжателей Канта характер религиозности был явно отличным от кантовского пиетизма, то в своем внешнем выражении секуляризованность принимает у них более наглядный и резкий вид. В каждой из систем Фихте, Шеллинга, Гегеля мы найдем однотипные имманентистские тезисы, тяготеющие отчетливо к пантеизму, – тезисы такого рода: «Природа Бога должна раскрыться во всецелом развитии Идеи»
[217] или же «Бог
необходимо должен себя открыть».
[218] Это же тяготение, несомненно, проявляется и во введении quasi-божественных мега-концептов; но, вместе с тем, оно никогда не достигает полной определенности и окончательности. Фихте отнюдь не лицемерил, когда активно отвергал обвинения в атеизме: обсуждаемые нами мыслители действительно никак не считали себя безрелигиозными мыслителями или хотя бы отвергающими христианское учение о Боге. Но сохранять подобное убеждение они себе помогали тем, что избегали доводить религиозный дискурс своих систем до окончательной отрефлектированности и последней определенности. А с чисто философской точки зрения, отсутствие данных свойств делает этот дискурс относительно малоценным.
Легко согласиться, что этот обзор подтверждает вывод, которым мы его заранее предварили. Система из «пяти портретных черт» адекватно выражала основу, идейный каркас антропологического содержания классической метафизики в эпоху от Декарта до Канта. Но в послекантовских системах спекулятивного монизма главную роль в этом содержании начали играть новые особенности, которые мы выделили при разборе учений Фихте и Гегеля и которые, как мы видим теперь, лишь косвенно и частично отразились в «пяти чертах». Перечислим снова эти особенности – и мы увидим причину.
1) Первый и решающий фактор – сам тип системы, тип философского дискурса: спекулятивный монизм, верховный полагающий принцип которого – мега-концепт с ускользающим онтологическим и антропологическим содержанием: Абсолютное Я, Абсолютный Дух. В развертывании такой системы выявляется взаимное несоответствие антропологического и спекулятивного дискурсов (или лучше точней, дискурса спекулятивного монизма), антропологического и спекулятивного опыта, антропологической и спекулятивной ориентации умозрения. Несоответствие порождает новые радикальные формы антиантропологичности.
2) Структурный антиантропологизм, внесенный уже Кантом и еще углубившийся у его продолжателей. Главное его проявление – расчленение человека и его разнесение по спекулятивным структурам в соответствии с чуждой ему спекулятивной логикой: исчезание человека, влекущее невозможность ответить на вопрос: Что такое человек?
3) Объективный антиантропологизм. Парадоксальным образом, за счет несомненной, хотя и неопределенной, дистанции между человеком и Абсолютным Я, его элементы присутствуют и у Фихте, так что его пределы не ограничиваются Гегелем и инициированным им руслом. Главное его проявление – производность человека, лишение его самостояния и самоценности. Главное же следствие – принципиальное отрицание антропологической ориентации в философии: ибо здесь человек – не столько отсутствующий (как при структурном антиантропологизме), сколько не первичный и не существенный предмет, ложный предмет для философии. Кант, трансцендентально расчленив человека, сделав его отсутствующим, вместе с тем еще признавал, что «все поле философии можно считать антропологией», ибо все ключевые ее вопросы сводятся к одному: Что такое человек? – и человек у Канта, в своем отсутствии, еще мог трактоваться, используя формулу Фуко, как «главное событие, которое распределено по всей видимой поверхности знания». У Гегеля же – прямая противоположность. Вопрос: Что такое человек? должен быть здесь развенчан как незначащий или отброшен как ложный, в свете производности человека.
Достаточно ясно, отчего эти новые особенности не укладываются в каркас из «пяти портретных черт». Включая отдельные элементы антиантропологичности, эти черты, в целом, были все же еще характеристиками человека и вкупе очерчивали, намечали некоторый облик, «портрет», пускай и с кубистической рассеченностью (дуалистичностью). Однако все новые особенности антиантропологичны в корне. Они по самой природе не являются «чертами человека», но вместо этого выражают поворот философии от человека и уход от него. Этот общий поворот и уход многообразен, многоаспектен. В качестве иллюстрации мы в заключение приведем важный пример, показывающий, как антиантропологическая тенденция рождала коренное непонимание целой существенной сферы антропологических явлений – сферы практик себя.
У каждого из великих философов классического немецкого идеализма есть небольшая, но экспрессивно, ярко трактуемая тема:
апология страстей человека. У всех она раскрывается сходным образом: философ замечает силу и мощь страсти, аккумулированную в ней высокую энергию – оценивает ее как положительное, плодотворное явление, с которым связана жизненная сила человека, его способность к великим достижениям, – и выступает в ее защиту от обвинений религии и морали. «Без страсти ничто великое не было осуществлено и не может быть осуществлено. Лишь мертвая… ханжеская мораль ополчается на саму форму страсти как таковой».
[219] То же, с малыми вариациями, у Шеллинга: «Страсти, с которыми воюет наша негативная мораль, суть силы, каждая из которых имеет общий корень с соответствующей ей добродетелью… Тем, что вы искоренили страсти, вы украли у добродетели самый стержень ее приложения, ее материю».
[220] Без труда подобные суждения можно отыскать и у Фихте. Помимо ханжеской «негативной морали», эти мыслители не видят решительно никаких причин, которые могли бы вызвать негативное отношение к страстям, стремление к их преодолению и борьбе с ними. Меж тем, такие причины выступают немедленно, едва человек сменит антиантропологическую ориентацию своего умственного зрения на антропологическую, на обращенность к внутренней реальности. Если не отрицать самоценность внутреннего мира, внутренней жизни человека, нельзя не увидеть, что есть обширная сфера самореализации человека, сфера антропологических стратегий и практик, где в центре – специальная культивация внутренней реальности, формирование ее определенных установок, конфигураций. И для всех подобных стратегий, страсти – т.е. наведенные состояния внутренней реальности, которые всецело захватывают человека и порабощают его, – служат заведомым препятствием и требуют устранения. – Таков антропологический корень негативного отношения к страстям, возникающего с необходимостью во всех традициях и школах духовной жизни, всех практиках себя. Но корень этот был полностью недоступен для зрения философов классического немецкого идеализма.
В свете всего сказанного, смысл нового этапа европейской антропологии можно резюмировать весьма просто. «В тяжбе борющихся качеств» победила антиантропологическая тенденция, и антиантропология получила преобладание над антропологией. Очевидно, что дальнейшее развитие философии в этом русле уже не могло быть «развитием классической модели человека», поскольку дискурс не оставлял больше места для антропологически ориентированной мысли. Заимствуя сегодняшний стиль броских слоганов, можно, если угодно, сказать, что в классическом немецком идеализме продемонстрирован был пролог будущих великих событий мировой философии: у Канта – смерть Бога (в его редукции религии к этике), у Гегеля – смерть Человека (в его превращении Человека в продукт Духа).
Философия же оказалась в очередной бифуркации. Появление великой Системы не могло не восприниматься как очередной триумф мысли, и 19 в. своей большей частью проходит под знаком полного влияния идей классического немецкого идеализма. Но русло, которое им было инициировано, несло антиантропологичность в самом своем основоустройстве, и в аспекте антропологии, оно могло быть лишь руслом дальнейшего кризиса классической модели и дальнейшего упадка мысли о человеке: руслом забвения человека, аналогичного забвению бытия. Действительное же развитие антропологической мысли могло происходить лишь вне данного русла, в споре с ним, в установке антропологического протеста. Протестное сознание созревало не сразу, создание новых идей и принципов, потребных для успешного спора, шло весьма постепенно – и лишь к концу 19 в. спекулятивная метафизика с ее антиантропологизмом начала определенно ощущаться как требующая преодоления.
Но весь этот длительный процесс намного опередил Кьеркегор. Удивительным образом, в его текстах, созданных совсем вскоре за появлением гегелевской Системы, в пору ее максимальной популярности и влияния, можно уже найти почти все главные аргументы нашей критики в ее адрес – критики с позиций антропологически ориентированной мысли.
(Продолжение следует...)
2006.
© Хоружий Сергей Сергеевич
© Институт синергийной антропологии
ГЕРМЕНЕВТИКА ТЕЛЕСНОСТИ В ИСИХАСТСКОМ ОПЫТЕ[1]
Принципы и понятия общей герменевтики телесности
Роль тела в исихастском искусстве молитвы всегда была одною из самых обсуждаемых тем в работах по исихазму. Исихастский «психофизический метод» — яркая особенность исихастской практики, издавна привлекавшая внимание и порождавшая всевозможные гипотезы о ее происхождении и сопоставления ее с другими духовными практиками. Сегодня эта тема имеет вполне современное и основательное освещение в работе митроп. Каллиста (Уэра) «Молиться телом: исихастский метод и вне — христианские параллели»
[2]. В данном тексте мы тоже обращаемся к проблеме телесности в исихазме, но избираем несколько другие ее аспекты: мы хотели бы наметить общие принципы герменевтики телесности в исихастском опыте.
Современная культура — телесно ориентированная культура; дискурс тела и телесности, телесные практики господствуют в ней сегодня. Как результат столь возросшего внимания к телесной сфере, сам центральный концепт, тело, приобрел небывало расширившееся семантическое поле, с трудом обозримое множество очень разных значений. Поэтому, желая дать истолкование телесности в исихастском опыте, мы должны прежде всего указать, какое из этих значений или какой их ряд мы будем использовать. Если в 60–е гг. известная идея о том, что «у короля два тела», была воспринята как научная новация, то ныне считается очевидным, что у всякого смертного множество самых разных тел — сакральные, коллективные, «тело — для- другого», «тело наслаждения» и проч.; здесь же можно вспомнить и о разнообразных телах, что с древности сопоставлялись человеку в религиозно — мистических культах и учениях — как то, тело литургическое, духовное, «тело воскресения»… «Какое тело? их у нас много», — говорит Ролан Барт. Но все эти обобщенные тела разделяют одно общее свойство: говоря на современном языке, они виртуальны, т. е. не обладают всей полнотой измерений актуальной телесности. В частности, им не приписывается обычных полномерных связей со сферой сознания человека, психологической сферой. Меж тем, для нашей темы психологические аспекты крайне существенны — и по этой причине, мы ограничимся в данном тексте исключительно актуальной телесностью, и не будем рассматривать никаких обобщенных тел.
Определяя далее принципы нашего подхода, мы должны выбрать язык нашей герменевтики — знаковую систему, на базе которой будет толковаться, прочитываться исихастская телесность. Здесь также множество вариантов выбора, но все они разделяются на две обширные группы:
a) телесные знаки (означающие) имеют субстанциальную, или же именную, в грамматике дискурса, природу;
b) телесные знаки (означающие) имеют энергийно — деятельностную, или же глагольную, в грамматике дискурса, природу.
В первом случае, тело трактуется как «имя», объект, и мы оказываемся в рамках герменевтики и антропологии старого образца, когда значащими, смыслоносными элементами телесности предполагались члены и органы человеческого тела. В современной мысли эта субстанциальная модель герменевтики телесности рассматривается уже как устаревшая и неадекватная. Решающим этапом в отказе от нее явился, вероятно, ее капитальный деконструирующий анализ в «Идеях — П» Гуссерля, созданных в 1912-28 и опубликованных в 1952 г.; один из выводов Гуссерля был, в частности, сформулирован Мерло — Понти так: «Тело принадлежит миру вещей только благодаря нечеткости своих границ, оно соприкасается с ним своей периферической сферой»
[3]. Научный выбор был сделан определенно в пользу другой модели. В ней означающими могут служить движения, жесты, поведенческие и физиогномические паттерны, перцептивные и любые другие акты, а также начатки актов, едва уловимые побудительные движения и т. д. В качестве общего термина, мы будем называть все эти энергийно — деятельностные, «глагольные» телесные знаки
телесными проявлениями человека.
Итак, герменевтика исихастской телесности может строиться как герменевтика телесных проявлений. Однако требуется еще зафиксировать и сферу означаемого: какие значения и смыслы несут телесные проявления? Здесь прочно доминирует один выбор: предполагается, как правило, что телесные проявления суть внешние выражения «внутренней жизни» человека, понимаемой как жизнь его сознания — так что означаемыми выступают содержания сознания, т. е. психические события, паттерны, закономерности. Естественно, что этот герменевтический постулат, отождествляющий сферу означаемого со сферой психического, принимается, в первую очередь, в психологии, в рамках которой обычно и развивается герменевтика телесности. Выбирая, далее, конкретные виды психических содержаний, различные направления и школы в психологии развивают собственные, весьма различные подходы к этой герменевтике. В итоге, данный постулат открывает довольно широкое концептуальное поле; но допущение, сводящее сферу означаемого лишь к психическим содержаниям, все же сужает общность всего этого русла.
Чтобы избежать такого сужения, мы примем более широкую интегралистскую позицию: будем полагать, что сферу означаемого для телесных знаков составляет вся область «внутренней жизни» цельного человека, которая охватывает, наряду с психическими содержаниями, внутренние события, паттерны, особенности структуры и деятельности интеллектуальной сферы, а также и самой телесности, в ее внутренних механизмах. Заметим, что роль телесного элемента в сфере означаемого достаточно велика; к примеру, в медицинской диагностике, представляющей собой специфический род герменевтики телесности, означаемым для телесных проявлений служит, главным образом, телесное же. В духовных же практиках и, в частности, в исихазме, основной, опорный вид означаемых составляют именно интегральные содержания, включающие в себя и телесную, и психическую, и интеллектуальную компоненты и служащие конститутивными элементами духовно — антропологического процесса практики.
Далее, выделим основные особенности общей герменевтики телесности. Главным источником таких особенностей служит некоторый фундаментальный предикат телесности и тела, что составляет специфическое отличие телесности и сказывается на всех явлениях с ее участием. Это отличие телесной стихии с древности видели в ее инертности, косности, «коснодвижности», «неудобопременчивости», в неподатливости и непослушности тела по отношению к внешним воздействиям и, прежде всего, воздействиям воли и разума самого хозяина тела, человека. Надо, однако, уточнить, что имеет в виду эта традиционная характеристика телесности. Отнюдь не только у тела, а и у всякого предмета, наряду с изменчивыми сторонами и свойствами, акциденциями, находят стороны и свойства устойчивые, неподатливые к переменам и воздействиям, субстанциальные. Телу же, что тоже признавалось всегда, присуща и немалая пластичность, гибкость, способность к совершенствованию, расширению своих возможностей. Поэтому главное значение обсуждаемого предиката
— не метафизическое, а антропологическое: этот предикат характеризует, прежде всего, отношения уровней антропологической реальности и выражает неподвластность тела разуму и сознанию: непослушность и неподатливость тела не к изменениям вообще, а именно к тем, каких хотел бы или требовал от него разум. Рефлексия подобного предиката выводит к интуиции неразумности тела, конфликта телесного и разумного начал — т. е. внутреннего конфликта самой человеческой природы. Как мы увидим, исихастское отношение к телу углубляет эту интуицию, онтологически корректируя ее и одновременно давая ей отчетливое, заостренное выражение.
Таким образом, действительная специфика телесности — не метафизическая «косность как таковая», но косность антропологическая и относительная: наличие на телесном уровне неких жестких элементов, структур, что сопротивляются не столько изменениям вообще, сколько направленным воздействиям других уровней антропологической реальности. Поэтому точнее, налицо здесь не косность, а просто собственная, автономная динамика телесного уровня. Нам следует идентифицировать и описать эти жесткие структуры; и такая постановка задачи отчасти выводит из русла философии, приближая к областям биологии и теории систем. Структуры жесткости, образующие в любой биосистеме некий ее жесткий каркас, — обширный класс структурных элементов таких систем. Они существуют на всех масштабах биологической реальности и связаны с детерминистским характером динамики большинства ведущих биопроцессов, а в конечном итоге, с наличием генетических программ.
Однако, наряду с принципами жесткости, детерминизма, необходимости, в биосистемах действуют и прямо противоположные принципы случайности, хаотичности, непредсказуемости. К появлению их ведут два главных фактора: во- первых, неизбежность какой-то доли дефектов, нарушений, сбоев детерминистских биомеханизмов; во — вторых, зависимость от окружающей среды с ее всевозможными (в том числе, катастрофическими) воздействиями, колебаниями условий, ресурсных фондов и т. д. Современная наука в особенности подчеркивает их роль, находя ее столь же значительной, как и роль детерминистских факторов и характеризуя биологическую реальность — живую природу, «Жизнь», — как фактуру, равно формируемую началами Необходимости и Случайности.
Для нашей темы следует, однако, учесть, что роль факторов случайности и среды наиболее существенна на крайних полюсах Жизни: в сверхмалом, на генетическом уровне, и в сверхбольшом, в процессах генезиса, эволюции и гибели видов. Проблематика же телесности человека относится к средним уровням, серединному царству Жизни, и можно считать поэтому, что для герменевтики телесности случайные факторы, входящие в фактуру Жизни, не принадлежат к разряду решающих. Соответственно, в качестве универсальной черты герменевтики телесности можно рассматривать лишь наличие структур жесткости, и мы возвращаемся к задаче их описания. При этом, в согласии с выбранным нами языком, описывать их следует в терминах антропологических проявлений.
Итак, первая универсальная черта герменевтики телесности такова: тело человека, его телесность, обнаруживают предзаданность, жесткость, которые выражаются в существовании определенных видов антропологических проявлений — проявлений устойчивых, инвариантных, имеющих свои законы и свойства и существенно не меняющихся от окружающих условий и внешних воздействий. Подобные проявления продуцируются всеми уровнями антропологической реальности и, в соответствии с их порождающим уровнем, можно выделить следующие основные виды их: генетические — физиологические (и нейрофизиологические) — жизнеобеспечительные (связанные с системами дыхания, питания, выделения) — репродуктивные (сексуальные) — этологические (поведенческие паттерны) — возрастные (включая биологическую смерть). Общим истоком, фундаментальным порождающим фактором всех этих видов и самой конституции телесности, является генетическая программа организма, его Код. По отношению к горизонту чисто телесного существования и опыта, Код — за пределами этого горизонта; он выступает Внеположным Истоком и конститутивным действующим началом телесности как таковой.
Наличие Кода — важнейшее специфическое отличие, выделяющее сферу телесных проявлений в общем ансамбле антропологических проявлений. В целом, во всем этом ансамбле роль интегрирующего начала и управляющей инстанции берет на себя сознание. Однако такую роль ему удается исполнять лишь до известной степени; и если в сфере психических проявлений интегрирующие и управляющие возможности сознания ограничивает бессознательное, то в сфере соматики, в ансамбле телесных проявлений, соотношение факторов обратное: здесь именно Код — интегрирующая и управляющая инстанция, тогда как сознание лишь в некой мере (правда, активно растущей сегодня) составляет конкуренцию власти Кода. За счет Кода, телесность человека, его биология обладает хотя и не безграничной, но весьма значительной автономией от сознания. В частности, Код имплицирует специфическую фактуру соматики, наделяя последнюю внутренней природой системы саморепродуцирующихся автоматов («клеточных автоматов»), и он же — что для нашей темы более важно — имплицирует определенную структуру ансамбля телесных проявлений.
Используя понятия синергийной антропологии, мы говорим, что конституция человека определяется его предельными проявлениями, совокупность которых образует Антропологическую Границу, состоящую из трех основных областей, топик — онтологической, онтической и виртуальной. Нетрудно видеть, что телесный опыт человека также включает в себя предельные проявления — так что, наряду с Антропологической Границей, можно говорить и о Соматической Границе Человека. Она определяется теми же общими предикатами концепта границы, с помощью понятий «иного» и размыкания; и понятно, что, прилагаясь к чисто телесному существу, особи, эти понятия определяют уже не Антропологическую Границу, а совсем другой класс проявлений. Для биологической особи ее Код, генетическая программа, предусматривает два различных рода размыкания: в иную особь (репродукция, а в онтологическом дискурсе — (био)трансцендирование), либо вовне, за пределы биосферы (уничтожение особи, биологическая смерть). Соответственно, Соматическая Граница Человека составляется из двух топик — топики репродукции и топики (био)смерти, которую можно также называть топикой (био)конечности человека. Именно в них выражается суть телесности как агента Кода в человеческом существовании.
Эти выводы весьма значимы для построения герменевтики телесности. Рассматривая телесность и ее роль в различных антропологических и философских контекстах, мы, в первую очередь, должны проследить роль Соматической Границы, т. е. топики репродукции и топики смерти. Каждая из этих топик порождает обширную икономию, многомерную сферу имплицируемых ею, примыкающих к ней антропологических проявлений, уже отнюдь не только телесных. Все выделенные выше виды проявлений, выражающих жесткость фактур телесности, так или иначе восходят к ним.
Фундаментальный предикат жесткости, устанавливающий пределы пластичности, трансформируемости телесной конституции человека, — главное отличие герменевтики телесности от герменевтики других антропоуровней. Разумеется, он играет решающую роль в сфере собственно телесных практик; но он также сказывается, косвенно или прямо, и в подавляющем большинстве других практик человека — в частности, как мы увидим, и в исихазме. Помимо того, на его основе возникает ряд частных видов герменевтики телесности, ибо своя герменевтика связывается с каждым из вышеназванных видов неотменимых телесных проявлений: появляются герменевтика питания, сексуальности, жестов и поведения человека и т. д. Их реконструкция входила в задачу теории «практик себя» М. Фуко, к сожалению, не завершенной им; в качестве главных, у Фуко выделялись «диететика, экономика, эротика».
Другой фундаментальный предикат телесности — пространственность. Понятно, что наиболее простое описание пространственные свойства получают в субстанциальной парадигме, как свойства тела — объекта; однако их можно вполне адекватно описать и в энергийной парадигме. Здесь пространственные аспекты возникают тем же путем, как в классическом фрейдизме, который наделял влечения четырьмя характеристиками: источник, объект, цель, сила. В герменевтике телесных проявлений также возможно говорить об энергийном источнике каждого подобного проявления, и такой источник — в пространстве. Соответственно, каждой совокупности, конфигурации телесных проявлений отвечает некоторая пространственная топика, располагающаяся в физических, пространственных очертаниях тела. Элементами этой топики служат, например, энергийные источники перцептивных актов, локализация которых определяется нейрофизиологией перцептивных модальностей. Весьма пристальное исследование данной топики проводилось в восточных духовных и целительских практиках, и на базе их опыта можно предполагать, что пространственная топика телесных проявлений имеет сетевую структуру: это — топика узлов — энергоцентров в физических контурах тела, между которыми существуют некоторые связи, «каналы». Типичными образцами таких структур являются топики акупунктуры. Наряду с этой внутренней пространственностью, телесное существование человека характеризуется и пространственностью внешней, в которой реализуются его отношения с ближними. Способ существования телесности сопрягает эти два рода пространственности, которые обладают разными свойствами, разной топологией. Отсюда явствует, что проблематика телесности (и герменевтики телесности) естественно выводит к топологическому языку описания; и, действительно, этот язык широко используется в ее современных разработках — к примеру, у Лакана, Делеза. Мы, однако, не будем входить в эту тему, ибо затрагивать предикат пространственности нам не потребуется.
Из прочих особенностей герменевтики телесности, не связанных с двумя фундаментальными предикатами, отметим всего одну: теснейшую, интимную связь этой герменевтики с психической сферой. Занимая центральное, серединное положение в конституции человека, эта сфера не просто связана, но сращена как с телесной, так и с разумной сферами, так что, к примеру, антропологические проявления, генерируемые на нейрофизиологическом уровне, равно являются телесными и психическими. Характер психосоматической связи близок к иерархическому подчинению, и психический уровень наделен механизмами, управляющими соматикой. Такое отношение уровней имеет очевидный герменевтический смысл: когда телесные проявления управляемы сознанием, содержания сознания служат означаемым для них как для означающих. Разумеется, управляющие соматикой механизмы эксплуатируются едва ли не во всех антропологических практиках, и в исихазме мы встретим многие и разнообразные примеры подобной эксплуатации.
Исихастская Лествица в телесном аспекте
Сначала — несколько слов об общих позициях исихазма по отношению к телесности человека. Исихастская практика — «онтологическая практика себя», практика всецелого преобразования человеческого существа, направляющаяся, при совершающей силе благодати, к мета — антропологической цели (телосу) обожения, актуального энергийного соединения человека с Богом. Но, как только что мы отметили, телесная конституция человека включает структуры жесткости, которые заложены в генетической программе, иными словами, в самом определении человека как живого существа, и не поддаются никаким, ни внешним, ни внутренним, воздействиям. Основные телесные проявления, отвечающие им, мы свели в понятие Соматической Границы, состоящей из топики (половой) репродукции и топики (био)конечности. Обе эти топики заведомо не соответствуют человеческому существу в обожении. Возникает вопрос: содержат ли установки исихазма какие-либо исключения, оговорки для телесности человека, учитывающие эти структуры? — Ответ безусловно отрицателен. Никаких исключений нет, задание обожения относится, действительно, к всецелому человеческому существу, со всеми уровнями его организации. И это значит, что исихастская политика тела — самая необычная, предельно максималистская политика: она всерьез направляется к снятию Соматической Границы человека, к уничтожению ее обеих топик!
Отсюда, если рассматривать исихастскую практику как своего рода антропологический проект (что допустимо, пускай лишь в определенном узком контексте), то можно сказать, что в рамках этого проекта обожения, как самая радикальная и самая проблематичная его часть, строится проект новой, преображенной телесности человека. Так говорит капитальный труд Питера Брауна: «Редко найдешь в античности, чтобы тело глубже бы вовлекалось в преобразование души, и никогда на него не возлагалось столь тяжкого бремени. Для Отцов — пустынников тело не было незначащей частью личности, которую можно “вынести за скобки”. Оно не могло рассчитывать на ту отчужденную терпимость, какую готовы были ему уделить Плотин и многие языческие мудрецы — как некому случайному и преходящему придатку к самости человека (the self). Оно было для аскета настоятельно присутствующим, и он должен был говорить о нем как об “этом вот теле, которое Бог дал мне как поле для возделывания, где надлежит мне трудиться и обрести богатство”»
[4].
Главные основания исихастского проекта новой телесности заложены, разумеется, уже в Новом Завете, в учениях Павла о воскресении во плоти и о теле духовном. Продвигаясь от них к воплощению проекта, исихазм вырабатывает ряд принципов и установок об отношении к телу. Прежде всего, исихазм в полной мере применяет к телу один из универсальных принципов патристического и аскетического отношения к тварной реальности, выражаемый оппозицией пользование — злоупотребление,
chresis — parachresis. Этот принцип (на нем, в частности, основана концепция преложения страстей у Максима Исповедника) утверждает, что в человеке и тварном мире ничто не является дурным или же благим само по себе, но все может быть использовано как во благо, так и во зло. Затем, не меньшую важность имеет утверждение неразрывного единства и связи тела с душой, причем на всех уровнях, и в практиках обыденного существования, и в бытийном назначении, в икономии отношений Бога и человека. Вновь процитируем П. Брауна: «Почти триста лет прошло от первого удаления Антония в пустыню (ок. 270 г.) до смерти аввы Дорофея из Газы (ок. 560 г.)… За это долгое время мысль аскетов испытала многие изменения… Но одна черта оставалась удивительно постоянной: чувство единого устремления (shared momentum) тела и души»
[5]. Надо добавить, что эта черта оставалась постоянной и во всей дальнейшей истории исихазма, и при этом получала все более глубокое и насыщенное содержание.
В самом деле, мы видим, как общее положение о связи неуклонно обогащается и конкретизируется. Исихастская антропология замечает, что между энергиями телесных и душевно — духовных уровней человека существуют, как говорит Палама, «сцепления и расцепления», особая подвижная икономия. Человек способен воздействовать на нее, разрывая одни сцепления и устраивая другие, — и такое воздействие, или же
методика сцеплений — расцеплений, применяется на всех этапах исихастской практики, служа одним из ее основных операционных приемов. Палама в «Триадах» детально разбирается с такими сцеплениями, формулируя общие принципы, которыми выделяются сцепления, вредные и полезные в деле аскезы. Главный принцип различения — это направленность сцепления, исходит ли оно от тела к уму или же от ума к телу. «Наслаждение, идущее от тела к уму, делает весь ум телесным, нисколько не освящаясь от слияния с высшим, а наоборот, передавая уму свою низменность… [Напротив,] духовная сладость, переходящая от ума на тело, … нисколько не ухудшается от общения с телом и тело преображает, делая его духовным, так что оно… уже не тянет душу вниз, а поднимается вместе с ней»
[6]. — Здесь, как видим, к тезису о связи уровней присоединяется убеждение в примате, первенстве душевно — духовного уровня. Отсюда явствует тесная взаимосвязь всех отмеченных особенностей: в силу неразрывной цельности человека, назначение тела не может не быть тем же, что назначение души, и в исполнении их общего назначения первенство и ведущая роль принадлежат душе или (что в данном контексте то же) духу, который стяжает благодать и ее совершающею силой преобразует тело. Убеждение в неразрывном единстве человеческого существа и примате духа в этом единстве — бесспорно, одна из главнейших нитей, питающих проект новой телесности.
Обращаясь же к последовательному прочтению «исихастского тела», мы, прежде всего, должны конкретизировать систему означаемых, язык этого прочтения. По нашим принципам, сфера означаемого для телесных проявлений — это, вообще говоря, вся область внутренней жизни цельного существа человека. Однако, если данные проявления берутся из опыта исихастской практики, эта обширнейшая сфера очень сужается. Исихастская практика — единый, связный процесс самопреобразования человека, направляющийся к актуальному претворению его способа бытия, Смысл и значение любого элемента такого процесса, любого феномена исихастского опыта полностью определяются тем, какое место он занимает в данном процессе. Эта формула и есть искомый герменевтический принцип: истолковать, наделить значением произвольный элемент или феномен исихастского опыта значит точно указать его местоположение, локализовать его в процессе практики.
Чтобы локализация была возможна, описание пути практики должно включать в себя некоторое структурирование этого пути — его разметку, систему координат. Роль такой разметки успешно выполняет с древности подмеченная ступенчатая структура пути духовного восхождения (она известна и в других духовных практиках): этот путь членится на отчетливо отличающиеся друг от друга ступени и благодаря этому представляется как своего рода подъем по лестнице. «Лестница» — главная парадигма духовной практики, и «Райская Лествица» было название первого трактата с систематическим изложением исихастской практики, в VII в. Поскольку мы описываем духовную практику в энергийно — деятельностном дискурсе, как трансформацию всего множества человеческих энергий (духовных, психических и телесных), то каждая из ее ступеней рассматривается нами как определенная конфигурация данного множества — определенный тип «энергийного образа» человека. Энергийный образ наделяется различными характеристиками, описывающими его строение: куда направлены энергии разных уровней, какие из них доминируют и т. д. Так возникает описание процесса практики как восхождения по ступеням, каждая из которых — это определенный тип энергийного образа человека. В итоге, в качестве локализации произвольного элемента исихастского опыта, доставляющей его искомое истолкование, может служить его размещение на Лествице, отнесение данного элемента к определенной ее ступени.
Эта герменевтическая методика очевидным образом применима и к телесному аспекту исихастской практики. Каждая ступень практики — особый тип энергийного образа и, в частности, особый тип телесных проявлений человека; на каждой ступени телесность имеет некий облик, испытывает некие воздействия и несет некие функции: и, вообще говоря, для каждой ступени эти функции, воздействия, облик — иные, новые. Отсюда, проблема герменевтики телесности требует проследить ступенчатый процесс в его телесном содержании, увидев восхождение по Исихастской Лествице как путь «исихастского тела». Иначе говоря, требуется составить соматическую карту Лествицы, где было бы последовательно описано соматическое содержание каждой ступени. (В литературе предлагался также термин «соматоп», по аналогии с хронотопом.) Аналогичную методику мы реализовали в «Феноменологии аскезы», представив в конце этой книги лингвистическую карту Исихастской Лествицы. Сейчас мы представим лишь краткий набросок соматической карты, не для отдельных ступеней Лествицы, но только для ее крупных разделов, блоков. Подчеркнем при этом
— продолжая замечания об исихастской политике тела — что важной особенностью исихастской практики (как и других духовных практик) является уже сама содержательность ее соматической карты: многие духовные течения — в том числе, и следующие парадигме восхождения, как неоплатонизм — исключают телесность из своего поля зрения, считая ее целиком непричастной духовным задачам и духовному процессу. В противоположность этому, духовная практика пристально и углубленно работает с телесностью. Путь тела в духовной практике — не отсечение, а преобразование, претворение телесности: это — универсальная установка, которая четко выражалась Максимом Исповедником и Паламой: «Тело вместе с душой проходит духовное поприще».
* * *
Исихастская Лествица ведет от исходного типа энергийного образа, который присущ человеку в обыденной жизни, через ряд промежуточных энергийных конфигураций, — к типу финальному, который отвечает мета — антропологическому телосу практики — актуальной онтологической трансформации человеческого бытия. Как сказано выше, в исихазме в качестве телоса выступает обожение,
theosis, трактуемое православным вероучением как совершенное соединение всех энергий человека с энергией Божественной, благодатью, принадлежащей иному бытийному горизонту, Богу. Число и конкретная номенклатура ступеней Лествицы не фиксируются вполне строго, но могут расходиться между собой в описаниях аскетического пути у разных учителей или систематизаторов исихазма. Но есть и существенная универсальная черта: как показывает наш анализ
[7], исихастское восхождение к онтологическому претворению можно разбить на три крупных блока, которые мы охарактеризуем по их роли в динамике восхождения:
Блок отрыва — блок (онто)движителя — блок телоса
Первый из этих блоков охватывает ступени, на которых происходит становление духовной практики как антропологической стратегии, альтернативной обычному порядку существования, отрывающейся от него. Следующий блок — ядро практики, которое должно обеспечить саму возможность восхождения, продвижения от одной ступени к следующей. Блок заключительный — высшие ступени, на которых человек входит в область Антропологической Границы, и каждая ступень несет уже определяющее влияние Божественных энергий — влияние, сказывающееся в начатках претворения самих фундаментальных предикатов способа человеческого существования.
В Блоке Отрыва внимание и усилия человека, его энергии еще направляются к покидаемому им мирскому, обыденному существованию. Для практик себя, реализующихся в рамках этого существования, их телесные проявления, согласно Фуко, разделяются на три главные категории, уже нами упоминавшиеся: диететика, экономика, эротика. Можно считать, что эта классификация сохраняет справедливость и для исихастской практики в Блоке Отрыва, однако каждая из ее категорий здесь кардинально изменяется, принимая весьма специфическую форму, определяемую заданиями духовного процесса: диететика целиком подчиняется воздержанию, экономика сводится к малому зачатку, необходимому для поддержания жизненных сил аскета, эротика же уступает место своей противоположности, радикальной борьбе с сексуальностью человека. И это значит, что классификация Фуко здесь уже не является достаточно адекватным принципом герменевтики телесности. Наш принцип, классифицирующий телесные проявления по ступеням Лествицы, явно более адекватен, и мы будем ему следовать.
Начальная ступень Лествицы, носящая название Духовных Врат и реализующаяся как тройственное событие:
обращение — метанойя — покаяние, подробно обсуждается нами в этом томе
[8]. Как мы показываем, динамика Духовных Врат носит выраженный синергетический характер: чтобы в антропологической реальности началось выстраивание ступеней Лествицы, которые должны представлять собой иерархию динамических структур, оказывается необходим антропологический механизм, подобный синергетическим процессам в физике, «раскачка» — радикальное выведение из равновесия, удаление от всей области стабильных режимов. Цель этой начальной стадии — прежде всего, психологическая, заключающаяся в формировании твердой альтернативной установки; но тем не менее, практика и здесь, как на всех своих стадиях, является холистической и включает определенные соматические аспекты.
Особенно богата, ярка соматика покаяния. Как указывает преп. Иоанн Лествичник, покаянные труды вообще требуются, в первую очередь, оттого, что на путь, альтернативный мирской жизни, должны вступить не только удобопременчивый разум, но и неподатливое тело: «Вознамерившиеся с телом восходить на небо подлинно имеют нужду в усилии и в непрестанных скорбях, особенно при самом начале отречения»
[9]. Эту же логику усматривает в исихастских испытаниях телесности и современная наука: «Аскеты подвергали тела свои суровейшим ограничениям, ибо были убеждены, что таким путем они смогут заставить тело пуститься в отчаянное предприятие»
[10]. Начиная с «Апофтегм», а затем — знаменитого описания «темницы кающихся» в Слове 5–м «Лествицы», в исихастской литературе развертывается богатый репертуар покаянных телесных практик и паттернов, носящих общий характер самонаказания, самобичевания: плач, или «дар слезный», особые жесты типа «биения себя в грудь», молитвы в особых телесных позициях и режимах, суровые посты и иные самоограничения, самолишения
[11]… В целом, эта покаянная соматика получала большее развитие в восточных монашеских школах, в частности, в Древней Сирии.
Далее, в Блок Отрыва включаются и ступени, отвечающие искоренению страстей, «Невидимой Брани» подвижника. Главное место здесь снова занимают психологические задания и практики, однако и соматическая карта этих ступеней далеко не пуста. Аскетические техники борьбы со страстями активно используют сцепления, корреляции душевных и телесных энергий, открывая отвлекающее или даже убивающее действие на ту или иную страсть определенных телесных практик. Особенно часто привлекаются бдение и труд. Так учит, к примеру, авва Дорофей: «Телесные труды делаются душевными добродетелями… Какое отношение имеют телесные труды к расположению души? Я объясню всем это… Бедная душа как бы состраждет телу и сочувствует во всем, что делается с телом… Иное расположение души у человека здорового, и иное у больного, иное у алчущего и иное у насытившегося. Итак, труд смиряет тело, а когда тело смиряется, то вместе с ним смиряется и душа»
[12]. Смирение же и смиренномудрие всего успешнее продвигают к освобождению от страстей.
Еще более существенно, что имеются и «плотские страсти», исток которых в самой телесности. Две из них входят в список «восьми главных помыслов», лежащий в основе аскетического учения о страстях: это — чревоугодие и блуд (сластолюбие, похоть). Аскетика проводит разницу между ними. Борьба с чревоугодием — пост, воздержание от пищи, и оно имеет предел, полагаемый необходимостью поддержания жизни в теле. Однако для сексуального воздержания такого предела нет; сексуальную потребность человека, в отличие от потребности в пище, возможно отбросить, исключить и даже искоренить целиком без угрозы для жизни. Именно такую цель преследует описываемая св. Иоанном Кассианом «битва за целомудрие», которая состоит в восхождении по «лествице совершенства целомудрия». На этой лествице шесть «степеней», и последняя, высшая из них «состоит в том, чтобы даже и во сне не было соблазнительных мечтаний о женщинах»
[13]. Такая степень, говорит Кассиан, обретается не столько собственными усилиями, сколько лишь «по особенному дару Божию»; и эту необходимость действия благодати поясняет М. Фуко в своем анализе текста Кассиана: «Поскольку здесь [в сонных грезах] лишь напрямик чистый феномен природы, то одна только сила, которая превыше природы, может нас от него избавить: и это — благодать. Поэтому свобода от поллюций есть знак святости, печать высшего возможного целомудрия, благо, на которое можно уповать, но нельзя достичь собственными силами»
[14].
При всех недостатках в освещении исихазма у Фуко (см. о них наш «Фонарь Диогена»), здесь верно передается аскетический взгляд на обретение «совершенства целомудрия». Аскетика придает достижению этого рубежа самое принципиальное значение, ибо она отлично видит в сексуальности то, что мы называем принадлежностью к Соматической Границе. Сексуальность
конститутивна для эмпирического, падшего человека; и если она полностью устранена из его природы, то это — реальное и крупное продвижение к осуществлению проекта новой телесности. В наших терминах, это значит, что в Соматической Границе успешно удаляется одна из ее двух топик, топика репродукции; на языке же аскезы, этот рубеж характеризуется с помощью различения между «телом» и «плотью», как освобождение тела из-под власти плоти: «Плотяные люди никакою добродетелью так близко не уподобляются небесным ангелам… как заслугою и благодатию целомудрия… Не чувствовать жала (похоти) плоти некоторым образом значило бы пребывающему в теле выйти из плоти, и облеченному бренною плотию стать выше природы»
[15].
Итак, «битва за целомудрие», принадлежащая главной частью к соматической карте Невидимой Брани, занимает в этой Брани свое особое место. Не оспаривая у гордости ее статуса худшей и опаснейшей из страстей, блудная страсть, сексуальность, исходит зато от самых корней падшего человеческого естества, и ее одоление — существенный начаток «превосхождения естества». В нашей же герменевтике «исихастского тела» мы заключаем, что на ступенях Невидимой Брани исихастская практика выстраивает перспективу полного устранения топики репродукции Соматической Границы, хотя, однако, не ставит прямой задачи подобного устранения, полагая последнее даром благодати. И наконец, стоит еще напомнить, что антропологические проявления из топики репродукции, выражая действие либидо, тесно связаны с паттернами бессознательного, которые порождают целую обширную область и собственно психических, и психосоматических явлений. Здесь есть богатые связи с телесностью, есть и своя особая герменевтика желания, говорящая об этих связях. Но это — классическая проблематика психоанализа, в которой на первом месте все же сфера психического, а не телесного, и которая выходит далеко за рамки темы о телесности человека, тем паче — нашей темы об исихастской телесности.
Следующий, центральный блок исихастской практики должен создать уникальную динамику, способную осуществлять продвижение, восхождение к целостному претворению человека. Это претворение онтологично, изменяет образ бытия человека, и поэтому собственные человеческие энергии, замкнутые в горизонте здешнего бытия, не могут осуществлять его. Ключевая черта потребной здесь онтологической и мета — антропологической динамики в том, что она может осуществляться лишь некоторой такой энергией, которая действует в антропологической реальности, однако имеет источник внешний — причем онтологически внешний, «внеположный» по отношению к этой реальности и здешнему бытию как таковому. Этот Внеположный Исток совершающей энергии онтологического претворения отождествляется с телосом практики. Дело же человеческих энергий — предоставить энергиям Внеположного Истока возможность действия в человеке: сделать антропологическую реальность (онтологически) разомкнутой, открытой для этих энергий. Это значит, что энергии человека во всей своей целокупности должны действовать сообразно, согласно с иноисточной и иноприродной энергией Внеположного Истока. Подобный строй согласия, соработничества, «когерентности» двух разноисточных и разноприродных энергий в исихазме передается древним византийским понятием синергии.
Для продвижения к синергии и был создан психофизический метод исихастов. Это — главный элемент соматической карты данного блока практики. Его задания предполагают осуществление двух ключевых преобразований человеческих энергий:
1) сведение ума в сердце;
2) соединение внимания и молитвы, обеспечивающее установление непрестанной молитвы.
Видно, что сами эти задания не связаны с телесностью; однако, как на опыте было найдено, их выполнению содействует привлечение определенных телесных средств, касающихся дыхания и положения тела при молитве. Эти-то вспомогательные (как подчеркивают все учители исихазма) средства и вызывали все многовековые дискуссии. И в аскетической, и в научной литературе они описывались многократно, и мы не будем повторять этих описаний, отсылая, прежде всего, к вышеуказанной работе митроп. Каллиста, а также к нашим работам
[16]. Приведем лишь одну краткую цитату, сыгравшую особую роль в отечественной рецепции психофизического метода. Эта цитата, всего в одну фразу, из знаменитого трактата «Метод священной молитвы и внимания» была удалена преп. Феофаном Затворником при публикации его перевода трактата в «Добротолюбии»; и оставленное им сообщение об удалении порождало у многих поколений читателей беспокойные догадки о том, какие же «приемы, что могут сопровождаться недобрыми последствиями»
17, скрывались в трактате. Но вот пресловутая цитата, в недавнем полном переводе А. Г. Дунаева:
«Упершись брадой своей в грудь, устремляя чувственное око со всем умом в середину чрева, то есть пуп, удержи тогда и стремление носового дыхания, чтобы не дышать часто, и внутри исследуй мысленно утробу, дабы обрести место сердца, где пребывают обычно все душевные силы»
[17].
Согласимся, что тут предписаны лишь вполне понятные, прозрачные средства, содействующие концентрации внимания и усилению способности интроспекции. Они отнюдь не превращают исихастскую молитву в физическое упражнение, но соблюдают примат ее духовных заданий. Перед нами еще один типичный пример исихастской методологии «сцеплений и расцеплений», устраиваемых между энергиями различных уровней организации человека для восхождения по Лествице. Жан — Клод Ларше, современный православный богослов, резюмирует назначение Метода весьма просто: «Психофизический метод преследует три главные цели: во — первых, привлечь тело к соучастию в молитве и дать ему возможность воспользоваться ее благими плодами, вместе с душой; во — вторых, содействовать непрерывности молитвы… в — третьих, содействовать собиранию внимания»
[18]. Ларше также указывает, что в таком соучастии «тело глубоко умиротворяется и гармонизируется».
Можно конкретизировать это суждение. В исихастской практике, устроение телесных энергий должно постепенно достигать сообразования с устроением энергий духовных, устремляемых к Богу в молитвенном делании. Это сообразование начинается с самых крупных, общих элементов энергийной конфигурации, которыми служат — ритмы. Вся совокупность телесных энергий подчинена двум фундаментальным ритмам жизни тела: ритму дыхания и ритму сердца. Молитвенное же делание в Блоке Онтодвижителя, становясь исихастской непрестанной молитвой, также обретает свой ритм. Ясно отсюда, что достижение искомого Богоустремленного единства энергийного образа человека предполагает, в первую очередь, вбирание телесных ритмов в духовный процесс. Понятно также, что это вбирание не может быть простым жестким подчинением, коль скоро у тела — свои структуры жесткости. Ergo, то, что должно происходить, — это своего рода согласование — приноравливание телесных ритмов к духовным задачам, в рамках, определяемых структурами жесткости, — так, чтобы в итоге установилось тройственное согласие ритмов, согласное троеритмие. Оно-то и несет в себе умиротворение и гармонизацию. В нем ключевая цель психофизического метода и основа для дальнейшего выстраивания «исихастского тела».
Как видим, в Блоке Онтодвижителя телесность человека, как и говорит Палама, «также проходит духовное поприще», приуготавливается к встрече с Божественными энергиями. Этот блок выполняет претворение энергийного образа человека в строй синергии: все многообразие человеческих энергий, телесных, психических и духовных, должно принять устроение единого целого, устремленного к встрече с энергией иного образа бытия. Как бегло отмечалось в «Феноменологии аскезы», подобная задача интеграции различных уровней и функций человеческого существа в одно целое, единоуправляемое и единонаправленное, рассматривалась в психологии Л. С. Выготским, причем возникающему целому он сопоставлял понятие «психологической системы»: «Человек может привести в систему не только отдельные функции, но и создать единый центр для всей системы… может возникнуть система с единым центром, максимальная собранность человеческого поведения… В самых высших случаях, там, где мы имеем этически наиболее совершенные человеческие личности с наиболее красивой духовной жизнью, мы имеем дело с возникновением такой системы, где всё соотнесено к одному… Перед психологией стоит задача показать такого рода возникновение единой системы»
[19].
Привлечь идеи Выготского полезно: задача духовной практики в ее центральном блоке также может рассматриваться как создание «системы с единым центром»; однако у нас задача имеет и кардинальные отличия. Важнейших из них два: во — первых, устрояемая система должна быть не только психологической, но холистической, охватывающей всего человека в его энергийном образе; во — вторых — и это главное — сам центр, интегрирующая инстанция, или же то «одно, с которым соотнесено всё», есть в данном случае не что иное как Внеположный Исток, телос практики, лежащий вне горизонта существования и опыта человека. Обобщая формулировки Выготского, можно сказать, что в духовной практике формируется
единая холистическая система с внеположным интегрирующим источником. Подобное понимание духовной практики было издавна близко самому аскетическому сознанию: в «Феноменологии аскезы» мы показываем значительное сходство идеи Выготского с концепцией «ума — епископа» св. Григория Паламы. Палама говорил в точности о том, что в духовной практике создается, силою благодати, единый координационно — управляющий центр для всего энергийного человека, чрез который «полагаются законы каждой силе души и каждому из членов тела». Этому центру святитель и дал имя «ума — епископа» (греч. эпископос — надзирающий)
[20].
Достигнув, действием онтодвижителя, встречи с Божественными энергиями, исихастская практика вступает в завершающий Блок Телоса. В аспекте телесности, процессы в этом блоке приобретают две главные новые черты. Во — первых, здесь образуются еще новые «сцепления» разных уровней человеческого существа, более радикальные, чем все прежние. Сведение, по благодати, энергийного человека в «единую систему» означает формирование интегральной энергийной икономии или динамики, в которой энергии отдельных уровней связуются в новое и нераздельное единство — так что, в частности, уже нельзя вычленить отдельно происходящее с телесностью. Телесный уровень все больше утрачивает свою прежнюю, пусть относительную, автономию, свою отдельную процессуальность. Стоит при этом указать, что в формировании такой интегральной, нерасчленимой динамики есть своя последовательность: сцепление воедино умственных и душевных энергий человека совершается уже на ступени сведения ума в сердце и служит необходимою предпосылкой синергии; и только вслед за образованием этой ключевой умственнодушевной конфигурации происходит интеграция в нее также и телесных энергий. Разумеется, это — проявление предиката неподатливости тела, напоминание о его структурах жесткости.
Однако — и это вторая главная черта телесности в Блоке Телоса — новая антроподинамика, интегральная и «самодвижная» (исихастский термин), предполагающая синергию и отвечающая предельному опыту человека, несет уже и начинательное претворение телесности. Здесь, на подступах к телосу, уже возникают «задатки обожения», начатки фундаментальной трансформации человеческого существа. В отличие от предшествующих блоков, телесные проявления играют здесь ведущую роль: именно они служат верными знаками таких начатков. «Когда уже весь человек как бы срастворен Божией любовию, тогда и наружность его в теле, как бы в зеркале каком, показывает светлость души»
[21]. По свидетельствам опыта, телесные «задатки обожения» обнаруживаются, прежде всего, в сфере перцептивных модальностей человека. Это достаточно понятно: формирование синергийного устроения человеческих энергий естественно трактовать именно в перцептивных терминах, как переориентацию восприятий человека от «дольнего» к «горнему», от здешнего, эмпирического — к мета — эмпирическому или, иными словами, как развитие новой, мета — антропологической перцептивной модальности — способности воспринимать Божественные энергии, быть «прозрачным для благодати», по аскетической формуле. При этом, поскольку в новое синергийное устроение вовлекаются все энергии человека, старые способности восприятия должны сообразовываться с новою «синергийной перцептивностью», подчиняясь ей или вбираясь в нее.
Трансформация перцептивной сферы и формирование новых перцепций на высших стадиях мистического опыта — феномены, зафиксированные в опыте многих духовных школ и традиций. В исихастской практике они носят название «отверзания чувств», а возникающие новые способности восприятия именуются «умными чувствами». Именно умными чувствами совершается достигаемое на высших ступенях Лествицы созерцание Фаворского Света, что осиял апостолов в событии Христова Преображения. Исихастский дискурс умных чувств чрезвычайно богат, но уже подробно описывался нами
[22], и сейчас мы не будем повторяться. Укажем лишь, что часто действие «умных чувств» характеризуют как экстатическое (сверхприродное и т. п.) созерцание, но эта обычная характеристика неточна. Внимательное обращение к первоисточникам говорит, что характер новой перцепции более адекватно передают два термина древней мистики,
синэстезис и
панэстезис. Здесь первый термин означает, что новая перцепция может рассматриваться как синтез, соединение воедино всех прежних, «ветхих». Второй же означает, что этой единой перцепции уже не отвечает никакого выделенного перцептивного органа, ибо на вершине духовной практики способность восприятия обретает все тело человека: как выражаются мистические тексты, человек «становится весь — оком».
Рассмотрение финального блока Лествицы, вплотную подводящего к Антропологической Границе, должно дать ответ и о финальной судьбе Соматической Границы в исихастской практике. Как мы видели, в Блоке Телоса телесность уже испытывает весьма существенные трансформации: она интегрируется в благодатную «самодвижную» динамику цельного человеческого существа и достигает «отверзания чувств» — актуальных начатков своего фундаментального претворения. Мы обнаружили также, что уже в Блоке Отрыва, в Невидимой Брани, аскеты видят возможность полного, по благодати, устранения телесных проявлений из топики репродукции, одной из двух топик Соматической Границы. Но все эти трансформации еще не значат полного включения телесности в парадигму духовной практики. В целом, духовная практика не снимает Соматической Границы Человека, хотя она способна в известной мере модифицировать и трансформировать ее проявления. Можно заметить, что на всем пути практики телесность стойко обнаруживала свой предикат неподатливости, будучи «неудобопременчива» несравненно более, нежели душевная или умственная стихии человека.
При этом, две топики Соматической Границы находятся в разном отношении к практике: если топика репродукции делается предметом практики и оказывается доступна ее воздействию, даже, по благодати, подвластна ей, то топика (био)смерти, или конечности человека, остается в существенном вне практики, не затрагиваясь ею. Как ясно показывает наш анализ, во всех блоках исихастской практики развиваются новые телесные практики, открываются и эксплуатируются новые телесные паттерны, механизмы — но все они, включая и трансформации в Блоке Телоса, не являются альтернативными к проявлениям топики конечности, согласуясь с формирующими эту топику структурами жесткости. Полученную соматическую карту можно рассматривать как раскрытие некоторых новых возможностей и ресурсов соматики. Эти возможности продвигают направленную трансформацию телесности человека заведомо далее того, куда можно достичь посредством обычных тренингов и практик телесности. Но здесь еще отнюдь не достигается ее фундаментальное претворение.
Подобного претворения и не будет достигнуто; в границы человеческой жизни вмещаются лишь его предвестья, начатки. Духовная практика ориентирована к иному онтологическому горизонту, однако фундаментальный предикат телесности — прямо связанный с фундаментальным предикатом конечности здешнего бытия — лишь в малой мере, в частных отдельных проявлениях, совместим с этой ориентацией. С вхождением в предельную сферу человеческого существования, действие предиката конечности начинает расходиться радикально с парадигмой духовной практики — и последнее слово остается за ним. На пути к достижению Антропологической Границы встает Соматическая Граница, топика (био)конечности человека, — и духовная практика, как уже подчеркнуто, не снимает ее. Управлять телесностью человека продолжает его генетика, Код; и финалом духовного восхождения становится трагический конфликт. На высших и решающих ступенях духовной практики, генетическая программа, программа тела, выступает контр — программой к пути практики, и прежде достижения финальной цели практики, обожения, приходит исполнение Кода: смерть. «Тело — трагический инструмент», — сказал митрополит Иоанн Зезюлас, православный богослов наших дней.
Однако духовная традиция, хранящая практику, включает в свои вероучительные посылки и речь о «последних вещах», эсхатологию. Это уже не речь опыта, и мы не входим здесь в ее обсуждение. Напомним только: эсхатологический дискурс утверждает, что «последнее слово» телесности — в конечном итоге, лишь предпоследнее; по Новому Завету, в эсхатологическом измерении даже и «последний враг истребится — смерть» (1 Кор. 15, 26). Трагическому конфликту тела и телоса парадигма Спасения сопоставляет эсхатологический (мета — эмпирический) катарсис.
Для нашей темы существенно, что эта краеугольная парадигма христианства говорит нечто и о судьбе телесности: она включает в себя вероучительное положение о воскресении во плоти. Это знаменитое положение — одно из главных отличий христианства в широком спектре позднеантичных религиозных течений и доктрин, идущее вразрез с магистральным дуалистическим руслом, где тело, резко противопоставляемое духу, третировалось как лишенное всякой ценности. К подобным положениям необходимо подходить с особою герменевтикой, и эта «эсхатологическая герменевтика» должна иметь существенные отличия от герменевтики исихастского опыта, на которую мы опирались. Поэтому, завершая обсуждение «исихастского тела», мы ограничимся только ссылкою на раздел «Эсхатология» нашего Словаря (см. «Феноменология аскезы», с. 172–182). Да, по новозаветному обетованию тело человека перестанет быть «телом смерти» (Рим. 7,24); однако знание об этом доступно нам лишь в эсхатологическом дискурсе: зерцалом в гадании.
Взглянув же в целом на возникший набросок соматической карты Лествицы, мы заключаем: отнюдь нельзя сказать, чтобы в исихастской практике телесный аспект был главным. Он присутствует всюду, на всех ступенях, выстраивается тщательно и изобретательно, включает ценные открытия и оригинальные решения — но при этом он всюду подчинен заданию целостного, холистического претворения человеческого существа в иной образ бытия. Ведущая же роль в этом претворении принадлежит, безусловно, духовно — душевным энергиям, которыми совершается стяжание Духа Святого.
2003/2012
ДУХОВНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИИ РОССИИ В ИХ КОНФЛИКТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Лекция Сергея Хоружего 23 сентября 2004 года в клубе-литературном кафе Bilingua врамках проекта «Публичные лекции Полит.ру»
Духовная практика и духовная традиция. Конспект
Хоружий: Тема лекции включает в себя слово «Россия» и предполагает, что речь пойдет о духовной и культурной традициях именно в России и о том, как происходит их взаимодействие. Не вообще и всегда, а именно в нашей стране. Может создаться впечатление, что речь пойдет о чем-то идеологическом или публицистическом, этакое очередное говорение о России и на русские темы, вокруг пресловутой русской идеи, интенсивно отыскиваемой и изыскиваемой в последнее время властными органами. Хочу сразу сказать, что ни идеологического, ни публицистического уклона в моей лекции не будет, все будет наоборот.
По старым диссидентским корням, к слову «идеология» я отношусь сугубо негативно; к публицистике же в том в виде, в котором она существует сегодня в России, — и того негативнее. Хотя я не уверен, что для публики так будет лучше, потому что вместо идеологии и публицистики будет то единственное, к чему я приспособлен, — будет тягомотное философствование. Разговор о духовной и культурной традициях я готов строить только своим профессиональным философским образом.
О духовной традиции я буду говорить как о понятии, о концепте. Такого концепта в готовом виде я не обнаружил ни в философии современной культуры, ни в антропологии, ни в смежных дискурсах. Соответственно, таковой концепт мне пришлось построить самому. Так что сначала мы с вами сконструируем концепт (следовать модному стереотипу и деконструировать его мы не будем). Потом мы рассмотрим, как он работает в России, какие любопытные приключения происходят с ним на русской почве. Но сначала будет именно это — момент некоторой скучной интеллектуальной работы по построению концепта.
Что сие есть? Духовная традиция живет, скажем так, не одна. Она возникает по поводу и вокруг некоторого другого явления. Это другое явление есть духовная практика. Поэтому нам придется строить уже не один концепт, а два. Нам придется понять, что такое духовная практика, каким образом и почему в связи с духовной практикой, по поводу духовной практики непременно возникает духовная традиция.
Духовные практики сегодня вещь популярная. Они вышли в массовую культуру, в массовые увлечения, в частности, это практики, связанные с дальневосточными религиями, такие, как дзен, как тантра, разные формы йоги. Понаслышке, подальше и похуже что-то известно и про суфизм. У меня слишком мало времени, чтобы подробно описать хотя бы одну из них, поэтому я в занудно-философском духе изложу вам понятие духовной практики как таковой. Любая из конкретных практик, будь то суфизм или тантра, или православный исихазм, должна будет под него подходить, то есть являться его частными случаями.
Так вот. Духовная практика — это фундаментальный антропологический феномен, который заключается, кратко говоря, в том, что человек реализует в нем некоторое свое имманентное, ему присущее устремление к инобытию. Человек не соглашается с собой таким, каким он дан себе, со своей наличной данностью. И не соглашается он в самом фундаментальном главном смысле, в каком это возможно. Он не соглашается не с какими-то косметическими деталями своего устройства, даже не с какими-то деталями своего внутреннего мира. Он не соглашается с самим способом бытия, в котором человеку выпало существовать и в которое, как выражались экзистенциалисты, человек «заброшен» или «вброшен».
В экзистенциализме констатируется факт заброшенности человека в определенную ситуацию, - онтологическую, скажем так. И дальше развертывается речь о человеке, как о приемлющем эту свою заброшенность и из нее исходящем. В духовной практике исходная ситуация, если угодно, та же, а выводы из нее радикально иные. Не экзистенциалистское «обреченное приятие», а напротив — решение изменить. Это безумное и невозможное решение сделать свой способ бытия, — бытия в настоящем философском смысле, горизонт бытия, которому принадлежит человек, — сделать его, ни много ни мало, иным. Осуществить актуальное онтологическое претворение, как выражается философия. Человек не только возгорается этим безумным стремлением, он его начинает всерьез осуществлять. Разные попытки, разные стратегии осуществления этой задачи, этого онтологического устремления измениться, и оказываются разными духовными практиками.
Сразу становится ясно, — я это всем словарем усиленно подчеркивал и обозначал — что подобное устремление изменить сам горизонт наличного бытия, безусловно, стоит особняком по отношению ко всем прочим, присущим человеку устремлениям. Понятие «стремление» сегодняшней философии знакомо. Со стремлениями или влечениями работает, скажем, классический фрейдизм. Сразу отмечу, что фрейдизм очень подробно, вырабатывает концепт стремления или влечения, характеризует его четырьмя капитальными признаками: объект, цель, исток, сила. Так вот, то стремление, с которым работает духовная практика, принципиально не этого, не психоаналитического сорта.
Забегая вперед, скажу, что вы можете понять, исходя из уже сказанного, насколько человек плюралистичен. Есть психоанализ, очень модный в минувшем двадцатом веке, в двадцать первом веке становящийся менее модным. В минувшем веке он претендовал на то, чтобы быть базовой антропологической моделью, которая могла бы описывать человека как такового, составлять более или менее полную речь о человеке. Уже из немногих вводных слов видно, что мы с этим решительно не соглашаемся, мы видим что-то совершенно другое. Я говорю об очень известной сегодня вещи, хотя бы на уровне слухов и самого названия, я говорю о духовных практиках.
Сразу замечаю, что человек в духовных практиках — это не человек психоанализа. Это совсем другой человек. Мы уже констатировали некую разницу с экзистенциализмом, с психоанализом она не менее фундаментальна. Вместе с экзистенциализмом мы говорим о вброшенности человека, вместе с психоанализом говорим о том, что надо рассматривать человека, анализируя его стремления. Но разница заключается в том, что духовные практики содержат в качестве своей основы стремления, которые не имеют отношения ко фрейдистскому механизму. Существуют стремления совершенно иного рода, с совершенно иными законами.
Первый концепт как раз и описывает, чем является это другое стремление, которое создает духовную практику, в котором человек стремится (причем не только стремится, но и реально продвигается) в иной способ бытия. Каким образом это происходит, какими характеристиками отмечено вот это совсем другое, не фрейдистское стремление человека? Вот здесь-то мы и начинаем соприкасаться с духовной традицией. Речь идет о продвижении, о пути. Сегодня всем, кто хоть понаслышке знаком с духовными практиками, известно, что для них ключевым словом, словом девизом, словом символом всегда служит слово «путь», «дао». Стало быть мыслится, что человек должен пройти некий путь. Куда должен вести этот путь? Он должен вести к иному горизонту бытия. В русской философии и, шире, в русской литературной речи есть слово «инобытие», которое и обозначает иной способ бытия.
Тот путь, который выбирает для себя человек в духовных практиках, ведет к инобытию. А что это такое? На уровне нашего эмпирического опыта, нашей деятельности в здешнем бытии, такого пути нет и быть не может. Инобытие, по определению, никак не присутствует в круге нашего опыта. Так, стало быть, куда же путь? Как выбрать его направление? Путь — понятие, заключающее внутри себя некий предикат непрерывности. Это некое прогрессивное продвижение. Человек следует все дальше и дальше по пути. Но: как выстроить этот путь, если его цель, то, к чему он должен привести, просто-напросто отсутствует в реальности? Возникает такая вот парадоксальная задача: как найти ориентацию к инобытию.
Здесь и возникает эта двойственность. Путь духовной практики, совершенно очевидным образом, избирается человеком в порядке его собственной, личной задачи, даже интимно личной. Он ощущает, что это нужно ему для его самореализации, для его самоосуществления, для сведения своих внутренних счетов со своей жизнью — не по каким-то коллективным, социальным или иным стимулам, а сугубо из глубины самого себя. И когда он осуществляет духовную практику, он осуществляет это как свое сугубо личное, индивидуальное дело. Он делает это, концентрируясь, даже предельно концентрируясь на самом себе.
Но есть, как мы уже почти выяснили, совершенно другой полюс. Погружаясь исключительно в свой индивидуальный опыт, который мы добываем сами, мы задачу ориентации решить не сможем. В границах нашего сугубо индивидуально опыта, мы не изобретем нашей путевой инструкции, как следовать к цели, ведь она просто-напросто отсутствует в здешней реальности. И тем не менее нечто заставляет нас к ней продвигаться.
Откуда взять ориентацию? Откуда взять азимуты продвижения к инобытию? Вот этого уже сугубо индивидуальный опыт не доставляет. Путевую инструкцию сам от себя не получишь. Подлинных духовных практик в мире считанное число: пальцев одной руки все-таки не хватит, но двух уже, безусловно, будет достаточно, чтобы исчислить, назвать все духовные практики, которые были созданы в мире за все тысячелетия бытия человечества. Почему это такое редкое явление? Именно оттого, что для каждой надо создать путеводную инструкцию, как продвигаться к цели, которая отсутствует на земле. И отсутствует в космосе. В горизонте нашего бытия как такового. Такие инструкции все же создаются, и они создаются не индивидуальным трудом, а некоторой преемственной работой, которую осуществляет уже некоторое сообщество. И вот это-то сообщество, которое вырабатывает путевую инструкцию для продвижения к инобытию, и называется духовной традицией.
Существует теснейшая диада, двоица связанных между собой явлений. Духовная практика с необходимостью нуждается в духовной традиции, чтобы получить от нее указания. Здесь необходимо уточнять словарь. Речь идет о проходимом пути, процессе. Но инструкция требуется человеку каждомоментно. Не один раз: он получил инструкцию, как, например, к пользованию чайником, прочел ее и далее ей следует, — нет, речь идет о непрерывном опыте движения, который непрерывно же нужно проверять. Непрерывно нужно особым образом, устраивать так, чтобы не вкрался чуждый опыт, чтобы не вкрался иллюзорный опыт, который нам может казаться опытом продвижения к этой невозможной цели, а на самом деле таковым не является.
Каждой духовной практике хорошо известно, что опасность иллюзорного опыта, когда человеку кажется, что он движется по пути, а на самом деле с него уклонился, это реальнейшая опасность. И, опять-таки, уже не из индивидуального опыта, а из традиции, человек получает критерии проверки, чтобы иметь возможность удостовериться в подлинности своего опыта. Одним словом, духовная практика к себе требует и рядом с собой предполагает некоторую объемлющую среду, в которую она погружена. И эта объемлющая среда уже не индивидуальна. Это некоторое сообщество, существующее в истории и вырабатывающее на протяжении не одного поколения вот эту путевую инструкцию или «органон духовной практики», как я это назвал при помощи философского языка в одном из своих текстов. Способ организации и выстраивания опыта практики. И создать каждый такой органон занимает столетия. Органон каждой практики из небольшого числа подлинных, которые есть в распоряжении человечества, инструкция, как же двигаться, вырабатывалась многими столетиями. Вот это и есть духовная традиция. Она вырабатывает этот органон и хранит его. И каждый проходящий питается от него.
Уже напрашивается некий системный язык. Речь идет о неком индивидуальном опыте, о деятеле, который проходит индивидуальный путь и в прохождении этого пути критически и постоянно зависит от некоторого объемлющего коллективного целого, от традиции. Напрашивается биологическая аналогия. Такой органический язык часто и возникал, в философии, которая занимается этими вопросами. Существует биологический вид. Он складывается из отдельных, как выражается биология, особей. Каждая особь проходит свой отдельный промежуток биологического существования, биологической жизни, что, разумеется, тавтология. И она не может его пройти, если не существует вот этого объемлющего целого, если не существует вида как среды и средства отдельного существования.
Аналогия концептуально совершенно корректная. Действительно, практика требует существования традиции, как существование особи требует существования вида. Соответственно вот эта двоица, если кому-то угодно дальше развивать речь о ней в таком вот системном дискурсе, будет рассматриваться как метабиологическая система.
Мы немножко прояснили, что значит духовная традиция: она существует в таком вот двойственном единстве с духовной практикой, когда человек стремится к инобытию. И, как утверждает опыт каждой из традиций, действительно ухитряется эффективно пройти этот путь. Немыслимая цель таки достигается.
Культурная традиция. Концепт
Но мы собирались сопоставить с этой духовной традицией некие иные. Конкретно, культурную традицию. Пока непонятно, причем здесь вообще другие традиции. Мы обрисовали некоторое явление, сугубо антропологическое, возникающее по поводу совсем уж специфического антропологического явления — духовной практики, которая вырабатывает не простой опыт, а опыт устремления к инобытию или, это слово употребляется здесь по праву, мистический опыт. Духовная традиция создается в связи с прохождением человеком мистического опыта.
Причем же здесь обычный язык социологии, социокультурных дискурсов, который применяется, когда говорят о всяческих традициях? То явление, которое мы пока описали, как будто бы здесь совсем не причем. Тем не менее, достаточно просто понять, что с другими традициями, которые фиксирует в обществе социология, с такой речью о традициях и таким их пониманием общая почва все-таки есть. Где она? А она в самом слове. Ее достаточно просто увидеть и извлечь. Привычная для философии парадигма этимологического осмысления. Традиция, парадосис, предание — всегда речь идет о том, что нечто передается. И понятно, что то, как мы описали духовную традицию, под это подходит; речь идет о том, что духовная традиция продуцирует или репродуцирует, передает определенный опыт. Что именно она транслирует, это другой вопрос.
Существенно то, что речь идет о некоем механизме передачи, механизме трансляции. И любая другая традиция, в обыкновенном социологическом смысле, занимается этим же. Говорят о социальных традициях, культурных религиозных — очень много о каких. И всегда, когда говорят о традиции (это слово, слава Богу, не потеряло в расхожем языке своего основного значения, что бывает нередко), действительно, о каком бы виде традиции речь не шла, всегда имеется в виду некий инструмент или механизм трансляции, передачи. Меняется и очень радикально меняется, лишь то, что транслируется. А что именно транслируется? Да все, что угодно: от нежных чувств до товаров, глобальных идей.
В этом плане, под этим углом зрения, можно взглянуть на саму фактуру существования человеческого общества и увидеть, что абсолютно естественно и плодотворно, и осмыслительно видеть эту фактуру существования общества как некоторое плетение традиций. Традиций как трансляций, как механизмов передачи. Это обобщение очень привычных взглядов. К примеру, те виды материализма, с которыми нам пришлось жить в качестве господствующего обязательного мировоззрения при большевиках, тоже утверждали, что жизнь общества — это некоторая трансляция. Только чего? Нам всем предлагалось верить, что из всего необъятного репертуара, которое общество может транслировать, важнее всего трансляции экономические. Товар-деньги-товар и тому подобное. Эти трансляции единственно важны, а все остальные по отношению к ним вторичны. Совершенно очевидно, что это чистейший и ничем не оправданный произвол, но сам общий взгляд справедлив. Действительно, существование человеческого сообщества есть плетение разнообразнейших трансляций.
Мы выделил из них одну — трансляцию мистического опыта. И она уникальна по отношению ко всем прочим. Чем она уникальна? — Многим. Чтобы доказательно это изобразить, надо показать, по сравнению с какими традициями она является уникальной и в чем неуникальность последних. В теме лекции был поставлен вопрос о культурной традиции. Кроме того, разумеется, существует религиозная традиция. Именно в сопоставлении с религиозной традиций и выявится уникальность того, о чем мы говорим.
Что такое религиозная традиция? Мы сразу понимаем, что религия — очень гетерогенное явление. У нее масса сторон. От высокодуховных, где предполагается трансляция именно этого духовного, мистического опыта (так что мы понимаем, что духовная традиция находится внутри религиозной — религиозная шире), до чисто культовой, социологической и поведенческой — стереотипы или паттерны религиозного поведения. Все это входит в религиозную традицию. Мы сразу видим, что это необычайно разношерстное явление. Духовная традиция уникальна, в частности, тем, что она представляет собой не гетерогенное образование, а некоторую, как мы говорим, чистую фракцию. То, что транслирует духовная традиция, есть только одно и очень определенное: транслируется антропологический опыт бытийного восхождения. Уникальный род опыта.
А вот религиозная традиция транслирует массу самых разнообразных вещей.
Далее, культурная традиция. Мы сразу видим, что и она разношерстна. Что сюда входит? Разумеется, это тоже трансляция, трансляция разнообразнейшего культурного опыта, культурного материала, культурных форм. Культура слагается, в частности, из институций. Так что здесь есть институциональная традиция, передача институциональных норм существования.
Очень полезны различения. Хотя я рискую вовлечь вас в глубины философии, что непозволительно для нашего бюджета времени, но тем не менее очень поучительно вот такое различение: важно, что транслирует традиция. Очень фундаментально различения между трансляциями сущностного, субстанциального материала и не сущностного, чисто энергийного, чисто опытного.
По преимуществу происходит трансляция тех или иных сущностей. Это то, что философы называют «аристотелианскими трансляциями». Аристотель построил все величественное здание философии на верховном понятии сущностей. Философия строится, как система сущностей, и вся глобальная реальность, по Аристотелю, описывается как система сущностей, связанных самыми разными соотношениями. Так вот и культура транслирует разные виды этих сущностей. Ценности, нормы, институты. Ведущим механизмом культурной трансляции является школа, трансляционное назначение которой прямо предъявляется. Здесь напрямик происходит передача от поколения к поколению определенных норм, ценностей, сущностей.
В случае же духовной традиции транслируется принципиально иное содержание. Никаких сущностей здесь не выделишь. Если бы та цель, к которой нужно продвигаться, присутствовала в здешней реальности, то она тоже была бы описуема с помощью каких-то сущностей, и духовная традиция тоже транслировала бы сущности. Но цель отсутствует, ее нет в горизонте здешнего бытия, ни в какую сущность ее не оденешь, не облечешь. Соответственно, транслируется духовной традицией только голый опыт энергии устремления, сугубо личностные содержания. Личностный опыт, который на нормативном языке не передается. А передается исключительно способами личного общения.
Духовная традиция несет с собой принципиально личностную стихию. Другие традиции не связаны непременно с этим условием. Это не значит, что они все безличны. В культурную традицию входит эстетический, художественный опыт. Он, безусловно, включает в себя существенные личностные компоненты, он транслируется эмоционально; он транслируется в общении в художественном акте, который достаточно сложно философски концептуализовать. Это опыт личностный, не аристотелианский, скажем так. Но культурная традиция в целом не связана специфично с личностной стихией. Она очень свободно может быть и имперсональной. То есть все ее институции, по определению, имперсональные. И школа, которую все мы проходили, — имперсональная институция. Вот коренные отличия культурной традиции от традиции духовной.
В духовной традиции, конечно, тоже есть обучение. Как оно происходит? Оно происходит не посредством школы, а посредством создания некоторой специфической, опять же антропологической, двоицы: учитель — ученик, старец — послушник (такой словарь в православии). И внутри этой диады происходит обучение, трансляция вот этого неаристотелианского опыта сугубо личностными путями. Путями общения. А не путем научения неким нормам, идеям, ценностям, законам, сущностям. Во все это опыт духовной практики не облечешь. Это имперсональной язык.
Еще одна особенность духовной традиции заключается в том, что все остальные включают лишь элементы личностной стихии, но ими не исчерпываются. Духовная же традиция существует исключительно в личностной стихии.
Российский конфликт традиций
Теперь можно обращаться к России. Последнее общее утверждение состоит в том, что в реальном существовании общества эти разнообразные механизмы трансляции друг от друга, разумеется, не независимы. Наоборот, они теснейшим образом переплетены, они вступают друг с другом в разнообразные взаимодействия. Это на общем уровне более чем понятно.
Все представляют, что разные виды трансляций могут, например, исключать друг друга. Если мы транслируем одни ценности, то какие-то другие при этом исключаются. Если мы вовлечены в один вид процессов трансляции, то какой-то другой вид процессов трансляций при этом делается невозможным. Это абсолютно на общеантропологическом уровне, скажем так. Так вот, то, в каких отношениях оказываются разные процессы трансляции, оказывается критическим важным и для того, каким реально выстраивается история общества, культуры, цивилизационного сообщества и так далее.
Вот здесь мы и переходим к России. Тезис состоит в том (доказывать я его никак не буду, потому что нет времени, а только его объявлю и прокомментирую), что в конкретном случае российской истории вот эти две важнейшие традиции — духовная и культурная — стоят друг к другу в весьма специфическом отношении, причем достаточно нездоровом.
Пардон, неискоренимая склонность философа: еще раз вернусь на общий уровень. В каких отношениях могут состоять между собой духовная традиция и любая другая? Понятно, что, будучи личностной традицией, духовная традиция имеет одну уникальную возможность и способность. Она может создавать вокруг себя примыкающие традиции и стратегии. Поскольку она транслирует некоторый сугубо антропологический опыт, то, как в последнее время публика научилась, в первую очередь у Бахтина, мы знаем, что по отношению к любым пластам опыта человек может занимать позицию или установку участности. После Бахтина это слово стало очень модным. Диалогическиеотношения, отношения участности. Это значит, что человек обретает некоторую обращенность, расположенность к данному опыту. Он, скажем так, с симпатией заинтересовывается им. Он не избирает установки полностью войти в этот опыт.
Конкретно мы говорим о духовной практике. Человек может не принять решения о полном погружении в этот опыт. Но он может избрать для себя установку обращенности к нему. Он может понимать его, он может испытывать то, что Бахтин называет приемлющимучастием. Он может разделять этот опыт. Не принимать его всецело, так чтобы самому становится на этот единственный путь, но понимать и разделять. Вокруг традиции и практики в строгом смысле может создаваться окружающая сочувственная среда, которая в некоторых отношениях (совершенно непредсказуемо, в каких именно; это не формализуемо) может участвовать в этом опыте, может его разделять, может к нему, как говорится, прислоняться. Может осуществлять антропологические стратегии, которые, так сказать, ассоциированы с духовной практикой, с духовной традицией.
Культурная традиция может вести себя именно так. Она может осознавать себя как ассоциированную с определенной духовной традицией. Как не отождествляющую себя с ней, но к ней примыкающую. Это, очевидно, гармонические отношения. Никакие формы культуротворчества при этом априори не исключаются. Культура существует как культура, в собственно соку, как говорится, но она осмысливает себя как ассоциированную по отношению к определенной духовной традиции, как пребывающую к ней в состоянии участной обращенности.
Но этого всего может и не происходить. Культурная традиция может осмысливать себя как нечто совершенно чуждое духовной традиции, а может и как враждебное, антагонистичное. Понятно, что здесь возможен весь спектр установок.
И теперь, окончательно возвращаясь к России, я констатирую, что здесь именно что не сложилось вот этого сочувственно-примыкающего отношения двух традиций. А сложилась раздвоенность бытия. Сложилась конфликтность.
То, что я называю духовной традицией, в русском случае есть духовная практика, выработанная православием, исихастская традиция. Сама по себе она является очень узким сокровенным, заглубленным духовным явлением. И духовная традиция, обнимающая эту духовную практику, столетиями существовала на Руси отдельно, особняком от культурной традиции. Так получилось, что духовная традиции оказалась феноменом, как говорят культурологи, низовойкультуры. Монашеской, простонародной.
А великая русская культура, которая создавалась последние три или два с половиной столетия — она была чужда духовной традиции.
И уже в порядке чистой декларации я вам сообщу почему. А потому что как духовная традиция, так и культурная традиция в России реализовались не в полноте, не во всех аспектах. Такая полнота развития в нашей исихастской традиции была реально явлена, существовала в истории в последние десятилетия существования Византийской империи, века полтора. Это, в основном, XIV век. Тогда существовала развитая традиция на уровне практики, на уровне мистического опыта, но она включала в себя и высокоразвитые культурные измерения. Культура поздней Византии осуществляла себя именно в этой примыкающей, ассоциированной парадигме по отношению к духовной традиции. Соответственно, сложившаяся система имела все предпосылки к существованию и к плодоносности.
Очевидно, что в России этого отнюдь не было. Никаких подобных культурных дискурсов духовная практика и духовная традиция на русской почве не создали. Была создана высокая мистика, но в ней не были выработаны культурные измерения. Культурная же традиция осталась просто-напросто чуждой всем этим пластам духовного опыта, которые чрезвычайно существенны. Это ведь не какой-нибудь опыт, а, простите, опыт отношения человека с бытием, отечественного человека, здесь сущего, в нашей России. Его отношения с бытием, а не что-нибудь иное, именно они заключены в духовной практике. Культурная традиция позволяла себе на этот опыт не обращать внимания, будто его нет. И, разумеется, ничего хорошего из этого не проистекало.
Вот таким было это конфликтное взаимодействие. Потом наступил XX век. Катастрофы, как правило, заставляют человеческий разум становиться умнее, в последний момент. Так было в поздней античности, так было в поздней Византии, так было и в поздней Российской империи. Но в нашем конкретном вопросе, в аспекте выстраивания отношений между культурной и духовной традициями, существенный прорыв был достигнут уже за гранью. Зрелая ступень продвижения к гармоническому соединению духовной и культурной традиций не была достигнута в знаменитом «серебряном веке», который стал великой культурной эпохой, разумеется, не только в России, но во всем мире.
Так вот, в вопросе отношений рассматриваемых нами традиций решающего продвижения до решающего продвижения большевиков достигнуто не было. Но оно было достигнуто уже в Зазеркалье, в эмиграции. Вот это, как я пытаюсь донести до российского читателя, до российского сознания, и есть духовное деяние эмиграции. В глубоко принципиальных терминах, в самых общих терминах культурного и духовного пути России в эмигрантской культуре был совершен вот этот критически важный шаг к воссоединению культурной и духовной традиций. Шаг, которого не сумел сделать знаменитый «серебряный век». На этом я закончу.
«Кончается то, чему дают кончиться». Обсуждение
Участвуют: ВиталийЛейбин(модератор), ВалерийВеневцев, Валерия МихайловнаМалышева, АлексейЧадаев, ЖанЗагидуллин, АнтонНиколаев, НикитаГараджан, АлександрБугаевидр.
Лейбин: Известны ли какие-нибудь цивилизаций кроме русской, которые бы находились в похожей ситуации недостроенности, неполноты? Какого рода деятельность необходима, чтобы освоить тот пласт опыта, который был достигнут в эмиграции, и вообще способна ли современная русская культура освоить его?
Хоружий: Что касается полноты. Здесь я должен сразу сказать, что наше бытие отмечается фундаментальным предикатом несовершенства. Наоборот, полнота — это редчайшее исключение, которое случалось, осуществлялось, достигалось считанное число раз, в те периоды, которые можно назвать «звездными часами» человечества. А вот неполнота — это правило.
Скажем, в европейской культуре, в западной культуре никакого гармонического соотношения духовной и культурной традиции также нет. Там, впрочем, не возникает и особой конфликтности, потому сложилась ситуация доминантности культурной традиции над духовной традицией. Духовная традиция, как говорится, еле попискивает в подчинении у культурной традиции. Конфликтом это не назовешь, это придавленность духовной традиции. Это утверждение заслуживает тщательной аргументации, но из-за недостатка времени приходится ограничиваться чистой декларацией.
И еще. Например, американская цивилизация отлично существует (хотя отлично или не отлично — кому как) вообще без духовной традиции. Вне ее. Это, опять же, слишком общее утверждение, разумеется, в стопроцентно огульной форме, но в порядке общей декларации можно обозначить один корень этой ситуации: как я уже сказал, органон духовной практики создается трудом столетий, и поэтому, хотя внутренней, социологической, так сказать, обязательности здесь никакой нет, но де-факто выработка этих путевых инструкций духовного восхождения человека осуществлялась благодаря монашеству.
Вне явления монашества ни один органон ни одной духовной практики в мире создан не был. И хотя все авторитеты любой из традиций подчеркивали, что нет необходимости в институте монашества, но чисто эмпирически, de facto, нужны очень строгие условия, чтобы вырабатывать этот опыт, и, опять же чисто эмпирически, создавать эти условия без института монашества необычайно трудно и реальных исторических примеров, когда духовная практика с ее путевой инструкцией была бы создана без помощи монашества, — таких примеров просто нет.
А протестантизм, как мы знаем, возник, изначально в боевом импульсе Лютера, исключив институт монашества. Тем самым произошло радикальное изменение в отношениях с духовной традицией. Преимущества такой позиции развернуты в истории, все мы знаем, что это дает, но то, чем за эти преимущества приходится расплачиваться, очевидно в гораздо меньшей степени. И отношения с духовной традицией — это и есть один из пунктов, которым за реформу приходится платить. Отказавшись от института монашества, протестантизм сразу поставил себя в очень амбивалентное положение по отношению к духовной практике. Попросту, он необычайно ослабил свои связи с ней.
Веневцев: Хотелось бы узнать, почему традиция обязательно должна быть трансляцией, а не, например, коммуникацией, как считают другие авторы?
Хоружий: Я ссылался на этимологию. Традиция изначально не может не быть трансляцией. Что не означает, что она не может быть вместе с тем и коммуникацией.
Веневцев: А вы можете сказать, зачем вы решили прочесть именно такую лекцию и почему вы решили прочесть ее именно на Полит.ру?
Хоружий: Вопросы пока что чисто фактические, почвы для размышления не оставляющие. Я ответил согласием на приглашение Полит.ру прочесть здесь лекцию, сам я такого решения не принимал. Почему именно такую лекцию: это то, чем я занимаюсь, о чем я размышляю. Очевидно, организаторов это устраивало.
Веневецев: Вы отвечаете на вопрос «почему?», а не «зачем?» То есть собственных целей вы не преследуете? Занимаете нерефлексивную позицию.
Хоружий: Я ответил согласием. Ответив именно так, я предполагал некоторое свое «зачем?», но предполагал его самым простым человеческим, коммуникационным: затем, чтобы мои мысли до кого-нибудь дошли, вот за этим.
Николаев: Правильно ли я понял, что культурная традиция содержит в себе духовную традицию?
Хоружий: Нет-нет. Вот это уже другое. Я говорил, что религиозная традиция включает в себя духовную как часть. О культурной традиции я этого далеко не утверждал. Она может попросту стоять вовне.
Николаев: То есть она в этом случае получается бесчеловечной.
Хоружий: Нет. Я не отождествлял человечность и духовность, я не утверждал, что, пользуясь термином Хайдеггера, дом человечности — это исключительно духовная традиция. В частности, я говорил, что художественные практики, мир эстетического — это тоже дом человечности.
Лейбин: Я чувствую необходимость немного приоткрыть карты, и сделать замечание о том, в чем наш интерес собственно Полит.ру к докладу именно Сергея Хоружего. Сергею Сергеевичу я уже рассказывал эту байку. Мы пытаемся в проекте публичных лекций отталкиваться от тех вопросов, которые возникали на прошлых лекциях. А там появилась серия вопросов огромной остроты, далеко выходящих за зону компетенции актуального политического или экономического анализа и за рамки истории 90-х.
В частности, в своей лекции у нас Виталий Аркадьевич Найшуль указал на область, которая находится за пределами технической не может быть освоена наличным техническим, например, экономическим инструментарием. В истории и о том, как вопрос о культуре, традиции и языке возник из казалось бы простой задачи написать экспертный текст о местном самоуправлении в России. Виталий Найшуль в месте такого большого вопроса говорил об отсутствии политического языка. Другие поднимают вопрос о том, есть ли у нас национальная философия, мировоззрение. И Сергей Сергеевич, на мой взгляд, предложил нам ответ.
Веневцев: И как он ответил?
Лейбин: «Да».
Вопросиззала: Вопросов масса и идей тоже масса, и вот что хотелось бы сказать. В ситуации глобализации, которая характеризуется всеобщей смесью и гегемонией одной культуры или двух культур мир, соответственно, приобретает черты биполярности. Это, конечно, тоже голословное утверждение, мне так кажется…
Хоружий: Сейчас чаще говорят про однополярность.
Вопросиззала: Мне как раз кажется, что биполярность, но это другой вопрос. Мне кажется, что в этой ситуации возможен какой-то микс, какое-то смешение именно духовных традиций. Это вопрос, может быть, предсказательного плана, не могли бы вы прокомментировать, что может получиться из того бардака, который сейчас происходит в мире?
Продолжая эту мысль: как вы относитесь к бахаизму как к попытке смешения духовных культур? И третье, возможна ли ситуация существования одного человека на пересечении двух, трех и более духовных культур? Человек, который живет в традиции, допустим, иудаизма и также не мыслит себя без кодекса бусидо.
Хоружий: Здесь я должен сразу самым определенным образом сказать одну вещь: смешения духовных традиций не существует, и это в принципе невозможно. Когда я сказал, что духовная традиция есть чистая фракция, это следовало понимать в самом сильном и однозначном смысле.
Попытки смешения всегда возникали и будут возникать. Смешанность как нельзя более свойственна фактуре здешнего существования, но всякое смешение означает некую редукцию, утрату и выход из традиции. Существует великая масса гибридных явлений, которые, конечно, необычайно характерны. Одно непременное их свойство в том, что они уже не являются духовными практиками. Их нужно характеризовать каждую по-своему (кстати, в моих текстах я рассматривал подобные вопросы и даже классифицировал возможные варианты смешения; «гибридные практики», как я их называю), но любые гибридные практики — это не духовные практики. Восхождение к инобытию здесь заведомо невозможно.
Вопросиззала: Почему?
Хоружий: А попросту потому, что каждый органон единственен. И, соответственно, он ведет к своему единственному телосу. Выходя из этого органона, вы просто выходите из этой практики. Все, вы уже не там, вы уже в другом месте. Теперь задачу ориентации вам надо ставить по-другому. Для начала, если вы констатируете ситуацию, как ситуацию смешения, вы констатируете, что вы уже не на пути. Что будет потом, что при этом возможно и невозможно, это вопросы следующие. Для начала вы покидаете путь.
Вопросиззала: А возможен индивидуалистический путь к инобытию, путь вне традиции?
Хоружий: Разумеется, нет. Я с этого начал. Вы можете только двигаться в «топике бессознательного», как я это называю. Это очень похоже. Например, те паттерны человеческого существования, которые воссоздает Лакан. Они очень похожи на духовные практики. У него, как мы помним, циклические стратегии вокруг некоей пустоты. Пустота достаточна похожа на инобытие. Но пустота психоаналитических стратегий — это не та пустота, о которой говорят восточные практики. А в христианстве инобытие как пустота абсолютно не осмысливается.
Вопросиззала: Вы верующий человек?
Хоружий: Да.
Малышева: У меня, как мне кажется, простой вопрос, но он может быть важен для слушателей. Хотелось бы вернуться к последней фразе вашей лекции, к тезису о том, что в эмиграции удалось достичь гармонического слияния. Не могли бы вы назвать несколько примеров того, в каких формах это происходило.
Хоружий: Да, конечно. В данном случае я имею в виду достаточно определенные практические вещи, культурные явления, которые происходили в эмиграции. Там, действительно, произошел переход русской мысли в свой следующий этап, отличный от пресловутой философии «серебряного» века, которая всячески изучается и прославляется.
Это явление уже гораздо менее известно потому, что этот переход означал и выход из философского способа, философской речи. Он был достигнут уже не в философском дискурсе, а в богословском. Произошло то, что я называю «модуляцией дискурса». Это развитие известно уже непосредственно как развитие богословской мысли, хотя оно и имело и философские стороны. Оно было связана прежде всего с именами отца Георгия Флоровского, отца Иоанна Мейендорфа, Владимира Николаевича Лосского.
Мы сегодня пытаемся их издавать, доносить до людей их наследие. Это, действительно, был следующий этап, и, как я пытаюсь разъяснить, выстраивая контекст и процесс, в культуре эмиграции встреча и развитие вот этих вот двух этапов прослеживаются достаточно выпукло. Был даже один исторический эпизод, когда эти два этапа как бы столкнулись между собой, и переход к чему-то следующему обозначился совершенно явственно.
Такой эпизод я усматриваю в том, что называется «Парижский спор о Софии», который произошел в середине 30-х годов после выхода книги отца Сергия Булгакова «Агнец Божий», первого тома его трилогии о богочеловечестве. Возникла богословская дискуссия, споры, и оппонентами отца Сергия Булгакова в этом вопросе выступили Владимир Николаевич Лосский и отец Георгий Флоровский. Они выступили совершенно независимо друг от друга, близости друг с другом у них не было, но была общность культурно-философская и историко-мыслительная. В разговоре о процессе русской мысли мы можем идентифицировать этот эпизод как первую встречу и первое обозначение различий между следующим этапом, который был связан с творчеством Флоровского и Лосского, и философией «серебряного» века, которая оставалась в прошлом.
Чадаев: Знаете, так получилось, что я совсем недавно перечел «Философию хозяйства» и, в частности, ваше к ней предисловие. Там совсем по-другому оценивался жизненный путь Булгакова, и я запомнил именно эту вашу оценку, которая заключалась в том, что далеко не факт, что это правильно, что философия растворилась в богословии.
Хоружий: Я это пишу не по поводу «Философии хозяйства», а по поводу другой книжки Булгакова, «Трагедии философии», которая вся как раз на тему отношений между философией и богословием.
Чаадаев: То есть «Трагедия философии» — это переход от Булгакова-философа к Булгакову-богослову, и после этого мы ничего кроме Софии от него не узнаем.
Хоружий: Да.
Чаадаев: Но сейчас вы говорите, что это не кризис, не трагедия, а какой-то следующий этап, новый уровень. Остается ли место философии на уровне синтеза двух традиций?
Хоружий: Должен заметить, что в этом предисловии к сочинению отца Сергия я писал несколько другие вещи. Почему другие: есть различия контекстов. Речь идет о различении развития отечественной мысли, российского философского процесса и общего вопроса о соотношении речи богословской и философской.
Я возражал отцу Сергию в его суровом однозначном заключении, что путь философского разума как такового есть путь ошибочный и себя исчерпывающий, и что он должен уступить место богословскому способу. Я этот тезис критиковал и сейчас повторю, что он неверен, но в конкретном идейном развитии России для продумывания и выстраивания, для регуляризации, скажем так, для улаживания отношений внутри русской культуры, внутри русского культурного процесса необходимо должно было произойти обращение русской философской мысли к русской духовной традиции, ее осмысление.
И на первых порах это осмысление должно было осуществиться на языке богословия. Вот это я и называю «модуляцией дискурса». В сугубо русском контексте, в нашей истории такой эпизод, действительно, составлял необходимость. Для начала необходимо было понять самое духовной традиции в ее существе. И первая стадия этого понимания может быть осуществлена только в богословском языке. Это ни коим образом не отменяет необходимости, по определению из популярного текста Киреевского, «новых начал для философии». В терминах, которые я сейчас применяю, это звучит как то, что после модуляции дискурса необходима обратная модуляция. Когда духовная традиция продумана и осмыслена на богословском уровне, дальше необходимо вновь обратиться к философской рефлексии по поводу итогов и результатов. Уже к собственно философской рефлексии. Это конкретно то, что я пытаюсь сделать в своих текстах. К примеру, в книге «К феноменологии аскезы» представлен конкретный образчик того, что я понимаю под обратной модуляцией.
Чадаев: То есть у Булгакова это приняло форму конфликта?
Хоружий: Да, он остро осознал этот конфликт, но не сумел в своем творчестве предъявить его разрешения.
Чадаев: По-вашему, он как философ принес себя в жертву богословию ради этого перехода?
Хоружий: И эта жертва вдобавок никем не была принята.
Чадаев: Теперь должна появиться какая-то следующая жертва, когда богослов должен принести себя в жертву философии?
Хоружий: Да нет, отчего же. Я скажу гораздо проще, и не так торжественно: русскому философу необходимо знать русское богословие, только и всего.
Вопросиззала: А как можно заниматься богословием без духовной практики?
Хоружий: Это уже совсем следующий круг вопросов. Опять же, я в своих текстах разбирался с этим отношением: здесь речь заходит о том, что мы понимаем под богословием. Полезно то различение, которое я провожу, пытаясь говорить о том, что нам следовало бы ввести два термина вместо двух синонимов. Нам стоит понимать под теологией одну дисциплину, а под богословием — другую.
В православии под богословием понимается способ мышления, действительно, от практики не отделимый. Между тем у слова «богословие» есть и прочие смыслы, которые в культуре не отщепились так, как я предлагал их отщепить. Следовало бы именовать все прочие смыслы «теологией». Например, когда мы говорим о «школьном богословии» или об «академическом богословии», мы не имеем в виду что-то, непременно связанное с практикой. Имеется в виду вещь, которая на западе понимается под теологией, а эту теологию Хайдеггер однозначно относит к наукам. В этом случае связь с практикой отнюдь не предполагается необходимой.
Сергей: Скажите, пожалуйста, духовные традиции в отдельно взятых странах стремятся к вымиранию ради какой-то глобальной традиции или это не так?
Хоружий: Вопрос очень сложный. Судьба духовных традиций сегодня, о чем я уже несколько раз говорил, обругивая наш способ существования как склонный к смешениям, — это смешение par excellence, это смешение смешений. И судьба духовных традиций очень сложна. С одной стороны, необычайно гальванизирован интерес к ним. С другой стороны, происходит их вульгаризация, редукция, смешение, создание всяческих ублюдочных форм, домотканых вариаций и импровизаций на тему. Словом, любая традиция в опасности. Я очень бы не хотел говорить в прогностическом ключе, это очень не философично и ненаучно, но в той мере, в какой мере я могу понять из философского анализа нынешней ситуации, осуществляемые сегодня стратегии можно идентифицировать как стратегии умирания. Например, один из моих текстов называется «Эвтаназия». Это как раз тот сценарий, который я полагаю сегодня господствующим.
Бугаев: У меня два вопроса. Первый: в чем вы видите причину вот таких негармоничных отношений традиций в России, связано ли это с характером принятия православия или скорее с культурным расколом Петровских и последующих времен? Второй вопрос: та степень синтеза, которая была достигнута в эмиграции, есть ли ее носители после Флоровского и его поколения, и есть ли шансы на ее поддержание сейчас?
Хоружий: Ну, что касается первого вопроса, то я хотел бы его отвести, заметив, что вопрос «почему?» в истории не корректен. Отвечать на вопрос «почему?» я не возьмусь, надо более подробно прослеживать, как это состоялось. Причинно-следственные связи, на мой взгляд, как язык описания попросту архаичны и не состоятельны. Это грубые линейные соотношения в аристотелианской системе, в этой пресловутой метафизике, которые сегодняшняя философия просто погребла.
Вопрос о причинных отношениях в истории дебатировался эдак лет сто с лишком назад и уже тогда эта причинная методология была решительно отвергнута. А дальше от этого отказались не только в истории, но и во всех остальных областях, включая физику. Разумеется, где-то они есть, но, как и с полнотой, и с чистотой -это редчайший случай, когда мы можем верить, что между явлениями существует причинно-следственная связь. Это исключение, а не правило. И считать это универсальным языком сегодня нельзя никак.
На уровне же фактической констатации я вместе со всей российской исторической наукой и мыслью, в общем, соглашаясь со всеми, конечно, признаю, что эта раздвоенность наиболее отчетливо и ярко выступила в послепетровской России. Хотя говорить о том, что ее не было прежде, однозначно нельзя, и это заслуживает более тщательного рассмотрения.
А что касается второго вопроса, то я опять хотел бы уклониться от ответа. Что значит шансы? Шансы — это мы с вами. Как написал Пастернак Мандельштаму после воцарения большевиков (я это выбрал в качестве эпиграфа для одного из своих текстов): «Кончается то, чему дают кончиться». Безусловно, нет, что называется, запрета. Это может быть продолжено, это может быть подхвачено, осуществлено и сделано, и более того, это может стать магистральной стержневой линией дальнейшего существования русской мысли. Иного пути ее по-настоящему плодоносного существования я попросту не вижу.
Можно говорить об опытах индивидуального философствования, когда человек может примкнуть к любому направлению, и у него может неплохо получаться. Но если говорить именно о традиции, а не об индивидуальном философе, которому никто не указ, то на уровне пути отечественного философствования другого пути нет.
Бугаев: То есть традиция не прервана, земля не выжжена?
Хоружий: Что значит не прервана? Она десяток раз прерывалась. И сейчас она прервана.
Бугаев: Но надежда есть?
Хоружий: Надежда, она в нас с вами, она нигде. Это вы спрашивайте у себя.
Гараджан: Сергей Сергеевич, у меня к вам такой вопрос. В контексте вашей историософской позиции вы захватываете и русскую философию имени. Насколько я знаю, несколько лет назад вы утверждали, что в русской философии имени не был преодолен софиологический детерминизм, а русская Московская неоплатоническая школа не может считаться решившей свою задачу синтеза культуры и духовной традиции.
Хоружий: Да-да, именно так.
Гараджан: Так ли это однозначно для вас теперь? Может быть, не только со стороны философии, прежде всего, со стороны философии имени был произведен существенный шаг для воссоединения этих традиций.
Хоружий: Нет, сейчас я придерживаюсь совершенно тех же взглядов. Вот, недавно я выпустил большой том «Исихазм», который включает в себя максимально полное описание традиции. Здесь, в частности, есть раздел «Имяславие» с краткой, но абсолютно общей и расставляющей все точки над i статьей, где я даю именно такую характеристику того, что я назвал Московской неоплатонической школой. Да, это было, с одной стороны, безусловно, явление, которое обозначало движение философии навстречу духовной традиции, но это был, выражусь для краткости по-спортивному, фальстарт.
Гараджан: Возможен ли в принципе какой-либо имяславский модернизм?
Хоружий: Это, безусловно, вопрос, поскольку имяславие, не сводится к философии. Практическое имяславие — это несколько другая вещь, нежели философия, но с не менее негативным исходом. А еще точнее сказать, с более негативным исходом, потому что если философия имяславия сегодня по убогости нашей нынешней философской ситуации еще как бы в новинку, с ней еще как-то разбираются, ее еще недопоняли, то что касается практического движения, оно попросту давно угасло и никакого ренессанса никак не предполагает.
Вопросиззала: Эта ваша книга уже в продаже?
Хоружий: Да.
Загидуллин: Почему вы выделяете исихазм как ядро или как наиболее существенную часть русской духовной традиции? Или тот же самый вопрос, но более общо: в том круге понятий, который вы ввели, странно смотрится термин «русская духовная традиция»; можно ли говорить о подобных вещах? О французской, европейской духовной традиции и так далее.
И второй вопрос: в чем сегодня вы видите актуальность дискурса о духовных практиках и традиции, ведь сегодня никто не умирает из-за этого, как это было в середине XX века? Я вспоминаю статью Юнга на смерть Р. Вильгельма, переводчика китайской «Книги Перемен» (И Цзин) на немецкий язык, который, по мнению Юнга, погиб именно вследствие этого конфликта.
Хоружий: Как я уже сказал, согласно данной характеристике, умирают сейчас все. Это значит, что сейчас человечеством осуществляется стратегия умирания. Не индивидуально, а на сверхиндивидуальном уровне. Но это не доказано, это на уровне наблюдения.
Возвращаясь к исихазму. Я употребляю этот термин в расширенном смысле. Слово это прошло значительную эволюцию. Еще не так давно оно, действительно, понималось очень узко. Если следовать старому пониманию, то вполне логичен вопрос о том, как можно идентифицировать это понятие с православной духовной традицией. Раньше исихазм понимался очень узко, как течение XIII—XIV веков в византийском православном монашестве, связанное с так называемыми исихастскими спорами середины XIV века.
Для того, чтобы разобраться со всеми этими смыслами, я и осуществил этот проект, где, как я надеюсь, сможет закрепиться действительный смысл этого понятия: как это сегодня понимается наукой, существует одна единственная духовная практика и духовная традиция православия, которая непрерывно развивалась и осуществлялась с IV века, с египетского и палестинского пустынничества, с Антония Великого, и по сей день. Это видится как единое духовное искусство, духовная практика, духовная традиция — как хотите, так и называйте, — но именно единое и преемственно развивающееся в самотождественности. И когда я говорю, что органон духовной практики создается столетиями, то в качестве живого примера я имел в виду ровно создание исихастского органона, которое происходило ровно тысячу лет, с IV века и по XIV.
Дальше, насчет русской и французской традиции. Это абсолютно правильно замечено, что по характеру понятия, такие наименования изначально не корректны. И это относится не просто к духовной традиции, это относится просто-напросто к философии. У людей, по-настоящему обученных философии, словосочетание «русская философия» вызывает впечатление некорректности, что абсолютно справедливо. Точно так же, как по смысловому существу не бывает русской китайской или какой-либо еще математики. Это методологическое и терминологическое соотношение равно относится ко всему кругу подобных концептов. То есть во вполне определенном, не строгом смысле можно сказать и «русская математика»… В той же мере нужно пояснять, в каком смысле вы говорите о русской духовной традиции.
Загидуллин: Вы видели людей, которые практикуют исихазм?
Хоружий: Исихастская традиция существует по сей день. Она существует только так, как она только и может существовать, в формах самотождественных, идентичных. Органон — строгая вещь. Модуляции возможны, но, как говорится на классическом философском языке, — в акциденциях.
Вопросиззала: Так вы видели живого практикующего человека?
Хоружий: Это очень тупой вопрос. Повторяю, традиция жива и существует сегодня, в не самом худшем своем периоде, во всем православном мире, как она существовала в иные столетия.
Что же касается исторической стороны, облика традиции и ответов на простенькие фактические вопросы, то все этой есть в книжке. Если бы сегодня этого не было, я бы не стал делать этот том. Я его делал не для научного сообщества, а именно оттого, что традиция существует.
Вопросиззала: Сергей Сергеевич, во-первых мне хотелось бы поблагодарить вас за замечательную лекцию, а во-вторых, я хотела бы сказать, что этими словами вы, по-моему, раскрыли смысл жертвы отца Александра Меня. Это как раз тот человек, который на деле мог соединять духовную традицию с культурной традицией. В его трудах и особенно в последней книге «Прости нас грешных» — я лично не знала его, но из этой книги идет такая энергетика, такое личностное, углубленное понимание и обращение именно к инобытию, к Богу через дисциплину, через исповедание. Мне кажется, что здесь надежда. Как вы считаете?
Хоружий: В отличие от вас, я отца Александра знал достаточно близко: он был моим духовным отцом, он был священником, который крестил меня. И поэтому я имею право сказать то, что я скажу дальше: отец Александр не принадлежит к этой духовной традиции. Как философ и богослов я обязан различать. Я не могу не почитать отца Александра, который для меня значит больше, чем для тех, кто просто не знал его, но исихазм не исчерпывает собой все глубокое, все духовное и все душепитательное в православии. Отец Александр не занимался исихастской традицией, и писания его этой традиции не раскрывают. Они делают многое другое: это прежде всего пасторский труд, пасторское служение — но непосредственно к тематике духовной практики православия его сочинения не относятся.
Лейбин: В заключение я хотел бы спросить вас, не могли бы вы дать оценку, высказать свое впечатление от той коммуникации, которая произошла здесь сегодня?
Хоружий: Я думаю, что окончательное впечатление сложится не сразу. Что же касается непосредственных впечатлений: могу сказать, что рад живости восприятия, которая явно имела место
ИДЕЯ СОБОРНОСТИ: ЕЕ ПРАВОСЛАВНО–СЛАВЯНОФИЛЬСКИЕ ИСТОКИ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В СОВРЕМЕННОМ ПОСТСЕКУЛЯРНОМ МИРЕ
«Душа Православия есть соборность».
О. Сергий Булгаков
Доклад на Международном Научном Собрании «Соборность и демократия». Требинье (Босния и Герцеговина), 13-16 июня 2012 г.
1.
Естественно и понятно, что в славянских землях в пору испытаний и перемен, когда надо удостовериться заново в собственных духовных и культурных истоках, определить новые ориентации и стратегии в меняющемся мире, сознание обращается к идее соборности. Хотя эта идея не является особенно древней, сегодня она воспринимается как исконная часть фонда исторической памяти и концептуального фонда православного и славянского сознания. Русские славянофилы, которые развили эту идею и передали ее в славянский мир, связали ее с целым кругом тесно соединенных мотивов: соборность вобрала в себя экклезиологические содержания, свойства бытия Церкви, но также интуиции об идеальном общественном устройстве, кроющемся в органической стихии народного существования, и образ некоего светлого прошлого, полного социальной гармонии, и еще многое… Весь этот тесный круг, несущий имя соборности, явно отвечал глубинным устоям православно–славянского склада сознания, его духовным запросам, и он приобрел притягательную силу для этого сознания, приобрел обаяние и даже некую власть над ним. Как сказал о. Георгий Флоровский, этому сознанию присуща «жажда соборности», и эта жажда жива, не иссякла и в наши дни. С соборностью по- прежнему связываются немалые положительные ценности и ожидания, и потому тема нашего собрания весьма оправдана и своевременна. Нам, здесь собравшимся, надлежит подумать о том, как может быть удовлетворена эта жажда соборности в современной ситуации православно–славянского мира.
Эта задача не столь легка. Лишь в богословских своих аспектах идея соборности имеет сегодня прочные основания, заложенные в середине минувшего века трудами богословов русской диаспоры — о. Сергия Булгакова
[1], Вл. Н.Лосского, о. Г. Флоровского и о. А. Шмемана (впрочем, даже и тут многие существенные пункты остаются дискуссионными). Что же касается социально–философских аспектов, связующих соборность с жизнью общества и наиболее актуальных в современной ситуации, то все существующие разработки их либо крайне поверхностны, либо глубоко архаичны. В постсоветской России возродившийся интерес к наследию русской религиозной философии, интенсивный поиск новых идейных оснований российского бытия породили огромный поток выступлений и текстов, муссировавших тему соборности; но то были лишь спекуляции на эссеистическом и публицистическом уровне, где не развивалось никакой научной трактовки соборности и само это понятие не получало отчетливого определения. Желая найти хоть насколько-то основательное рассмотрение соборности как социально–философской концепции, мы должны вернуться в историю, к трудам философов Серебряного Века. Однако они создавались уже около столетия назад, меж тем как с тех пор на всех уровнях социальной реальности произошли радикальные изменения, и не менее радикально изменился дискурс социальной философии, ее понятия и методы.
В подобной ситуации, наше обращение к проблеме соборности должно мыслиться как большая творческая программа. Прежде всего, необходимо заново обозреть и подытожить все истинно надежное, что было внесено в концепцию соборности нашими предшественниками. Фонд, собранный таким путем, позволит нам оценить, каков реальный потенциал идеи соборности в современной философии, в религиозной и социальной, государственной и культурной проблематике. И он должен стать исходной основой для обновленного дискурса соборности, позволяющего распознать пагубные тенденции в нашей жизни и определить наши ориентации и стратегии в мире III тысячелетия.
В этой базе надежных данных о соборности следует выделить несколько различных частей. Соборность как богословский принцип — предмет обширного раздела современного православного богословия или точней, экклезиологии, учения о Церкви. Здесь она имеет ясную дефиницию и детальную разработку; можно по праву говорить о существовании достаточно полного богословского или экклезиологического учения о соборности. Именно это богословское понимание соборности развивалось автором идеи соборности, Хомяковым; но в дальнейшей своей истории понятие соборности начало использоваться также и в ряде других сфер, где оно приобретало в той или иной мере другие значения. Сейчас я упомяну лишь две наиболее существенные из этих сфер. Во- первых, русская философия и религиозная мысль имеют тенденцию приписывать качество соборности, соборную природу познающему сознанию, так что соборность выступает как гносеологический, или когнитивный принцип, выражаемый Хомяковым так: «Недоступная для отдельного мышления, истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью»
[2]. Этой когнитивной сфере соборности, которую еще в своей молодости замечательно описал князь Сергей Трубецкой, на нашей встрече будет посвящен доклад А. П. Козырева, и я не вхожу в ее обсуждение. Другая же небогословская сфера — это социальная философия, где соборность выступает как принцип общественного устройства. Для нашей встречи, предполагающей сопоставление соборности и демократии, данное понимание соборности оказывается в центре внимания, и «база данных» для современного дискурса соборности, несомненно, должна включить основные результаты его развития.
2.
Богословская (экклезиологическая) трактовка соборности занимает особое место во всей разветвленной проблематике соборности. Помимо богословской дефиниции, данной Хомяковым, соборность не имеет никаких других независимых дефиниций, и в любой из других своих сфер, она возникает не как новое самостоятельное понятие, но только как трансляция или проекция исходного богословского понятия. Поэтому, даже намереваясь рассматривать соборность в социальной сфере, мы должны сперва сжато сформулировать основоположения ее богословской трактовки
[3].
Учение о соборности рождается и получает прочные основания в богословских сочинениях Хомякова. Однако славянофилы не были академическими философами и теологами, и это учение представлено весьма не систематично. Достаточно сказать, что у Хомякова вовсе нет самого термина «соборность», а прилагательное от него, «соборный» появляется впервые только в заметке, написанной им незадолго до кончины. Но эта малая полемическая заметка
[4] разом задает единую перспективу, в которой весь комплекс идей и рассуждений в его богословских трудах складывается в цельное учение, которое нельзя и назвать иначе как учение о соборности. В самом деле, лейтмотив этих трудов — описание особого способа бытия, присущего Церкви; заметка же указывает, что суть данного способа передает Третий атрибут Церкви в Символе Веры. По–русски этот атрибут выражен термином «соборная Церковь», и таким образом, способ бытия Церкви есть соборность. Поскольку же Первый атрибут Церкви, согласно Символу, есть единство, то этот способ есть также некий особый род единства, связующий всех членов Церкви,
соборное единство.У Хомякова — изобилие формул, характеризующих соборное единство с разных его сторон, главным образом, — по отличию от двух других видов единства, которые он приписывает Католичеству и Протестантству. Хотя столь полное выведение этих исповеданий за границы Церкви не отвечает позиции Православия, но чисто методологически противопоставления Хомякова полезны, из них наглядно выступает определяющее, конститутивное свойство соборного единства: оно есть
тождество единства и свободы, в котором преодолеваются тенденции и к нормативнопринудительному единству без свободы, и к рассыпающейся, хаотической свободе без единства. Другая линия противопоставлений отделяет соборное единство от обычных коллективов, соединяемых общностью материальных целей и интересов (Хомяков называет их ассоциациями или дружинами). Продвигаясь глубже, философ вырабатывает ряд собирательных, сводных формул, вбирающих в себя все главные черты соборности. Возможно, самая полная, насыщенная из них такова: соборное единство есть «единство свободное и органическое, живое начало которого есть Божественная благодать взаимной любви»
[5]. Некогда я проделал подробный анализ этой формулы
[6], показывающий, что она действительно дает своего рода резюме хомяковского богословия соборности.
Прежде всего, здесь заключено тождество единства и свободы. Затем к нему добавляется принцип живого организма: соборное единство наделено собственною жизнью, несет в себе источники этой жизни, и в нем действуют внутренние силы, изменяющие все, что входит в его состав. При этом, «живой организм» Церкви у Хомякова — это не натуралистическое, а духовное понятие, он ясно отделяется от биологического организма, и эквивалентными терминами для него служат «духовный организм» и «живая личность». Важное понятие личности появляется с необходимостью: опыт бытия в Церкви показывает, что Церковь в своей жизни свидетельствует о себе особым всеобщим согласием своих членов — согласием не во взглядах, не в целях, а в общей принадлежности к собранию, имеющему премирную природу; такое согласие есть специфическая способность личного бытия, и сама эта природа является также личностной, ипостасной. Наконец, последние элементы в дефиниции Хомякова, благодать и любовь, суть, безусловно, первые по значению, в них — «начало» соборности. Мы видим, что внутренняя сила, действующая в соборном единстве, — любовь, притом, представляющая собой не психологический или моральный, а Божественный и благодатный принцип; в ней и чрез нее в Церкви действует сама благодать, Божественная энергия. Хомяков показывает, что благодать связана с каждым из основных свойств соборного единства, для каждого она является его условием, предпосылкой — и для тождества свободы и единства, и для живой органичности Церкви, и для ее личной природы; так что в ней необходимо признать не очередной атрибут, а самый источник соборности. За счет нее, все свойства соборного единства принимают особый, «просвещенный благодатью» характер, не такой, что они имеют в обычных явлениях. И отсюда вытекает суммарный вывод: соборное единство имеет благодатную, сверх- эмпирическую природу, принадлежит горизонту Божественного бытия. Как сжато и весомо сказал Флоровский, «Соборность в понимании Хомякова, — это не человеческая, а Божественная характеристика»
[7].
Таково ядро богословской и экклезиологической концепции соборности. В этой концепции коренятся, по существу, и все другие концепции хомяковского богословия, касающиеся проблем веры, духовного авторитета, церковного предания, богословия таинств и др. Творчество Хомякова рано оборвалось, и богословие соборности оставлено было им в самой незавершенной и фрагментарной форме, со многими спорными положениями и почти без опоры на Св. Отцов. Однако в дальнейшем оно нашло внимательное прочтение и усовершенствование в трудах православных богословов. Как я уже указал, оно получило прочные основания и выросло в цельное учение, укорененное в патристическом предании, но вместе с тем и вполне современное (хотя по–прежнему можно встретить и его неприятие, и критику). Можно сказать, пожалуй, что сегодня оно уже завоевало для себя место в кругу тех рубежных явлений, с которых в православном богословии началось новое творческое движение.
3.
Совсем иную ситуацию мы обнаружим, перейдя к рассмотрению соборности в сфере социальной философии. Но сначала отметим общность с богословской сферой: здесь тоже идеи, близко родственные соборности, долгое время выражались без употребления самого этого термина, так что можно говорить об «имплицитном дискурсе соборности». У всех старших славянофилов присутствует тема о гармоническом сочетании, синтезе единства и свободы и об особом типе реальности, отвечающем этому синтезу; здесь — одна из глубинных, порождающих интуиций славянофильского сознания. Но где же осуществляется такой тип? Сначала в этом ключевом пункте оставалась неопределенность; но затем возникли два различных ответа. Ответом Хомякова стало его богословие соборности, относившее синтез к Церкви мистической, в сферу Божественного бытия. Другой же ответ — концепция общинности Константина Аксакова, с которой и начинается, пока — имплицитно, история принципа соборности в социальной философии. Всем ранним славянофилам свойственно идеализированное представление о пресловутой русской общине, организации сельского крестьянского общества; но только К. Аксаков, и в жизни и в творчестве отличавшийся праведностью и прямолинейной решимостью (за что и был назван «передовым бойцом славянофильства»), идет до конца, до явной абсолютизации общины. Он утверждает, что в ней искомое идеальное сочетание личноиндивидуального и коллективно–общественного в полной мере достигнуто и осуществлено: «Община есть союз людей, отказывающихся от своего эгоизма, от личности своей… [Но] в общине не теряется личность… она находит себя в высшем очищенном виде… в согласии самоотверженных личностей»
[8]. Объединяющий принцип общины — этический, это — «свободное нравственное согласие всех». Здесь, таким образом, в качестве реализации тождества единства и свободы выдвигается
принцип общинности, имеющий чисто социальную и нравственную природу, не отсылающий к богословским категориям и к иному способу бытия. Тем самым, этот социальный принцип есть редукция богословского и онтологического принципа соборности, его «заземление» из Божественного бытия в эмпирическое, с отнесением к определенной формации общества, русской сельской общине.
Принцип «согласия самоотверженных личностей» и вся этическая конструкция Аксакова явно не отвечали реальному сельскому обществу, они были заведомо утопичны. Но в русле органического мышления, органических представлений о жизни общества, очень типичных для России, подобные идеализации народной стихии возникали естественно и легко; разоблачить же их иллюзорность могло лишь строгое философское сознание — напротив, очень не типичное для России. Поэтому, хотя данный путь трансляции принципа соборности в социальную реальность был утопичен и некорректен, он повторялся еще не раз, порождая разнообразные вариации на тему принципа общинности. Можно, увы, заметить, что в отношении русского — да и шире, славянского — сознания к идее соборного устройства общества чаще всего отсутствует критическая оценка. Это сознание рисует картины, создает разнообразные схемы такого устройства, потом восхваляет их, любуется, какие они славные, стройные — и попросту отключает критическую рефлексию, которая быстро бы показала, что эти замечательные устройства — фикция, что их быть не может. Здесь можно вспомнить социальные концепции почвенников, поздних славянофилов, отчасти и анархистов, приверженцев философии солидарности и взаимопомощи, и проч. Особое место занимает социальная философия Федорова, своим лобовым этическим максимализмом неожиданно близкая воззрениям К. Аксакова. Федоров развивает собственную версию принципа соборности, также не богословскую, а «заземленную» и независимую от Хомякова. Выдвигая проект «обращения мира в собор», он пишет: «Нужно действовать соборно, соединяться в один собор, так чтобы каждый приход, каждая отдельная местность вошла в него»
[9]. Это — социальный аспект его проекта «общего дела», воскрешения отцов, и в рамках этого антропо–технологического проекта должны стать соборными все науки, искусства, а общество должно осуществить «общественный строй по образу Троицы», держащийся чисто нравственными скрепами («психическою, душевною силою, взаимознанием») и очень напоминающий этическую утопию Аксакова.
Затем в философии Серебряного Века появляется наконец сам термин «соборность» (впервые, видимо, у кн. С. Трубецкого в 1890 г.), и попытки его применения в социальной философии учитывают концепцию Хомякова. В своей книге о Хомякове, опубликованной в 1912 г., Бердяев отчетливо разделяет две сферы, церковно–богословскую и социальнофилософскую, в которых может применяться понятие соборности: «Хомяков, как и все славянофилы, понимал общество как организм… Есть органическая общественная соборность, коллективизм органический, а не механический, за которым скрыта соборность церковная»
[10]. Вводимая здесь пара понятий
общественная соборность — церковная соборность очевидным образом соответствует принципам общинности и соборности в философии славянофилов; но при этом, в отличие от трактовки общинности у К. Аксакова, Бердяев не приписывает «общественной соборности» абсолютных свойств, отличающих «церковную соборность». Установление четкого различия между двумя принципами существенно, однако дальнейшего описания и анализа «общественной соборности» у Бердяева нет. Другой из крупнейших мыслителей Серебряного Века, Вячеслав Иванов, тоже немало писал о соборности, но его специфический подход, отыскивающий ее истоки в античных мистериях, скорее сливает истинные проявления соборности с разными близкими явлениями, чем помогает выделить и понять эти истинные проявления в жизни общества. Единственную разработку, углубляющую наше понимание «общественной соборности», мы находим у Франка в книге «Духовные основы общества» (1930).
По Франку, структура социума имеет два горизонта или слоя, внутренний и внешний, которые именуются, соответственно, соборность и общественность, и реализуют два разных принципа организации. Эти два принципа характеризуются так: соборность есть «внутреннее единство и оформленность общества», общественность же — «внешнее отношение между людьми», «раздельная множественность отдельных, отделенных друг от друга людей»
[11]. Принимая принципиальный тезис: соборность «лежит в основе всякого человеческого общения, всякого общественного соединения людей», Франк выделяет три главные формы соборности: «единство брачно–семейное» (первичная форма, поскольку «человек вообще существует лишь через физиологическую связь с другими людьми»
[12]), религиозная жизнь (ибо «человеческая соборность, чувство сопринадлежности к целому, которое не извне окружает человеческую личность, а изнутри объединяет и наполняет ее, есть по существу именно мистическое религиозное чувство»
[13]), а также «общность судьбы и жизни» (за которой Франк утверждает не только психологическое, но «жизненно–онтологическое… великое творческое и укрепляющее значение»). Далее, на этой базе устанавливается связь с Церковью и с хомяковским богословием соборности: автор приходит к выводу, что «соборность совпадает с Церковью в самом глубоком и общем смысле этого понятия, а общественность — с миром в смысле сферы бытия, противостоящей Церкви»
[14]. Тем самым, соборность, как и учил Хомяков, есть конститутивный принцип Церкви как сверх–эмпирического, благодатного образа бытия; тогда как общественность описывает внешние социальные связи в эмпирическом социуме. При этом, внутренний принцип играет определяющую роль: «В основе всякой общественности лежит соборность как Церковь… Соборность есть высший источник общественной связи… идеально направляющая сила общественной жизни»
[15]. Отсюда следует, что принцип общественности, а равно и общий, совокупный принцип социального бытия, т. е. диада «Соборность — Общественность», производны от принципа соборности или, иначе говоря, представляют собой проекцию сверх–эмпирического принципа соборности в сферу эмпирического социального бытия.
Таким образом, теория Франка дает практический пример, доказывающий существование принципа социального устройства, основанного на соборности. Но надо заметить, что эта теория несет в себе определенные онтологические предпосылки: предполагая, что эмпирическая социальность («общественность») имеет источник и основу в благодатной сверх–эмпирической соборности, она, тем самым, базируется на платонической онтологии, а конкретней — на онтологической парадигме «Мира в Боге», характеризующей развитую Николаем Кузанским онтологию панентеизма (этой онтологии Франк придерживается и всюду в своей философии). Меж тем, православное вероучение, а, стало быть, и экклезиология, и концепция соборности, не принимают этой онтологии, предполагающей эссенциальную, сущностную связь Божественного и эмпирического бытия, — и основываются на догматическом положении о связи этих бытийных горизонтов не по сущности, а лишь по энергии. И коль скоро православное богословие соборности предполагает иную онтологию, нежели концепция Франка, то в рамках этой иной онтологии мы вовсе не получаем искомой «социальной проекции» принципа соборности.
4.
«Франк более всех потрудился в русской философии, чтобы уяснить момент соборности в природе человека», — пишет Зеньковский
[16]. Наш анализ вполне подтверждает это: философия Франка — самое значительное продвижение к созданию социальной теории или модели общества на базе соборности. Но и эта философия, как видим, не дает положительного решения проблемы. В итоге, если мы сегодня снова хотим понять жизнь и устройство общества в свете соборности, мы не имеем для этого понимания никакой готовой основы. Встает законный вопрос: но, может быть, такое понимание и в принципе невозможно? Может быть, соборность, действительно, должна оставаться лишь богословским и экклезиологическим понятием, принадлежащим благодатному бытию Церкви, и ее никак не следует связывать с жизнью эмпирического общества? — Но такой вывод столь же неверен, как и противоположная, «аксаковская» крайность, отождествление соборности с принципом социального устройства. Согласно догматам, закрепляющим православный опыт Богообщения, бытие Церкви мистической, Божественное благодатное бытие, имеет связь с эмпирическим, тварным бытием, и эта связь осуществляется в устремлении энергий тварного бытия к Богу, в синергии и обожении, совершенном соединении человеческих и Божественных энергий. Подобная энергийная связь имеет свои следствия и отражения в сфере социальной реальности, однако эти отражения носят иной характер, чем в случае эссенциальной, сущностной связи. Как показывает теория Франка, сущностная связь Бога и мира обеспечивает, что принцип соборности выступает как начало единства и принцип внутренней формы эмпирического общества, и за счет этого он является ведущим, главным в диаде принципов
соборность — общественность, которые вкупе определяют существование социума. В результате, он порождает цельную социальную модель, на базе которой возможно, вообще говоря, развить всестороннее описание социальной реальности.
Энергийная же связь Бога и мира порождает совершенно иной дискурс, в котором проекция принципа соборности в социальную реальность также будет совсем иной. Энергии здешнего бытия образуют подвижное, постоянно меняющееся многообразие, и их направленность к встрече с энергиями Божественного бытия, их связь с этими энергиями также подвержены постоянным изменениям. Поэтому теперь принципы Божественного бытия не действуют как природные закономерности, как нормы и законы для эмпирических явлений и процессов и, в частности, соборность не может уже быть началом, с необходимостью подчиняющим себе «общественность». Соответственно, на основе соборности теперь нельзя построить и цельной социальной модели, охватывающей все аспекты социальной реальности. Отсюда нам открывается причина всех неудач приложения принципа соборности к дескрипции и анализу социума: во всех делавшихся попытках стремились именно к полной социальной модели, где соборность служила бы универсальным принципом, имманентной внутренней формой общества (как у Франка) и высшей нормой социального бытия. Однако ничем этим она не может служить.
При всем том, энергийная связь не менее реальна, чем связь эссенциальная, и в социальной реальности ей с необходимостью соответствует некоторый круг ее проявлений и отражений. Этот круг включает такие социальные явления, в которых присутствует устремление к соборности, тяга к ней; вспомним, что о. Георгий Флоровский говорил о «заблудившейся жажде соборности» — и тем подразумевал, что существует также истинная жажда соборности. Она может находить выражение в социальных и культурных практиках, стратегиях самого различного рода, но все они должны быть так или иначе причастны к стяжанию благодати, ибо приобщение к благодатному соборному бытию необходимо предполагает его. Но стяжание благодати — не социальная, а сугубо личная задача, личный духовный труд; и это означает, что социальные практики, питаемые «жаждой соборности», непременно включают в себя личностный аспект, личностное ядро. В терминах Франка можно сказать, что путь от общественности к соборности лежит через личность, через утверждение личного начала; и в этом проявляется принципиальное отличие соборности от коллективизма, всегда отмечаемое при анализе концепта соборности. В свою очередь, личностный аспект «практик соборности» предопределяет, что они должны в известной мере основываться на личном общении, которое следует рассматривать как их необходимый элемент.
Здесь у нас уже намечаются некоторые перспективы нового современного подхода к проблеме соборности в социальной философии. Мы не должны больше ставить задачу построения полной модели общества на базе принципа соборности, ибо соборность ни в каком смысле не является определяющим принципом социума. Но, хотя социальное бытие и не может быть описано посредством принципа соборности, оно может устремляться и восходить к соборному бытию Церкви, и в своем восхождении благодатно ему причаствовать. Поэтому в социальной реальности можно выделить особый класс практик, ориентированных к соборности, питаемых жаждой соборности. В число определяющих свойств этих практик входит, прежде всего, связь с религиозной сферой (практиками православной церковности) и наличие личностно–антропологического аспекта — ключевая роль личности и участие личного общения. Задачи нового подхода будут заключаться в характеристике этого класса, в описании и анализе входящих в него практик, а также, не исключено, и в изучении возможностей поддержки этих практик и создания новых «практик соборности».
Указанные свойства «практик соборности» дают понять, где можно найти их примеры. Как мы видели, тема о внесении начал соборности в жизнь общества много обсуждалась в России в пору Серебряного Века. Там явно была жажда соборности, как «заблудившаяся», так и подлинная; и если «заблудившаяся» находила свое выражение в феноменах революционного братства, в социалистических, анархистских коммунах, то подлинная создавала разнообразные практики «религиозной общественности» (очень популярный термин в ту пору). Стоит взглянуть под этим углом на культуру Серебряного Века, на процессы Религиозно–философского возрождения — и мы обнаружим там творчество соборности. Само понятие религиозной общественности несло в себе идею встречи, сопряжения, диалога религиозного и секулярного сознания, Церкви и общества, при их взаимной и заинтересованной обращенности друг к другу; и заинтересованная обращенность общества к Церкви рождала практики, ориентированные к соборности. В культурной сфере такою практикой можно, несомненно, считать знаменитые Религиознофилософские собрания в Петербурге в 1900-1902 гг. Другие примеры связаны с опытами воплощения в жизнь идеи «монастыря в миру», с древних пор жившей в православной — и, может быть, особенно в русской — религиозности, с возрождением старинной практики «покаяльной семьи» и др. Примеров можно найти немало, жажда соборности открывала для своего выражения богатство путей и форм.
Сегодня, однако, у нас другая эпоха; общество и человек культивируют совершенно иные практики. Однако мы видим, что жажда соборности выдержала испытание временем! и коль скоро она жива, она должна находить свое воплощение в некоторых социальных практиках. Наша задача — распознать, выделить эти практики в радикально изменившейся реальности Третьего тысячелетия, увидеть возможности их развития и приумножения. И здесь, анализируя социальную и антропологическую ситуацию наших дней, мы можем заметить, что есть известная общность и созвучность между идеями внесения начал соборности в социальную жизнь и современными установками постсекуляризма, или же постсекулярной парадигмы. Постсекуляризм констатирует, что сегодня уже до конца изжила себя длительная эпоха секуляризации — эпоха конфронтации и конфликта религиозного и внерелигиозного, секулярного сознания и вытеснения религии из всех сфер публичной жизни. Переход общества и сознания в постсекулярную парадигму предполагает смену конфронтации партнерскими отношениями, диалогом секулярного и религиозного сознания, предполагает, по часто употребляемой формуле, «возвращение религии» на сцену публичной жизни. И ясно, что с таким переходом открываются возможности для возрождения практик религиозной общественности и практик, стремящихся к соборности.
Но реализация этих возможностей требует немалых усилий. Идеи постсекуляризма начинали формироваться на Западе, такими виднейшими представителями западной культуры как философ Ю. Хабермас и папа Бенедикт XVI; и в дальнейшем они пока развивались также почти исключительно в западной культуре, а с религиозной стороны — в католичестве. Чтобы эти идеи были духовно плодотворны и в мире православной культуры, этот мир должен представить собственный взгляд на постсекулярную парадигму. Он должен наполнить ее собственным содержанием, создать собственные стратегии постсекулярного диалога. Это — большое задание, в нем творческий вызов современности православному разуму. Но при его выполнении откроются новые пути и в волнующей нас проблеме: происходящий в мире переход в постсекулярную формацию предстанет источником новых практик соборности; и в этих практиках, что будут строиться в рамках православного извода постсекулярного диалога, сможет возникнуть и
диалог соборности и демократии. В самом деле, соборность — из круга понятий религиозного сознания, демократия — из круга понятий секулярного сознания, и, стало быть, тема «соборность и демократия» может ставиться и рассматриваться именно как одна из тем постсекулярного диалога. Здесь неизбежны свои трудности: современная история демократии рисует нам политическую реальность, весьма чуждую соборности, и я с полным пониманием встретил в нашей программе доклад моего старого друга Мирослава Ивановича: «Соборность и демократия в несогласии». Но если мы верим в духовные ресурсы соборности, если мы в полной мере используем их, диалог соборности и демократии может породить иную, новую политическую и социальную реальность. Замечательный русский философ и правовед П. И. Новгородцев писал: «Демократия, как и всякая другая форма, может быть лучше или хуже в зависимости от духовного содержания, которое вкладывает в нее народ»
[17]. Народ — мы с вами, и ситуация открыта для нашего творческого усилия.
2012 г.
ИСИХАЗМ И ИМПЕРИЯ: ТАКИЕ РАЗНЫЕ СПУТНИКИ
«История Византии представляет две стороны, две совершенно противоположные стихии: одну — эллинско- христианскую… другую — римско-государственную… Обе участвовали в жизни византийской, созидая ее или губя, обе отозвались на Востоке после падения Византии и отзываются до наших дней».
Алексей Хомяков[1]
Этот краткий текст — не более чем отрывочные заметки, без всякого притязания на «охват» неохватной темы. Вдобавок, автор — не византолог, и права его высказываться на византийские темы вообще сомнительны. Однако уже и те отдельные стороны феномена Византии, с которыми сталкивали меня мои занятия в философии и антропологии, рождали любопытное, специфическое впечатление, которое я попытаюсь передать: впечатление, что этот феномен сегодня крайне актуален для нас, но в то же время — амбивалентен, так что его актуальность неоднозначна, она одновременно питает разные, едва ли не противоположные тенденции современной отечественной реальности.
Начну с предмета, наиболее мне знакомого в византийском мире. В моих исследованиях формаций личности, религиозных и антропологических практик я довольно систематически занимался изучением византийской мистико-аскетической традиции, исихазма. Как ныне признано и в научном, и в церковном сознании, исихазм — критически важное слагаемое феномена Византии, ядро и стержень византийской духовности, глубинная основа духовного и нравственного склада византийского человека. Что крайне существенно, эта роль или миссия исихазма не ограничилась собственно Византией, она перешагнула ее границы как в пространстве, так и во времени. Она была воспринята во всех частях Византийского Сообщества, ибо полноценные ветви исихастской традиции образовались во всех ареалах Восточного христианства, в том числе, и в России; специалисты иногда говорят даже, что исихазм обрел вторую родину на Руси. В историческом же измерении, исихазм пережил крушение Византии. В православных странах, которые на века оказались лишены независимости и государственности, исихазм стал одной из главных опор народного сознания, незаменимою частью тех внутренних ресурсов, защитных сил, которые помогали сохранить духовную и культурную идентичность. В дальнейшем и по сей день исихазм пребывал и пребывает живой традицией, что играет большую роль и в фонде исторической памяти православного сознания, и в кругу начал, формирующих и движущих это сознание.
Таким образом, исихазм — это, несомненно, актуальная часть византийского наследия; и есть целый ряд аспектов, в которых он актуален и ценен не только для России и Православия. Чтобы дать представление о многомерности явления и его значения, я укажу три различных аспекта, в которых современная актуальность исихазма проявляется во все более широком горизонте.
Поставим первым научный, достаточно узкий аспект. Уже немалый период исихазм выступает как обширное поле, на котором активно развертываются междисциплинарные исследования — исторические и патрологические, богословские и философские, психологические, культурологические… По существу, тут сложилась целая область науки с динамическим развитием, где получаемые результаты меняют состояние научного знания во многих сферах. Сложилось и многонациональное профессиональное сообщество, куда входили и входят многие выдающиеся ученые, гуманитарии и богословы не только из православных стран, но также и стран Запада. Со стороны Православия ряд открывают преп. Феофан Затворник и еп. Порфирий (Успенский), еще в XIX в., за ними могут быть названы еп. Василий (Кривошеин), прот. Иоанн Мейендорф, из Греции — митроп. Иерофей Влахос, иером. Феоклит Дионисиат, из Сербии — митроп. Амфилохий Радович, еп. Афанасий Евтич, из Румынии — о. Думитру Станилоаэ, архим. Иоаникие Балан… — можно было бы привести много еще имен. Что же до Запада, то стало уже традицией, что в круг ведущих авторитетов в изучении исихазма входят представители католической науки: сначала то был о. Мартин Жюжи, затем ему наследовали о. Ириней Осэр, кардинал Фома Шпидлик, а ныне такую роль играют о. Герхард Подскальски и проф. Антонио Риго. Наряду с отдельными исследованиями, осуществляются и большие проекты, объединяющие все научное сообщество: к примеру, уже около двадцати лет проводятся ежегодные конференции по православной духовности и аскетике в католическом монастыре Спаса Преображения в Бозе, на севере Италии. И в целом, деятельность этого сообщества — несомненный пример синергии, плодотворного сотрудничества на ниве византийского наследия.
Но, в известном смысле, такой научный аспект является только внешним: исихазм и византийское наследие выступают здесь лишь как объект изучения. Тем не менее, есть и многие стороны, в которых исихазм актуален и ценен самим своим существом, внутренним содержанием. Все в большей мере современный христианский мир открывает и признает, что многие существенные элементы молитвенной жизни христианина, церковного устроения, христианской этики имеют корни в православно-аскетической традиции, и сегодня эта традиция продолжает быть важным фактором в сохранении устоев христианского существования, христианской нравственной дисциплины и строя личности, движимого устремлением ко Христу. Здесь ценность и значение исихазма выходят за рамки Православия. Еще в постановлениях Второго Ватиканского собора говорилось, что «на Востоке процветала иноческая духовность…. которая стала своего рода источником латинских религиозных учреждений»
[2], то есть, если продолжить, и источником действующего устроения латинской церкви. Вслед за тем, папа Иоанн Павел II в энциклике «Свет с Востока» указывает на общехристианскую ценность самого принципа священнобезмолвия, на котором стоит исихазм. Энциклика утверждает: «Все мы нуждаемся в таком молчании, преисполненном ощущения благоговейного присутствия… Все, верующие и неверующие, нуждаются в том, чтобы научиться такому молчанию, которое позволяло бы Другому говорить… а нам понимать Его слово»
[3]. Подобные свидетельства говорят, что в современном мире исихазм действенно и успешно служит преодолению антивизантийского мифа. Он признается важною частью фонда непреходящих общехристианских ценностей, которые равно необходимы и в нашей сегодняшней христианской жизни; и это — новый, более широкий аспект актуальности исихазма.
Этот аспект ведет нас и еще дальше. В суждениях энциклики рядом ставятся верующие и неверующие, за исихазмом тут утверждается не только общехристианская, но и общечеловеческая, универсальная ценность. И современные исследования исихазма обнаруживают в нем все более значительное и разнообразное содержание, обладающее такой ценностью. В числе главных направлений этих исследований — исихастская антропология, раскрывающая, какой образ человека формируется в исихастской практике христоцентрического Богообщения, возводящего к обожению. Как здесь выясняется, в восхождении к обожению по знаменитой «Райской Лествице» исихастского опыта происходит личностное строительство, человек обретает личность и идентичность: конституируется. Иными словами, исихазм реализует определенную парадигму конституции человека — а именно, конституции на пути синергии и обожения, встречи и соединения с Божественными энергиями — и предстает, таким образом, как школа формирования личности. При этом, важно заметить, что в исихастской практике личность формируется полномерно, не только в индивидуальных, но и в социальных измерениях. На раннем своем этапе, в эпоху египетских Отцов-пустынников, исихазм должен был создать основу искусства Умного Делания, выработать тонкие методики концентрации внимания и непрестанной молитвы. Эти задачи требовали от аскета полной сосредоточенности на переустройстве «внутреннего человека», и для этого — абсолютного исхода из мира, отказа от всякого участия в социальной жизни. Но далее, с обретением зрелости в духовном опыте, происходит возврат аскета к общению и обществу, в одних случаях ограничивающийся сообществом монахов, но в других — включающий и выход в мирскую жизнь для помощи, научения, совета ближним. Здесь происходит своеобразная «исихастская социализация», при которой исихастские начала вносятся в межчеловеческие отношения, в социальные роли.
Исихастские модели личностного строительства и, в особенности, исихастские стратегии социализации весьма актуальны и ценны в наши дни. Современная антропологическая ситуация несет признаки кризиса, ибо человек неуправляемо меняется, и многие из идущих изменений выражают негативные тенденции. Человек развивает радикальные и экстремальные тренды, тренды, размывающие его идентичность (как в виртуальных практиках) или стремящиеся вообще отбросить ее (как в практиках, заточенных к Постчеловеку). В обществе разрушаются устоявшиеся типы и способы социализации, появляются новые, связанные с ведущими современными процессами — глобализацией, компьютеризацией, виртуализацией — и человек с беспокойством замечает, что эти новые механизмы социализации и коммуникации обедняют его личность и его отношения с другими людьми, заставляют его утрачивать свою человечность. В этих условиях, исихастские установки социализации, исихастские личностные практики открывают возможности противостояния кризисным тенденциям. Они способны доставить противовес рискам и вызовам современности — тенденциям виртуализации человека, перехода к Постчеловеку, обеднения и формализации общения. И это значит, что исихазм сегодня — это еще и важный духовно-антропологический ресурс, который мы находим в византийском наследии.
***
Но разговор о византийском наследии никак не может ограничиться исихазмом. Не только исихазм, но даже Православие в целом — лишь одно из крупных слагаемых феномена Византии — византийского сознания и византийского культурноцивилизационного организма. Организм этот изначально непрост, сложившие его факторы принадлежат разным мирам. Большинство описаний и обсуждений Византии начинается с указания трех ее фундаментальных составляющих — к примеру, так пишет Г.Острогорский: «Римская государственность, греческая культура и христианская вера суть главные источники византийского развития. Без любого из этих трех элементов сущность Византии немыслима»
[4]. Все эти три столпа Византии — совершенно разной природы и, разумеется, в византийской жизни они не существовали независимо и отдельно, но постоянно, сложно взаимодействовали меж собой. Нам сейчас наиболее существенны взаимоотношения первого и последнего, государственности и веры. Речь идет, конкретней, о римской имперской государственности; и она, в отличие от привычной нам европейской государственности Нового Времени, включает в себя даже не просто связь с религией, но мощную религиозную компоненту, как часть собственного внутреннего содержания. Начиная с Цезаря и особенно Августа, Империя обретает религиозную основу в виде особого
культа Императора, куда входит божественное почитание персоны Императора, клятва его гением, воскурение фимиама перед его статуей, строительство храмов в его честь, где ему приносятся жертвы… Участие в этом культе — главный гражданский долг подданного Империи. Это — идейное и сакральное ядро римской государственности, и оно прочно перешло в византийскую имперскую государственность. «Культ Императора — единственный античный культ, сохранившийся после официального принятия христианства при Константине I и Феодосии», — констатирует авторитетный «Словарь античности». Но этот государственный культ — ярко выраженный
языческий культ! Как таковой, он не может не расходиться с христианскою верой — и в итоге, два столпа Византии вступают в непростое, напряженное взаимодействие меж собой: вера стремится христианизировать Римскую Империю, Империя же, в свою очередь, стремится объязычить, паганизировать или точнее, в согласии с этимологией,
опоганить веру. Так фиксирует это обстоятельство Н.Н.Алексеев, крупный философ и государствовед из первой эмиграции: «В Византии… от столкновения евангельского учения с языческой государственностью произошла своеобразная равнодействующая»
[5]. Это довольно удачная формула, но далее, разумеется, надо раскрыть, какова же была эта равнодействующая.
Имеется изобилие фактов, черт, способных породить впечатление, что языческие элементы не только выжили, но и получили преобладание. Подобный взгляд был долгое время доминирующим в науке. Как отмечает крупнейший современный византист Ж.Дагрон, в его формирование главный вклад был внесен «римокатолицизмом, но не без помощи прогрессивного крыла русской православной мысли»
[6]. Не уходя в глубь времен, в качестве выразителя католического антивизантизма надо назвать, прежде всего, ученейшего М.Жюжи (1878–1954), российского же — Владимира Соловьева, который писал, не обинуясь: «Государство римско-византийское сохранило совершенно языческий характер, в нем не произошло решительно никакой существенной перемены. Нельзя указать ни одного сколько-нибудь значительного различия между государственным строем при язычнике Диоклетиане и при quasi-христианах Феодосии или Юстиниане»
[7] Такая позиция предполагала, что христианская Византия сохранила языческое обожествление Императора — чему находили богатые подтверждения в придворных церемониалах типа проскинезы (простирания ниц) и проч. — и очень естественно выводила к пресловутой концепции «цезарепапизма», согласно которой в Византии кесарь себя сделал «папой», Император узурпировал прерогативы главы Церкви — притом, при ее собственном благоволении и содействии. Концепция прочно закрепилась, а ярлык «цезарепапизм» надолго стал одним из самых расхожих и популярных в западном и прогрессистском дискурсе о Византии. Еще в «Очерках византийской культуры» (1919) почтеннейшего П.В.Безобразова, принадлежавшего к школе акад. В.Г.Васильевского, упоминается как нечто бесспорное «цезарепапизм, несомненно преобладавший в Византии» и утверждается, что «теория симфонии… заключает в себе скрытый цезарепапизм»
[8]; апологетами цезарепапизма автор представляет крупнейших канонистов Вальсамона и Хоматиана, св. Симеона Солунского…
И все же с развитием науки эта концепция была оставлена, а с нею и целый набор других антивизантийских «предрассудков», по выражению Ж.Дагрона; как он находит, привели к этому «вселенский дух и просто историческая объективность». Разумеется, столкновение религиозности христианской и языческой в конституции византийского государства — имелось, и отрицаться никак не может; однако «равнодействующая» этого столкновения на поверку оказывается иной. Современного научного анализа на базе полного корпуса данных не выдерживают ни представление об обожествлении персоны Императора (вопреки наличию императорского культа), ни утверждение о том, что Император себе присваивал иерейскую харизму (хотя постоянно случались ситуации, которые были на волос от подобного присвоения). Это тонкое «балансирование на грани» Дагрон передает фразой парадоксальной и мастерской: «Ни один византийский правитель не утратил разум настолько, чтобы провозгласить себя “императором и иереем”, однако ни один из них не переставал мыслить себя таковым»
[9].
Сейчас нас, однако, интересует не столько «преодоление предрассудков», сколько само содержание равнодействующей, истинные место и роль неискорененного язычества в византийской государственности (и других сферах византийского бытия). Пусть за императорским культом в Византии не стояло политической теологии, утверждавшей обоготворение Императора, как в языческих эллинистических монархиях; пусть не было и цезарепапистской узурпации. Но абсолютно невозможно отрицать религиозного, сакрального понимания феномена Империи! Вот уж за нею божественность утверждалась всегда и категорически, она сполна наделялась сакральною санкцией и сакральным закреплением. Уже в самом раннем очерке политической теологии Византии у Евсевия Кесарийского принималось, согласно Ж.Дагрону, что изначально, «в замысле божественного домостроительства Империя уже стала провиденциальным орудием человеческого спасения»
[10]. Аналогично пишет и С.Рансимен: Византия — это «империя, конституция которой была основана на чисто религиозном убеждении, что империя есть образ Царства Божия на земле»
[11]. И уже понятно отсюда, что «христианство освятило не столько личность императора как таковую, сколько его власть, место, и лишь в связи с этим — самого императора»
[12].
Итак, в политической теологии Византии имел место «примат идеи царства по сравнению с идеей царя»: центр тяжести, главная идеологическая нагрузка и главное сакральное обеспечение — не за Императором, а за Империей. Но вот что важно заметить и подчеркнуть: каким бы ни был предмет этого обеспечения, оно было сугубо языческим делом, хотя исполнялось средствами христианской обрядности и языком христианского учения. Ибо
христианская, евангельская религиозность не дает почвы не только для обожествления Императора, но и для сакрализации Империи, будь то в форме ее признания «образом Царства Божия» и «провиденциальным орудием спасения» или в форме Юстиниановой «симфонии». Так пишет о. Иоанн Мейендорф: «Как бы добросовестно ни читать Новый Завет, там не найти указания на… “симфонию” между Царством Божиим и “миром сим”; скорее — на напряженность между частными, неадекватными и неполными достижениями человеческой истории и абсолютной надеждой на иной мир, где Бог будет “всяческая во всем”»
[13]. Поэтому то «религиозное убеждение», на котором основана конституция византийской империи, есть в корне языческое убеждение; и нет недостатка в свидетельствах ученых — притом, разных конфессий и разных школ — приходящих к такому выводу. Вот выводы о. Александра Шмемана: «Обращение Константина не повлекло за собой никакого пересмотра, никакой переоценки теократического сознания Империи, а напротив, самих христиан, саму Церковь… в Империи заставило видеть богоизбранное и священное Царство… Теория Юстиниана укоренена в теократическом сознании языческой Империи, для которого государство есть священная и абсолютная форма мира, его смысл и оправдание»
[14]. Вполне созвучны им выводы Ж.Дагрона: «С язычеством… императорская идеология продолжала оставаться связанной… власть по-прежнему оставалась втайне языческой»
[15]. Без труда можно найти и другие подобные оценки.
Как легко понять, в этих оценках — двоякое суждение: не только о византийской государственности, но и о византийской религиозности. Религиозное сознание Византии, воспринимая влияние языческого теократического сознания, начинает «видеть в Империи богоизбранное и священное Царство»: иными словами, оно наделяет Империю статусом сакрального института, совершает сакрализацию Империи. Эту очевидность мы уже констатировали, но сейчас взглянем на нее со стороны структуры сознания: она значит, что в структуре византийской религиозности усиливается
установка сакрализации реальности (утверждения прямой причастности Божественному каких-то явлений или вещей мира сего). Данная установка — универсальная принадлежность религиозного сознания, но в разных его формациях она занимает очень разное место; и, в частности, одно из главных размежеваний между языческой и христианской религиозностью — именно в их отношении к сакрализации. Для краткости упрощая, можно сказать, что в язычестве это безусловно господствующая установка, но в христианстве она играет лишь весьма ограниченную роль: как
освящение, она участвует в конституции литургической сферы, и круг явлений, охватываемых ею, определяется Евхаристией и остальными таинствами Церкви, оставаясь в границах литургической реальности. В современной науке установка сакрализации в христианстве, как влекущая огосударствление Церкви, трактуется как одна из форм секуляризации. Так пишет Дэвид Мартин, автор авторитетного исследования «Религиозное и секулярное»: «Частичный перенос ауры сакрального с Церкви на монархию, а позднее — на нацию… указывает, что история сакрального отлична от истории христианства и даже противопоставляется ей — ибо христианство как движение в своих истоках… стремилось лишать ауры сакрального территории, города, королей и императоров»
[16].
Главная же, доминирующая установка христианства — в корне иная, она соответствует, на евангельском языке, «поклонению в духе и истине» (Ин. 4,24), всецелому устремлению человека к соединению со Христом в Духе Святом, к синергии и обожению, по православному учению. И вовсе не потому лишь мы начали обсуждение с исихазма, что это «мне лучше всего знакомо». Исихазм оттого и признан ныне ядром православной духовности, что исихастская практика создавалась с единственной целью добывания квинтэссенциального христианского опыта — опыта восхождения к обожению. Подвижники признаются подлинными носителями этого опыта, как в предшествующие эпохи — апостолы, а затем мученики. Хранимая и культивируемая в исихазме «установка обожения» отвечает аутентично христианской религиозности; тогда как установка сакрализации (которую следует отличать от укорененного в Евхаристии сакраментальнолитургического освящения) не передает уникальность и новизну Благой Вести, толкая византийское сознание назад, к язычеству.
Надо притом заметить, что, получая свободу, установка сакрализации отнюдь не ограничивается сферой власти и государства. Это — общая установка, определенный тип отношения к реальности, который может сказываться в любых сферах. На другом полюсе от высоких имперских сфер — повседневное существование человека, и здесь сакрализация тоже получила усиленное развитие. Произвольное расширение круга явлений, наделяемых причастностью Божественному, выражается тут, прежде всего, в разрастании, гипертрофии культового символизма, когда стремятся пронизать сакрализующим культом и ритуалом едва ли не весь порядок земного существования. И можно сказать, пожалуй, что по этому пути в России заходили дальше, чем в Византии. Славянство моложе эллинства, и тут ближе были пласты архаической, примитивной религиозности, для которой «все полно богов», а еще больше — бесов, и которой близка тенденция к тотальной сакрализации и личного, и общественного бытия. Эта тенденция рождает такие известные явления нашей духовной истории как «догматизация обряда», «сакрализация быта», «обрядоверие». В них пережитки славянского язычества получали христианское оформление и христианскую легитимацию от парадигмы сакрализации, пришедшей из Византии в составе транслированного на Русь Восточно-христианского дискурса. Стоглавый Собор 1551 г. всего более послужил догматизации обряда; и с нею в широком сознании поселилось прочное представление, что всякое изменение обрядности — ересь, измена вере. Поэтому через сто лет обрядовая реформа Никона вызывает истовый отпор и приводит к трагедии Раскола: как видим, эту трагедию приходится тоже отнести к воздействиям византийского наследия! Характерно, что в борьбе с Расколом властям пришлось сделать решения Стоглава секретными — так родился еще один стереотип, коренящийся в установке сакрализации и доживший до наших дней.
Что же до обрядоверия и сакрализации быта, то они сложили колоритную стихию народной жизни, которая умиляла бытописателей, а для многих ученых служила доказательством глубочайшей православности русского народа. Но эта стихия провалилась на историческом экзамене. За считанные годы — моментально, по историческим меркам! — Русь Православная стала СССРом, где православные были малозаметными гонимыми маргиналами, а миллионы прежних обрядоверцев обрели советское сознание, нередко и присоединяясь к гонителям. Свойства обрядоверческого сознания это неплохо позволяют. Если вера не имеет опоры в высших, интеллектуальных слоях сознания, эти слои нетрудно заполнить большевистской или иной идеологией, ясно доказывающей вчерашнему православному, что попы обманывали его.
Так постепенно мы возвращаемся к нашим дням и к главной теме об актуальности византийского наследия. Нет сомнений, с сакрализацией тоже связана самая высокая актуальность. «Отзываются в наших днях», по выражению Хомякова, и проблема христианской Империи, и формация религиозности, которая ограничивается обрядоверием и граничит вплотную с суеверием. Ущербность обрядоверческой формации не вызывает сегодня споров; однако совсем иное — в «имперском вопросе». Мы напомнили консенсус специалистов, говорящий, что Византийская Империя отнюдь не безоговорочно может быть названа «христианской империей»: она имеет религиозную конституцию, но соответствующая религиозность — языческой, а не христианской природы. В то же время, в своей теологии и идеологии она не желает этого признавать; напротив, она усиленно себя утверждает даже «христианнейшей». Расчленить это сращение, расцепить эти два пласта, две в корне разные формации сознания — даже в принципе невозможно. В.В.Бибихин фиксирует эту невозможность с полной четкостью: «Относительно едва ли не преобладающего числа византийских авторов и исторических лиц современному историку хотелось бы знать, были ли они истинно христианами или втайне язычниками. Дело не в нехватке исторического материала, а в том, что мы от себя навязываем византийцам вопрос, который они сами не спешили ставить и даже поставив решать»
[17]. И в итоге — практически вся византийская речь обретает «неисправимую двузначность всего говоримого». Гибридный и смутный, в высшей мере двусмысленный феномен!
Такова же и его роль в российской истории. Языческий культ государства, меняя обличья, становясь то ближе, то дальше от византийского прототипа, фальшиво объявляя себя то христианнейшим, то гуманнейшим, сопровождает всю историю нашего отечества.
Двусмысленно и то, как сегодня вновь вбрасывают этот прототип в общественное сознание, то исподволь, а то и прямо выдвигая его как образец в сегодняшних поисках новых ориентиров для российской государственности. Так пишет в своем послесловии к фундаментальному труду Ж.Дагрона его переводчик А.Е.Мусин: «Темы царя и Византии… подпитываются на самом высоком уровне. На поддержку этой идеи брошены киноиндустрия и помпезные конференции… Монархия остается вожделенной мечтой многих»
[18]. Естественно является мысль: не следует ли уйти совсем от этого мутноватого византийского наследия? не будет ли это прямее, смелее, чище?
«Иногда от постоянного всматривания в тайну России, от постоянного занятия большевизмом, в душе поднимается непреодолимая тоска и возникает соблазн ухода в искусство, философию, науку. Но соблазн быстро отступает. Уйти нам нельзя и некуда»
[19].
— Так заканчивает Федор Степун свои знаменитые мемуары «Бывшее и несбывшееся». Mutatis mutandis, и я скажу это о нашей теме. И феномен Византии, и феномен Империи со всем их язычеством неотделимы уже от судеб России, от русского христианства. За много столетий, в них вложен неизмеримый капитал — отнюдь не только иллюзорных и обманных теологий и технологий, но и честных попыток настоящего следования заявленным христианским ценностям. «В Византии искренне пытались создать христианскую человеческую общность, которая была бы созвучна небесной»
[20], - пишет сэр Стивен Рансимен, никак не склонный идеализировать Византию. Отыскиваемые сегодня модели и стратегии новой государственности должны учитывать историю и чувствовать органику российского государственного бытия; и стоит постараться, чтобы идеи и чаяния наших предшественников не были целиком отброшены как чистое заблуждение.
***
Что надо сделать — это даже довольно ясно. О. Александр Шмеман выразил задачу отчетливой формулой: «переоценка государства в свете христианского учения о мире»; и мы сегодня можем раскрыть эту формулу в ее философском содержании. Понятно, что государственная модель, в которой Империя мыслится как «подобие Царствия Божия на земле» и как «человеческая общность, созвучная небесной» (отсыл к Юстиниановой идее «симфонии»), связана не только с языческой теократией; она имеет философскую основу в платонической онтологии, предполагающей сущностную, эссенциальную связь мира с Богом. Но в православном богословии, эта связь — не по сущности, а лишь по энергии; и потому мы должны, в первую очередь, констатировать, что концепция христианской империи как богоустановленного, сакрально санкционированного государства идет вразрез с православным богословием энергий.
Данный вывод ставит нас сразу в новую ситуацию, открывает новое русло рассуждения. Мы понимаем, что, оценивая феномен Империи, а также и все другие византийские и восточно-христианские формации общества и государства, мы непременно должны обратиться к паламитскому богословию энергий как последнему зрелому этапу развития православной мысли. Расхождение этого богословия с имперским культом, различие их онтологических предпосылок — лишь первое наблюдение, надо идти глубже. Связь Бога и человека, ergo, Бога и мира, по энергии — специфический род связи, конституирующий иную реальность и иную процессуальность, динамику мирового бытия, нежели связь по сущности, предполагаемая античной мыслью, равно как и классической европейской метафизикой. Паламитское богословие совершило отказ от эссенциализма, «преодоление метафизики», в проблеме человека и личности, в сфере антропологии (хотя и здесь остается еще немало открытых проблем). Необходимо продолжить дело св.
Григория Паламы, распространив его энергийный дискурс, концепции богословия энергий на уровень социальной реальности, в область учения об обществе и государстве. Это — масштабная и нелегкая, глубоко творческая задача; но лишь на пути ее решения возможен основательный Государственный Проект для восточно-христианской цивилизации. Это путь кардинального, но конструктивного пересмотра имперских концепций. Напротив, все попытки их реанимации и внедрения в старом виде несут лишь фатальное повторение старой спеси и старых иллюзий, старой фальши, двусмысленности, умолчаний, манипуляций… — всего нашего «как всегда»!
Некоторые начальные вехи для открывающегося пути видны сразу. Как уже многократно отмечали, христианское учение о мире не может вести к сакральному обоснованию Империи; и ясно также, что энергийная связь мира и Бога не обеспечивает сакрализации вообще никаким мирским институциям в их статичном существовании; не доставляет она и обоснования Юстиниановой «симфонии». Но, с другой стороны, это содержательная связь, и она позволяет делать не только подобные негативные суждения. В согласии с нею, «симфония» невозможна, однако возможна синергия; невозможна «созвучность», однако возможно со-устремление. И это значит, что устроение социальногосударственной сферы, согласное с христианской энергийной икономией, не должно выражаться в сакрализации институций, но может выражаться в создании определенных социальных и государственных практик и стратегий, в содействии одним таким практикам и отказе от других, и т. п. Опыт такого рода исподволь возникал и в самой Византии в эпоху Исихастского Возрождения XIV в., и надо взглянуть заново на эту уникальную эпоху под данным углом зрения.
Весьма существенно также, что в религиозном сознании при этом уже не будет той давней двойственности и внутренней напряженности, которую порождала взаимная чужеродность исихастской установки обожения и установки сакрализации с ее языческими корнями. К исихастской аскезе мы вновь должны в заключение вернуться, чтобы вновь подчеркнуть ее ключевую роль как незаменимого источника подлинного христианского опыта. Черпать из этого источника, хранить с ним живую связь, ориентироваться на его ценности — единственный надежный способ обращения с колючим кладом византийского наследия.
2012
ИСИХАСТСКАЯ ФОРМАЦИЯ ТЕОЛОГИИ И ЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Хорошо известно, что в аскетической традиции Православия, исихазме, существует особое понимание богословия, которое сложилось в ней уже на самых ранних этапах ее истории, в 4 в. Согласно этому пониманию, богословие (речь о Боге, о Божественной реальности, «вещах Божественных», как говорили прежде) лишь тогда истинно отвечает своему имени, когда представляет собою прямую передачу, прямое поведание личного опыта самим человеком, который испытал этот опыт. Опыт же «вещей божественных», как говорит исихазм, становится достижим для человека на высших ступенях аскетического делания.
Исток подобного взгляда на богословие находится, однако, не в аскетике, а в патристике. Богословие отцов-каппадокийцев, весь их способ мышления, включали в себя существенный нравственно-аскетический компонент, идею о том, что Богопознание с необходимостью требует нравственно-аскетических предпосылок. С наибольшей определенностью эта идея выражалась у св. Григория Богослова. Как он писал, для занимающегося богословием необходима аскетическая жизнь, следующая определенному порядку восхождения, который передавался триадой начал: очищение – созерцание – богословие, katharsis – theoria – theologia. Но уже весьма вскоре ученик св. Григория Евагрий Понтийский переносит идею на почву исихастской аскезы, где она сразу же занимает место более значительное, чем в патристике, усиливается и заостряется. Став первым систематизатором аскезы, Евагрий отчетливо проводит идеи св. Григория. Путь духовного восхождения в аскетическом делании разделяется им на два большие этапа, Praxis и Theoria, деятельность и созерцание, очевидным образом соответствующие очищению и созерцанию у Назианзина; в широком смысле, главное содержание Praxis, покаяние и борьбу со страстями, можно рассматривать как очищение. (Заметим, что концепт созерцания влечет активные коннотации с другими духовными традициями и с философией, где он несет совсем иной смысл, нежели в исихазме; и потому в исихастской литературе часто предпочитают сохранять греческую кальку, «Феория».) Прохождение этих этапов принимается в качестве необходимой предпосылки богословствования. Высшая стадия практики, Феория, соотносима с Боговидением, и Евагрий утверждает: «Кто не видел Бога, не может и богословствовать» (Гностические главы). В известнейшие основоположения исихастской аскезы вошло другое утверждение, сделанное им в знаменитом трактате «О молитве»: «Если ты богослов, то будешь молиться истинно, а если истинно молишься то ты – богослов». (гл. 61). Так закладывается фундамент исихастской трактовки богословия.
В дальнейшем, эта трактовка достигает достаточной отчетливости. Предполагается, что с достижением области Феории подвижник делается открытым для благодати, для встречи с Божественными энергиями, и в Божественных энергиях, в Духе Святом он приобщается ко Христу. Если не все, то некоторые, кому довелось испытать этот опыт Богообщения, оказываются способны его сохранить и выразить, поведать другим. Отсюда идет, в частности, типичное для исихастских трактатов название «Деятельные и богословские главы»: в содержании таких трактатов рассказ об опыте Praxis последовательно переходит в рассказ об опыте Theoria, опыте Богообщения, что, согласно аскетической позиции, и есть богословие. Это опытное понимание богословия – нередкая тема в исихастской литературе. После Евагрия, мы находим ее у Диадоха Фотикийского, в «Лествице», у Максима Исповедника и так далее. При этом, у преподобного Максима и у Лествичника встречается и такой своеобразный мотив «от противного»: рассуждения о Боге, которые лишены опытного основания, сии отцы называют «богословием бесов». Например, Максим в письме к монаху Марину говорит так: «Знание тех, кто им кичится без делания, есть богословие демонов».
[1] Отражением этого понимания – причем не только уже в аскетическом, но и в общеправославном сознании – является и присвоение преподобному Симеону имени Нового Богослова: нельзя не признать, что все богословствование преподобного есть именно – прямое поведание испытанного им опыта. Палама практически отождествляет богословие и Феорию. Позднее, через посредство «Добротолюбия», данное понимание переходит и в исихазм двух последних столетий, времени Филокалического возрождения. И уже в наши дни его вновь и со всею определенностью утверждает и закрепляет архимандрит Софроний (Сахаров). В числе многих его речений на эту тему есть, например, такое: «Богословие не есть домыслы человеческого ума-рассудка или результат критического исследования, а поведание о том бытии, в которое действием Духа Святого человек был введен».
[2]Следует подчеркнуть, что описываемая позиция аскетической традиции вовсе не сводится к заявлениям о том, каким должно быть богословие. Эта позиция не декларативна, а конструктивна: в обширнейшем корпусе исихастских текстов существует и богатое собрание трудов на богословские темы, включая и немалый набор таких, которые уже в самом названии обозначаются как богословские (как, скажем, упоминавшиеся «богословские главы» различных авторов – Максима Исповедника, Иоанна Карпафского и др.). В данном собрании перед нами налицо основательный фонд «исихастского богословия», и это богословие предстает в нем как самостоятельная и оригинальная богословская формация.
Как уже сказано, определяющее отличие этой формации – ее строго опытный характер, опытная природа богословия. Но эта черта не означает, что исихастское богословие – чисто эмпирический дискурс, ограниченный простым описанием данных опыта. Оно не могло бы являться таковым, даже если бы стремилось к тому, ибо опыт, требующий передачи, в нем крайне специфичен: это – внутренний опыт, духовный опыт, на высших ступенях аскезы – опыт мистический, и его выражение ставит целый круг проблем. Поэтому даже в начальный период, в эпоху отцов-пустынников, исихастский дискурс, каким он дан, прежде всего, в «Апофтегмах», лишь на поверхностный взгляд может показаться чистой и наивной эмпирикой, рассказами разных случаев из быта отшельников. В действительности же, перед нами – притчи, каждая из которых точными и скупыми средствами доносит определенную «единицу смысла», связанную с аскетическим деланием. В дальнейшем же, в период зрелого византийского исихазма, аскетика становится не чуждой рефлексии и даже аналитического разума. Исихазм создает цельный свод своих правил или же органон, в классическом аристотелевском смысле этого понятия, который включает собственную методологию и герменевтику, собственный аппарат организации и проверки аскетического опыта. Исихастская критериология – это обширный комплекс разнообразных процедур, которые критически поверяют подлинность всех опытных феноменов, возникающих в ходе исихастской практики. Определенная часть этих процедур проводит проверку опыта, выходя за пределы самой сферы практики и рассматривая опыт в перспективе Писания и Предания.
Выстраивая органон своего опыта, исихастское богословие одновременно формирует определенные дискурсивные связи. С одной стороны, оно, как видим, интегрируется в сферу церковного и соборного знания и разума, укореняется в Писании и Предании, в патристике. Стоит подчеркнуть, что связи с греческой патристикой были в нем изначально, и в диаконском рукоположении Евагрия Понтика св. Григорием Богословом можно видеть своего рода символическое выражение их. Они носили обоюдный характер: как правило, православные Отцы Церкви, от святого Василия Великого до Максима Исповедника и Паламы, были искушены в аскетике. Они твердо признавали личный молитвенный и аскетический опыт необходимой предпосылкой и глубинной питающей основою богословствования. Прочную связь аскезы и патристического богословия закрепляет наличие у них особого пункта встречи: обожение, theosis, к которому направляется исихастская практика, одновременно является и предметом богословия. В силу этой двоякой природы, обожение выступает как соединительное звено, топос, в котором сближаются и сходятся сферы подвига и святоотеческого учения, аскетики и патристики. Эта тесная органическая связь, в которой достигается синтез двух сфер, – важное типологическое отличие богословского способа православия, который может быть охарактеризован как патристико-аскетический дискурс.
С другой стороны, рефлексивная проработка исихастского опыта в его органоне создает почву общности исихастского богословия с философией, а наиболее близким образом – с феноменологией. Нетрудно увидеть общие черты в их отношении к опыту, в эпистемологических установках. Как исихазм, так и феноменология Гуссерля утверждают свою приверженность почве опыта и исключительную сосредоточенность на дескрипции опыта. В то же время, они отнюдь не стоят на позициях эмпиризма, но производят углубленную рефлексию своего опыта и тщательно структурируют, организуют его, выстраивая определенные формации сознания (структуры интенциональности и ноэзиса – в феноменологии, конфигурации энергий, отвечающие Лествице духовного восхождения, – в исихазме). Но, как я показал в книге «К феноменологии аскезы» (М., 1998), общность идет и много глубже. Исихастское сознание, выстраивая ступени Лествицы, проводит ограничение своего горизонта миром опыта аскетической традиции, помещает себя в перспективу этого мира, отсекая, «беря в скобки» все воления и все предметы, не входящие в Универсум Традиции: и это, очевидным образом, значит, что в исихастской практике осуществляется аналог феноменологической редукции.
Дальнейшие общие элементы мы обнаруживаем уже на конкретных стадиях исихастского восхождения. Упомянем сейчас лишь самый важный из них: полное сходство интенциональности с исихастской установкой трезвения (nepsis). На центральных, средних ступенях Лествицы у подвижника формируется специфическая структура сознания, способная стать ключом, наличие которого сообщает восхождению по ступеням беспрепятственный характер; и с появлением этого ключа подвижник вступает на высшие ступени, что выводят на подступы к обожению. Эта структура представляет собой прочное соединение, сцепление двух активностей, внимания, или же трезвения, и молитвы. Молитва (исихастская непрестанная молитва) – ведущее слагаемое, именно в ней сосредоточена восходящая способность и сила. Но роль внимания (трезвения) также критически важна. Только оно может создать условия для непрестанной молитвы: сосредоточив внутреннее зрение на процессе молитвы, исихастское трезвение бдительно охраняет этот процесс, отсекая с порога все внешние вторжения и пресекая в зачатке все чуждые, отвлекающие импульсы и помыслы. Это весьма сложная функция, и трезвение получает в исихазме особый статус: это не столько отдельная активность сознания, сколько специальное состояние или модус последнего, который соединяет в себе целый ансамбль активностей (впрочем, как ниже увидим, термин «активность» здесь не точен). Исихастское «сознание в модусе трезвения» включает в себя: внимание (членимое на ряд видов: внимание ума, сердца, внимание к себе и др.), память (также членимую – памятование о Боге, память смертная, память о грехах своих...), самонаблюдение, различение (diacrisis), хранение или стражу ума и – отдельно – сердца, бодрствование, бдительность, «внутрь-пребывание» (особый род интроспекции, термин св. Феофана Затворника), сердечное безмолвие (hesychia), чистоту сердца. В этом многообразии можно выделить порождающее ядро, которым обеспечивается главное назначение модуса трезвения – прецизионно сфокусировать сознание на определенной конфигурации энергий человека, которая соответствует непрестанной молитве, и тождественно сохранять, воспроизводить эту конфигурацию. Параллель трезвение – интенциональность полностью ясна отсюда. Интенциональность есть также не отдельное свойство, но определенный модус сознания, который, по Гуссерлю, содержит в себе богатый набор интенциональных предикатов: Abzielen, Erfassen, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit u.s.w. Нетрудно найти соответствие всем этим предикатам в модусе трезвения; и стоит также добавить, что, наряду с другими общими свойствами, трезвение и интенциональность разделяют и такую характерную особенность как преодоление Аристотелевой оппозиции активности и пассивности: они представляют собой бдительную готовность к действию, алертность и собранность сознания, нацеленного на определенный предмет. Но в исихастской практике этот «интенциональный предмет» таков, каким его никогда бы не выбрала феноменология: исихастское сознание осуществляет интенцию на непрестанную молитву. И дело отнюдь не только в религиозно-мистической природе предмета: собрание энергий молящегося человека – подвижная, постоянно меняющаяся конфигурация энергий, притом включающая, помимо интеллектуальных, также эмоциональные и телесные энергии; и подобный интенциональный предмет неизмеримо сложнее всех, что когда-либо рассматривались в феноменологии. Феноменологические техники переносятся здесь на область предельного антропологического опыта.
Итак, хотя исихастское сознание и феноменологическое сознание работают в разных опытных горизонтах, однако за счет общих принципов примата опыта и строгой проработки опыта, за счет общего внимания к технике контроля и фиксации содержаний сознания, они приобретают ряд общих трансцендентальных структур. Исихастское же богословие обретает дискурсивную связь и близость к феноменологии.
Другая дискурсивная и концептуальная связь исихастского богословия, еще более существенная, находится на поверхности: развиваясь в контексте аскетической, ergo, антропологической (хотя также и мета-антропологической) практики, это богословие не может не иметь прямой близости к антропологии. Будучи интегрированы в такой контекст, богословские проблемы и концепты с неизбежностью опосредуются антропологическим опытом; и потому исихастское богословие есть внутренне антропологизированное богословие, которое уже в своей структуре и аппарате понятий несет связь с антропологическим дискурсом.
Но тема «богословие и антропология» сегодня имеет весьма насыщенную историю, в свете которой установка антропологизации богословия вызывает в Православии сомнения и вопросы. Порождаются они тем, что связь богословия с антропологией выдвигалась на первый план, прежде всего, в протестантстве, где давно сложилось широкое и влиятельное русло антропологизации богословия; и богословские установки в этом русле, как правило, расходятся с православными позициями. Корень расхождений прост и прозрачен: в протестантских стратегиях антропологизации православное сознание обычно видит редукцию богословия – тенденцию к снижению роли Откровения и догматов, к урезанию или полному отсечению всех аспектов, выражающих мистическую жизнь Церковного Тела и каждого христианина. К такому взгляду есть основания. Нельзя отрицать, что на все русло протестантской антропологизации богословия оказала самое сильное, стойкое влияние философия Фейербаха. Именно она содействовала объединению всех разнообразных антропологизирующих проявлений в протестантстве; в известной мере, она задала матрицу протестантского типа антропологизации: матрицу, в центре которой знаменитый фейербаховский тезис: «Вся тайна и подлинный смысл теологии есть антропология». Конечно, концепции, остававшиеся в границах христианского вероучения, не проводили вполне «антропологизации по Фейербаху», означавшей уже не столько редукцию, сколько полный разрыв с этим вероучением. Но вектор, сформированный купно Шлейермахером, школой исторической критики, Фейербахом, всегда сохранял влияние и силу, и те или иные проявления редукции легко отыскать во всех без исключения протестантских опытах антропологизации богословия. Это верно, в частности, и для самого популярного из таких опытов, экзистенциальной теологии Бультмана: лежащая в ее основе концепция демифологизации решительно редуцирует множество существенных содержаний христианского опыта, как соборного, так и аскетического.
При всем том, православное богословие в целом не отвергает установки антропологизации. О. Иоанн Мейендорф писал: «Теперь стало уже общим местом утверждение, что богословие в наше время должно стать антропологией. Православный богослов может, и даже должен принять диалог на такой базе при условии, чтобы с самого начала принято было
открытое воззрение на человека».
[3] Это его высказывание имеет прямое касательство к нашей теме. О. Иоанн – крупнейший исследователь византийского богословия и исихазма, и можно с уверенностью сказать, что под «открытым воззрением на человека» он понимал то православное воззрение, которое видит природу человека не замкнутой в себе, но размыкающейся в восхождении к обожению, делающей себя открытой навстречу Богу. Такое видение человека утверждается в патристике и воплощается на практике в православной аскезе, в исихазме. И в свете этого, позиция Мейендорфа означает, что обсуждаемое нами исихастское богословие, которое мы квалифицировали как «внутренне антропологизированное», несет в себе антропологизацию богословия иного типа, не связанную с редукцией догматических и мистических содержаний богословия. Действительно, опыт исихастской практики есть опыт онтологической открытости, опыт человека, который открывает, размыкает себя навстречу Богу. Богословие и антропология здесь достигают взаимного равновесия, они друг к другу взаимно обращены и обоюдно служат непрерывным продолжением друг друга. И за счет этого, в исихастском богословии реализуется стратегия антропологизации богословия, принципиально отличная от протестантского русла и чуждая редукции богословия.
Можно подвести итог. «Исихастское богословие» обрисовалось у нас как определенная богословская формация, специфическими чертами которой служат прямая опора на исихастский опыт, последовательная (но не редуцирующая догматико-мистические аспекты) антропологизация и эпистемологический аппарат, близко родственный феноменологии. Нельзя не согласиться, что это – оригинальный набор свойств, создающий глубокие отличия от обычной формации богословия как определенной школьной, теоретической дисциплины, которая главным образом занимается всевозможными рассуждениями и построениями на базе догматов Церкви и основных вероучительных положений. Однако необходимо учитывать, что этот традиционный, «классический» тип богословия, по типу дискурса и природе понятий соотносимый с классической метафизикой, вместе с последней давно уже испытывает кризис, и в богословской мысли происходят активные поиски и попытки обновления. В контексте этого богословского поиска, особенности исихастского богословия должны привлекать к нему внимание.
Прежде всего, подобный тип богословия – богословие, передающее живой религиозный опыт, использующее язык практик, – актуален сегодня как реальная возможность ухода от языка отвлеченных категорий старого школьного богословия. В таком богословии, на почве опыта и на языке практик, иначе ставится, в частности, актуальнейшая проблема отношения к Другому – проблема выстраивания отношений богословия и православного сознания с сознанием секулярным, иноконфессиональным и иноверным. Уход от отвлеченных категорий означает здесь уход от идеологического дискурса, выстраивающего отношение к Другому посредством бинарных оппозиций, полярных противопоставлений и идеологических конфронтаций; принцип примата опыта указывает возможность замены этого дискурса диалогом практик, что исходят из разной опытной почвы и, храня верность своему опыту, в то же время сопоставляют его с опытом Другого практически, а не идеологически. Здесь открывается возможность феномена, который я описывал, дав ему название «встречи на глубине». Это – феномен возникающего расположенного взаимопонимания и неформализуемого, нерегламентируемого обмена опытом между разными духовными традициями. В идеологическом плане, по отношению к Другому в религии и вере отнюдь не возникает участного сознания, но в плане духовных практик такое сознание способно возникнуть. Из глубины моего опыта, благодаря его глубине и подлинности, я способен ощутить и удостоверить подлинность опыта Другого. И тогда складывается ситуация, в которой глубокие различия становятся побуждением не к враждебности и конфликту, но к взаимной заинтересованности и взаимному расположению, стоящим на признании подлинности опыта Другого.
«Внутренняя антропологизированность» исихастского богословия создает предпосылки его приложения и к другой актуальной сегодня проблематике, персонологической. Кризис концепции Декартова субъекта и шире, классической европейской модели человека обратил европейскую мысль к поискам новых модусов субъектности и новой парадигмы конституции человека. Но духовная практика – и, в частности, исихазм – есть именно
конститутивная антропологическая практика, ибо в ней формируются структуры личности и идентичности человека. При этом, реализуемая в ней парадигма конституции человека является заведомо неклассической, поскольку не опирается на понятие сущности человека, лежащее в основании классической модели. В свете этого, раскрытие парадигмы конституции человека, заложенной в исихастской практике и реализуемой в восхождении по ее ступеням, составило бы ценный вклад не только в исихастское богословие, но и в решение проблемы отыскания новых модусов субъектности – проблемы, насущность которой сегодня быстро растет. Но пока в изучении личностных структур, конституируемых в исихастской практике, сделаны только первые шаги.
[4]Можно констатировать, что сегодня исихазм – и, в частности, «исихастское богословие» – отнюдь не только древнее наследие, изучаемое современной наукой. Налицо значительные примеры плодотворного развития исихастского богословия современными представителями традиции. В трудах игумена Софрония (Сахарова, 1896-1993) классические предметы исихастского опыта представлены заново на языке современного сознания, притом с особым вниманием к опыту высших ступеней аскезы, Богообщения и приближения к обожению: здесь перед нами доподлинное исихастское богословие ХХ века, столь же твердо как прежде стоящее на почве опыта подвига. Для трудов же митрополита Каллиста (Уэра), присутствующего на нашей конференции, характерно особое внимание к исихастской парадигме возврата, согласно которой подвижник-исихаст, по достижении искушенной зрелости в подвиге, вновь обращается к миру и обществу для помощи им на путях духовного наставничества, просвещения исихастским опытом. Выражая эту установку возврата, его труды часто обращаются к насущным проблемам мирского разума и современного общества, вбирая их в орбиту исихастского богословия.
Образцовым примером, который мы кратко обсудим в заключение, может служить его известная работа «Молиться телом: исихастский опыт и не-христианские параллели»
[5] Современная культура испытывает огромный интерес, усиленную тягу к проблематике тела и телесности человека, и обращение митрополита Каллиста к этой теме – явный пример его «установки возврата». В старом богословии осмысление телесности принимало бы форму «теологии тела», одной из типовых «частных теологий» в эссенциальном богословском дискурсе. Здесь тело и телесность выделяется как отдельный изолированный предмет, и «теология тела» строится стандартным образом как составление и последующий анализ фонда скриптуральных, догматических, патристических и аскетических источников, говорящих о сем предмете. Но в обсуждаемой работе никакой изолированной «теологии тела» отнюдь не строится. Богословский дискурс тела возникает как органическая часть, аспект антропологического, или антропологизированного богословия, которое описывает актуализацию конститутивного отношения Человек – Бог в комплексе практик; и он представляет собой феноменологическую и аналитическую дескрипцию опыта этих практик.
Как нам представляется, этот пример хорошо демонстрирует как свойства исихастского богословия, так и его перспективность в современной духовной и научной ситуации.
КАРСАВИН И ВРЕМЯ
Время единственное, что вне нас не существует. Оно поглощает все, существующее вне нас.
Тут наступает ночь ума. Время всходит над нами как звезда.
Александр Введенский.
Доклад на Конгрессе, посвященном 120-летней годовщине дня рождения и 50-летней годовщине кончины Л.П. Карсавина, Вильнюс, декабрь 2002 г.
I. Человек существует в многомерном Универсуме Времени. Жизнь каждого из нас — история наших отношений с Временем, непрерывных, не прекращающихся даже во сне, и столь же многообразных, многомерных, как и сама стихия Времени. Опыт человека включает в себя многие виды и формы темпоральности, и в совокупности этих форм есть некоторый порядок, отражающий строение самого опыта. Наш опыт построен иерархически: он образует пласты, горизонты, идущие изнутри, из глубины человеческого существа и устройства, — наружу, к внешнему миру; и в разных горизонтах этой восходящей структуры конституируются разные формы темпоральности: от «внутреннего времени», детально изученного Гуссерлем и связанного с нейрофизиологией нашего существа, со структурами памяти, ко времени историческому, и еще далее — к физическому и космологическому времени, к формам, которые мы считаем уже вполне независимыми от человека. Рефлексия этого сложного опыта темпоральности — вечная тема человеческой мысли, и это — одна из самых трудных тем; как замечал уже блаженный Августин, время обладает особою способностью противиться своему захвату и удержанию в фокусе нашего познающего сознания.
Лев Платонович Карсавин с полным правом может быть назван философом времени. Все знают, что он углубленно занимался историей и философией истории; но, взглянув ближе, мы убеждаемся, что предметом его философской рефлексии было не только историческое время, но также и все другие измерения Универсума Времени. Уже в ранней «Философии истории» (1920-22, опубл. 1923) развиваемая им теория отнюдь не есть одна лишь теория исторических процессов. В ее основание автор полагает концептуализацию или конституцию исторической формы темпоральности, и нетрудно увидеть, что эта конституция включает в себя реконструкцию генезиса исторического времени из более внутренних, интериоризованных темпоральных форм, из личного психологического времени. Именно этот анализ сопряжения, взаимного перехода различных темпоральных форм приводит философа к центральной и ключевой для него концепции всеединства; и первой репрезентацией всеединства в философии Карсавина становится репрезентация темпоральная: всеединство как всевременность. На следующем этапе верховным принципом карсавинской философии, а также и главною репрезентацией всеединства, делается начало личности. В соответствии с этим, время теперь конституируется личностью, темпоральность интегрируется в икономию личного бытия — и легко согласиться, что здесь происходит дальнейший шаг к интериоризации трактовки времени.
С этим зрелым этапом философии Карсавина мы знакомы по его лучшим и наиболее известным трудам, «О личности» (1929) и «Поэме о смерти» (1931). Однако от создания этих трудов до трагического лагерного финала биографии философа (1949-52 гг.) прошло еще не так мало лет, и в эти годы мысль его продолжала развиваться. К сожалению, он уже больше не выпустил философских книг, и этот период его творчества пока весьма плохо известен нам. Однако в архивах Литвы сохранились ценные тексты, которые еще ждут исследователей. Один из этих текстов, незаконченная монография на русском языке, писавшаяся уже после Второй мировой войны, целиком посвящен проблеме времени. Сохранившаяся рукопись не озаглавлена автором, и по ее главной теме, я буду называть ее «К метафизике всевременности». В годы перестройки копия этой рукописи достигла Москвы, и я начал подготовку ее к изданию; но издательский проект, к сожалению, остался незавершенным. Знакомство с текстом рукописи показывает, что наметившаяся тенденция ко все более внутренней, интериоризованной трактовке времени сохранилась у философа до конца. Об этом свидетельствует уже то, что специальный раздел книги отведен темпоральности у Пруста, который представил в своей прозе, быть может, самый грандиозный проект и опыт превращения времени в чисто психологическую, интимно-личную стихию; причем все определяющие черты прустианского восприятия времени Карсавин находит в полном согласии с собственными позициями. Тем самым, этот его поздний, заключительный опыт исследования времени утверждает время наиболее интериоризованное, наиболее окрашенное, окачествованное свойствами и предикатами человеческого существования. И в итоге, эволюция видения времени у Карсавина предстает как интровертное, обращенное внутрь движение: все большее внедрение времени, вместе с его корнями и со всей конституцией, в глубину человеческого существования. Для сравнения стоит вспомнить Хайдеггера, современника Карсавина и великого философа времени: его эволюция шла в обратном направлении, от предельно «очеловеченного», интериоризованного времени экзистенциальной аналитики «Sein und Zeit» — к поздней трактовке времени, уже гораздо менее интегрированной в конкретную фактуру существования человека.
II. Главная цель моего доклада — анализ концепции времени в работе «К метафизике всевременности». Поскольку работа не опубликована
[2], начать следует с ее краткой характеристики. Имеющаяся у меня фотокопия авторской рукописи содержит 243 стр. и, судя по содержанию, на этих страницах замысел автора еще только разворачивается. Мне неизвестно, были ли написаны и сохранились ли какие-либо дальнейшие части работы, однако в вильнюсском архиве, где находится рукопись, согласно описанию архива, их нет. Отдельные темы и общее направление дальнейшего уясняются по замечаниям в тексте, но полные очертания замысла едва ли можно восстановить. Зато уверенно восстанавливается время написания, ибо в тексте мы видим две внутренние датировки. В одном месте Карсавин говорит, что определенные идеи он развивал
«в прерванной пока что вмешательством чекистов «Метаистории»» (2-28)
[3] . Это важное замечание сообщает, во-первых, что прежде данной работы писалась и не была завершена другая работа, «Метаистория», сегодня неизвестная нам (возможно, что речь идет о литовской «Метафизике истории», находящейся в вильнюсском архиве). Во-вторых, время написания определяется отсюда как период до ареста философа, но уже с влиянием чекистов на его творческие планы, т. е. период с 1944 по 1949 г. Другое замечание решает вопрос полностью: Карсавин говорит, что в момент писания ему 65 лет, тем самым, указывая на промежуток с декабря 1947 по декабрь 1948 г. — В итоге, мы заключаем, что текст писался философом в 1947—48 гг. и, возможно, до самого своего ареста в июле 1949 г.
Рукопись содержит 9 разделов с последовательным ходом изложения, идейным стержнем которого служит концепция времени как всевременности. В главных чертах, концепция описывается в разделе 1 и затем иллюстрируется в разделе 2 на примере творчества М. Пруста (этот раздел, единственный из всех, имеет авторское название: «Опыт всевременности у М.Пруста»). В дальнейших разделах концепция развивается и углубляется, и параллельно с ней появляются другие темы, так или иначе связанные с темой времени и карсавинским понятием всеединства: тема памяти и воспоминания, аналитика пространственности, идея совершенства, метафизика смерти. В последних разделах 8, 9 возникают новые большие темы, метафизика истории и эпистемология, исследование основных философских категорий, начиная с категории понятия. К концу текста они успевают получить лишь беглое обсуждение; и мы заключаем, что, по всей видимости, в наличной части книги замысел автора еще далек от полной реализации. Из общих особенностей текста надо еще отметить странное для Карсавина отсутствие выходов в богословскую тематику и понятий христианской мысли, даже понятия триединства, всегда столь важного для него. Причина этого может быть как внутренней, так и внешней: возможно, богословские темы лишь откладывались до будущих разделов (некоторые указания на это есть в тексте), а возможно, философу приходилось учитывать обстановку, включавшую присутствие и внимание «чекистов».
***
С самого начала, карсавинская трактовка времени индивидуальна и специфична, за счет своей интеграции в его теорию всеединства. Прежде всего, философ отбрасывает понятие времени и сам термин «время», поскольку они предполагают время отвлеченное и независимое от человека, время Ньютона и Лейбница. Согласно Карсавину, время существует лишь как аспект или на его языке, качествование субъекта, Я, который рассматривается как конкретное всеединство. «Времени нет: оно лишь ошибочно ипостазируемое нами отвлеченное понятие временности нашего Я… Временность — такое же качествование нашего Я как его пространственность, и есть само это Я» (18). Отсюда видно уже, что фундаментальным исходным положением, определяющим все главные черты концепции времени, является у Карсавина не какой-либо тезис о времени как таковом, но тезис о Я как всеединстве. Данный тезис выступает в философии Карсавина не как произвольный постулат, но как опытный вывод из наблюдения работы сознания и преимущественно, самонаблюдения. Такой вывод получен в его книгах несколько раз, начиная с «Философии истории», и в данном тексте он лишь бегло повторяет нить аргументов. Будучи всеединством, Я сохраняет конституцию всеединства и в любом своем качествовании, т. е. является единством всех элементов или моментов данного качествования; причем, по карсавинской трактовке всеединства, это очень специфическое единство: оно представляет собой сложную иерархию моментов разных порядков, которые все связаны друг с другом через посредство центра и взаимно, хотя и несовершенно, содержат друг друга.
Последовательно прилагая эти общие свойства всеединства к временному качествованию, Карсавин и строит свою концепцию времени. Но, прежде чем переходить к ее конкретному изложению, — помедлим, задержимся — и усомнимся. У нас наметилась очень простая логика: философия Карсавина — философия личности и всеединства, личности как всеединства; у всеединства множество разных качествований, и среди них темпоральное качествование, (все)временность; соответственно, карсавинская концепция времени — один из множества аспектов, или проекций, или, если угодно, одна из частностей его общей концепции всеединства. Всеединство первично — время вторично, как выразились бы в эпоху диамата. Однако не та ли здесь простота, которая хуже воровства? Если всё так — нет ровно никаких оснований для нашей исходной формулы: Карсавин — философ времени. Однако основания для формулы есть, и кроются они в том, что временность и всевременность — отнюдь не рядовое, а уникальное и особое качествование всеединства. Выше мы сказали уже: сам концепт всеединства возникал у Карсавина на базе анализа темпоральности — темпоральности сознания. К этому можно добавить, что и в дальнейшем, когда философ усматривает и анализирует всеединое строение Я, личности, познания и проч. — в основе его усмотрений неизменно лежит именно темпоральное измерение соответствующих репрезентаций всеединства. Это позволяет нам заключить, что у Карсавина, вопреки внешней логике его изложения, специфический структурный принцип всеединства индуцируется строением темпоральности. Это не противоречит тезису о «несуществовании времени»: да, отвлеченного времени отнюдь нет, однако всевременность — не обычное, а порождающее качествование, она выступает как источник, как производящий принцип структуры всеединства. И коль скоро во всевременности обнаруживается структурирующее начало всеединства, отношения первичности-вторичности колеблются, исчезают — и за временем по Карсавину проступает время по Введенскому, описание которого мы взяли в эпиграф. Будем помнить об этом проступающем облике.
Возвращаясь же к внешней логике, мы видим то, с чего начали наше отступление: центральным понятием карсавинской концепции времени служит всеединство, взятое во временнóм качествовании, и это качествование всеединства именуется всевременностью. Коль скоро Я — всеединство, то Я есть и всевременность: «Наше конкретное Я всевременно»(6), — говорит Карсавин — и это значит, что «Я одинаково (хотя не в той же степени актуально) есть свое прошлое, настоящее, будущее»(10). Для всякой концепции времени, главные вопросы и проблемы — в том, как представляется течение времени, временной процесс, и как соотносятся, связуются меж собой прошлое, настоящее и будущее. У Карсавина налицо конструктивное описание всеединства, его, если угодно, модель; и поскольку строение всевременности в целом воспроизводит строение всеединства, то модель всеединства порождает столь же конструктивную динамическую модель всевременности. Главная роль в ней принадлежит центру Я, который конституирует, полагает все моменты всевременности, или «Я-настоящие», а равно и связует каждое «Я-настоящее» со всеми другими, выступающими для него как «Я-прошлые» и «Я-будущие». Что такое этот «центр Я», всемогущий локус, репрезентирующий в себе и актуализующий, пусть несовершенно, и всевременность, и всепространственность, и все прочие облики всеединства, у Карсавина всегда довольно неясно. В этом, однако, ничего удивительного: ни философия, ни психология не имели в своем арсенале нужного философу понятия о действенном, а не абстрактном средоточии личности, собирающем в себе все ее силы и потенции. Заслугою Карсавина является уже то, что в его рассуждении отчетливо возникает необходимость такого понятия и его важная роль для философии. Как можно представлять, читая Карсавина, «центр Я» следует мыслить как самосознание человеческой личности, выступающее в модусе единого управляющего центра всего личностного многоединства; и существование подобного модуса надо считать философским (и психологическим, либо мета-психологическим) постулатом, неявно лежащим в основе всей карсавинской трактовки времени. Обоснование постулата остается будущему; но зато его принятие позволяет философу уже без заметных затруднений развить наглядную модель всевременности. Она заменяет обычную линейную ось времени и очень на нее не похожа: «Можно представить себе временной процесс как движущуюся окружность, созидаемую излучением центра, который, установив себя точкою окружности, всякий раз возвращается в себя для нового излучения в качестве следующей точки» (20).
В основе этой модели — особый динамический принцип, согласно которому течение процесса, т. е. переход одного его момента в следующий, мыслится идущим не прямо, а «по двум радиусам»: путем связи первого из моментов с некоторым единым центром всего процесса, а затем этого центра — со вторым моментом. В свое время, занимаясь творчеством Джордано Бруно, Карсавин обнаружил этот принцип в его сочинениях, где он носил латинское имя «conglomeratio et exglomeratio centri», и с тех пор прочно ввел его в свою конструкцию всеединства. Сегодня он известен в системном анализе, где его называют «связь, опосредуемая центром», и никак не связывают ни с Карсавиным, ни с Бруно. Главным отличием модели времени, построенной на данном принципе, является присущее всеединству присутствие в каждом моменте всеединого Я, или же «Я-настоящем», всех прочих моментов, т. е. «Я-прошлых» и «Я-будущих». Поэтому для концепции Карсавина решающее значение приобретает вопрос о том, подтверждается ли такое присутствие реальным опытом человека; причем, поскольку эмпирическое Я — лишь несовершенное всеединство, то присутствие заведомо не ожидается полным, и подтверждением концепции были бы уже его начатки, знаки. И мы видим, что в каждой своей работе, где ставится проблема времени, Карсавин снова и снова отыскивает такие знаки и отсылает к ним, как к доводам в пользу своей концепции. В обсуждаемой работе набор знаков наиболее основателен. Если прежде, начиная со статьи «О свободе (1922), в качестве знаков присутствия будущего философ всегда указывал случаи предсказаний и ясновидения, то здесь он аргументирует, что такими знаками можно считать также научные предвидения и расчеты. Что же до прошлого, то в Прусте, демонстрирующем возможность ярчайшего и осязаемого, полномерного воскрешения прошлого, он находит самое блестящее подкрепление своих идей, отчего и отводит ему целый раздел. На противоположном полюсе — ситуации, когда несовершенство осуществления всеединства в Я достигает предела, и всеединящая активность центра Я утрачивается. В этом случае различные точки динамической всевременности теряют взаимосвязь, и всевременность, распавшись, превращается в набор независимых отдельных точек дискретного ряда. И это значит, что в концепции Карсавина обычная линейная временность оказывается ущербной, редуцированной формой всевременности.
Мы не будем сейчас подробней детализировать модель, поскольку сказанное уже позволяет сделать многие выводы и сопоставления. Философская интерпретация модели требует, прежде всего, отыскать для нее адекватный историкофилософский и концептуальный контекст. К какой философской линии относить карсавинскую теорию времени? Ответ осложнен тем, что сам философ, как правило, избегал раскрывать родственные связи своей мысли, предпочитая писать так, словно в пространстве, где развивается эта мысль, есть только он и его философский предмет — а больше никогда не бывало никого, за вычетом редких избранников, как Кузанский и Бруно. (Можно тут видеть — заметим в скобках — один из изломов стилистики Серебряного века, которому всецело принадлежал Карсавин). Труды же исследователей пока принесли скудные плоды в проблеме восстановления историко-философского контекста.
Конечно, в силу непосредственной очевидности, карсавинская концепция времени сопоставлялась с философией Бергсона, его знаменитым принципом длительности, durée. Уже вскоре после появления «Философии истории» Карсавина, в 1925 г. в Праге вышла в свет солидная монография П.М. Бицилли «Очерки теории исторической науки», в которой карсавинские построения разбирались довольно подробно, и выносился безапелляционный приговор об их вторичном и едва ли не эпигонском характере по отношению к Бергсону. Позднее сближения с Бергсоном делались еще не раз, уже без этого неоправданного отрицания самостоятельности Карсавина. Совсем нетрудно указать у нашего автора многие отнюдь не бергсонианские элементы, но сегодня нам следует пойти дальше, глубже: надо заметить, что до сих пор, какая бы степень близости или расхождения с Бергсоном ни утверждалась, сопоставление с ним всегда проводилось в рамках классической метафизики времени, того метафизического дискурса, ограниченность которого современная мысль должна признавать и преодолевать. Для преодоления же требуется изыскивать и привлекать понятия и метод иной природы. Обратим внимание, что у Карсавина ключевая характеристика всевременности — способ связи ее моментов или, если использовать математический язык, тип связности на многообразии всех элементов темпоральности. Но тип связности есть топологическая характеристика, и мы можем сказать, что философ строит некую топологию темпоральности, и притом вполне конкретную, определяемую принципом Джордано Бруно. Далее, можно взглянуть и на бергсоновскую теорию под этим углом, и мы увидим, что принцип длительности Бергсона также можно трактовать топологически; он тоже определяет некоторую топологию темпоральности. При этом, сразу же уяснится и нечто большее: двум концепциям отвечают чрезвычайно различные топологии. Очевидным образом, принцип длительности устанавливает обычную последовательную, линейную связь элементов темпоральности, линейную топологию, тогда как принцип Бруно — Карсавина устанавливает связь через посредство центра и, тем самым, существенно нелинейную топологию. Так привлечение новых понятий, из нового дискурса, позволяет увидеть принципиальное различие там, где старый метафизический взгляд видел одно лишь сходство.
Но это еще не очень значительный выход за рамки метафизического дискурса. Выход более кардинальный доставляется сменой философского метода, и было бы очень желательно, чтобы современная интерпретация Карсавина умела видеть его концепцию сквозь призму некоторого иного метода. Мы продвинемся к этому, если вернуться к обстоятельству, которое отмечалось вначале: к тому факту, что концепция темпоральности Карсавина радикально интериоризована. Мы видим, что дискурс темпоральности здесь полностью включен в икономию Я (субъекта, сознания). «Временность конституируема саморазъединением Я» (16), она не что иное как «осознаваемое им [Я] движение — саморазъединение его» (18), и все фундаментальные свойства времени (конечность — бесконечность, дискретность — непрерывность и т. д.) определяются не физическими или космологическими положениями, как в обычных теориях, но свойствами Я. «Временность конечна или бесконечна вместе с нашим Я, поскольку оно конечно или бесконечно» (18). При этом, способ, каким осуществляется интериоризация темпоральности, вызывает прямую ассоциацию с феноменологической трактовкой темпоральности как «внутреннего сознания времени» (innere Zeitbewußtsein). Карсавин последовательно проводит подход, при котором не только временность, но и пространственность, и все другие предикаты здешнего бытия трактуются как конституируемые сознанием и делаются, тем самым, принадлежностью пережитого опыта (Erlebnis). К приводившимся примерам можно еще добавить трактовку памяти: это понятие у Карсавина также исключается, заменяясь воспоминанием, как действием-качествованием всеединого Я. И ясно, что подобный подход вполне адекватно описывается на языке феноменологии: здесь «заключаются в скобки» все абстрактные категории бытия мира, философская дескрипция переводится в субъектную перспективу и, в итоге, осуществляется определенный вариант феноменологической редукции. Заметим, что этот вариант более радикален, чем у Гуссерля: Карсавин «заключает в скобки» не только все вне-опытные понятия, но также и все свойства, связанные с физическим временем, оставляя в стороне и самое его существование.
Близкое соответствие с феноменологией продолжается и далее. Феноменологическая установка Гуссерля, описывая философский предмет в категориях субъектного опыта, как предмет сознания, одновременно прилагает тщательные усилия к тому, чтобы дескрипция этого предмета была очищена от всякой примеси психологизма и субъективизма, описывала структуры трансцендентальной субъективности. Аналогично, и Карсавин следит за тем, чтобы его концепция темпоральности, при всей ее погруженности в икономию Я, не оказывалась чисто психологически-субъективной, зависимой от произвола и случайных черт индивидуальности; и в этом смысле, можно сказать, что его анализ также направлен к структурам трансцендентальной субъективности. Но путь к этим структурам разительно несходен у двух философов. В феноменологическом акте конституирование структур трансцендентальной субъективности совершает ноэзис, в итоге которого акт продвигается к созерцанию эйдоса философского предмета. В случае же Карсавина, роль своеобразного ноэтического орудия выполняет всеединство с его иерархическим строением: мир как всеединство есть «высшее Я», одним из моментов-качествований которого служит Я индивидуальное; и, по главному свойству карсавинского понятия всеединства, этот момент содержит в себе, хотя и несовершенно, высшее Я, «личность мира», причем — подчеркивает всегда Карсавин — содержит именно сам мир в подлиннике, а не какие-то образы или представления о мире. Продвигаясь к совершенству, «усовершаясь», (в чем и состоит, по Карсавину, смысл и назначение бытия Я), Я все полней, истинней актуализует в себе мир, преодолевает искаженность, разрозненность своих познающих и воспринимающих качествований — и в терминах Гуссерля, это, очевидно, и значит, что его структуры познания и восприятия становятся структурами трансцендентальной субъективности, а процесс усовершения в одном из своих аспектов есть ноэтический процесс. Сам Карсавин, однако, никогда не использует ни этих, и никаких иных понятий из арсенала феноменологии. В отличие от таких русских философов как Шпет или Лосев, он не становился последователем Гуссерля, и в его текстах мы едва ли найдем даже упоминания о нем. То, что мы видим в этом позднем труде философа, это отнюдь не принадлежность к руслу феноменологии, а только параллельность этому руслу в определенных целях и установках философствования. Но и такая параллельность есть важное историкофилософское родство.
С другой стороны, в концепции Карсавина присутствуют и играют важную роль также элементы иного рода, заведомо не феноменологические. Первая же фраза его рукописи гласит: «Сознающее себя, «самосознательное» эмпирическое бытие, наше конкретное Я несовершенно» (курсив автора). Термин, выделенный курсивом, отсылает к паре начал Совершенство — Несовершенство, не раз уже упоминавшейся нами и встречаемой у Карсавина повсюду. Эти принципы в его философии — существеннейшая характеристика любого сущего и темпорального бытия как такового; с ними связывается весь набор понятий, описывающих онтологическую динамику. Он отвергает напрашивающуюся прямолинейную трактовку этих принципов в духе классического платонизма (бытие совершенное как платонов умопостигаемый мир), усиленно подчеркивая, что «совершенство нашего бытия… не какое-то другое, отдельное от него совершенное бытие». Но столь же усиленно он подчеркивает и «онтическое первенство совершенства»; не представляясь обособленным идеальным миром, совершенство в то же время служит метафизическим предзаданным принципом, определяющим развитие сущего и бытия. И в итоге, картина бытия — а с нею и концепция темпоральности — Карсавина, дистанцируясь от платонического идеализма, весьма тесно сближается с идеализмом гегелевским, а вместе с тем и аристотелианским: как «полная осуществленность всеединства», достигаемая в триадическом процессе (само)разъединения — (само)воссоединения, совершенство у Карсавина обретает явную общность и родство как с Гегелевым диалектическим становлением, так и с Аристотелевой энтелехией. В метафизике истории принцип совершенства неизбежно несет с собой элемент телеологизма, благодаря которому эта метафизика обретает тесную связь с христианской философией истории — с ее главным руслом, идущим от блаж. Августина к средневековой католической мысли. Такая связь менее всего удивительна: этою мыслью Карсавин-историк углубленно занимался всю жизнь.
В контексте философского процесса ХХ века, присутствие описанных элементов классической метафизической и идеалистической традиции идет вразрез с ведущей тенденцией данного процесса — тенденцией к «преодолению метафизики», по знаменитой формуле Ницше. Равным образом, оно идет вразрез и с феноменологией, которая стала для европейской мысли одним из главных русл преодоления метафизики (можно вспомнить, что при создании феноменологического метода важную роль играло критическое отталкивание Гуссерля от отвлеченной диалектики Гегеля). И мы заключаем, что анализ темпоральности в позднем труде Карсавина показывает промежуточное положение его философской мысли между новым руслом феноменологии и старым руслом европейской идеалистической метафизики.
Надо признать, что для окончательного вывода, это — чрезмерно общая и не столь уж содержательная характеристика; но едва ли возможно далеко продвинуться в ее уточнении, поскольку сама теория Карсавина не получила завершенной, доработанной формы. Напомним наше описание обсуждаемой работы: дошедшие до нас страницы — а, с учетом сроков, это, вероятно, и есть все или почти все, что успел написать автор, — лишь незначительная часть замысла; и эта частичность сказывается не только в отсутствии многих из намеченных тем, но также и в том, что многие элементы основ концепции, многие ее узловые понятия, ключевые тезисы остались без достаточного обоснования и анализа. Тексты Карсавина убеждают, что в истоке его конструкции темпоральности — глубокая и оригинальная интуиция о том, как зарождается и оформляется внутреннее время; и выдвинутый им принцип организации и динамики внутреннего времени, который по справедливости следует называть «динамический принцип Бруно-Карсавина», несет в себе некое плодотворное начало. Но это не избавляет его концепцию от многих вопросов, на которые текст уже не дает ответа. Сомнения и вопросы вызывает немало деталей интерпретации, какую сам философ придает своему принципу. Если «принцип Бруно-Карсавина» есть принцип внутренней динамики времени, то принцип такого рода априори можно было бы считать характеризующим структуру темпоральности локально, в каждой точке: то есть мы бы предполагали, что он описывает определенный нелинейный механизм, реализующий присутствие, сопряжение в каждом элементе интериоризованной темпоральности всех трех родов последней, прошлого, настоящего и будущего. Но интерпретация Карсавина не такова, она куда более прямолинейно-радикальна: по этой интерпретации, принцип означает буквальное присутствие «каждого момента будущего», «всего будущего», и аналогично, в отношении прошлого. Дабы обосновать принцип в такой интерпретации, философу и приходится привлекать столь шаткие аргументы как ссылки на феномены предсказаний и ясновидения, которые и по сей день пребывают еще за гранью не только научного объяснения, но и научной удостоверенности. Трудность, да и вообще проблематичность подобного обоснования вполне ясны, неясно другое: вправду ли непременна именно такая интерпретация принципа? На том же уровне интерпретации — скорее нежели самой сути — концепции, возникает и еще ряд неясных проблем, как то проблема обратимости и/или необратимости времени, место события смерти в структуре интериоризованной темпоральности… — Все эти и другие вопросы, которые не успел рассмотреть сам философ, предстоит еще разрешить его исследователям; и лишь тогда метафизика времени Карсавина займет окончательное свое место в современной мысли.
Бесспорным уже сегодня остается, однако, еще один существенный аспект этой метафизики — глубокая внутренняя связь ее идей с культурой, духовной атмосферой своей эпохи: конечно, не той эпохи «чекистов», когда завершался жертвенный путь философа, а эпохи Серебряного века, которой он принадлежал всегда и которую представлял с блеском. Серебряный век сам аттестовал себя эпохою «великих канунов», «грозных предвестий», «апокалиптических знамений»… что на сегодняшнем не столь возвышенном языке означает — эпохой кризисной, предкатастрофической. Как мы знаем, таковою эпохой он и действительно оказался: историческое его сознание было верным. Мировая культура выразила уже в «Гамлете», что в кризисном сознании остро встает тема связи времен; и сознание русского Серебряного века полностью подтверждает этот закон. Но если связь времен — тема Серебряного века, то Карсавин — прямой выразитель этой темы! как выше мы указали, его концепция темпоральности вполне адекватно передаваема на языке топологии, и на этом языке, ядром концепции служит не что иное как утверждение определенного рода связности всех элементов темпорального бытия. Но и не только в этом родство с духом времени; родство шире и глубже, если угодно, интимней. Не одно чувство исторического времени обострено у кризисного человека. Обостряется и личностное самосознание — и вновь уже в «Гамлете» оба эти момента сближены, соединены: «связь времен» выступает не безличной чертой космического миропорядка, осуществлять ее или не осуществлять оказывается делом весьма конкретной инстанции, которая не что иное — не кто иной! — как Я, сознание, человек. Нет необходимости доказывать, что карсавинская интериоризованная темпоральность, как она описана выше, полностью соответствует этому «гамлетову» самосознанию, сознанию себя как хрупкого, но ключевого звена, в котором только и может твориться связь времен. Но не менее очевидно и то, что такое самосознание — принадлежность Серебряного века. В его культуре, в творчестве почти всех его ведущих фигур немало выражений этого гамлетова мотива, уже ставших почти избитыми. И все же одно из лучших, на мой взгляд, выражений, кажется, никогда не ставилось в этот ряд. Мандельштам писал в «Камне»: На стекла вечности уже легло // Мое дыхание, мое тепло. Как прямо входит это хрестоматийное двустишие в наш контекст! Пред нами — Я, взятое в данный миг, «Я-настоящее», как скажет Карсавин. Это Я хрупко, эфемерно, но при всем том и вопреки всему, оно, наполняя миг дыханием и теплом — сообщая ему печать личности — вводит миг в вечность, осуществляет связность времен и — определяет топологию мира. Перекликаясь с философом, поэт утверждает всевременность, и человека — ее зиждителя; а для нас раскрывается, как много тема времени у Карсавина может поведать об отношениях мыслителя с его временем.
декабрь, 2002
КАРСАВИН И ДЕ МЕСТР
Из истории отечественной философской мысли
От редакции. Мы продолжаем рубрику «Из истории отечественной философской мысли» подборкой, посвященной творчеству известного историка и философа Л. П. Карсавина. К сожалению, имя этого мыслителя почти забыто, его идеи, тесно связанные с религиозно-философской традицией обсуждения важнейших проблем человеческой свободы, пониманием личности и истории, сути общественных преобразований, практически не анализировались в нашей литературе. Рукописи Карсавина «Жозеф де Местр», публикуемой впервые, до сих пор лежавшей в архиве, предпослана статья С. С. Хоружего «Карсавин и де Местр». Разумеется, это лишь первая попытка разобраться в сложном сплетении идей и судеб русского мыслителя и французского общественного деятеля, публициста, выразителя умонастроений послереволюционного периода европейской истории. Не со всеми оценками автора статьи можно согласиться, отдельные положения и позиции требуют уточнения, однако, видимо, атмосфера спора, возможность открыто высказать собственную, иногда не всеми разделяемую точку зрения,— характерная примета и существенное достижение нашего времени.
Публикуя статью о Карсавине, рукопись мыслителя, редакция надеется, что эти материалы получат читательский отклик.
Путь, пройденный русской религиозной философией, недолог, но до предела насыщен. Весь зрелый ее период, начавшийся с В. С. Соловьева (1853—1900), длился лишь около полувека; последние крупные мыслители в ее главном русле (коим была метафизика всеединства), Флоренский и Карсавин, родились оба в 1882 г. и могли бы быть младшими современниками Соловьева, Однако философская традиция развивалась настолько быстро, что оба они уже несут в своем творчестве заметные типологические черты «поздних представителей»: сложность, амбивалентность отношений с самою традицией и ее старшими участниками; появление новых и неожиданных мотивов, на первый взгляд совершенно чуждых традиции; а также и некоторую «барочность» — налет вычурной изощренности мысли, повышенную заботу о стиле и формальный блеск, необычные для философских трудов. Творчество Карсавина — сложное, утонченное явление, плоть от плоти рафинированной духовной культуры Серебряного Века. В нем отразились многие культурные слои, многие идейные русла, часто далекие друг от друга: Россия и Запад, православная догматика и католическая антропология, гностицизм и средневековые ереси, Николай Кузанский и Федор Достоевский. Но действием его, несомненно, незаурядного таланта вся эта прихотливая мозаика претворена в цельное философское миросозерцание, в одну из наиболее глубоких и стройных систем русской религиозной метафизики.
Лев Платонович Карсавин (1882—1952) был коренным петербуржцем. Родился он в семье известного танцовщика Мариинского театра, ученика знаменитого Петипа; по отцу у него имелись греческие предки, мать же была родною племянницей А. С. Хомякова. Все эти обстоятельства так или иначе отразились не только в его жизни, но и на его творчестве: и личный, и творческий его стиль имеют отчетливый петербургский налет, тонкие, удлиненные черты внешности и усложненная, хитроумная вязь богословских и философских рассуждений, «спирали мысли», как он выражался сам, напоминают о Византии, и, наконец, с Хомяковым на протяжении всей жизни он ощущал словно бы некую глубинную связь.
В первый период своего творчества, охватывающий предреволюционные годы, Карсавин — историк-медиевист, исследователь религиозной жизни Западной Европы в эпоху позднего средневековья. Его учителем в Петербургском университете был И. М. Гревс, позднее называвший его самым блестящим из всей плеяды своих многочисленных учеников. Несколько лет Карсавин посвящает исследованиям монашеских и еретических двия^ений в Италии и на юге Франции, проводя разыскания в тамошних архивах и собирая плоды своих штудий в два капитальных сочинения: «Очерки религиозной жизни в Италии XII—XIII веков» (СПб., 1912) и «Основы средневековой религиозности в XII—XIII веках, преимущественно в Италии» (СПб., 1915). Однако уже и в этот период явственно пробивается его стремление к более общей постановке проблем, тяга от истории событий к истории идей, к истории духовной жизни и тому, что мы сегодня называем культурологией. Его дальнейшие работы показывают постоянную эволюцию в этом направлении: в 1918 г. выходят в свет «Католичество» и «Культура Средних Веков», в 1919 — уже чисто богословская «Saligia», а с появлением в 1920 г. «Введения в историю» и в 1922 г. двух больших философских статей, «О свободе» и «О добре и зле»,— можно уже считать совершившимся переход творчества Карсавина в область религиозной философии и философии истории. На этой стадии и застигает его высылка за пределы России в ноябре 1922 г., явившаяся для него всецело нежеланным событием, ибо Карсавин был принципиальным противником акта эмиграции и, не будучи сторонником большевизма, в то же время твердо верил в глубокий творческий смысл Русской революции. Размышления о революции надолго стали важной темой в его работе, и ниже мы к ним еще вергемся.
Потянулись годы изгнания, с типичною географией: Берлин, потом Париж, с типичными quasi-мытарствами профессора-эмигранта. Великие знатоки судеб человеческих, полицейские власти всех стран, не зря полагают равносильными два приговора человеку — заключение и изгнание: и тем, и другим жребием правит заповедь несвободных: «терпение и случай — вот что спасает нас»
[1] . В конце 1926 г. в лимитрофной Литве становится премьер-министром А. Вольдемарас, бывший приват-доцент Бестужевских курсов. Это политическое событие отразилось на обстоятельствах некоторых прежних коллег премьера по петербургскому ученому миру. В 1928 г. Лев Платонович Карсавин занимает кафедру всеобщей истории в Каунасском университете. Литва, вначале буржуазная, затем советская, становится домом его надолго, до самого конца его свободных дней — до ареста и заключения в лагерь в 1949 г. Здесь уже была прочная связь, не просто очередной кров изгнанника. Необыкновенно быстро Карсавин выучивается по-литовски и начинает читать лекции и писать просветительские труды на этом родственном и древнем наречии. Молодая культура, рождавшаяся на древнем наречии, отвечала взаимностью: Карсавин был признан здесь как мыслитель, почитаем как духовный наставник. Поздней, в лагере, литовцы, елико возможно, опекают и оберегают его; и по сей день, вопреки официальному замалчиванью, длившемуся до последнего времени, имя его остается известным и чтимым в том краю.
Отношения с родным домом были много трудней. Новая Россия, правоту появления которой он признавал и в будущее которой он верил, изгнала его. Россия же зарубежная... тут к месту будет английское: there was no love lost between them 2. Карсавин существовал в ней особняком. Уже и личные свойства влекли к тому. Он был безмерно далек от классического типа русского интеллигента-общественника, которому как воздух потребны идейные споры, философические дискуссии и исповеднические излияния. Узость и догматизм мысли, присущие нередко этому типу и всегда процветающие в эмигрантской атмосфере, претили ему. Средой, отвечавшей его натуре, вместе академичной и артистичной, петербургской, византийской, барочной, были академические и отчасти художественные круги в их светской и интеллектуальной верхушке; а наиболее созвучною ролью была, пожалуй, слегка экстравагантная в наше время роль учителя мудрости и одновременно светского человека. И это значило, что своим миром мог быть для него Петербург Серебряного Века — и едва ли что-нибудь еще на земле. Он не отождествлял себя ни с какою эмигрантской средой, не примыкал ни к каким кругам или группировкам.
Казалось бы, иначе должны были сложиться его отношения с кругом русских религиозных философов, всех тех, с кем он ныне volens nolens стоит в одном ряду в истории философии. Однако же и они не сложились иначе. В творчестве у него, несомненно, имелись реальные и существенные сближения со многими из этого круга. Тяга к спекулятивной мистике, особое внимание к философии истории, понимание истории как творческого процесса сближают его с Бердяевым; в теории познания он интуитивист, как Лосский и Франк; сильное и многостороннее влияние Николая Кузанского создает между ним и Франком еще более значительную общность. Однако все эти сближения только заостряли его вызывающее стремление утвердить инаковость и отдельность своей мысли. «Слыхали? Находят у меня общее с Франком! Каково?» — случалось, вопрошал он с неизмеримым сарказмом — хотя «общее с Франком», за очевидностью, не очень и требовалось искать. Впрочем, не следует целиком относить эту ситуацию за счет свойств вызывающей натуры Карсавина. Здесь также действуют некие объективные законы этологии творческих существ; и, повинуясь этим законам, Семен Людвигович Франк, человек натуры корректнейшей и скромнейшей, составляя антологию русской религиозной философии, в свою очередь, не включает туда Карсавина и ни слова не говорит о нем...
***
Исключением, подтверждающим правило карсавинской обособленности, является его участие в евразийском движении. Это движение, ныне почти неведомое у нас, было первым опытом так называемой «пореволюционной идеологии». Под таким именем в эмиграции стали известны попытки своего рода третьего пути в интерпретации новейшей русской истории: концепции, утверждавшие (вопреки монархистам и другим правым) историческую закономерность оправданность русской революции, однако отвергавшие (вопреки большевикам и другим левым) марксистское убеждение в том, что смысл этой революции — в грядущем построении, социализма и коммунизма. Здесь отбрасывался, таким образом, весь прежний политический спектр и провозглашалось некое новое историческое и политическое мышление, рожденное революцией и из нее исходящее: откуда и имя. Разумеется, провозгласить новое мышление еще вовсе не значит его создать, и неудивительным образом ни одна из «пореволюционных идеологий» не справилась с дерзкою задачей представить принципиально новую модель русской истории, еще вдобавок дающую и новую политическую стратегию. И все же в эфемерной среде «пореволюционных» групп и течений рождалось и дебатировалось немало новых идей — социально политических, исторических, даже и философских,— которые порой через многие годы по смерти самих течений оказывались выжившими «путем зерна», неожиданно прорастая то в пост- буржуазной идеологии новых левых, то в техноутопиях овладения космосом...
[2] . Отнюдь не тайна, что такого рода идеи имеют некое хождение и у нас, как раз сейчас выходя из-под спуда — и России еще не миновать разбираться с ними. Ибо порски третьего пути, при всей проблематичности такового, были рождены жизнью, в них отразилось отношение к действительности самого разнообразного слоя русских людей — всех тех, кто, видя и отвергая пороки старой России, ее социальные неправды, религиозную казенщину, «олимпийство тунеядцев», отвергая и ее старый строй, в то же время не мог отвергнуть нравственный и религиозный подход к реальности, не мог убедить себя в правоте и реалистичности марксистского идеала.
Евразийство (взявшее себе имя от материка Евразии как великого единства объемлющего и Восток, и Запад) было не только первой, но и самой теоретически разработанной из «пореволюционных» идеологий русской эмиграции. С самого начала оно собрало серьезные интеллектуальные силы: в числе его зачинателей были Н. С. Трубецкой (впоследствии выдающийся лингвист) и Г В. Флоровский (ставший дотом крупнейшим теологом), поздней к нему примыкали Г. В. Вернадский, Д. П. Святополк-Мирский, А. В. Кожевников (Кожев), государствовед Η. Н. Алексеев, религиозный писатель В. Н. Ильин и целый ряд других талантливых авторов. Тем более поучительна его судьба. На первом своем этапе в сборниках 1921—1924 гг. евразийство не столько единое учение, сколько некоторый набор мыслей, религиозных и историософских у Флоровского, этнографических и религиозных у Трубецкого, географических у Савицкого, пробующих решать современную тему «Россия и революция», отправляясь от вечной темы «Россия между Востоком и Западом». (Откуда явствует, что прологом к евразийству были еще «Скифы» Блока.) Помимо данного подхода, размышления разных участников имели между собой мало общего и даже отдаленно не складывались в какую-либо цельную историософскую модель, тем паче политическую стратегию. Затем, однако, характер движения меняется. Оно все же приобретает отчетливую теоретическую платформу и политическую ориентацию и, более того, превращается в довольно жесткую идеологию. Решающим элементом в этой трансформации была деятельность Карсавина. Выступавший прежде с критикой евразийства, он с 1925—1926 гΓ сближается с движением, чтобы сразу стать его идейным руководителем.
«Славянофилы эпохи футуризма»
[3] ,— назвал как-то евразийцев Федор Степун, тем самым сближая Карсавина с его пращуром Хомяковым. Это сравнение проницательно и плодотворно. В самом деле, «пореволюционное» евразийское утверждение творческого смысла русской революции, а стало быть, и русской истории на её новейшем этапе вполне законно рассматривать как новое и дерзкое утверждение — malgré tout, на резком, быть может, роковом повороте судеб страны! — славянофильского постулата о самобытности духовного уклада России и ее исторического пути. Притом исток и основу этого уклада и этого пути как славянофилы, так и евразийцы твердо видели в православии. Параллель наглядна, почти бесспорна, и мы совершенно вправе усматривать в евразийстве очередное историческое воплощение славянофильства (понимаемого обобщенно), как определенной трактовки «русской идеи». Но, быть может, еще важней вглядеться в специфические отличия этого воплощения, в его, говоря со Степуном, «футуристические» черты. В отличие от славянофилов евразийство стремилось найти религиозное оправдание и утвердить творческий, плодотворный характер русской истории вообще, но революционной России и социальной практики большевизма: дьявольская разница, как говаривал Пушкин. Многие из первых евразийцев (в том числе Флоровский и Трубецкой) отказались от такой задачи и, ограничив свое принятие российской реальности общею верой в неиссякающие родники русского духа, вскоре отошли от движения. Именно такое ограниченное, относительное принятие было характерно для отношения к революции в религиозно-философских кругах (и выражено ими еще в 1918 г. в известном сборнике «Из глубины»). Сжато и упрощенно резюмируя эту позицию, можно сказать, что феномен большевизма здесь виделся в масштабе этапных, кардинальных явлений русской истории и признавался органичным как для народа, так и для интеллигенции, имеющим прочные корни и глубокий духовный смысл; но при всем том явлением негативным, быть может, болезненным (типична, например, формула А. В. Карташева: «большевизм — показатель мучительных исканий народной души»
[4] ), и потому в исторической перспективе неплодотворным, подлежащим изживанию и преодолению — которые, однако, мыслимы лишь на путях внутренней духовной работы, покаяния и трезвения, а никак не насильственной реставрации. Позиция эта, наиболее основательно развитая Бердяевым и Федотовым, выходила за рамки догм право-левого политического мышления, однако оставалась на почве широко понимаемого христианского гуманизма, в отличие от евразийцев, которые с их вызывающей «футуристичностью» и тягой к радикализму охотно готовы были и к разрыву с этою почвой.
***
Свою трактовку революции Карсавин бегло наметил уже в «Философии истории», написанной им еще в России и опубликованной в Берлине в 1923 г. Эта трактовка — непосредственный плод его теории исторического процесса, которая, в свою очередь, является одним из приложений его философского учения. В основе же этого учения (как и большинства русских религиозно-философских систем) находится онтологический принцип всеединства, введенный в русскую философию неявно уже славянофилами, а явно — Владимиром Соловьевым. Это принцип внутренней формы или же тип устроения бытия, обозначающий единство, которое структурировано неким особым образом, не допускающим формально непротиворечивого описания: в частности, предполагающим тождество любой из своих частей целому. Трансрациональный, передаваемый лишь символически, внутренний механизм всеединства Карсавин раскрывает, используя учение Николая Кузанского о составных частях (все) единства как его «моментах» или «качествованиях», в которых все единство присутствует «стяжеино» (умаленно, имплицитно, потенциально).
На базе такой трактовки всеединства возникает иерархическая картина строения бытия, в которой каждый цельный элемент, каждое единство является моментом некоторого высшего единства, стяженно содержащим его в себе и, в свою очередь, стяженно присутствующим в бесконечном множестве собственных моментов, представляющим собою их всеединство. Эта конструкция всеединства как бесконечной иерархии всеединств — универсальная парадигма метафизики Карсавина, методологическая основа любого из ее разделов. Важнейшим дополнением к ней является ее связь с принципом триединства, который, пожалуй, еще более всеединства может претендовать на роль верховного принципа карсавинской философии. Триединство есть, по Карсавину, триада необходимых стадий всякого процесса становления и развития, всякого бытийного превращения: первоединство — саморазъединение — самовоссоединение. (Здесь снова Карсавин существенно опирается на Кузанского, находя ближайший прообраз своего триединства в его концепции бытия — возможности, possest.) Тем самым триединство есть принцип бытийной динамики, всеединство же как принцип устройства, структуры бытия, т. е. бытийной статики, подчиняется ему и включается в него, оказывается его «моментальным срезом»: Карсавин его характеризует как «покой и остановку» триединства. С главенствующей ролью триединства картина бытия приобретает динамический характер, и метафизика Карсавина самоопределяется как существенно динамическое учение, теория становления и развития, описывающая не просто бытие, но «все, происходящее с бытием»: развертывающуюся историю, драму бытия, взаимопревращения бытия и небытия (каковым является, очевидно, разъединение бытия). В этом сказывается ее происхождение из исторической рефлексии, и этим обеспечивается ее высокая приспособленность для анализа исторического процесса. Необходимо лишь одно уточнение: вся описанная онтологическая картина непосредственно относится к истинному (совершенному, божественному) бытию; однако она переносится и на бытие здешнее, эмпирическое, поскольку, по Карсавину, оба рода бытия соотносятся между собой как совершенство и несовершенство: здешнее бытие есть несовершенное подобие бытия истинного. И следует, наконец, добавить, что в соответствии с религиозной интуицией и христианской догматикой (Бог есть личность) Карсавин утверждает личностный характер бытия как такового, отождествляет бытие с бытием личности. Наряду с триединством личность выступает как фундаментальный и верховный принцип онтологии Карсавина и совершается отождествление трех верховных начал: Бог — Триединство — Личность. Соответственно здешнее (сотворенное, тварное) бытие утверждается как несовершенно личное. Это означает, что здешнее бытие, тварный мир признается личным, наделенным (хотя и несовершенно) формою личности все и повсюду, в каждом своем элементе. Картина здешнего бытия как иерархии (несовершенных) всеединств, в силу связи каждого всеединства с триединством, представляется как иерархия (несовершенных) триединств, а стало быть, и иерархия (несовершенных) личностей. Иными словами, всевозможные совокупности людей рассматриваются как новые самостоятельные личности, именуемые «симфоническими» или «соборными». Они выступают как «высшие личности» по отношению к своим подсовокупностям и отдельным членам, имеют их своими «моментами» и стяженно присутствуют в них.
Нетрудно уже понять, как строятся в рамках подобной метафизики социальная философия и философия истории, и предчувствуется заранее их «коммунальный», антиперсоналистский характер. Желая исследовать любой исторический или социальный процесс, мы в первую очередь выделяем участвующие в нем коллективные образования, начиная сверху, от самых крупных. Эти образования трактуются как симфонические личности, и анализ процесса состоит в выяснении того, как и в каких моментах эти личности «качествуют» (актуализируют себя). При этом, очевидно, отдельная личность, человек, оказывается самою низшей из личностей, подножием всей их пирамиды; и роль его в процессе видится только в том, чтобы наилучшим, наиполнейшим образом выразить, актуализировать в себе все высшие личности, моментом которых он служит. И видно уже отсюда, из этих немногих слов, что возникающей исторической концепции присущ жесткий примат коллективного над индивидуальным, что в ней сводятся до минимума свобода и вариантность в истории, умаляются самостоятельность и самоценность человеческой личности, низводимой до статуса момента высших личностей. Как писал еще в тридцатые годы Бердяев, «учение о симфонической личности означает метафизическое обоснование рабства человека»
[5] . Картина исторической и социальной реальности являет собой почти безраздельное господство необходимости.
Из сказанного уже определяется в общих чертах и карсавинская трактовка революционных процессов. Заметим прежде всего, что для Карсавина не существует вопроса о причинах революции: он принципиально отвергает саму возможность причинного объяснения в истории, утверждая неприменимость категории причинности к любому непрерывному процессу («для применения понятия причинности необходима прерывность»
[6] ). Революция — тоже определенное качествование нации-личности, причем качествование творческое: в нем возникает нечто новое, творится будущее нации, не повторяющее ее прошлого. Революция есть явление народное и явление творческое: таково первое положение Карсавина. Следующее главное положение — о том, что же творится в революции. Оно формулируется «от противного»: творится заведомо не то, чего желают и что, возможно, даже и считают творящимся революционные вожди. Уже и в ранней, публикуемой ниже статье читатель найдет эту постоянную мысль Карсавина: противопоставление внешнего и внутреннего слоя событий, словесной оболочки лозунгов и программ — и истинного смысла и содержания революции. Да и сами ее вожди — только кажущиеся вожди, на деле же — орудия, органы народной и революционной стихии. «Большевики лишь приклеивали коммунистические ярлычки стихийному, увлекавшему их, говорившему и в них течению»
[7] . К идеологии большевиков, их лозунгам Карсавин относился свысока, но их практическая деятельность как качествование нации-личности была для него голосом самой истории: «Большевизм... индивидуация некоторых стихийных стремлений русского народа»
[8] . Отличие от формулы Карташева очевидно. Отсюда заключалось, что «они (большевики.— C. X.) власть наилучшая из всех ныне в России возможных»
[9] .
В евразийский период, когда политические и историософские взгляды Карсавина стали платформой движения, ситуация неизбежно толкала к их полемическому заострению. Самой, пожалуй, заметной чертой этого периода карсавинской социальной мысли является резкий антидемократизм — такой, для которого «марксизм слишком демократичен и буржуазен». В многочисленных статьях, опубликованных им в газете «Евразия», что выходила по субботам в Париже в 1928—1929 гг., демократия третируется как «распыляющая народ на периодически голосующих индивидуумов»
[10] , решительно отбрасывается и заменяется новым принципом «идеократии»: «Так же как и коммунизм, евразийство подчиняет всю социально-политическую жизнь идее, выдвигая не демократию, но идеократию»
[11] . Равным образом текущая активность движения постоянно
вынуждала к политической определенности, требовала политического отклика — в первую очередь на то, что происходило в России, на все Повороты советской политики, которая между тем все более делалась Сталинской политикой. И на этом пути движение неизбежно оказывалось в безвыходном положении. Его главным жизненным принципом, самим импульсом, его породившим, был, как мы говорили, полный разрыв со Всей идеологией и политикой старой России, и уж тем паче с «царством теней», как часто называли круги, продолжавшие эту идеологию и политику в эмиграции. В новой же России что ни день множились репрессии и гонений — на церковь, на крестьянство, на мысль и творчество. «В Москве черемуха Да телефоны, / И казнями там имениты дни»,— писал в ту пору поэт, который сумел обрести настоящую, пушкинско - блоковскую, тайную свободу. Но он был на родине, и он не был политиком. А евразийцам в Париже казалось утратой независимости и изменой будущему страны оказаться в одном лагере с тенями «русской демократической общественности»; и чтобы этого избежать, лучше было обойти молчанием очередные казни в России, продолжая в то же время громко восхвалять преимущества «нового общественного строя». Однако и это, разумеется, было утратой независимости. Движение деградировало, шли отпадения и расколы, и становилось фатально ясно, что третьего пути найти нe удалось. «Православная идеократия» с Марксом и Федоровым I (и Карсавиным) в качестве учителей, с народом, образующим нацию-личность, которая достигает обожения и становится Церковью через посредство индустриализации, не распыляясь на периодически голосующих индивидуумов, оставалась мертворожденной. Сегодня вновь обсуждаются некоторые из ее идей, и я не хочу брать на себя суда, утверждая, что никакие из них не способны принести плод добрый. Однако тогда судьба оборачивалась только тупиком и трагедией. Левая ветвь движения, принимавшая лозунги идеократии шла неотвратимо ко все более тесной связи со сталинской политикой. Всех, у кого эта связь достигала и практической плоскости, ждала гибель. «Он вошел в контакт с адской машиной, и она испепелила его» весьма точно выражен этот жребий в одних записках о том периоде. Среди немногих, чья судьба сегодня известна и не забыта, - князь Д. П. Святополк-Мирский и С. Я. Эфрон, председатель «парижской группы евразийцев»
[12] . Карсавин же с 1929 г. снова отошел от движения и надолго оставил не только политическую, но и философскую деятельность. Только в лагере перед смертью он вновь вернулся к философскому и богословскому творчеству.
***
У философа неизбежен вопрос: каким же образом описанные воззрения Карсавина оказываются возможны в рамках христианской метафизики всеединства? Ведь, казалось бы, весь ее общий дух, да и вообще дух православного умозрения, как небо от Земли, далеки от евразийского «футуризма» с его тоталитарными симпатиями. Выше мы бегло проследили связь социальных взглядов Карсавина с его общею метафизикой, указав, что ключевое звено, связующее эти два раздела его системы,— концепция симфонической личности. Но этот ответ еще не дает удовлетворения. Ибо чем же эта концепция дурна? Разве она не является вполне естественным построением в рамках метафизики всеединства, прямою философской транскрипцией хомяковского принципа соборности? Казалось бы, у пращура и потомка одна онтология (всеединства), одна историософия (православная и славянофильская) — и при всем том социальная мысль Хомякова — великолепное свободолюбие, социальная мысль Карсавина — блестящие парадоксы, служащие «обоснованию рабства». Где же тут скрыты расхождение и подмена? Вопрос этот связан с самою сутью учений о всеединстве и соборности и представляет немалый интерес в разговоре о путях русской мысли. Сейчас, однако, мы можем дать лишь самый краткий ответ. Именно: концепции всеедийства и соборности не грозят увлечь к тупикам, к метафизическому и религиозному произволу лишь до тех пор, покуда они райвиваются применительно к совершенному бытию: к умному миру и его аналогам в платонизирующей метафизике, к Церкви Небесной в христианском умозрении. Низведение этих понятий-символов в горизонт здешнего бытия — тонкая, даже проблематичная операция, относительно которой религиозная философия в России не успела выработать единых позиций. Поэтому трактовка тварного мира в философии всеединства крайне разноречива, и у разных авторов этого направления тут едва ли отыщешь какую-то общую основу. А между тем в православном вероучении, которое все они признавали для себя духовным^ ориентиром, есть твердые положения, говорящие как раз о способе, роде связи совершенного и здешнего бытия. Это знаменитый паламитский догмат о божественных энергиях, утверждающий, что здешнее бытие причаствует божественному «не по сущности, а по энергии» — иначе говоря, путем свободного соединения своих энергий (устремлений, интенций, воли) с божественными энергиями, благодатью: что именуется на Руси издревле «стяжанием благодати». Учение о стяжании благодати, или «православный энергетизм», искони составляло глубинную основу православной духовности и в Византии, и на Руси. Выражающая его исихастская традиция определяет духовный строй Сергия Радонежского и Андрея Рублева: уже отсюда видны масштабы его значения. Вместе с тем оно необычайно медленно достигало теоретической кристаллизации, получив закрепление в догмате только в XIV веке. Богословское осмысление затянулось еще на несколько столетий, а ясного и адекватного философского выражения стихия православного энергетизма не получила и до сих пор. Русская философская мысль должна была неминуемо подойти к этой кардинальной задаче, однако же не успела этого сделать, ибо ее путь был оборван.
Надо здесь подчеркнуть: постановка этой задачи никак не значит, что философия, переставая быть философией, уходит в экзотические сферы мистики и аскетики. Опыт, добываемый в этих сферах, имеет философские импликации и, может быть, наиболее прямые — в социальной философии и этике. Наука стяжания благодати стоит на глубоко диалектическом утверждении пути личного богообщения и одновременно пустоты и ненужности этого пути в отрыве от соборного человеческого единства: «творить внутри себя собор со всеми»; «монах, тот, кто, пребывая в отдельности, живет в единстве со всеми людьми»; «подвижнический труд, чуждый любви, неугоден Богу»,— гласят девизы подвижничества. Аскетический идеал суверенной личности, следующей своим уникальным путем подвига, но при этом сущей в соборе со всеми,— этот идеал явно чреват какой-то новой социальной идеей, новой моделью общественных отношений. Острее всех это сознавал Достоевский. Именно сюда ведут идейные поиски его поздних лет, в центре, или, верней, в глубине которых — тема «русского инока» — суверенной личности, в скиту выкованной и в мир идущей. Эта последняя тема Достоевского не что иное, как тема о раскрытии социальных потенций православного энергетизма.
Нетрудно увидеть, однако, что построения Карсавина в социальной философии и антропологии с позициями православного энергетизма несовместимы. Ибо благодать — хотя и не сущностная, а энергийная, но, что первостепенно важно, прямая связь Бога и человека, их общение без посредников. Между тем учении Карсавина человек — «момент» мыслится осознающим в себе в первую очередь «высшие» всеединые субъекты», а не прямой зов Божий; и эта его установка заведомо не совпадает с установкою стяжания благодати. Человек как низший момент иерархии симфонических личностей бессилен стяжать благодать. Но сами симфонические личности тем паче бессильны это сделать, ибо стяжание благодати отнюдь не деятельность коллективных образований (какими бы они ни были), а таинственная динамика внутренней жизни человека. В итоге же иерархические конструкции Карсавина обречены быть принципиально безблагодатными. И с этим — религиозно несостоятельными. Стоит лишь уточнить, что все-таки не само понятие симфонической личности — источник безблагодатности, а только тезис о первенстве, примате личности симфонической над индивидуальной. Но очищение учения о симфонической личности от этого тезиса потребовало бы радикальных перемен в философии Карсавина, которая вся построена на резко несимметричном, неравноправном «кузанском» отношении между всеединством и его моментом. И надо также сказать, что в полученном итоге повинны не одни индивидуальные особенности карсавинской мысли, но равно и некие подспудные тенденции всей метафизики всеединства и соборной идеологии славянофилов: известное тяготение и того, и другого к «социоцентризму», подавлению единичного всеобщим, индивидуального — коллективным. Противодействием таким тенденциям и служит стяжание благодати, как учение и как духовный труд, способ жизни. Для старших славянофилов этот способ был внятен и близок. Однако поздней происходит отрыв идеи соборности от идеала стяжания благодати. Противодействие слабеет, и русская мысль все больше поддается соблазну безблагодатной псевдособорности: если Леонтьев, тоже sui generis футурист, идеализирует самодержавный деспотизм, то евразийцы — уже тоталитарную диктатуру...
Кроме скупых внешних фактов, мы почти не располагаем сведениями о следующем этапе жизни Карсавина — долгом периоде его работы в Литве в тридцатые и сороковые годы. Кажется невероятным, чтобы трагический опыт евразийства не оставил бы на его будущем никакого следа. Не помышляя навязывать своего ощущения, я все же скажу, что последовавшее молчание философа, его воздержание от творчества в моих глазах знаменательно; мне видится в этом род покаяния, по крайней мере интеллектуального. Только арест и лагерь освободили его: еще один парадокс его биографии, в которой, как это подобает истинному философу, жизнь следует учению
[13] , и внешний рисунок послушно повторяет внутренние черты. В бараках инвалидного лагеря у полярного круга, медленно умирающий от туберкулеза, он вновь погружается в религиозно-философское творчество. Он пишет с поражающей интенсивностью: не менее десяти сочинений создано им за два года каторжной жизни, прошедших до его кончины в июле 1952 г. Разумеется, эти сочинения невелики по объему, но глубина и блеск мысли в них по-прежнему не изменяют ему.
***
Вернемся с архипелага ГУЛАГ в революционный Петроград 1920 года. В этом году, исподволь уже подступая к фундаментам своей будущей философии, напряженно размышляя над событиями в стране, над смыслом и судьбами развивающейся революции, Карсавин пишет также статью о Жозефе де Местре. Чем мог быть вызван такой выбор темы? Период деятельности де Местра никак не входил в орбиту исторических занятий Карсавина; темы и направление де-местровой ультракатолической философии были весьма далеки от нарождавшейся у него православной метафизики всеединства. Тогда случайная просветительская статья? Нет, ни в какой мере: но перед нами очередной карсавинский парадокс, родство и близость там, где их не заподозрит ленивый ум. «Бывают странные сближенья...». И, чтоб увидеть это сближенье фигур, восстановим перед глазами вторую из них, фигуру некогда знаменитого сардинского посланника при санкт-петербургском дворе.
Граф Жозеф де Местр, старший из десяти детей Франсуа Ксавье Местра, члена Савойского сената королевства Савойи и Сардинии, получившего в 1770 г. графский титул и должность второго президента сената, родился в старинном савойском городе Шамбери 1 апреля 1753 г. Окончив Туринский университет по отделению права, в 1774 г. он начинает службу по судейскому ведомству в Шамбери. Вплоть до Великой Французской революции течение его жизни мирно и почти заурядно; он не помышлял быть ни писателем, ни философом, и несколько речей на случай — единственные его сочинения вплоть до сорокалетнего возраста. При всем том это время не было праздным для его ума: он приобретает обширные, энциклопедические познания, испытывает ряд идейных влияний (о чем см. у Карсавина), которые, однако, даже кратковременно не колеблют незыблемые устои его убеждений: на протяжении всей своей жизни граф де Местр — истовый католик, папист и роялист, «человек старого режима». В 1792 г. войска революционной Франции занимают Савойю. При революционном порядке, быстро оказавшись в разряде подозрительных лиц, подвергшись обыску, граф вскоре вынуждается к поспешному бегству. Следующее десятилетие его жизни, 1793— 1803 гг.,— период эмигрантских скитаний: Лозанна, Турин, Венеция, снова Турин. Именно в этот период он начинает писать: крушение порядка вещей, который он полагал установленным прямою волею Божией, толкало к усиленной и срочной работе ума. «Размышления о Франции» (1796) сразу приносят ему славу писателя и мыслителя, отчасти даже пророка: он никогда не избегал смелых предсказаний в своих писаниях. В 1803 г. король Виктор-Эммануил I направляет его своим посланником в Петербург, где ему и предстояло пробыть долгие четырнадцать лет. Годы в России — значительнейший период в жизни де Местра. В петербургском обществе он приобретает известность, вес, сочувственных слушателей, некое время находится в большой близости к императору, имеет влияние на него (весьма дурное, по нашим понятиям; «Четыре главы о России», небольшая работа 1811 г., возможно, внесли свой вклад в опалу Сперанского). Здесь у него сложились, в главном, и его центральные сочинения: трактат «О папе» (выпущенный в Лионе в 1819 г.) и «Санкт-петербургские вечера», знаменитейшая из его книг, вышедшая уже посмертно. В 1817 г. он возвращается в Турин, столицу сардинского королевства. Но при дворе он не ко двору своей прямотой, независимостью суждений и явно излишней глубиной мысли. Резиньяция, мрачные предчувствия окрашивают его последние годы перед смертью, внезапно наступившею от удара в феврале 1821 г.
Теории де Местра, развитые в его главных трудах, описываются ниже Карсавиным. Предмет же нашего интереса — сопоставить два творческих мира и творческих облика, увидеть их общее и розное. Немало взаимных соответствий Карсавин указывает и сам. Нетрудно заметить, что и вступительная характеристика де Местра, и многое в дальнейшем анализе неявно строится у него по принципу сходства: в герое отмечается в первую очередь свое, то, что родственно и близко автору. Так, целиком относимы к самому автору его строки о саркастичности и парадоксализме де Местра, о сочетании личного, эмоционального характера его писаний с неусыпной заботой об изяществе стиля. Эти свойственные обоим черты — часть более общего сходства: в де Местре великолепно воплотился тот тип «философа и светского человека», к которому всегда тяготел Карсавин и который для галльского духа глубоко органичен (оттенок некоей светскости присущ, пожалуй, уже самому понятию esprit, что далеко не во всем соответствует нашему «духу»). Но и это не все. Будущее отбрасывает тень: эту старую максиму трудно не вспомнить, думая о Карсавине и де Местре. Знаменательным образом их самые существенные сближения видны, лишь когда перед нами две завершенные судьбы; и Карсавин, когда писал о де Местре, не ведал, что его ожидает впереди много общего с судьбою его героя. Через два года после своей «этюды», в 1922 г., он выпускает книгу философских размышлений «Nqctes Petropolitanae», «Петербургские ночи», и тут, конечно, перекличка с де Местром и его «Вечерами» совершенно умышленна. Но в том же году, осенью, он высылается из России и, повторяя де Местра уже не но своей воле, как и тот, в сорок лет делается изгнанником Великой Революции. И, занимаясь впоследствии размышлениями о революции, поисками ее смысла, он, подобно Де Местру, являет собою традиционную со времен Данта фигуру историософа- изгнанника.
Революция — главная общая тема Карсавина и де Местра. Немало общего у них и в раскрытии этой темы. Добрая доля карсавинского изложения взглядов де Местра на Французскую революцию, как скажет математик, инвариантна относительно замены Франции на Россию: одновременно это суть взгляды Карсавина на Русскую революцию. Общим прежде всего является сам религиозный подход, поиск религиозного смысла революции. Разумеется, это сближало с де Местром не только Карсавина, но и весь круг современных ему русских религиозных философов; и некоторые из них также обращались к де Местру — прежде веего Бердяев в своих известных работах «Философия неравенства» (1918) и «Новое Средневековье» (1921). В глазах левой критики верь этот подход, от де Местра до евразийцев выражение клерикальной реакции на революцию. Эсеровская «Воля России» в статье, воспевающей «светлое человекобожие республики, демократии, социализма», писала в 1923 г.: «Хотя все евразийские приватдоценты и христианствующие профессора очень хорошо знают историю, они не хотят... опознать в апологете палача де Местре своего предтечу»
[14] . Как мы видим, в отношении Карсавина обвинение явно несправедливо... Далее, вполне четко и ясно проведена у де Местра одна из главных идей карсавинской концепции революции: о расхождении между провозглашаемым и истинным содержанием революции и об иллюзорности всякого руководства ею. «Этюда» Карсавина дает убедительное свидетельство того, что раздел о революции в его вскоре последовавшей «Философии истории» написан не без сильного влияния мыслей де Местра. Но еще более глубокий и важный факт — совпадение тех, уже не политических, а философских посылок, на которых базируется указанная идея. У Карсавина, как мы видели, она вытекает из его концепции симфонической личности, согласно которой самостоятельными деятелями в исторических и социальных процессах выступают не индивидуальные, а коллективные, «высшие» личности. У де Местра же за нею стоят его мысли о единстве человеческого рода и еще более тесном единстве нации, в силу которых каждый индивид — соучастник, общник первородного греха и всех национальных грехов, и его судьба, суд Божий над ним, определяется не столько его личными винами и заслугами, сколько этою соучастностью. Но отсюда ведь один шаг до представления о «высших всеединых субъектах»: субъектом Божественного права, о котором выносит приговор Провидение, является именно некое человеческое сообщество, исторический органам, и судьба индивидуальной личности — лишь отражение и следствие этого общего приговора. Как выше уже говорилось, стоящая за всем этим онтология решительно расходится с православной онтологией благодати. Так что в итоге не будет ли правильнее считать, что концепция симфонической личности, как раз и складывавшаяся около 1920 года, больше, чем Хомякову, обязана ультракатолику де Местру? Взгляд «под де-местровым углом» позволяет увидеть новые грани и в ряде других моментов учения Карсавина. Не будем здесь заниматься этим, отметим только одно: сам конечный историософский идеал «становления мира Церковью» у Карсавина, хотя как будто бы и включает сверхэмпирический аспект, однако при отсутствии идеи благодатного преображения человеческой природы рисуется на поверку не таким уж отличным от историософского идеала де Местра — глобального подчинения мира (католической) церкви. Наконец, и сам Карсавин отмечает еще несколько своих философских сближений с де Местром, усматривая у него зачатки интуитивистской концепции цельного знания, находя близкие себе мысли об онтологизации смерти.
... Так, в беглой статье Карсавина, не стремящейся к тщательному анализу, нам обнаруживается важное «недостающее звено», помогающее восстановить довольно внушительную картину де-местровских, и шире — католических, отзвуков и влияний в творчестве «славянофила-футуриста». (Не правда ли, какая причудливая, барочная смесь мотивов?) Этой картины вполне достаточно, чтобы без колебаний присоединить его имя к немалому списку русских мыслителей и деятелей, испытавших на себе влияние автора «Петербургских вечеров». Небезынтересно свести здесь воедино хотя бы основные имена из этого списка: Александр I — М. С. Лунин — М. Ф. Орлов — П. Я. Чаадаев — В. С. Печерин — Ф. И. Тютчев — Л. Н. Толстой — Л. П. Карсавин. Весомость списка вместе с решительной несводидмостью его членов ни к какому общему знаменателю, наводят на мысль о том, что в фигуре де Местра — мягко говоря, очень далекого от русофильства! — ощущалось нечто притягательное для русского восприятия. В начале своей статьи Карсавин приводит фразу Сент-Вёва: де Местр «просыпается утром с обнаженной шпагой и уже готов рубить направо и налево». Но у русского читателя эта фраза немедленно вызывает в памяти знаменитый отзыв о Хомякове: по словам Герцена, основатель славянофильства, «как средневековые рыцари, караулившие богородицу, спал вооруженным»
[15] . В этой неожиданной перекличке образов нам и приоткрывается сродство. Де Местр действительно очень близок некоторому духовному типу, характерному, как ни странно, скорее для русской, чем западной культуры и ярко воплотившемуся в ранних славянофилах: типу «светского богослова», бескорыстного рыцаря веры — но и мысли, Церкви — но и «самобытности», органических народных начал. В пределах этого типа, привлекательного и «своего» в истории русской культуры, он являл, однако, четкую альтернативу славянофильству, которое, разумеется, многих могло и не удовлетворять. Такова, пожалуй, в беглых словах формула его воздействия...
Возвращаясь же в заключение к Карсавину, признаем, что мы опять были гиперкритичны к нему. Тема влияний не должна заслонять верный взгляд на него как на оригинального и самостоятельного философа. Его «этюда» достаточно критична к де Местру и, что еще гораздо важней, в ней непрерывно ощутим ток противоречия, рождаемый одним главным расхождением: расхождением между футуризмом Карсавина и пассеизмом де Местра. В прямую противоположность своему герою автор «этюды» обращен к будущему, которое для него означает рождение нового, творчество как «усовершение», преодоление несовершенств сущего. Эта коренная противоположность не может не сказываться на всем, создавая решительное несходство их исторического чувства, философского темперамента, религиозного типа. И потому в их связи не столько зависимость, сколько притяжение разных полюсов, еще одна из тех острых антиномий и неожиданных сочетаний, которыми всюду пронизано творчество Карсавина. Славянофил — историк католичества, явно не чуждый его влияний. Футурист-медиевист. Создатель учения о личности, возможно, самого основательного в русской философии, учащий, что «все сущее лично»
[16] , и сводящий едва не к ничтожеству личность отдельного человека... Перед нами поистине doctor subtilis русской религиозной мысли, и, конечно, мы здесь могли разве что в малой мере осветить выстроенные им спирали и лабиринты.
Обсуждение и анализ мысли Карсавина будут, надеемся, продолжены: они имеют сегодня отнюдь не только академический интерес. Из сказанного выше уже видна была явная неустарелость этой мысли, ее тем и апорий, в сфере социальной философии. Но это еще не самое важное. Карсавин принадлежит к традиции — и судьба его философского дела неотделима от судеб этой традиции в целом. В центральном, соловьевском русле русской религиозной философии, творчество его на сегодня — заключительный пункт, последняя страница развития. И значит: возможно ли возродить это русло, найдутся ли для этого неисчерпанные внутренние ресурсы — на все такие вопросы нельзя ответить, не вглядываясь в философию Карсавина. Как мы уже говорили, насущные задачи самобытного русского философствования связаны ныне с обдумыванием, философскою проработкой энергийно-экзистенциальных, благодатных аспектов духовного опыта православия. И, может быть, именно в метафизике Карсавина всего отчетливее и резче выявилась та дистанция, которая отделяла еще мысль Серебряного Века от овладения подобною проблематикой. С другой стороны, наиболее глубокого продвиженья в ней русская мысль достигла покуда в трудах парижского богослова В. Н. Лосского (1903—1958), который вместе со своим отцом, Н. О. Лосским, покинул Россию, как и Карсавин, в группе изгнанников 1922 года. Но В. Лосский — ученик Карсавина, он воспринял многие его важные идеи — в учении о личности, в трактовке догматов... Что же в итоге? Ситуация Карсавина, его роль в проложении будущих путей русской мысли снова антиномичны, парадоксальны. И вернее всего выражает их древняя формула, которая всегда сопровождала его как лейтмотив мысли и души его: Жизнь чрез смерть.—Аще зерно пшенично пад на земли не умрет, то едино пребывает: аще же умрет, мног плод сотворит. (Ин. 12:24.)
КОНЦЕПТ ЛИЧНОСТИ У Л.П.КАРСАВИНА: ИДЕЙНОЕ И СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
I. Введение
Лев Платонович Карсавин (1882, Петербург — 1952, концлагерь Абезь, Коми АССР) даже на фоне мысли Серебряного Века, где персоналистические тенденции были одними из главных и наиболее выраженных, выделяется своею особой связью с темой личности. Из всего обширного круга русских философов своей эпохи — и даже, быть может, из русской философии вообще — он единственный, чья философия в целом может быть квалифицирована как философия личности. Достаточным внешним основанием для этого служит то, что его центральное сочинение, где дано зрелое окончательное изложение его теорий, есть трактат, так и называемый: «О личности» (1929). Достаточное же внутреннее основание в том, что в своей философии он отнюдь не просто использует понятие личности, но сам и заново, ab ovo, это понятие конструирует, затем усиленно его анализирует, разрабатывает, вводит богатый арсенал производных понятий — и, в итоге, оно выступает производящим принципом всей его понятийной системы и всей картины бытия и реальности.
Стоит сразу же обозначить и принадлежащее К. особое место в истории развития европейской персонологии. Начальный этап этого развития — богословие первых Вселенских соборов и греческая патристика 4 в. — развивал персонологические концепции в рамках учения о Боге и Божественном бытии (т. е. нового, специфически христианского дискурса догматического богословия) и, что важно, в грекоязычном словаре — формируя, т. о., теологическую, онтологическую и грекоязычную персонологическую парадигму. Вскоре, однако, эта линия развития раздваивается. Происходит формирование латиноязычной персонологической парадигмы, и здесь исходная терминологическая база, доставляемая римским гражданско-юридическим дискурсом, тяготела не к богословию, а к антропологии — так что указанная парадигма формируется как антропологическая и метафизическая, в рамках обычного (латинского) аристотелианского дискурса, не относимого к Божественному бытию. Точкой бифуркации является мысль Боэция, в которой обе парадигмы еще сращены и не различены. В дальнейшем развитии западной мысли, латинская метафизически-антропологическая парадигма всецело возобладала, строясь вокруг концептов субъекта и индивида. Хотя в ряде версий, прежде всего, в спекулятивной персонологии немецкого идеализма, она несла и онтологическое содержание, последнее было далеко от изначальной патристической персонологии. В целом, эту парадигму восприняла и русская философия. Однако, во многом неожиданно, в 20 в. происходит мощное, плодотворное возрождение давно оставленной теологической персонологической парадигмы. В первую очередь, оно совершается в православном богословии, магистральное направление которого в последние десятилетия часто определяют как «богословие личности». Современными лидерами этого направления являются греческие богословы и философы митроп. Иоанн (Зезюлас) и Хр. Яннарас, признанный же основатель его — В.Н.Лосский (1903–1958). Однако, как правило, не отмечают, что именно в персонологии Лосский был учеником К. Его персонологические концепции несут прямое карсавинское влияние — и по праву можно сказать, что современное возрождение греко-патристической персонологической парадигмы на новом уровне имеет своим истоком (незаслуженно забытым) мысль К. Ниже мы предметно раскроем данный тезис.
II. Основная часть
Во всех аспектах, начиная со словаря, тема личности проходит в творчестве К. глубокую эволюцию. Тенденция к личностному подходу, обращенность к живому человеку и его опыту присущи уже и ранним его работам, в которых он выступает как историк средневековой религиозности. Предвосхищая будущий подход французской школы «Анналов», исторической и культурной антропологии, К., особенно в последнем большом историческом труде «Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках» (1915), дает антропологическую постановку исторической проблематики, выдвигая задачу реконструкции образа человека в историческом бытии — его мира, сознания, поведения. И все же, хотя на этом пути он конструирует, например, фигуру «среднего религиозного человека», «носителя религиозного фонда» данного общества и эпохи, мы здесь еще не видим собственно персонологической рефлексии. К. использует термин «личность» в общепринятой антропологической парадигме (ср.: «Историку … ценна индивидуальность личности… Изучая личность, историк стремится выяснить развитие и происхождение ее духовного облика» (ОСР, 26)), не анализируя его и мало пользуясь как им, так и его коррелятами такими как индивидуум. Первоначально, это отсутствие внимания к персонологии переходит и в его философские работы. В «Saligia» (1919) основной персонологический термин — «Я», и он также не анализируется, хотя здесь все же выдвинут один из главных тезисов будущего карсавинского учения о личности: о том, что человек имеет бытие не собственное, а лишь отдаваемое, жертвуемое ему Богом: «Отъединилось «я» от Бога и стало говорить: «Я само!», хотя как само, оно — пустышка, существуя лишь потому, что его поддерживает или творит Бог» (S,45). Далее, в первой философской книге К., «Noctes Petropolitanae» (1922), дискурс личности проходит заметной нитью, но сам концепт личности опять-таки не анализируется. В основном, он трактуется еще в согласии с антропологической парадигмой, отчего «личность» здесь равносильно именуется также «конечная личность», «эмпирическая личность», «индивидуально-человеческая личность» и др. Но уже различимо и раздвоение, зарождаются элементы теологической парадигмы: «Личность моя — только отблеск Божественного лика… Всё «моё»… и самая моя личность — всё только Бог, участняемый тварной ограниченностью моей» (NP,156,165). Главный предмет «Noctes» — метафизика любви, и с нею связана важная персонологическая тема: любовь — конститутивный принцип человеческой личности, и одновременно — принцип ее расширения, выхода из себя — к соединению с другими личностями. «Любовь — начало личности нашей… В любви моей познаю я, что моя личность лишь часть высшей личности, другая половина которой в любимой моей. В любви превозмогаю я грани моей личности… и сознаю себя личностью двуединой» (NP,169). Идея единства любящих как единой «двуединой личности» подводит вплотную к связи личности с всеединством, однако здесь эта связь еще явно не утверждается.
Впервые центральная структура философии К. — конструкция всеединства как сложной иерархии «моментов» или «качествований» разных порядков, связанных меж собой отношением «стяженности», contractio, взятым у Николая Кузанского, — детально представлена в «Философии истории» (1923), применительно к исторической реальности. Эта реальность еще не трактуется персонологически, и дискурс личности мало развит, хотя, сравнительно с «Noctes», и здесь сделан существенный шаг: как отражение структуры всеединства, вводится иерархия личностей, в которой «низшая личность» существует, «индивидуализуя» в себе «высшую личность» в некотором лишь ей присущем образе: «всякая личность — индивидуализация всеединой высшей личности» (ФИ,316). Описание этой иерархии — прообраз концепции «симфонической личности», которая возникнет у К. вскоре.
Следующий крупный труд, «О началах» (1925), в целом, тоже не сосредоточен на личности — но именно здесь происходит решающее продвижение: трактовка личности переходит из антропологической в теологическую парадигму. Прежде К. почти не входил в учение о Боге и, принимая как данность догматические положения христианства о Боге как личности (ипостаси), не подвергал их рефлексии. Но в «О началах» учение о Боге — главный предмет (исходным названием этой вещи было «Метафизика христианства»), и мысль К., сталкиваясь с этими положениями, неизбежно в них обнаруживает теологическую персонологическую парадигму: «Логос есть Всеединая Личность… или Совершенное Всеединство Личностей… Во Христе два «естества», две «воли», две «души», но — только одна Личность, Божественная Ипостась… Личность Его есть Его Божественность… Личность — момент Божественного Всеединства и сама Всеединая Ипостась» (ОН,182). Отсюда делается четкий общий вывод — главный тезис теологической парадигмы: «Личность не что-то тварное и случайное, но — исконно-Божественное … И потому христианство и есть «религия личности»» (ОН,182). Другим необходимым элементом этой парадигмы служит негативный тезис: коль скоро личность как таковая Божественна, эмпирический человек не является личностью. В «О началах» этот тезис сразу соединяется с третьим и последним тезисом парадигмы, фиксирующим отношение между человеком и личностью: «Само по себе «человеческое» безлично… Утверждать, будто существует какая-то тварная личность, значит отрицать Божественность личного начала… Можно говорить… и о человеческих личностях, если не забывать об относительности и настоящем смысле такого словоупотребления… Человеческая «личность» — только бесконечно-малое причастие человека к умаляемой им в этом причастии Божественной Ипостаси… В меру единства моего со Христом я должен понимать себя как личность… Истинная личность каждого из нас … — Ипостась Логоса в полноте нашего причастия Ей» (ОН,182–184).
Совершившийся переход — окончателен; всё дальнейшее творчество К. твердо следует теологической парадигме личности. «Апологетический этюд» (1926) констатирует в сноске, как нечто установленное, не требующее доказательств: «Для простоты пользуюсь здесь термином «личность» в обычном его значении, т. е. в смысле «тварная личность». На самом деле, разумеется, никакой тварной личности нет, а есть только Божественная Ипостась Логоса (Она же и личность Иисуса Христа), по причастию коей тварь получает личное бытие» (АЭ,380). Но, как видно отсюда же, продолжает использоваться и «условная» терминология, оперирующая «личностью» применительно к тварному бытию. Главное поле ее применения — социальная философия К., особенно активно им развиваемая в период его участия в Евразийском движении (1926-29). Центральный текст этого периода — брошюра «Церковь, личность и государство» (1927), принятая Движением в качестве религиозно-философской платформы, — является и заметным вкладом в персонологию К.: именно здесь развивается его известное учение о «симфонической личности». Это естественный плод его концепции тварного бытия как устроенного иерархически всеединства, состоящего из «моментов» разных порядков, в свою очередь, наделенных всеединым строением. В силу перехода в теологическую парадигму, связь этих моментов с личностью устанавливается через посредство их связи с Богом и Церковью. Концепт Церкви, впервые здесь появляющийся у К., выступает как основание концепции симфонической личности. Сама Церковь как Тело Христово — «всеединая личность» и, вследствие этого, «всё, что входит [в Церковь] … становится и личным. Всё, о чем молится Церковь, становится «кем-то», т. е. личностью. И нет оснований признавать только всеединую личность Церкви… Между единой личностью всей Церкви и индивидуальными личностями находятся еще личности, объединяющие индивидуумов… Мы называем такие личности соборными или симфоническими личностями… Такими соборными личностями будут, например, поместные национальные церкви… Всеединая личность Церкви предстает нам как иерархия личностей, в порядке убывания их соборности нисходящая от самой единой Церкви до индивидуумов… Соборная личность иерархически выше индивидуальной, и есть соборные личности разной степени. Тем не менее все личности и равноценны, а высшая никак не ограничивает низших и не стесняет их свободы. Ибо она не что-то отдельное, вне их сущее, но — само их единство и все они в каждой из них» (ЦЛГ,419–420). Позднее К. уточнит терминологию: «соборная» и «социальная» личности состоят из «индивидуальных личностей», но «симфоническая личность» включает, наряду с последними, также и окружающее материальное бытие. При этом, имманентная связь с Церковью имплицирует и имманентное этическое измерение личности: «Сотворенная Богом личность (как индивидуальная, так и симфоническая), злом быть не может, и зло никогда не может быть личностью («злая личность» не равнозначна «личности-злу»). Зло — не личное бытие… а грех личности» (ФР,59).
Концепция симфонической личности имеет явные сближения, корреляции с давно бытующим в европейской мысли подходом морфологии культур, трактующим конкретные культуры, а также и этносы, социумы, классы и т. п., как самостоятельно развивающиеся социокультурные организмы или «коллективные личности». Представление о «душах народов», об историческом процессе как жизни народов-личностей стало общераспространенным в Новое Время, отразившись, в частности, в мысли романтиков, в философии истории классического немецкого идеализма, у Шпенглера и мн. др. В этом русле, концепция К. — один из поздних образцов, в котором социальная органика предстает в форме иерархии структур, коллективистской и социоцентристской конструкции, лишающей индивидуальное начало всякого самоценного и несводимого содержания и оставляющей за ним лишь функцию выражения содержаний вышестоящего всеединства. Человек жестко подчинен здесь социальным инстанциям, трактуемым как «высшие личности»: «Всякая личность должна осознать себя как свободное осуществление высшей личности… Личность должна увидеть свою задачу, свой долг и подлинное свое желание в том, что она не создает что-то свое, а только — по-своему образует и индивидуализирует целое… ошибочно видеть задачу каждой личности в эгоистическом саморазвитии… всякая личность должна прежде всего проникнуться смирением… Истинную задачу личности можно определить как саморазвитие в раскрытии высшего и ради раскрытия высшего» (ЦЛГ, 420–421). Эти мотивы концепции К., явно созвучные тоталитарной идеологии, вызвали острую критику Бердяева, писавшего: «Учение о симфонической личности означает метафизическое обоснование рабства человека» (ОРСЧ, 30). Отрицая за индивидуумом роль носителя, репрезентанта личного начала в мире, это учение делает философию личности К. противостоящей всему руслу европейского персонализма. Но надо отметить также, что социальные аспекты учения, акцентирующие вторичность и несвободу индивида, резко выражены у К. лишь в евразийский период; уже в «О личности» они почти незаметны, а в цикле его последних работ послевоенного (1945-49) и лагерного (1949-52) периодов мы не находим симфонической личности вообще. Кроме того, эта концепция имеет и ценные стороны, будучи эффективным орудием аналитики социального бытия. У К. находим оригинальные производные понятия от «симфонической личности», напр., «социальные эфемериды» — многоединые социальные личности, возникающие, когда происходит «всякое взаимообщение двух или более индивидуумов — беседа или даже просто мимолетная встреча» (ОЛ,176).
«О личности» (1929) — главный труд К., зрелое изложение всей его системы в форме метафизики личности. Он включает три части: Первая описывает динамику личного бытия как универсальную «онтическую» (не темпоральную) динамику из трех стадий: Первоединство — Саморазъединение — Самовоссоединение, или же Триединство; Вторая посвящена симфонической личности; Третья же раскрывает отношение истинной, Божественной Личности-Ипостаси к условно именуемой «тварной личности» как отношение совершенства и несовершенства, реализуемое в движении несовершенства к совершенству — «усовершении». В согласии с теологической парадигмой, личность у К. — онтологический принцип; и главная часть трактата — построение онтологии, базирующейся на личности. В основе этой онтологии — фундаментальное тождество трех принципов: по К., между собой всецело тождественны — Личность, Бог и Триединство. Понятие же личности раскрывается входящими сюда двумя отождествлениями: Личность = Бог; Личность = Триединство.
Обоснование первого отождествления начинается с этимологического анализа семантического гнезда личности (личина, лик, харя, обличье…), дающего существенные выводы. «Со словом «лик» соединяется представление о личности совершенной… лику противостоит личина (греч. prosopeion, лат. persona), как извне налегающее «об-личье», как закрывающая лицо неподвижная и мертвая, безобразная «харя» или «маска». Разумеется, и чрез личину познается личность… но большое несчастие для западного метафизика, что ему приходится строить учение о личности, исходя из понятия «хари» (persona, personne, personnalité, Person, Persönlichkeit). Не случайно в русском языке со словом «персона» сочетался смысл чисто-внешнего положения человека, частью же — смысл внутренно необоснованной и надутой важности, т. е. обмана» (ОЛ,24–25). Усматривая отсюда, что «лик наиболее близок к Богу, а личина наиболее от Бога удалена» (ОЛ,26–27), К. заключает, что «в связи с понятием лика мы переходим к отношению личности к Богу… прежде же и более всего к понятию ипостаси (hypostasis, по латыни persona, т. е. маска, чему, строго говоря, соответствует греч. prosopeion, а не prosopon = лицо, личность)» (ОЛ,25). Так этимологическим путем возникают положения теологической персонологической парадигмы: «Ипостась есть истинная личность (но не личина!) Но ипостась — Божья личность» (ОЛ,26), откуда и вытекает отождествление личность — Бог («Истинная личность — Божья Ипостась» (ОЛ.26)), а далее и ключевой тезис парадигмы: «Признавая Бога единственною истинною личностью, мы должны понять человеческую и вообще тварную личность как причаствуемую человеком Божью Ипостась» (ОЛ.26). Сугубая связь парадигмы с догматом Троичности подчеркивается пояснением: «Триипостасная личность так же остается одною личностью, как Триипостасный Бог — одним Богом» (ОЛ,65).
Второе отождествление утверждается категорично: «Личность или вообще не может существовать, или есть триединство, образ и подобие Пресвятой Троицы» (ОЛ, 62). В силу него, в Триипостасной Личности Бога Ипостась Отца соотносится с первоединством, Ипостась Сына-Логоса — с саморазъединением и Ипостась Духа — с самовоссоединением. В этом соотнесении раскрывается внутреннее содержание личности, динамика личного бытия. Особенность персонологии К. в том, что его теория триединства делает невозможным отдельное описание Божественной (истинной, совершенной) личности и тварной, несовершенной личности: личность совершенная и несовершенная, Бог и тварь связаны внутренне и неразрывно. Ключ к этой связи — во втором моменте триединства, саморазъединении. Данный момент трактуется как утрата бытия, смерть Бога, что для Бога может означать только свободную отдачу, жертву Им Его бытия некоему «Другому», «Иному», что (кто) не есть Бог и чем (кем) может быть лишь тварь. Эта трактовка показывает, что, наряду с догматом Троичности, персонология К. в равной степени ориентирована и на догмат Искупления. Назначение же твари — восприять Божественную жертву и актуализовать в полноте воспринятые начала бытия, которые суть и начала личности, поскольку, по К., «в совершенстве своем всё сущее лично» (ОЛ,175). Т. о., динамика триединства имплицирует «необходимость… понять человека как тварный безличный субстрат… Смысл же человеческого и тварного бытия раскроется тогда как его «лицетворение» или «обожение» (theosis)» (ОЛ,26). Но, обретая полноту бытия и личности, «тварная личность» как «обоженная всецело тварь» прекращает уже быть «Иным» Богу, в качестве «Иного» уходит в небытие. К. трактует это как жертвенный отказ твари от «своего собственного» бытия, как «самоотдачу или жертвенную смерть твари», в которой та «свободно и радостно возвращается в небытие, дабы воскрес Бог, и возвращает себя отдавшемуся ей Богу» (ОЛ,187).
В итоге, личность наделяется у К. сугубо динамическим способом бытия. Бытие личности объемлет и Божественную и тварную реальность, вовлекая их в единую онтологическую динамику Бога и твари: «Сначала — только один Бог, потом — Бог умирающий и тварь возникающая, потом — только одна тварь вместо Бога, потом — тварь умирающая и Бог воскресающий, потом — опять один только Бог» (ОЛ,171–172), причем эта стадийность не темпоральная, а онтическая. Реализуя эту глобальную динамику, «личность всевременна и всепространственна» (ОЛ,87). Аналогично, и в аспекте телесности: этот неотъемлемый аспект личности («Личности без тела не бывает» (ОЛ,142)) таков, что «необходимо определить внешнее тело личности как особый личный аспект всего мира» (ОЛ,144). В своей структуре, глобальная динамика строится из двух взаимно противоположных ветвей: бытие — небытие — бытие Бога; небытие — бытие — небытие твари. Вся эта своеобразная «двойная спираль» — единая История или Драма Личности. Связующим узлом единства служит жертвенная смерть Бога — смерть, утверждаемая как необходимое, ключевое (но не финальное!) событие в Драме Личности — и потому вся суть личного бытия резюмируется сжатою формулой-девизом К.: Жизнь-чрез-Смерть. «Жизнь личности — ее воскресение чрез ее умирание» (ОЛ,68).
III. Коммуникационные контексты и связи
Как показано мною в особом тексте
[1], философский дискурс К. плотно насыщен явными и скрытыми референциями, диалогичен, а часто и полемичен. Но эта диалогичность реализуется в специфической стилистике Серебряного Века: почти никогда партнеры и оппоненты не называются прямо, диалог и полемика ведутся в форме аллюзий и недомолвок. Поэтому диалогическое и полемическое содержание метафизики К. есть важный, однако подспудный ее пласт, беглая предварительная реконструкция которого дана мною в другом тексте
[2]. Но своей большей частью, этот пласт не касается персонологии, и здесь мы лишь кратко обозначим главные персонологически существенные референции.
Прежде всего, к таковым мы отнесем два глубоких влияния, которые несет метафизика К.: влияние католической мистики любви (св. Бернарда и викторинцев, несколько менее — св. Франциска и францисканцев) и мысли Николая Кузанского. Влияние Кузанского, как и вскоре к нему присоединившееся влияние Дж. Бруно, критически важно для карсавинской концепции всеединства. Все три названные влияния-сближения признавались самим К. и обсуждались в литературе о нем; но незамеченным до сих пор оставалось одно сближение, прямо затрагивающее персонологию: глубинные совпадения с трактовкой человеческого бытия и личности в лютеранской теологии и у самого Лютера. По Лютеру, бытийное назначение человека исполняется в онтологическом событии «радостного обмена», der fröhliche Wechsel, между Христом и верующим человеком: событии, в котором человек причаствует Божественной природе, а его способ бытия реализуется как «реляционное бытие», конституируемое отношением человек — Бог (Христос). Очевидно родство этой концепции Лютера ключевым элементам персонологии К, — идее «двойной спирали» жертвенного обмена бытием меж Богом и тварью и трактовке человеческой личности как конституируемой в причастии Ипостаси Логоса.
Далее, в концепции симфонической личности очевидны влияния славянофильской идеологии и, в первую очередь, Хомякова; причем надо отметить, что по отношению к хомяковскому учению о соборности эта концепция должна рассматриваться как одна из редукций, низводящих экклезиологический концепт в горизонт эмпирического социального бытия. В современной же К. русской мысли можно отметить перекличку с интуитивистской персонологией Н.О.Лосского. Концепция «мира как органического целого» у Лосского явно близка представлению «симфонической личности мира» у К., ср.: «Весь мир есть личное бытие, актуализирующееся отчасти в человеческих личностях, отчасти же существующее зачаточно (в так называемой живой природе) или потенциально (в неодушевленной природе)» (ПУА,364).
Переходя от сближений к отмежеваниям и полемике, надо на первом месте назвать, конечно, всю линию антропологической персонологической парадигмы. Все многократные декларации К. об отказе наделять эмпирического человека статусом личности — в тоне полемики, адресуемой ко всей этой линии, всей западной метафизике (ср. выше цитату ОЛ,24). Другой постоянный оппонент К. — неоплатонизм; в частности, в персонологии К. находит, что триадология Плотина искажает триединую структуру личности, поскольку Плотин «слил второе и третье единства во всеединстве «Ума» (Nous)» (ОЛ,58). Он не рассматривает, однако, триаду Прокла mone — proodos — epistrophe, хотя она явно более близка к его триединству.
Литература и сокращения
ОСР — Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках. СПб, 1997 (1 изд. 1915). Монография
S — Saligia (1919) // Карсавин Л.П. Малые сочинения. СПб, 1994. Брошюра
NP — Noctes Petropolitanae (1922) // Карсавин Л.П. Малые сочинения. Монография
ФИ — Философия истории. СПб, 1993 (1 изд. 1923). Монография
ОН — О началах. СПб, 1994 (1 неполн. изд. 1925). Монография
АЭ — Апологетический этюд (1926) // Карсавин Л.П. Малые сочинения. Статья в научном журнале
ЦЛГ — Церковь, личность и государство // Карсавин Л.П. Малые сочинения. Брошюра
ФР — Феноменология революции (1927). Тверь, 1992. Статья в культурфилософском сборнике
ОЛ — О личности (1929) // Карсавин Л.П. Религиозно-философские сочинения. Т.1. М., 1992. Монография
ПУА — Проблема учения об ангелах (ангелология) (1929) // Символ (Париж), 1994, т.31, 357–365 (Нем. оригинал: Das Problem der Lehre über den Engeln (Angelologie) // Der Russische Gedanke, 1929). Статья в научном журнале
ОРСЧ — Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Париж, 1972 (1 изд. 1939)
ПЕРЕПУТЬЯ РУССКОЙ СОФИОЛОГИИ
Тема о Софии Премудрости Божией — нелегкая тема. И дело даже не в том, что она разветвлена и обширна, имеет древнюю, долгую историю… — нет, куда больше трудностей вносит то, что во всех своих многочисленных аспектах — богословских и философских, иконографических, исторических — она запутана в клубок вопросов, по которым, вместо единого мнения и бесспорного ответа — лишь спектр разноречивых позиций. Так было уже и до новейшего этапа, которым стали учения о Софии и «спор о Софии» в русской мысли нашего века; и этот последний этап, вместо разрешения старых проблем и противоречий, скорей добавил к ним новые.
Так почему и зачем русская мысль погрузилась во все это? Что принесло это нам — и вселенскому разуму? К сожалению, сам факт бурного увлечения темой, ярких сил, привлеченных к ней, и многих усилий, отданных ей, — факт этот еще отнюдь не служит залогом ценных и разумных плодов. Умственная история наша, увы, нисколько не дает оснований для «презумпции плодотворности» всех увлечений русского сознания — или хотя бы самых крупных и стойких из них. Скорей уж напротив. И великое, и просто дельное, как правило, созидалось в русской культуре не столько «увлечениями» — течениями, движениями… — сколько помимо них. Течения же — будь то масонство или народничество, нигилизм или марксизм или, помельче взять, какие-нибудь «новые религиозные сознания» или «мистические анархизмы» — струились искренне, горячо, чаще всего были и не злокачественны в нравственном отношении — только много ли вышло толку? много ли оставило по себе по-настоящему крупного и ценного, умонасыщающего и душепитательного?
Тут сразу скажут, что мы называем явления иного рода, поветрия беспочвенного сознания, интеллигентской моды, тогда как тема Софии — о! ведь это из стержневого и глубинного, тема, идущая от самых корней русской духовности, неотрывная от истоков Православия… — Но тут-то уже и встречает нас первая из тех аберраций и подмен, что так типичны для нашей темы. Для действительных основ православного миросозерцания — и русского, если таковое имеется, — София Премудрость Божия — тема никак не стержневая, а только порой выдаваемая за таковую. На поверку, по своему характеру, типологии это как раз и есть довольно «интеллигентская» тема. Особенно на ее последнем, русском этапе — который мы и хотим обсудить — в ней отчетливо выступают родовые черты интеллигентского сознания, как они определяются в известных анализах Г. П. Федотова: мы тут найдем и «идейность», и «беспочвенность», найдем характерные примеры, когда пришедшее из странных и случайных источников, непроверенное и недодуманное, усиленно и сразу начинает выдвигаться на заглавную роль, объявляется решением извечных вопросов мысли и веры. И вовсе не так уж неоправданно видеть в перепутьях и завихрениях русской софиологии некоторый своеобразный аспект, некоторую грань — скажем опять с Федотовым — «трагедии интеллигенции». В классической своей статье с этим именем Федотов прослеживает пути интеллигентского сознания издалека, с долгою предысторией, с «прологами» в Киеве и в Москве. Конечно же, путь софиологии отнюдь не является буквальным и прямым сколком с этих путей; и все же глубокие параллели будут очевидны читателю без наших особых указаний. Чтобы понять существо этого пути, для нас тоже будет полезен последовательный подход, с зачином издалека. История нашей темы еще древней, и пролог к ней — не в Киеве, а в античной Александрии.
1.
Александрия сегодня — в меру обшарпанный портовый город, еще хранящий некоторую левантийскую пряность и пестроту, но уж решительно ничем, кроме имени, неспособный напомнить нам о феномене Александрии в истории человеческой цивилизации. Эллинистическая Александрия была самым фантастическим местом на земле, вселенским скрещеньем всех сущих рас и культур, наречий, верований, обычаев, средоточием эзотерических культов, возвышенных учений и низменных пороков. Но — отошлем к беллетристам за сочными описаниями «быта и нравов»; нас занимает лишь Александрия духовная.
Важно, прежде всего, что град Александра никак не был для сталкивавшихся в нем идей и культур простым местом бытования. Место обладало своею магией, обладало мощною творческой переплавляющей силой. Греческий язык эллинистической эпохи создал редкостное богатство слов, терминов для обозначения явлений контакта (соприкосновения, взаимопроникновения, соединения, смешивания, слияния…) — и это менее всего удивляет нас, ибо именно эти-то явления и определяли происходившее в эллинистическом мире. Александрия дала свое имя особому типу культуры — культуре смешанной, слагающейся из элементов, разнородных во всех отношениях — этническом, религиозном, социальном, культурном; и кроме того — что также важно! — не доводящей, не нивелирующей свои слагаемые до жесткого монолитного единства, но оставляющей их природные различия не до конца согласованными или синтезированными, сохраняя, тем самым, долю разнородности и противоречивости. В культурах древности все диктует и все символизирует в себе культ: верховное божество Александрии, Серапис, слил в себе всех богов Греции, Египта и заодно Иудеи; он был Озирисом, Зевсом, Иао (Яхве), Плутоном и Аполлоном, Асклепием и египетским Солнцебогом… Сегодня мы выражаем эти черты стандартною формулой: Александрийская культура — синкретическая культура. Но формула эта, скорее пежоративного оттенка, не передает главного: уникальной порождающей силы александрийского синкретизма. Как неимоверный бродильный чан Мирового Духа, античная Александрия принимала в себя эллинское умозрение и иудейский монотеизм, науку хождения пред Богом Живым и египетскую религию мертвых, иранский митраизм и зороастризм, доживающие пережитки жестокой ассиро-вавилонской архаики… — и таинственно они перебраживали в ней в новые духовные миры: гносис — неоплатонизм — христианство, — которые потом на много веков определили собою жизнь европейской культуры, сложили ее умственный стиль и облик, задали ее вечные, сквозные темы. Разумеется, она не была, особенно для христианства и неоплатонизма, единственным их отечеством и истоком; и все же не будет преувеличением сказать, что все почти составляющие, все нити нашей умственной истории тянутся из Александрии или проходят через Александрию. Что ж до Софии, то для нее нет никакой нужды в оговорках. Отечество у нее единственно и бесспорно: София Премудрость Божия — детище александрийского духа.
Что общего у Афин и Иерусалима? — подразумевая заведомо отрицательный ответ, вопрошал сурово Тертуллиан (с надрывным пережимом изгонявший из христианства всякое размышление и здравый разум — покуда не дал петуха, сорвавшись в сектантство). Но, вопреки Тертуллиану, ответ на его вопрос положителен и даже вполне очевиден. Что общего у Афин и Иерусалима? — Александрия. Ближайшим же образом — иудейская община Александрии, среда просвещенного эллинизированного еврейства. Мы не будем сейчас описывать ни эту среду, ни вырабатывавшийся ею синтез эллинской метафизики и иудейской религии, синкретическую рецепцию ветхозаветных устоев в свете понятий, идей, концептуальных структур греческой мысли, и в первую очередь, мысли платонической. Для нас важно сейчас лишь следующее: в последние столетия эры до Рождества Христова, в указанной среде сложился — частью будучи создан в ней же, а частью окончательно отредактирован, оформлен и сведен воедино — так называемый «корпус текстов Премудрости», или «хохмическая литература» (др.-евр. hochmah, мудрость). Его составляли позднебибл ейские книги, частью уже не вошедшие в еврейский (масоретский) канон, а включенные лишь в греческую Септуагинту: Притчи Соломона, Книга Премудрости Соломона, Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова, Книга Екклезиаста; иногда к этому корпусу относят также Песнь Песней, Псалтирь и Книгу Иова. По традиции, большинство текстов корпуса были приписываемы — впрочем, достаточно условно — царю Соломону (X в. до н. э.), сыну Давида, строителю Храма и легендарному мудрецу. Этот-то корпус и дал жизнь всей теме Премудрости в христианском мире на все будущие времена. Впрочем, рядом с ним необходимо упомянуть и учение о Софии Филона Александрийского (I в. н. э.), также являющееся существенною и органической частью александрийской софиологии.
Вглядимся, какою же выступает здесь Премудрость — Хохма — София. Отчетливо и несомненно, мы различаем греческое ядро и основу. К ним следует отнести, прежде всего, то кардинальное положение, что полнота мудрости и истинная мудрость принадлежат не человеку, а богу: именно так, согласно Диогену Лаэрцию (1, 12), учил уже Пифагор, и именно это представление о мудрости, софии, стало преобладающим в эллинском мире, сочетаясь с также традиционным, находимым уже в Гомеровых гимнах, сближением «софии» с «технэ», художественно-ремесленным и строительно-проектирующим, демиургическим или, говоря современно, дизайнерским мастерством. Данное положение нет нужды особо отыскивать в «софийном корпусе»: оно проходит там всюду, сквозною нитью (см. хотя бы Иов 28).
Далее, в центре всего поля значений греческой «софии» (как и русской «мудрости») находятся, конечно, значения, выражающие обладание умом, мыслью, ведением. И этот «умный» аспект Софии — тоже на видном месте в софийных книгах, а особенно в самой александрийской из них, девтероканонической Книге Премудрости Соломона. Вот, скажем: «Мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее, знает тонкости слов и разрешение загадок, предузнает знамения и чудеса и последствия лет и времен» (Прем 8, 8). Аспект «умный» органически дополняется «философским»: человеку подобает искать мудрости, стремиться к ней, питать к ней любовь — быть любомудром, философом. Этот классический греческий мотив, побуждение к философии, мы тоже находим без труда: «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня» (Притч 8, 17), — говорит София. Софию должно искать паче всех земных сокровищ и благ: «Лучше знание, нежели отборное золото… мудрость лучше жемчуга» (Притч 8, 10-11); и «желание премудрости возводит на пир царствия» (Прем 6, 20). (Последний стих, греческий мотив, арранжированный с восточною exuberance, — отличный малый образчик александрийского стиля!) — И столь же органично для греческого сознания, к мотивам «умному» и «философскому» присоединяется третий, «педагогический»: «Начало ее (премудрости. — С.X.) есть искреннейшее желание учения» (Прем 6, 17). При внешней малозначительности, этот последний мотив отразил в себе глубокую и специфическую особенность греческого сознания как сознания культурного par excellence, ориентированного на труд культивирования, возделывания человеческой натуры. Тут греческое сознание выступает предтечей западного, европейского сознания — в отличие от Востока и культового сознания, которое предпочитает речи об учебе — вещания о наитии, интуиции, «цельном знании» или прямо — о посвящении, тайноведении. Недаром этот столь греческий тезис мы находим всего в одном месте софийного корпуса; а многократно в этом корпусе повторен тезис другой, утверждающий за премудростью совсем другое начало — о чем еще скажем ниже.
Наконец, греческой софии изначально и неотъемлемо присущи этические и эстетические аспекты — и мы опять-таки, в свой черед, обнаруживаем их богато представленными в софийных книгах. Премудрость — в тесной и обоюдной связи с нравственными началами: «Плоды ее суть добродетели» (Прем 8, 7) — но в то же время нравственные условия и предшествуют обретению мудрости, являясь для него необходимою предпосылкой: «В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху» (Прем 1, 4). Что же до эстетических мотивов, то с ними связаны самые, пожалуй, известные софийные тексты из Книги Притч (гл. 8): явно отражая пифагорейские и платонические влияния, они говорят об эстетике мироздания, о космосе как произведении художества, и премудрость выступает здесь в качестве эстетического принципа: София как Красота.
Большинство из перечисленных аспектов Софии не чужды и ветхозаветной традиции. Иудейские начала сказываются в софийном корпусе, за малыми исключениями, не столько внесением каких-либо новых крупных тем, сколько некими сдвигами, переменой акцентов или окраски, появлением новых граней у элементов той же основы. Так, тезис о принадлежности полноты мудрости лишь одному Богу можно считать общим для двух традиций; однако его яркое, аффектированное утверждение в Книге Иова (гл. 28) несет резко выраженную экзистенциальную окраску — характерно ветхозаветную, иудейскую, но отнюдь не греческую. Далее, мотивы «умные», философские и педагогические остаются чисто греческим ареалом темы; но сфера этических мотивов является снова общей — ив ней иудейское влияние сказывается определенными идейными сдвигами. Премудрость связывается с исполнением Закона, с иудейским каноном благочестия и богопочитания; и главным этическим положением темы оказывается знаменитое: «Начало Премудрости — страх Господень», — повторяемое, с малыми вариациями, многократно и в разных книгах (Иов 28, 28; Пс 110, 9; Притч 1, 7; 9, 10; Сир 1, 15). Известный сдвиг можно отметить и в эстетическом аспекте: в иудейской космологии на первом месте — сотворение мира, отсутствующее у греков; и соответственно, в центре софийной эстетики оказывается творение как художественный акт.
Казалось бы, слагающих стихий всего две, эллинская и иудейская, — и, стало быть, мы уже сказали все главное об александрийской софиологии. Однако ж нет! Имеется еще одно, не менее важное: роль самой Александрии, плавильного тигля, бродильного чана, в котором все совершалось. Александрия выработала собственный стиль мышления и тип дискурса, которые налагали сильнейшую печать на все плоды александрийского духа. Не будем сейчас анализировать этот стиль и тип, но выделим существенное для нас: в числе ведущих и характерных принципов александрийского мышления и письма были символизм и аллегоризм (в Александрии родилась аллегорическая школа толкования священных текстов), стилистическая избыточность, риторичность. Для темы Софии эти свойства сыграли роль роковую. Поистине благодарный предмет размышлений для филологии и герменевтики: историческая судьба явления оказалась определяемою особенностями дискурса и стиля…
Перенасыщенность символами и аллегориями, иносказаниями и метафорами неизбежно запутывала тему, приводила к размытости и неоднозначности выражения. Все понятия, идеи, начала могли сходиться и расходиться, слипаться или раздваиваться; приобретали тенденцию обрастать длинными цепочками отождествлений. Отождествления понятий делались по самым разным основаниям и принципам и чаще всего были, по своей сути, не подлинными отождествлениями, а только уподоблениями, сравнениями, сближениями. Итогом же было то, что каждое понятие, начиная с самой Софии, вместо ясного и единого смыслового содержания превращалось в клубок спутанных и переплетенных смыслов. Дополнительную размытость смысла вносило активное пользование приемами риторических и дидактических жанров. Так, в частности, во многих из этих жанров — к примеру, в притчах — обычным приемом стиля была персонификация отвлеченных понятий, наделение их «лицами» и речами. Из этого невинного обстоятельства выросли самые неразрешимые и многовековые контроверзы в теме Софии.
В Книге Притч и в меньшей мере в других книгах Корпуса, Мудрость произносит монологи и совершает действия: она, скажем, «построила себе дом и приготовила у себя трапезу», она созывает к себе городской люд (хотя стоит заметить, что в той же гл. 9 Притч так же персонифицируется и так же к себе созывает — Глупость!). И когда поздней к Писанию начали обращаться для построения богословских и философских теорий, для создания догматики — то многими и много раз стилистический прием воспринят был как догматический и онтологический тезис; а грамматический факт принадлежности греческой «софии» женскому роду существительных воспринят был как теологический факт. Последствия этих qui pro quo были далеко идущими. Если полностью и всерьез, на уровне богословском и философском, счесть Софию — Лицом, да еще и женского пола, — мысль ввергается в поистине бездонную пучину проблем, начиная с вопроса о тварности или нетварности этого новоявленного Лица.
Так специфическими чертами александрийского дискурса в софийном корпусе посеяны были семена будущих нескончаемых и неразрешимых конфликтов и разноречий, множественных и далеко расходящихся позиций. Главные, ключевые альтернативы заключаются в двух вопросах: является ли София — Хохма — Премудрость как предмет теологической мысли —
персонифицированной, либо неперсонифицированной?
несотворенной, либо сотворенной?
Как можно видеть из нашего изложения, прочтение Корпуса, выводящее из него концепцию персонифицированной Софии, не только не является необходимостью, но скорее может рассматриваться как своего рода «приумножение сущностей»; если же его не принять, второй вопрос попросту исчезает — и, в итоге, для богословия нет нужды ни в какой особой «софиологии». Тем не менее, такое прочтение, почти неизбежно рождающее «софийную проблему» — или круг проблем — стало крайне распространенным. И дело тут не в простом пренебрежении герменевтикой, заботой о корректном истолковании текста. Даже когда этой заботой не пренебрегали, это помогало отнюдь не всегда; и даже сам Ориген, один из родоначальников библейской герменевтики, склонялся к указанному прочтению. Дело в том, что по свойствам александрийского письма с его кружащимся и ветвящимся смыслом, полностью исключить такие прочтения, доказать их недопустимость — нельзя в принципе. Большие традиции, выраставшие на александрийской почве, обходились с заложенною в этой почве софийной проблемой весьма по-разному. В неоплатонизме, включая и собственно александрийскую его школу, София не заняла никакого места: без персонализации Премудрости софийная тематика не могла уйти далеко, персонализация же была чуждой неоплатонической мысли. Зато совершенно обратной была судьба ее в гностицизме. Во всей истории мысли, гносис — главное и необъятное поле софиологической спекуляции. Специфические черты позднеантичного синкретизма получили тут неограниченную свободу, и София оказалась захвачена в безудержное кружение возбужденной мысли, без конца отождествляющей-разделяющей все со всем, строящей иерархии начал и цепи эонов, сплетающей хоровод, в котором парами-«сизигиями» выступают олицетворенные категории: Глубина и Молчание, Ум и Истина, Смысл и Жизнь… далее со всеми остановками. Приключения Софии в этом авантюрном романе описывает с увлечением Владимир Соловьев, для которого такая стихия мысли была родной: «Последний из тридцати — женский эон, София — возгорается пламенным желанием непосредственно знать или созерцать Первоотца — Глубину… Но София, презревши как своего супруга желанного, так и всю иерархию двадцати семи эонов, необузданно устремляется в бездну несказанной сущности. Невозможность в нее проникнуть, при страстном желании этого, повергли Софию в состояние недоумения, печали, страха и изумления, и в таком состоянии она произвела…» — согласимся, что такую цитату безразлично, где оборвать. Как по общему стилю, так и по философской убедительности, она несколько напоминает нам либретто корейского балета: «Товарищ Нам Сук, горя желанием угощать обедом командующего КНРА товарища Ким Ир Сена и бойцов, поднимается на гору под градом пуль, неся на голове накаленный котел с кашей».
Новый Завет предельно далек от накаленного гностического котла, где с прочей кашей варится и София, — далек куда больше, чем от ортодоксальной религии Закона. Он не изгоняет Премудрость из своей речи, однако отводит ей крайне умеренное место, очерчивая лаконическую и достаточно ясную трактовку. Ключевые формулы этой трактовки — в первой главе Первого Послания к Коринфянам. Павел говорит: «Проповедуем Христа распятого… Христа, Божию силу и Божию премудрость» (1 Кор 1, 23-24); «от Него (Бога. — С.X.) и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением» (1 Кор 1, 30). Премудрость здесь относится ко Христу и утверждается как одно из Его именований, «сотериологических предикатов». Ставя этот предикат в один ряд с другими, текст никак не толкает гипостазировать его и принимать, что не только Христос есть Премудрость Божия, но и Премудрость Божия есть сам Христос (а не просто одно из свойств, принадлежащих Ему). С другой стороны, он не содержит и никакого запрета к этому. Но можно с полной определенностью сказать одно: Новый Завет никоим образом не дает ни поводов, ни достаточного материала к тому, чтобы строить какое-то особое «учение о премудрости» или, тем более, выдвигать его в центр христианского вероучения.
Становящаяся христианская мысль обнаруживала не столь полную независимость от инородных стихий, как христианское Откровение. Что только естественно. Уже у ранних церковных писателей, начиная с Иустина Философа (II в.), можно встретить ту же персонализованную премудрость, что и в ветхозаветном софийном корпусе — однако с важною разницей: следуя Новому Завету, Премудрость со всею определенностью отождествляют со Христом, воплощенным Словом-Логосом. Подобная персонализация практически не сопровождалась какими-либо тенденциями к софийному богомыслию, развертыванию особой софийной тематики. Но она влекла естественно за собой начало посвящений храмов Премудрости, влекла отведение Премудрости известного места в жизни Церкви. Так складывалась история Софии Премудрости в Византии — своего рода «пролог в Константинополе» к нашей русской теме. Но этот второй пролог не в пример скромнее пролога в Александрии. В нем есть, пожалуй, всего одно крупное и важное для нас событие: посвящение Софии главного храма империи ромеев, знаменитой Агиа-София в Константинополе. Посвящение это восходит еще к Константину Великому: Юстинианов храм возведен был на месте сгоревшего и одноименного Константинова храма. Отождествление Софии со Христом-Логосом незыблемо предполагалось в этом посвящении; в византийском сказании о построении Св. Софии говорится: «Святая София, что значит Слово Божие», и о. Георгий Флоровский пишет: «В Византии всегда и неизменно считали Константинопольскую Софию храмом Слова». Одно из многих свидетельств этого — обычная формула названия: храм
Премудрости Слова Божия[1]. Эта простая формула сразу и твердо восстанавливает новозаветное понимание, делая Премудрость атрибутом Христа и вполне исключая взгляд на нее как на некую самостоятельную фигуру.
По естественной логике не столько богословского, сколько государственного, имперского сознания, константинопольская Св. София инспирировала появление храмов Св. Софии повсюду в орбите византийских влияний. Рассматривая этот процесс, Флоровский приходит к выводу, что в его основе лежали, по преимуществу, мотивы местного утверждения, национального или же церковного: центр растущего, возвышающегося царства, княжества, церковного региона заявляет о своем значении, посвящая свой главный, «великий» храм Св. Софии — и тем как бы уподобляя себя Царьграду. Справедливость этого вывода о. Георгия подтверждается еще тем, что подобному же распространению, «тиражированию», подвергался и другой символ Константинополя, Золотые Ворота. Как писал в известном своем «Путешествии» не менее известный «бельведерский митрофан», А. Н. Муравьев, «предкам нашим казалось, что не могло быть другого собора, кроме Святой Софии; им казалось, что не могла стоять и столица без златых ворот… удельные князья любили давать сие название главному входу в города свои»
[2]. Софийные храмы Древней Руси, равно как и софийная тема в русской иконографии, в подробности изучены и освещены в литературе, и мы не будем сейчас останавливаться на этом. Подчеркнем только общий вывод: ни в распространении софийных храмов, ни в прочих формах присутствия Софии Премудрости в Древней Руси, за вычетом единичных эпизодов наносного характера, нет оснований видеть знаки какого-то особого почитания, культа Софии или, тем более, наклонность к софийным мудрствованиям в духе позднейшей русской софиологии.
2.
Ко времени появления русской софиологии тема Премудрости Божией решительно никак и нигде не присутствовала в русской жизни. Любой тщательный розыск не обнаружит ее малейших следов — будь то в русской Церкви (где наличие софийных храмов отнюдь не выливалось в наличие «темы Софии»), русской мысли или русской культуре. Последние отголоски этой темы можно найти у нас разве что в масонстве конца XVIII — начала XIX столетия. Западная мистика, начиная с позднего Средневековья, небольшой, но заметной пунктирной линией включала в себя мистику Софии. В ней были и крупные имена — Генрих Сузо, назвавший себя «служителем вечной Премудрости» (ок. 1295-1366), Парацельс (1493-1541), Яков Беме (1575-1624), Эммануил Сведенборг (1688-1772). Обильная литература, читавшаяся и распространявшаяся в масонских кругах, вобрала в себя часть этого софийного русла; отдельные сочинения, принадлежавшие к нему, были переведены по-русски. Но уже к середине XIX в. все это было прочно забыто.
Подобно богине мудрости Афине, русская софиология тоже появилась на свет из одной не вполне обыкновенной головы. Однако юный Владимир Соловьев очень сильно отличался от Зевса Вседержителя — и произведения их оказались тоже весьма разного свойства. Начало софиинои деятельности Соловьева поражает своею причудливой эксцентричностью (хотя, впрочем, и дальнейший ход этой деятельности тоже отнюдь не лишен последней). Это — общеизвестные страницы, прочно вошедшие в нашу умственную историю, рассказанные им самим в блестящих стихах.
Увлекшись темой Софии еще в юности, после окончания Московского Университета Соловьев всецело отдается ей, погружаясь в усердное изучение всей доступной литературы. Отправившись для сей цели в Лондон летом 1875 г., он пережил там мистическое видение — встречу с самою Софией, услышал от нее повеление направиться в Египет — и повиновался. В Египте, в пустынной окрестности Каира, его посещает еще одно видение — «третье свидание» (первое было дано ему еще в детские годы). В этот же период он работает над своим первым софиологическим сочинением, которое вбирает в себя все плоды столь разной и столь кипучей жизни его духа — литературных разысканий, теолого-философских размышлений и last but not least, прямого мистического опыта. Это сочинение пишется им по-французски (в видах издания за границей) в Лондоне и Каире, затем в Италии, в Сорренто, куда он перебирается из Египта весною 1876 г. В письме к отцу он именует его «малым по объему, но великим по значению сочинением», и он дает ему подобающе громкое название: «София. Начала вселенского учения»; в помянутом письме название приводится в ином варианте, еще более эпохального звучания: «Начала вселенской религии».
Первенец русской софиологии не был ни завершен, ни опубликован автором; он увидел впервые свет в Лозанне в 1978 г. Без сомнения, самому Соловьеву очень скоро стали видны невозможные качества «великого сочинения»; настолько несообразного и незрелого текста не найти во всем его собрании сочинений. Неровная и разнохарактерная форма, элементарные, но оч-чень решительные рассуждения, в два счета достигающие самых глобальных и фундаментальных выводов: желающие установить «основы всеобщего развития» и произвести «не только синтез всех религий, но и синтез религии, философии и науки». Всего-то навсего. Набрасываемые схемы богословских начал, философских позиций, космического и исторического процесса жонглируют идеями и понятиями гностицизма, отчасти — каббалы. И ко всему тому — экзальтация, диалоги Софии с Философом, который «смотрит в глубокую лазурь» ее очей и «слышит музыку» ее голоса, вторжения медиумического письма, когда вдруг резко, разом меняются и почерк, и слог — и уж это Она сама водит его рукою, давая своему рыцарю наставления, открывая тайны и клянясь в верности… Можно подумать: тут явно из ряда вон выходящая вещь, и сам автор никого не знакомил с нею — так надо ли говорить о ней, надо ли ставить сие лыко в строку русской софиологии? — Ответим: надо. При всех уникальных свойствах, соловьевская «София» — симптоматичный и даже, если хотите, типичный текст для того течения мысли, предтечею-провозвестницей которого она стала.
Ближайшим же образом, текст вполне показателен для зрелой и окончательной софиологии самого Соловьева. Это всегда у него осталось: установка религиозного новатора, который не следует в русле какой-либо традиции, но отвергает все старые русла, реформирует, обновляет или соединяет их. Поэтому та линия, тот контекст, которые он видит и выстраивает для своей мысли, оказываются в сфере вольного религиозного, но внецерковного умозрения, или «свободной теософии» (термин Шеллинга), не согласующей себя с догматами веры, но разве что «учитывающей» их, чтобы обращаться с ними по усмотрению. Именно этому жанру и принадлежит древний гносис, а в Новое время — западная софийная мистика, тогда как православная мысль диаметрально противоположна ему: она всегда видит себя живущей в традиции, и притом совершенно определенной — традиции, что сквозь века тщательно хранит идентичность своих духовных установок и имеет в своей основе святоотеческое предание. Предание это — истинный стержень всего православного типа мысли — всегда было Соловьеву близко и интересно куда меньше, чем гностики. Понятно, что, обращаясь к Софии, «свободная теософия» уже не имеет особой ориентации на новозаветную, церковную и патриотическую трактовку Премудрости. Как правило, София имеет здесь ту или иную связь с Логосом, но связь эта не носит характера прямого и однозначного отождествления. На первом плане, Премудрость выступает самостоятельною фигурою, с отчетливым акцентом на женском роде ее, и связь, порой и более тесная, может у нее существовать также с Богоматерью, Церковью, она может принимать лик ангела, и т. д. и т. п. Вспомним бесчисленные метаморфозы Софии у гностиков.
Сказанное не объясняет, однако, одного: огромного влияния и значения Соловьева и соловьевской софиологии в истории русской мысли. Что и естественно, ибо такая роль еще никак не вытекает ни из юношеской «Софии», ни из тяги к «свободной теософии» и религиозному реформаторству. Ее обеспечивает нечто совсем иное: открытие нового религиозно-философского направления, по которому следом за Соловьевым пошли многие. Сомнительная софийная мистика соединялась у Соловьева с несомненным философским даром и мощным системосозидательным импульсом. И это соединение творческих потенций приводит к тому, что Соловьев открывает для софиологии новый путь, новое русло, в котором она становится уже не привычным конгломератом визионерства, гностических фантазий и рационалистических схем (и с тем — вполне маргинальным феноменом для истории мысли), но достаточно основательным философским направлением: метафизикой всеединства.
Связь Софии и всеединства — счастливая находка, открытие Соловьева, ставшее ключом к появлению единственного оригинального направления в русской философии. Всеединство давно было известно и признано в качестве принципа или символа, весьма плодотворного для метафизических построений. Это — идеальное и всеохватное единство множества, в котором сверхрациональным образом осуществляется тождественность всякой части — целому; оно недостижимо в эмпирическом, «падшем» мире, где непреодолимы разъединенность и конечность, и ближайшим родственным ему понятием может служить платоновский мир идей. Учение о всеединстве развивалось древнегреческими философами, а в христианскую эпоху получило порядочное распространение в широкой, влиятельной традиции христианского платонизма; его, в частности, весьма продвинул и углубил крупнейший мыслитель Возрождения кардинал Николай Кузанский (1401—1464). В Новое время оно почти исчезло из философии, однако присутствует у Шеллинга, чья философия, особенно поздняя, явно повлияла на Соловьева: мы найдем в ней не только всеединство, но и многие понятия и мифологемы («природа в Боге», «мировая душа» и др.)» какими Соловьев описывает Софию, впервые — если говорить об открытых текстах — вводя ее в собственную философию в Седьмом из «Чтений о Богочеловечестве» (1878). И все же связь, о которой мы говорим, у Шеллинга не акцентируется и не используется, не делается ключом и пружиною философского построения.
В контексте европейской философии конца XIX века, софиология, развиваемая как метафизика всеединства, — или же метафизика всеединства, строимая под знаком Софии, — едва ли могла восприниматься как крупная новация и привлекательный путь. Попытки построения религиозно-философских систем на базе более или менее умозрительного, обобщенно-универсализованного христианства входили издавна в европейский философский процесс и уж успели отойти на периферию. Ранняя метафизика Соловьева, изжив неприкрытый гностицизм «Софии», сильнее приблизилась зато к построениям немецкой философии — классического идеализма и отчасти романтизма. Стремление к всеохватному концептуальному синтезу, использующему принцип триады, не могло не ассоциироваться с Гегелем, внедрение в метафизику христианско-гностических мифологем — с поздним Шеллингом, и в целом, для европейского взгляда легко создавалось впечатление некоего запоздалого гибрида шеллингианства и гегельянства (впечатление, верное вовсе не до конца, ибо любые влияния никогда не уничтожали у Соловьева врожденной самостоятельности мысли в ее ядре). Но взгляд из России оказывался совсем иным — ибо иною была здесь философская и духовная ситуация.
Главной чертой философской ситуации было затянувшееся отсутствие русской философии. Независимо от всех прений славянофилов и западников, сама жизнь, сам ход русского самосознания с ясностью обнаруживали, что простой образованностью, усвоением европейской философии и присоединением к ее трудам не исчерпываются потребности русской культуры и русской мысли — ибо в эти потребности входит и что-то более самостоятельное, свое русло, свой философский путь. Этого долго не возникало — и философия Соловьева стала первым опытом, способным выполнить зачинательскую миссию. Она не только была первой философской системой, созданною в России, но и звала к продолжению своих тем. У нее были явные стимулирующие свойства: написанные логично, ясно, задорно, соловьев-ские тексты с легкостью возбуждали и притяжение, и отталкивание, и желание конструктивно-критичного философского продумывания. Но в полной мере вся ее роль понятна только в связи с шедшей за ней эпохой. Нельзя представить себе более тесной связи, более полного, интимного историко-культурного совпадения, чем Владимир Соловьев — и Русский религиозно-философский ренессанс. Облик Соловьева — и призрак его Софии — чудятся и мелькают всюду и на всем протяжении этой уникальной поры в жизни русского духа. Своим всеединством он задал Серебряному веку серьезную (хотя все ж, увы, архаичную) тему и большую работу; своей Софией он не просто оказался созвучен слабостям и соблазнам этой эпохи, но доброй долей создал эти соблазны. Российский Серебряный век, как мир древней Александрии, — мир в преддверии и предчувствии катастрофы. Серебряный век — русская Александрия, и Соловьев с Софией — пророк ее. Прошу не понять как юмор.
* * *
Следующим опытом русской софиологии стала философия Флоренского — ранняя его философия, представленная в знаменитой книге «Столп и утверждение Истины». По непреложному закону развития, этот второй опыт — своего рода антитезис к софиологии Соловьева; едва ли в нем можно отыскать какие-либо соловьевские влияния, да и по всему складу личности и творчества два мыслителя были полной противоположностью друг другу. Типологически и структурно, перед нами — вполне однородные явления, системы софиологии, развиваемой как метафизика всеединства; однако и всеединство, и София, и связь между ними представлены у Флоренского по-своему, совсем не так, как у Соловьева.
Мысль Флоренского развивается совершенно в ином ключе и в иной стихии: если Соловьев стремится явить новое учение, стоящее выше всех традиций как ограниченных, искаженных выражений всеобщей истины и вселенской религии, то Флоренский утверждает своим главным принципом верность церковно-православной традиции и своей единственной целью — раскрытие ее учения. Соответственно, ему требуется представить и всеединство, и Софию, и софиологию как элементы ортодоксального православного вероучения. Задача заведомо неразрешима — и однако о. Павел с настойчивостью и последовательностью строит ее решение. Решение складывается из двух частей: Флоренский разрабатывает собственные оригинальные концепции всеединства и Софии, основанные целиком на представлениях платонизма и христианского платонизма; и он доказывает, что платонизм собственно и есть ортодоксальное православное учение.
Как известно, в патристике имеется несколько своего рода мостов, переходных звеньев, посредством которых в христианское умозрение входят, внедряются элементы платонизма. Один из главных таких мостов — концепция замыслов Бога о мире и о каждой из вещей, каждом из существ в мире. Ясно, что эта концепция — прямой слепок с платоновской идеи; но она допускает и довольно основательную христианизацию, находя у отцов Церкви активное применение и развитие. Отсюда, в частности, вырастает учение об образе и подобии Божием в творении, на которое будет существенно опираться в своей софиологии Булгаков, друг и отчасти последователь о. Павла. У Флоренского же в «Столпе» замысел, мысль Бога о тварной вещи или же личности трактуется как Любовь Божия к ней. Этот конкретный замысел Божий есть «идеальный первообраз» тварной личности, или ее «любовь-идея-монада»; и это — порождающий концепт, «атом» для всех построений Флоренского. Он рассматривает полную совокупность, собрание всех «монад», отвечающих всем индивидуальностям всевременного и всепространственного мира, устанавливает свойства такого собрания и находит, что оно, будучи скрепляемо и животворимо любовью, есть совершенное единство — и не просто единство, но «организм» — и не просто организм, но и личность, ипостась. Последний вывод уже приближает вплотную к цели. О. Павел заключает, что собрание всех замыслов Божиих есть «идеальная личность мира» и есть «осуществленная Мудрость Божия, Хохма, София или Премудрость». Вместе с тем, как идеальное единство множества, эта София-Хохма есть и всеединство.
В построениях Флоренского задан вектор, определяющая тенденция всей русской софиологии после Соловьева: ее представители искренне пытались преодолеть ту оторванность от православной традиции, от церковного сознания и святоотеческой мысли, что явно присутствовала у Соловьева. В отличие от него, у них всех — очевидное стремление интегрировать свою мысль в Традицию, представить свои учения о Софии органичною частью и продолжением ее. Но эти благие намерения не могли быть до конца успешны по самому существу дела. Для всех постсоловьевских опытов русской софиологии типично одно и то же: они направляют свои усилия, чтобы преодолеть расхождения софийной мысли с догматикой и вероучением Православия — но, устраняя одни расхождения, они немедленно впадают в другие.
Что же до Флоренского, то у него истоком всех расхождений служит его полная и безоговорочная приверженность платонизму. Она выходит далеко за пределы ограниченного и переосмысливающего принятия отдельных элементов платонизма у отцов Церкви, и она влечет его к выводу, заведомо не выдерживающему критики: будто в сфере философии христианство и платонизм попросту совпадают, суть одно. Но тут имеется и другая сторона. Хоть вывод и неприемлем, но философский дар о. Павла позволил все же ему достичь истинного корня всей запутанной софийной проблемы: этот корень лежит, действительно, в теме «Платонизм и христианство», или же «Платонизм и православие».
Решение этой темы сложилось в Православии далеко не сразу; решающее продвижение достигнуто было лишь в Византии, на закате существования Империи. Долго вынашиваемое, оно обладало зато особой зрелостью и весомостью, поскольку явилось не простым продуктом теоретического разума, отвлеченной теологической или философской мысли. Будучи выражено и обосновано в писаниях св. Григория Паламы (1296-1359), оно имело прямую связь с живым опытом Богообщения, добываемым и хранимым древнею школой молитвенной практики Православия — традицией исихазма, или священнобезмолвия. Разбирая, толкуя соборный опыт афонских подвижников-исихастов, к которым принадлежал и он сам, сверяя его со святоотеческим учением, св. Григорий обосновывает положение о том, что связь, соединение человека с Богом осуществляется в сфере энергий: человек всеми своими энергиями, духовными, душевными и телесными, стремится сообразоваться с присутствующею в мире Божественной энергией (благодатью), стремится содействовать, соработничать ей — «стяжать благодать», по старой православной формуле. Отсюда возникает известный «паламитский догмат», вероучительный тезис, принятый на Поместном Соборе 1351 г.: человек соединяется с Богом по энергии, но не по сущности.
Паламитский догмат, закрепляющий собою опыт православного подвига, означает кардинальное расхождение с позициями платонизма и всех восходящих к нему теорий. «Платон со всей своей злоучительной болтовней», — так отзывается об этих позициях Палама. По платоническому учению о Боге и бытии, мир и человек причастны Богу именно в своей сущности — хотя эта причастность осуществляется, как правило, через те или иные посредствующие инстанции. Выбор этих инстанций, характер их и устройство чрезвычайно разнятся в разных учениях и доктринах — от простого «мира в Боге» классической европейской метафизики до дегенеративно разбухших гностических номенклатур эонов, сизигий и Бог весть кого еще. Как ясно читателю, не чем иным как одною из подобных инстанций, посредствующих между Богом и миром, и оказывается София — всегда, как только она выходит за рамки, отведенные ей Новым Заветом, — рамки прочной и однозначной отнесенности ко Христу. Православие же утверждает иной род связи между Богом и миром — связь энергийную, которая, в отличие от связи по сущности, незакрепляема и проблематична, требует непрестанного и непростого, «умного» усилия — однако зато является связью прямой, без какого бы то ни было посредства. Все посредствующие уровни и ступени, духи и существа платонической, неоплатонической, гностической или «свободно-теософической» картин бытия — отвергаются, исчезают. «Когда благодать явилась, необязательно всему совершаться через посредников», — говорит Палама. Эта простая формула — прямой ответ на вопрос об отношении Православия к софиологии. Исихастская традиция, истинный стержень православной духовности, имеет, как всем известно, свой капитальный свод текстов, многотомную книгу «Добротолюбие», что играла — и надеемся, еще будет играть — огромную роль в духовной жизни православной России. Раскроем эту книгу, перелистаем всю ее, от первого до пятого тома, — и мы не найдем в ней никакой Софии-Премудрости. Ее там нет.
* * *
Расставив, таким образом, все точки над i, мы можем теперь лишь кратко коснуться оставшихся учений. Как мы уже говорили, софиологические настроения и построения составляют характернейшую черту культуры «русского ренессанса»; следы их — едва ли не во всех ее сферах, а в русском символизме они определенно господствуют. В философии их спектр довольно обширен. Недавно были впервые опубликованы сохранившиеся фрагменты самого раннего опыта — незавершенной студенческой работы С. Н. Трубецкого «О Святой Софии, Премудрости Божией» (1885-86). Это еще не «учение о Софии», но лишь осторожные подступы к нему — штудии, сбор материалов. Поздней ряд последователей нашла софиология Флоренского — под ее влиянием были Эрн, Дурылин, отчасти и Лосев. На каких-то своих этапах сближалась с софиологией философия Вяч. Иванова, Карсавина, даже Бердяева, не примкнувшего к метафизике всеединства (к нему София, как и многие другие идеи, пришла от Беме — в «Смысле творчества», «Этюдах о Якове Беме» она возникает в ряде избранных тем, в частности, об андрогине). Однако развернутых софиологических систем, помимо учений Флоренского и Соловьева, возможно указать всего две. На наш взгляд, они несут уже меньше творчески оригинального и принципиально нового — хотя софийное учение о. Сергия Булгакова является и самым обширным, и самым обсуждавшимся из всех. Софиология князя Евгения Николаевича Трубецкого (1863-1920) — усердная, честная и довольно неуклюжая попытка соединить вместе три явно несоединимых элемента: влияние софиологии Соловьева (с которым князь был в близких дружеских отношениях с юных лет) — стремление базировать свою мысль на солидном основании, на строгой и современной европейской философии — и твердую, незыблемую приверженность Православию в его канонических, церковных формах. Поистине — лебедь, рак и щука.
Солидным и строгим основанием для философской мысли в начале нашего века представлялось неокантианство — направление, почти целиком ограничивающее горизонт философии гносеологическими и методологическими проблемами и в самой сути своей полярное софийным спекуляциям и визионерству — как веком назад сам Кант был резким противником Сведенборга, которого Соловьев числил в своих предшественниках. Соответственно, философия, пытающаяся сочетать софиологию и неокантианство, несет в себе заведомо нечто противоречивое — а можно и сказать, синкретическое, памятуя об александрийскомтипе культуры Серебряного века. Но неокантианства у Трубецкого было не слишком много — так, некоторый европейский позумент на русском кафтане… Трубецкой начинает, как бы на кантианский манер, с гносеологического анализа — но его анализ как-то относительно быстро и легко приводит к понятию Абсолютного Сознания. Это центральное понятие его метафизики, определяемое им как собрание всех «истин-смыслов», относящихся к Абсолютному (Богу) и ко всему сущему в мире, имеет весьма мало общего с неокантианскими концепциями сознания, но зато полностью возвращает нас на знакомую почву христианского платонизма с его «идеальными первообразами» и «миром в Боге». Трубецкой развертывает и критику кантианской гносеологии, вскрывая за нею скрытые «онтологические предпосылки». Критика эта, близкая к русской «онтологической гносеологии» тех лет, к идеям его брата С. Н. Трубецкого, Франка, Лосского и других, занимает объемистую книгу с подзаголовком «Опыт преодоления Канта и кантианства» — и все же оставляет его философию довольно поверхностною смесью непреодоленных кантианских влияний с общими структурами софийного платонизма и общим духом православной церковности. Что же до собственно софиологии, то главная ее часть умиляет некою первородной и несокрушимой наивностью: пройдя искусы неокантианских методологий, пережив на глазах своих гниение и развал великой родины, его и моей, князь Евгений Николаевич в своей последней книге «Смысл Жизни» (1918) решает проблемы бытия, добра и зла, философии истории, разнося вещи мира по двум длинным спискам, в одном — все софийное, хорошее, а в другом — нехорошее, антисофийное: софийны — день, голубизна небес, любовь и «солнечный гимн жаворонка»; антисофийны — ночь, безобразие, хаос, «хохот филинов», «когти и зубы хищника»… Благодушная бухгалтерия русского барина, которою так славно заниматься голубым летним утром, под липами в усадьбе, за самоварчиком. В Москве же 1918 г. подобная дребедень есть откровенное банкротство мысли — сколь мы ни разделяли бы ее нравственный пафос.
Так мы близимся постепенно к окончанию нашей темы, к ее последнему эпизоду — финалу? кто знает! — в Париже. Эпизод этот связан с судьбою учения о Софии о. Сергия Булгакова. Первоначально о. Сергий обратился к идее Софии под влиянием Флоренского, однако в дальнейшем он оказался много более стойким и активным приверженцем этой идеи, нежели его Друг (как называет он о. Павла). После «Столпа и утверждения Истины» Флоренский оставил софиологию, чтобы разработать «конкретную метафизику», учение совершенно иного рода, хотя и пребывающее в том же широком русле платонизма. Булгаков же в этот период лишь намечал очертания своих софийных концепций. Впервые, еще бегло и предварительно, они представлены им в «Философии хозяйства» (1912); затем «Свет Невечерний» (1917) приступает уже вплотную к их систематическому развитию. Это — обстоятельный (и отлично написанный) софиологический трактат, с историческим очерком, с последовательным проведением софийной темы во всех разделах учения о Боге, мире и человеке. В главнейших пунктах, позиции автора — типичный, уже знакомый нам софийный платонизм: София — идеальный первообраз мира, «предвечное человечество в Боге», или еще — «всеорганизм идей»; в ней и через нее осуществляется причастность мира Богу, и она обладает личной, ипостасной природой.
Новое же, что вносит Булгаков, остается на уровне отдельных мотивов и акцентов, из коих наиболее важны и заметны два: так называемый «религиозный материализм» и историзм. Общий тезис о софийности твари, наличии у нее «корней в Боге», о. Сергий усиленно прилагает к религиозному оправданию материи и хозяйства, трудовой земной жизни, вслед за Достоевским развивая народную тему о «Матери — Сырой Земле» — как Богородице, стихии, отзывающейся и сотворчествующей Богу, способной воплотить Богочеловека. Что же до историзма, то, в отличие и от Флоренского, и от большинства платонических учений, Булгакову присуще историчное и динамичное видение явлений, и бытие мира предстает у него как Богочеловеческий процесс, охватывающий не только историю, но и ее сверхисторическое завершение, эсхатологию, и осуществляющий воссоединение мира со своим Божественным замыслом-первообразом: «соединение Софии тварной с Софией Божественной», на языке учения Булгакова.
К отличиям софиологии о. Сергия принадлежит и пройденная ею своеобразная эволюция. «Философия хозяйства» и «Свет Невечерний» — образцы основного философского жанра Русского ренессанса, так называемой «русской религиозной философии». Это — смешанный жанр, лежащий между богословием и философией и, как правило, злоупотребляющий этим промежуточным положением: тут автор нередко не считает себя обязанным следовать до конца требованиям ни философии, ни богословия; когда они кажутся ему стеснительны, он себя освобождает от них. Зато труды русских философов зачастую отличаются художественными достоинствами, доставляя отличные примеры философской эссеистики, лирической и исповедальной прозы — так что, в итоге, жанр следует считать не столько ущербным, сколько опять-таки — синкретичным: перед нами снова печать русского александрийства. — Но жанр этот не удовлетворял о. Сергия: пережив возвращение к глубокой вере и Церкви, приняв священство в 1918 г., он приходит к тому мнению, что философия в принципе неспособна верно следовать христианскому учению и обречена быть еретическою. Развив этот вывод в книге «Трагедия философии» (1920-21), он целиком переходит в своей работе в область богословия. Как показало будущее, в этом решении крылась драма или некая мефистофельская усмешка судьбы: оставив философию из отталкивания от ереси, став богословом, о. Сергий именно этим и навлек на себя целую кампанию обвинений в ереси: тексты Флоренского или Соловьева нередко отходили от ортодоксальных позиций куда дальше Булгакова — и однако, как бы не совсем принадлежа богословию, не вызывали активной догматической критики.
Кампания против булгаковского учения и есть тот последний эпизод, которым покуда завершается наша тема. «Финал в Париже» разыгрывался в середине тридцатых годов, вскоре по выходе в свет книги о. Сергия «Агнец Божий» (1933). Это — центральный текст софийного богословия Булгакова, как «Свет Невечерний» централен для его софийной метафизики. Неудивительно, что трактат по догматическому богословию, прямо вводивший Софию в жизнь и устроение Пресвятой Троицы (чего никогда не было в церковном учении), отождествлявший Софию с Сущностью Бога, в некотором Ее особом аспекте (чего также не делалось никогда), — вызвал возражения различного рода. Уже в 1935 г. появился объемистый контртрактат «Новое учение о Софии Премудрости Божией» архиепископа Серафима (Соболева). Помимо обширной догматической критики, тут усиленно утверждалась близость софиологии Булгакова и отчасти Флоренского к учениям гностицизма и каббалы (хотя ценность анализа и выводов умаляется простоватостью автора, который явно недопонял многого в критикуемом — так, у Флоренского он усматривает «абсурд» в том, что тот «именует Софию одним существом… и одновременно идеальным человечеством, т. е. многими существами»). В том же году последовали осуждения булгаковского учения в указах Московской Патриархии и зарубежного Карловацкого Синода. Московский указ был подготовлен на основе разбора софиологии Булгакова, проделанного В. Н. Лосским и выпущенного им затем отдельной брошюрой «Спор о Софии» (1936). Этот небольшой текст остается поныне самой глубокой критикой софиологии — критикой именно с тех позиций «православного энергетизма», что мы очень бегло очертили выше. Сам Булгаков представил обстоятельные ответы на оба указа, и специальная богословская комиссия Западноевропейского Экзархата, к которому принадлежал о. Сергий, рассмотрев материалы спора, вынесла сдержанное нейтральное решение. Стоит только заметить, что входивший в комиссию о. Георгий Флоровский — наряду с Вл. Лосским, другой крупнейший богослов следующего поколения — остался при особом мнении, твердо негативном к софиологии. Для нас в «споре о Софии» поучительно то, что на стороне софийных учений, кроме Булгакова, не нашлось практически никого из видных представителей православной мысли (за вычетом разве что Л. А. Зандера, его прямого ученика). И это — вопреки тому безусловному уважению, почитанию, любви, какие привлекал к себе о. Сергий своею личностью, своею огромной деятельностью в русской культуре. В юбилейной статье к столетию со дня рождения о. Сергия, о. Александр Шмеман (1921-1983), бывший его студентом, писал: «Смотря на него, следя за ним… я всем своим существом чувствовал: нет, этот человек не еретик, а, напротив, весь светится самым важным, самым подлинным, что заключено в Православии. А, вместе с тем, читая его, пытаясь следить в толщенных его фолиантах за сложной диалектикой "Софии Божественной" и "Софии тварной"… я так же сильно чувствовал: — не то, не так, не о том». Для поколения о. Александра, следующего уже за поколением Флоровского и Вл. Лосского, русская софиология больше не была по-настоящему спорным и актуальным предметом. Бросив вдумчивый взгляд на весь ее путь, мы поймем: судьбу ее, в сущности, решила история.
После Второй мировой войны в немецком богословии был задан острый вопрос, определивший почти весь его послевоенный путь: Как возможно богословие после Освенцима? Подобный вопрос должен был возникнуть в России намного раньше, и звучать он должен был так: Как возможна софиология после Октября? Православное богословие (в отличие от протестантского, что через Лютера и Августина стойко тяготеет к неоплатонической онтологии) в целом не ставилось под вопрос дьявольщиной двадцатого века. Православный подвиг, постигший на опыте энергииную природу связи Бога и человека, с IV века предупреждал: лишь трезвым и непрестанным усилием держится эта связь, она не значит благих гарантий, и «если захочешь погибнуть, никто тебе не противится и не возбраняет» (преп. Макарий Египетский). Однако софиология утверждала «идеальные первообразы» и «корни в Боге» за всем на свете, независимо ни от какого трезвения и усилия, — и не диво, что ее постоянные спутники в России были — иллюзии и прекраснодушие, маниловщина, принятие желаемого за действительное. В начале роковой для России Первой мировой войны приверженцы софиологии активнее всех включились в ликующие восторги и предсказания скорых триумфов; они софиологически доказывали несокрушимость Святой Руси, несомненность русской победы и что Константинополь должен быть наш. Трезвые современники тогда же видели сомнительность и опасность этих восторгов, этих уверенных апелляций к «софийному лику» России. Иван Бунин назвал такие взгляды и настроения «великим дурманом» и свое отношение к ним описал так: «Раз, весной пятнадцатого года, я гулял в московском зоологическом саду и видел, как сторож, бросавший корм птице… давил каблуками головы уткам, бил сапогом лебедя. А придя домой, застал у себя Вячеслава Иванова и долго слушал его высокопарные речи о "Христовом лике России" и о том, что после победы над немцами предстоит этому лику "выявить" себя еще и в другом великом "задании": идти и духовно просветить Индию, — да, не более не менее, как Индию, которая постарше нас в этом просвещении этак тысячи на три лет! Что ж я мог сказать ему о лебеде? У них есть в запасе "личины": лебедя сапогом — это только "личина", а вот "лик"…» Другим трезвым критиком софийных миражей был Густав Шпет, представитель феноменологии — одной из самых трезвых и строгих философий. В мемуарах Федора Степуна рассказано, как уже при большевиках Шпет выступил с резкой речью против утопизма московских софийно-славянофильских кругов, где все по-прежнему полагали и настаивали, что Москва — третий Рим. «Какой к черту третий Рим, когда в Кремле засели большевики?» — Нетрудно признать в этой реплике русского феноменолога вариацию нашего вопроса: Как возможна софиология после Октября?
Эта слабость к иллюзиям и миражам, к соблазнам сомнительного и двусмысленного умствования в который раз возвращает нас все к тому же. Русская софиология в сильнейшей степени наделена тем свойством, что называется по-английски dated: она — датированное явление, меченое своим временем. Она неотделима от эпохи Серебряного века с ее единственным в своем роде обликом русской Александрии. И, когда умерла эпоха, меченое ею явление мысли стало неотвратимо тем, что называется по-английски out-dated: явлением с просроченной датой. Зажившимся.
* * *
Нет спору, что сегодня, когда мысль в России снова стала свободной, нам следует заново прочесть и заново оценить наследие русской софиологии. Необходимы изучение материалов, публикация текстов, критический разбор и анализ, конкретно показывающий ее «датированность». Однако едва ли все это делается сейчас. Софиология приобретает некоторую известность, вызывает некоторый интерес, только эти процессы — иного и специфического рода. Известность появляется оттого, что русская религиозная философия вводится в преподавание, становится частью привычного идейного фонда, имеющего хождение в прессе и обществе. Но как происходит это и что означает? В университетах и вузах, те же испытанные каменные лбы, что прежде насильственно впрыскивали российскому юношеству атеизм, диамат и другие слабительные средства, ныне с готовностью начиняют юные мозги Соловьевым и Булгаковым. В академических институтах, проблемных центрах ушлые мыслители, проваренные в чистках как соль, бодро примериваются, как бы употребить софийность и соборность на нужды обеспечения — идеологического для страны, материального для себя лично. Русская религиозная мысль в надежных руках.
Недавно я имел случай сам убедиться в этом, посетив конференцию памяти о. Сергия Булгакова в МГУ. В стенах старейшего университета, с которым связан весь путь русской софиологии — здесь учились Соловьев и Флоренский, профессорствовали Булгаков и Трубецкой — происходило типичное юбилейное заседание брежневских времен. Зачитывался юбилейный доклад, соединявший в себе густой бред и тошнотворный сюсюк. Превозносился и возвеличивался «универсальный гений», «великий русский феномен», который «плодотворно проявил» и «смог не только отразить, но и заложить». О. Сергий занимал вакантное место то ли Энгельса, то ли Чернышевского… И сами собой всплыли строки Пастернака: «После его смерти Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью, в которой он неповинен».
1996
ПОСЛЕДНИЙ ПРОЕКТ ФУКО
Практики себя и духовные практики
… Давно уж я у себя заметил стойкий эффект от чтения позднего Фуко: в уме отчего-то всплывали страницы «Охранной грамоты», где Пастернак описывает явление, названное им «последний год поэта». Вглядываясь в финалы некоторых поэтических биографий, особенно для него значительных, он указывает их небывалую деятельную напряженность и смысловую насыщенность, все подчиняющую силу творчества, в котором заявляет о себе властный драйв, мощно влекущий, устремляющийся к какому-то высшему завершению — неведомому, но предопределенному синтезу, невидимому извне итогу…
Я отнюдь не фанат Фуко, не специалист по его творчеству, и потому не слишком задумывался над тем, справедливо ли это впечатление, чем оно порождается. Но появилось русское издание «Герменевтики субъекта», курса лекций 1982 г., и из статьи его публикатора Ф. Гро стало ясно, что смутное впечатление было верным. Финальный период философа здесь выступал в ярком свете, и уже без сомнения было видно: да, «последний год поэта» в судьбе Фуко имел место. Гро пишет: «Последние годы жизни Фуко, с 1980 по 1984 год, были временем… все возрастающего напряжения., временем поразительного ускорения умственной работы, всплеском творческой активности. Нигде не ощущаешь так сильно то, что Делез называет скоростью мышления»
[1].
Об этом особом периоде творчества Фуко мы заговорили не ради биографических или экзистенциальных наблюдений. Он важен для нас по сути. В проводимых идеях и установках период также необычаен: здесь происходит решительная смена вех — смена тематики и круга задач, базовых концептов и углов зрения. Масштаб изменений был таков, что Ф. Гро оценивает их как подлинную «концептуальную революцию». Суть революции в том, что философия Фуко становится теорией практик себя: ее главной темой делается имманентная конституция (а в диахронии «генеалогия») субъекта, а главным рабочим концептом — «практики (или техники) себя», то есть практики аутотрансформации субъекта, вместо практик власти и практик знания, ранее бывших на первом плане. Фуко признает, что эти практики конститутивны для человека и нередуцируемы, не сводимы ни к какому другому виду его практик. И это значит, что «концептуальная революция» заключает в себе и антропологический поворот. Фуко принимает позиции несводимости, автономии — а, возможно, и более того, примата? — собственно антропологического уровня реальности; и его теория практик себя по праву может рассматриваться как опыт неклассической антропологии.
Меж тем, в России я давно уже занимался изучением одного определенного класса или комплекса практик себя — практик, развиваемых в лоне православной мистико-аскетической традиции исихазма (священнобезмолвия, Умного делания). Проделана была реконструкция оригинальной практической антропологии, созданной в школе исихастской аскезы; и анализ принципов этой антропологии, углубляясь и обобщаясь, вывел к общей «парадигме духовной практики», описывающей антропологические основания мистико-аскетических практик, западных и восточных, созданных в мировых религиях. Это также практики себя, но — особого, выделенного рода, ибо это — практики конституции человека в онтологическом размыкании. В других разделах нашей ретроспективы, неклассическая антропология духовных практик уже неоднократно служила для сопоставления с неклассическими концепциями современной антропологии. В свою очередь, анализ духовных практик вывел к еще более широкому классу предельных практик себя, в которых реализуются также и другие типы размыкания человека и которые в своей совокупности образуют энергийную границу существа «Человек». На базе предельных практик формируется новый способ дескрипции антропологической реальности, названный синергийной антропологией. Подобно теории практик себя, синергийная антропология также представляет собой определенный подход к герменевтике субъекта; и как уже отчасти ясно, оба подхода, ставящие в центр исследования конститутивные и нередуцируемые практики аутотрансформации человека, имеют меж собой многочисленные переклички и глубокие внутренние связи.
В итоге, завершающим разделом нашей ретроспективы естественно явится анализ теории практик себя Фуко; по нашему убеждению, на сегодняшний день, это — последний наиболее значительный опыт антропологической мысли и, может быть, пер вый основательный набросок новой антропологии. Но этот анализ будет проведен в систематическом сопоставлении с позициями синергийной антропологии. Как мы увидим, параллельное рассмотрение двух новейших подходов естественно выводит к подведению итогов всего ретроспективного обозрения, к рефлексии на личной антропологической ситуации и финальной проблеме «Куда ж нам плыть?».
I. Последний проект Фуко, или герменевтика отнюдь не субъекта
«Технология себя» — огромная и очень сложная область, историю которой необходимо создать[2]
Прежде всего, надо очертить простые внешние рамки интересующего нас явления: теории — или скорей программы, проекта, до сколько-нибудь систематической теории дело не дошло — практик себя. Фуко предпочитал (что естественно) рассматривать развитие своей мысли в элементе преемственности, а не разрыва; как говорит Гро, «всякую мысль, преподносимую им в качестве новой, он обнаруживает в неразвернутом виде в предыдущих произведениях». И тем не менее, границы нового проекта определяются вполне четко.
Все крупные труды Фуко, сложившие его философию, от «Истории безумия» (1961) и «Слов и вещей» (1966) до первого тома «Истории сексуальности» (1976) включительно, сосредоточивались на практиках власти и дискурсивных практиках, отличались приматом социально-институционального подхода и имели тенденцию «мыслить субъекта как некоторое объективное производное систем знания и власти», как «пассивный продукт техник господства» (Гро). Этим определялся и облик мыслителя в глазах культурного сообщества: обширная конференция по творчеству Фуко в Лос-Анжелесе указывала главные его темы так: «Знание. Власть. История». Но ко времени этой конференции (октябрь 1981 г.) такая характеристика уже далеко не вполне отвечала реальности, о чем и заявил сам Фуко в интервью для журнала «Тайм»: «Меня интересует не столько власть, сколько история субъективности». В начале 1980 г. Фуко читает в Коллеж де Франс курс «О правлении живыми», основная тема которого — практики себя в раннехристианской аскезе. Этот курс (увы, неопубликованный до сих пор) — первая веха нового периода. В курсе 1982 г. Фуко говорит о нем: «Тогда я только начинал заниматься этими вещами» (практиками себя); а Ф. Гро его называет «первым отклонением от намеченного маршрута», имея в виду начальный план «Истории сексуальности», еще стоявший на старых установках. Вехою, рубежом является и весь 1980 год: он — «решающий для интеллектуального пути» Фуко, «это время проблематизации техник себя как несводимых… ни к техникам производства вещей, ни к техникам власти над людьми, ни к символическим техникам»
[3]. Что в точности и есть — ведущая установка нового периода, указывающая путь и способ «мыслить субъекта по-новому».
Итак, хронологические рамки — 1980—84 гг. Совсем короткий период, если еще учесть, что всё это время он также занимается политикой, участвуя в протестах против всевозможных преследований («Солидарности» в Польше, сенегальцев во Франции, вьетнамских беженцев), а последние года два перед своей кончиной от СПИДа 25 июня 1984 г., проводит в хронических недомоганиях. Но перед нами — «последний год поэта»! и объем сделанного поражает. Вот самый краткий перечень. Фуко успевает сдать в печать тома 2, 3 «Истории сексуальности», написанные уже в новом идей ном русле; лишь последней стадии редактуры не прошел том 4, по священный раннехристианской эпохе и остающийся неопублико ванным. Он не пропускает ни единого года в своих лекционных курсах, которые образуют следующий ряд:
Субъективность и истина. (Тема: опыт удовольствий и Греко-римской культуре 1–2 вв. Материал курса вошел в т. 3 «Истории сексуальности»),
Герменевтика субъекта.
Правление собой и другими. (Тема: практика свободоречия, nappnsa, в Древней Греции).
Мужество истины. (Тема: практика свободоречия в эллинистической и раннехристианской культуре).
(Опубликованы пока лишь курс 1982 г. и авторские «Краткие содержания» курсов 1980 и 1981 гг.) Его растущая слава приводит к умножению семинаров, посвященных его теориям, он участвует и ряде них, выступает с лекциями, пишет статьи. Вот несколько наиболее существенных из таких событий.
октябрь-ноябрь. «Христианство и исповедь», лекции и Беркли и в Дартмут-Колледже (Нью-Гэмпшир).
«Сексуальность и одиночество», лекция в Нью-Йорке, имеющая важный черновой вариант (1980).
июнь. «Говорить истину о себе», доклад на Летней школе по семиотике и структурализму, Торонто.
октябрь-ноябрь. «Технологии себя», семинар в университете штата Вермонт.
февраль. «Написание себя», статья.
1983, апрель-май. Серия лекций, бесед, интервью на темы практик себя в Беркли.
октябрь-ноябрь. Семинар по практикам свободоречия в Беркли.
29 мая. «Возвращение морали», интервью.
Что же из всего этого обильного фонда наиболее важно и на что будет опираться наш анализ? Для наших целей существенны, пре жде всего, тексты, представляющие концептуальные основания теории практик себя, а также — в видах сопоставления с нашей концептуализацией духовных практик — тексты с рассмотрением практик себя, культивировавшихся в христианском социуме.
Что касается первого рода текстов, то по свойству всего творчества Фуко как историка мысли, у него не найти систематического построения интересующих нас «концептуальных оснований». Он создал свой особый дискурс, в котором нерасчленимо сопрягаются история и философия, а также и этика, политика, и все концептуальные разработки интегрируются в исторические штудии. Он настаивал, что эта методология, отказывающаяся «принимать от историков в готовом виде то, о чем надо рефлексировать», есть «единственный способ… не оказаться в плену скрытых постулатов истории»; и называл ее «рефлексированием в истории»
[4]. Однако концепция практик себя не только и даже не столько исторична, это — богатая общеантропологическая концепция, требующая своего понятийного аппарата и порождающая целый спектр философских и методологических проблем. Философ отнюдь не игнорирует эту общую проблематику, но в рамках «рефлексирования в истории» мысль его всегда имеет также задания исторического порядка, так что, в итоге, каждая его книга и каждый курс — некоторый свой баланс, своя формула союза синхронии и диахронии. В этом аспекте, курс 1982 г. является выделенной точкой. Хотя и здесь налицо существенное историческое задание, реконструкция практик себя эллинистического периода, однако задание теоретическое, создание фундамента и аппарата концепции практик себя, получает не меньшее место и внимание. Можно сказать по праву, что данный курс дает не только рассмотрение практик себя в поздней античности, но также и отчетливый каркас общей концепции практик себя, пускай и далекий еще от «полной теории». Именно «Герменевтика субъекта» и будет для нас главным опорным текстом Далее, в вышедших томах «Истории сексуальности», кроме спора дических замечаний о свойствах практик себя, есть и разделы, со средоточенные на этих свойствах: введение к т. 2, объявляющее о переориентации всего проекта «Истории», и в т. 3 — главы 2, «Культура себя», и (в меньшей мере) 3, «Сам и другие». Но обретаемые здесь элементы концептуализации практик себя можно, как правило, найти в «Герменевтике субъекта» в более детальном виде.
Материал же о практиках себя в христианской аскезе и шире, в христианской доктрине и христианском социуме, увы, не то что бы беден, но большею частью недоступен. Фуко посвящает им т. 4 «Истории сексуальности» («Признания плоти»), курс 1980 г. «О правлении живыми», и (частично) курс 1984 г., «Мужество истины». Всё это — неопубликованные сегодня источники; нам доступны лишь «Краткое содержание» курса 1980 г. и один фрагмент из «Признаний плоти»
[5], помещенный автором в виде статьи в сбор нике «Западные сексуальности» (1982). Помимо того, мы имеем на эту тему два заключительных раздела семинарской лекции «Техники себя» (1982 г., Вермонт), а также две лекции, от 19 и 26 февраля, о практиках покаяния и исповеди в курсе 1974—75 г., «Ненормальные», отвечающем еще периоду до «концептуальной революции». Но тем не менее позиции философа в данной теме можно восстановить довольно определенно, по крайней мере, в главных пунктах. Ученый вправе иметь пристрастия — и Мишель Фуко, во всей истории практик себя, культивируемых на Западе, выбрал и возлюбил один период, период эллинистической культуры 1–2 вв. Он дал ему титул «Золотого века практик себя» и уделял ему наибольшее внимание: ему полностью посвящены, в частности, курсы 1981 и 1982 гг., том 3 «Истории сексуальности». Но христианский мир прямой преемник, а отчасти и современник этого «Золотого века», и при анализе практик себя, а равно и понятий, установок, принципов поведения позднеантичной культуры, основной методологический прием Фуко — их сопоставление и противопоставление христианским практикам (понятиям, установкам, принципам…) Этот прием им проводится постоянно, во всех темах, — и в итоге.
перед нами предстают также и его оценки, интерпретации всех важнейших явлений христианской культуры себя. Все та же «Герменевтика субъекта», дополняемая малыми источниками, даст нам достаточный материал.
Язык концепции
Прежде всего, нам следует закрепить язык описания, его базовые понятия. Что в точности понимается под «заботой о себе», «практиками себя», «культурой себя» — терминами, что после работ Фуко как-то быстро, без особой рефлексии, вошли в широкий обиход гуманитарной науки?
Начнем с центрального рабочего понятия, давшего название всей концепции. Практика себя получает у Фуко целый ряд дефиниций. Приведем для начала две из них. Практики себя — это «некоторые процедуры, существующие, безусловно, в любой цивилизации, предлагаемые или предписываемые индивидам для закрепления их самоидентичности, ее поддержания или изменения; и возможные благодаря отношениям владения собой или познания себя»
[6]. И это также «намеренные и отрефлектированные практики, посредством которых люди не только устанавливают для себя правила поведения, но и стремятся преобразовать самих себя, измениться в своем уникальном бытии, сделать свою жизнь собственным произведением»
[7]. Более точно, первое определение относится к «техникам себя», термину почти, но всё же не полностью синонимичному. С известным упрощением, можно сказать, что практики себя, являясь техниками себя, обладают еще важным дополнительным свойством: они направлены — возможно, не прямо, а в конечном итоге — на то, чтобы открыть индивиду доступ к истине. Этот аспект выражает такая, например, формула Фуко (она служит у него определением «духовности», но может быть отнесена и к практикам себя): практики, «посредством которых субъект производит в себе самом изменения, необходимые для того, чтобы получить доступ к истине — это могут быть практики очищения, аскеза, отречение, обращение, изменение образа жизни» (27)
[8].
Ясно, что эти формулы оставляют множество недоговоренного, недоопределенного. В них лишь один общий знаменатель: нет со мнений, что «практика себя» — это практика ауто-трансформации субъекта. Но каждая из них характеризует эти трансформации весьма по-разному, и вовсе не очевидно, что эти характеристики вполне согласуются меж собой. Далее, в них участвуют весьма на груженные, обязывающие философские термины: «субъект», «истина», «идентичность», нетрадиционный, пусть и не новый, тер мин «себя» (soi). Как они, в свою очередь, должны пониматься? Тщательно анализируя употребление понятий в изучаемых исторических контекстах, поздние тексты Фуко избегают погружаться в современную проблематику оснований философского дискурса
[9], и мы найдем в них разве что беглые наводящие указания, но отнюдь не законченную трактовку названных и других концептов этого дискурса. Или что такое «доступ к истине», выражение, предполагающее — вразрез с позициями классической эпистемологии — что возможность достижения истины требует каких-то особых антропологических предпосылок, помимо самого процесса или акта познания? Вопросов можно поставить еще много. Ясно, что Фуко не дает полной философской концептуализации феномена — и все- таки из его формул видно уже, отчего практика себя может быть сделана центральным, ключевым понятием нового способа описания человека.
Из формул первой и третьей мы заключаем, что практики себя, в отличие от простых техник себя, несут элемент телеологичности: это — направленные трансформации, которые определяются некоторой заданной общеантропологической целью. В одном случае эта цель обозначена как конституирование (обретение, хранение, смена) идентичности человека, в другом — как обеспечение «доступа к истине». Эта формулировка туманна, но Фуко ее раскрывает: имеется в виду «преобразование субъекта с целью сообразования его с истиной» (28) — стало быть, преобразование в некое состояние, «сообразное с истиной». Это очень особое состояние — такое, которое «придает завершенность субъекту… позволяет ему сбыться» (29). В нем он предстает, очевидно, как «истинствующий», «истинный субъект» — иными словами, предстает «истинным собой». Становление субъекта «сбывшимся», «получившим завершенность» есть ео ipso конституирование субъекта — и мы заключаем, что и в данном случае цель и суть практики себя указывается тоже в конституировании субъекта, его личности и идентичности; причем конституция дополнительно характеризуется своим отношением к истине: конституирование субъекта есть его становление «истинным собой» (что то же, «обретшим доступ к истине», «сообразным истине»).
Сказанного достаточно, чтобы сделать искомый вывод. Практики себя, по Фуко, суть такие антропологические практики, в которых осуществляется конституирование субъекта; они конститутивны — и в силу этого способны занять центральное место в антропологическом дискурсе, на их основе можно развить цельную дескрипцию антропологической реальности. Отсюда возникает большая проблема, одна из основных для развертывания концепции практик себя: выявление и анализ парадигмы конституции человека, заложенной в этой концепции. Сразу же очевидно, что эта парадигма является неклассической, т. е. отличной от аналогичной парадигмы классической европейской антропологии, которая сопоставляет человеку понятие его сущности или природы и предполагает, что человек конституируется в процессе актуализации своей сущности. Концепция Фуко не опирается на это понятие. Можно ожидать также, что, в силу великого разнообразия возможных способов отношения человека к себе, стратегий и целей преобразования себя такая парадигма априори не единственна. В синергийной антропологии и описываемых ею духовных практиках неклассическая парадигма конституции реализуется в форме парадигмы размыкания. Она предполагает, что человек конституируется в опыте размыкания себя — таком опыте, в котором человек, достигая границ горизонта своего сознания и существования, становится открыт тому, что внеположно этому горизонту, и формируем во взаимодействии с ним (см. подробней в разделе II). Такая парадигма представляется весьма естественной в перспективе практик себя и установки «стать истинным собой», и все же Фуко видит в эллинистических практиках себя — главном изучаемом им классе практик — нечто иное, скорее замыкание, чем размыкание человека. Здесь — один из специфических и дискуссионных пунктов его концепции, который мы еще будем обсуждать.
Далее, описанная трактовка конституции субъекта, а также и отношения субъекта к истине сразу же заставляют вспомнить Кьеркегора. Идея «доступа к истине» целиком базируется на тезисе: «Истина не дается субъекту простым актом познания… нужно, чтобы субъект менялся» (28). Но этот тезис — вариация на одну из постоянных тем Кьеркегора, который писал, например, так: «В духовном мире всякое изменение мест означает изменение самого путешественника» (в «Ненаучном послесловии»), В решении же проблемы конституции сходство с Кьеркегором еще более прямое. Уже в первом из главных своих трудов, «Или — или», Кьеркегор развил концепцию, согласно которой человек конституируется, совершая «выбор себя» и становясь истинным собой. Фуко близко воспроизводит эту модель конституции — притом, она становится самою сердцевиной всей его концепции практик себя! — однако не упоминает Кьеркегора, даже высказывая тезисы буквально кьеркегоровского звучания (ср. хотя бы: «Цель практики себя — я сам. Только некоторые способны быть собой» (147)). Это — лишь первый случай близкой, глубокой связи его идей с Кьеркегором, далее мы увидим еще немало их — но при этом датский философ не упоминается никогда.
Понятно, что ключевой концепт становится топосом концепции Фуко, гнездом, собирающим в себе обширный комплекс понятий и идейных нитей. В первую очередь, следует рассмотреть «внутренние» понятия топоса, которые раскрывают содержание практики себя как антропологической парадигмы. По логике, важнейшим из таких понятий должен являться «телос» практики. Коль скоро практика себя телеологична, направлена к обретению некоторого финального состояния человека, которое и именуется телосом, — этот телос играет особую, определяющую роль во всем ее процессе: каждая ее фаза, каждое состояние человека, достигаемое в ходе нее, характеризуется и поверяется своим отношением к телосу, остающейся «дистанцией» от него. Именно такова роль телоса в духовных практиках. Но в концепции Фуко мы практически не встречаем этого понятия, и он сам поясняет причину этого. Главный предмет его изучения — практики эллинистической эпохи, общие концепты он вводит на их материале, применительно к ним. Им вовсе не отрицается кардинальное значение телоса в структуре практики себя; однако в эллинистических практиках, как он обнаруживает, телос оставался недорефлексированным, не до конца определенным. В качестве телоса, как мы видели, выступает некая «истинная самость» (le soi), “сам, ставший сообразным или открытым истине», «самое само» (αυτό τό αύτό) и т. д. Разумеется, эти формулы — лишь наводящие, туманные; и, согласно Фуко, в эллинистической культуре из них так и не было выделано концепта. «В эллинистическом и римском мышлении так и не было выяснено, не было решено, представляет ли “себя” (le soi) что-то такое, к чему возвращаются, потому что оно уже имелось заранее, или это цель, которую надо перед собой поставить и которой можно в конце концов достичь… Здесь, в этой практике себя, перед нами случай фундаментальной нерешенности, фундаментального сомнения» (240). Но, обходя, вслед за эллинистическими практиками, понятие телоса, дискурс практик себя у Фуко обходит, оставляет в неопределенности и весь спектр проблем, как-либо затрагивающих это понятие, — так, лишь отрывочно приоткрывается онтологическое содержание практики себя, а равно и вся вообще онтологическая проблематика. Здесь — важное отличие от дискурса духовных практик, и в разделе II мы еще вернемся к нему.
В качестве следующей внутренней характеристики практики себя назовем холистичность. Вся тема практик себя развивается Фуко отчасти в полемическом ключе: философ утверждает важность и автономность этих практик по отношению к тем, что ставились им во главу угла раньше, — к практикам власти и практикам знания. Самое наглядное отличие от практик знания состоит в вовлеченности в практику себя всех уровней человеческого существа. Степень и конкретный характер соучастия телесной и эмоциональной сфер в практике себя крайне меняются в разные эпохи, но сам факт этого соучастия — непременная черта практики. В силу этого предиката холистичности, практика себя представляет собой «сложное переплетение психического и телесного». В трех «крупных формах» практики себя на Западе, платонической, эллинистической и христианской, это переплетение реализуется совершенно по-разному, и потому конкретней мы будем говорить о холистичности ниже, при обсуждении этих «крупных форм». К универсальным же свойствам этого предиката можно отнести у Фуко, пожалуй, лишь то, что гетерогенную структуру практики себя, рождаемую холистичностью практики, он описывает как сочетание двух сфер, обозначаемых античными терминами Μάθησις и ’Άσκησις и включающих в себя, соответственно, познавательные активности и активности действия, упражнения. В трактовке ’Άσκησις важно отметить один момент: Фуко утверждает, что эта сфера — вне действия законов общества, она управляется не ими, а непосредственно целью «связать субъекта с истиной», то есть, иначе говоря, — телосом антропологической практики. Тем самым, «аскеза», а с нею и практика себя, выводится из сферы социальных явлений, ее природа не социальна, а чисто антропологична. Задача практики себя, «учредить субъекта в качестве конечной цели для него самого», — а, следственно, и сама конституция субъекта — выступает, таким образом, как собственно антропологическая задача; субъект больше не конституируется из социальной сферы, он уже не «пассивный продукт техник господства». — Итак, в этой детали — зримый знак новых позиций Фуко, знак совершившегося «антропологического поворота». Говоря о своей любимой эллинистической культуре, философ утверждает существование самодовлеющей аутентично антропологической сферы конституции субъекта еще ясней и решительней: «Ни структуры полиса, ни законы ни требования религии никогда не могли диктовать греку или римлянину, но прежде всего греку, как он должен поступать в тех или иных жизненных ситуациях. И главное, они не были в состоянии объяснить ему, как он должен выстроить свою жизнь». Поэтому практика себя «занимала в греческой культуре место, оставшееся незатронутым регламентирующей деятельностью как полиса и закона, так и религии» (485). Она была областью свободного самоосуществления человека.
Очередная внутренняя характеристика практики себя — необходимое наличие транс-индивидуального измерения, участие Другого. Это — безусловно универсальная черта антропологической парадигмы, Фуко утверждает ее необходимость, говоря — редкий случай — именно о практике себя вообще, как таковой: «Другой необходим в практике себя для того, чтобы определяющая эту практику форма на самом деле достигла цели, обретя свой предмет, который есть я сам (le soi), и исполнилась им. Чтобы практикование себя привело к этому “я сам”… нужен кто-то еще» (148). Но на этом тезисе (собственно, негативном, лишь декларирующем недостаточность самого субъекта для успеха практики) универсальность «дискурса Другого» по сути заканчивается. Можно продвинуться еще на шаг дальше, охарактеризовав роль Другого в достаточно универсальных терминах: Другой — «это специалист по переустройству индивида, по формированию из него субъекта. Он опосредует становление индивида в качестве субъекта» (150). Однако почему нужен такой специалист? почему «сам по себе субъект не может переделать себя» (150), не может актуализовать, воплотить форму практики себя? Надо наконец указать предметно, чего же недостает обособленному субъекту практики, замкнутому в границах своей индивидуальности, «сингулярности»! И тут ответ уже не универсален, он отсылает к конкретике культурных эпох, в зависимости от нее меняясь (так что «дискурс Другого», тем самым, становится эмпирическим дискурсом, не достигающим философской концептуализации). В начальной платонической форме, где практика себя еще не вполне конституировалась, субъекту, отроку, недостает просто знаний и личного примера, образца; как говорит Фуко, тут деятельность Другого, Наставника, которой он дает имя «психагогика», еще не отделилась от педагогики. В эллинистической форме психагогика необходима, чтобы вывести субъекта из обычного душеустроения обыденной жизни, которое расценивается как патологическое, — так что здесь Другой, Учитель, уподобляется врачу (медицинская параллель — один из главных мотивов реконструкции эллинистической практики себя у Фуко). «Человек всегда слишком любит себя самого» и потому неспособен «быть собственным лекарем… при исцелении от страстей и ошибок… Без чужой помощи ничего не получится» (429,431). Здесь намечается известное продвижение в направлении института духовного руководства, который сложится в христианстве; однако отличия от христианского душепопечительства и, в особенности, от его специфической формы в аскетической практике, глубоки и принципиальны. (Ниже мы их еще коснемся.) Конкретные же функции Другого в разных формациях практики себя различаются еще сильнее.
Наконец, самой существенной структурной характеристикой практики себя является парадигма обращения-на-себя, раскрывающая общий тип практики как некоторого «процесса движения», совершаемого индивидом. Это — стержневая парадигма всей концепции Фуко. Как принято считать, концепция и рождалась из встречи с нею: внимание Фуко привлекли ее разработки в трудах П. Адо о «духовных упражнениях» в позднеантичной культуре
[10]. В дальнейшем, однако, он развил подробную собственную трактовку обращения, и меж двумя философами завязались контакты, ценность которых они отмечали оба: в самом начале «Использования удовольствий» Фуко говорит, что «получил много пользы от трудов Питера Брауна и Пьера Адо; разговоры с ними, их взгляды не раз помогали мне»; в свою очередь, Адо в двух статьях, написанных после кончины Фуко, говорит о «великом счастье» своих бесед с ним и о «прерванном диалоге», особенную «питательную почву» которому могли бы доставить их расхождения. (Действительно, в этих двух статьях — множество критики в адрес не только концепции обращения, но и всей теории Фуко, и мы еще не раз будем обращаться к ним.) Нет сомнения, что в трактовке Фуко, хотя и проводимой львиною долей на позднеантичном субстрате, парадигме обращения придается самый универсальный смысл. По Фуко, обращение многолико: оно возникает под разными видами в самые разные эпохи, вплоть до современности, в составе практик, принадлежащих разным сферам самореализации человека, и выражающий его концепт может принадлежать разным дискурсам. «Понятие обращения… в технологиях себя, известных на Западе, является одним из самых важных… Было бы большой ошибкой ограничивать значимость понятия обращения одной лишь религией… это также важное философское понятие, которое сыграло решающую роль в философии… и в сфере морали оно имеет первостепенное значение… наконец, [оно] впечатляюще и, можно сказать, драматично, внедряется в мышление, в практику, в опыт, в политическую жизнь, начиная с XIX века» (234). Ярким примером этой универсальности парадигмы является утверждаемое Фуко ее присутствие в революционной практике, на определенных стадиях революционного сознания.
Целиком посвящая идее обращения первую половину лекции 10 февраля 1982 г., Фуко вводит здесь ее как некую глубинную подоснову всей античной культуры себя. Описав психологический фон, культурный и социальный контекст практики себя в ее зрелой позднеантичной форме, Фуко заключает: «Один и тот же внушительный образ — образ обращения на себя — маячит за всеми этими представлениями» (233). Как нам понятно уже, иначе не могло быть. Телос практики себя — «я сам», «самость»; и значит, для его достижения индивид должен прежде всего обрести направленность, обращенность к себе самому: «Надо отвернуться от всего… что — не мы сами… надо повернуться к себе, обратиться к себе… все наше существо должно быть обращено к нам самим» (232–233). Но понятно и то, что в этой интуиции обращения на себя еще далеко нет законченного концепта, причем в рамках общеантропологического дискурса его и не может возникнуть. Как в своей природе и сути, так и в своем осуществлении, «обращение на себя» определяется опять-таки телосом практики, тем «истинным собой», к совпадению с которым обращение должно вести. И такой телос принципиально не универсален! Разные культуры, даже разные эпохи одной культуры могут быть кардинально различны в созданных ими конструкциях «самости», «истинного себя» и т. п. Для трех «великих формаций» практики себя, что рассматривает теория Фуко, — платонической, эллинистическо-римской и христианской — эти конструкции также различны (притом, как мы отмечали, в эллинистической модели, которой уделяется главное внимание, конструкция остается в существенном недоопределенной). Однако одно заметное продвижение на общем уровне все же делается философом. Именно, Фуко замечает — впрочем, отчасти вслед за Адо — заложенную в парадигме обращения бифуркацию, альтернативу. В зависимости от природы «дистанции», различия между исходным эмпирическим «собой» и телосом практики себя, самостью, «сообразной истине», — существо обращения-на-себя может быть двоякого рода: это может быть возвращение к себе (если «истинный сам» предполагается некогда уже бывшим и утраченным, или забытым, или кроющимся в глубине «себя» эмпирического и т. п.), либо резкое, фундаментальное изменение, претворение себя (если «истинный сам» обладает иной природой, отделен разрывом от «себя» эмпирического). В первом случае, изменение или событие, осуществляющееся с индивидом в обращении и практике себя, Фуко называет ауто-субъективацией, во втором случае — транс-субъективацией. Эти понятия представляются плодотворными и небесполезными для современных исследований субъектности, но, к сожалению, введя их, Фуко больше ими не занимается. К этой бифуркации обращения мы вернемся в связи с конкретными формациями практик себя: как заранее ясно, платонизму и неоплатонизму соответствует обращение-возвращение (достаточно вспомнить девиз «бегства в дорогое отечество» Плотина), христианству — обращение-претворение, эллинистическую же модель Фуко также относит к полюсу возвращения.
В качестве последней «внутренней особенности» практики себя, отметим присущую ей специфическую диалектику всеобщности — исключительности. Универсальность практики себя как антропологического феномена означает универсальность, общечеловечность заявляемой ею цели: задача стать «истинным собой» утверждается как задача, предназначение человека как такового, без всяких исторических, социальных или иных изъятий. Но в то же время, культивируют эту практику лишь немногие, реальные ее делатели — узкий круг. Налицо апория, противоречие в строении феномена, и Фуко четко его фиксирует: «Каждый человек в принципе способен… осуществлять практику себя. Никто не исключается априори… Но, с другой стороны…. лишь очень немногие и в самом деле способны заниматься собой» (138). Выявив апорию.
философ замечает, что в ней проявляется определенная парадигма, структурная форма, сочетающая «два момента, всеобщность призыва и исключительность спасения»; и он утверждает необычайную важность этой формы, ее основополагающую роль в судьбе всей культуры и цивилизации Запада. Действительно, сжатые формулы этой парадигмы входят в круг символических наставлений основных культурных формаций, переходя из одной в другую: впервые выраженная в обряде инициации у орфиков, такая формула воспринимается затем Платоном («Много тирсоносцев, да мало вакхантов», Федон 69 с), а затем воспроизводится в Новом Завете («Много званых, а мало избранных», Мф 20,16). Согласно Фуко, «здесь узнается некая крупная форма — обращения, адресованного всем и услышанного лишь очень немногими, великая форма вселенского призыва, который спасет только некоторых» (139). Как он утверждает, «эту форму мы вновь обнаружим в самой сердцевине христианства», и она является «основополагающей для нашей культуры» (140).
Вот что, однако, примечательно: придавая такое значение данной форме, он почти нисколько не продвигается по пути ее философского и антропологического понимания. Отчего призыву исполнять законы и нормы общества способны следовать все, кроме немногих, а тоже всем адресованному призыву исполнять практику себя никто не способен следовать, кроме немногих? Вот вам объяснение Фуко: «Не хватает духа, силы, выдержки; неспособность довести дело до конца — таков… удел большинства» (138). Как видим, он остается на уровне житейской мудрости, а точнее, на уровне своих источников, эллинистическо-римской мысли 1–2 вв. — хотя обычно совсем не считает этого своим долгом, постоянно выходя из мира, из дискурса источников эпохи в более широкий контекст и дискурс. Причина, можно полагать, в том, что в данном случае выход требовался в ту сферу, которой Фуко, как правило, сторонится: в сферу онтологии. «Парадигма всеобщности — исключительности» находит прозрачное истолкование именно в онтологическом дискурсе. Если телос практики отделен от эмпирического бытия онтологическим разрывом, то практика себя оказывается принципиально отлична от всех практик обычного существования человека, она оказывается радикальной альтернативой самому способу эмпирического существования — и, разумеется, это ставит самый значительный барьер на пути ее выбора и следования ей. Но это объяснение охватывает еще не все практики себя. Вернувшись к отмеченной выше бифуркации, разделению обращения-на-себя и практик себя на два рода, мы видим, что исключительность практики себя, ее альтернативность, отделенность барьером от всех практик обычного существования, имеют место, если эта практика несет кардинальный разрыв с исходным субъектом, то есть является транс-субъективацией и предполагает обращение-претворение. Но можно пойти и далее: мы замечаем, что кардинальный разрыв может быть и тогда, когда обращение-на-себя есть возвращение к себе. Как раз это имеет место в платонизме и неоплатонизме: да, «бегство в дорогое отечество» есть, несомненно, возвращение — однако, пускаясь в это бегство, мы обнаруживаем, что оторваны от отечества самым кардинальным, в полной мере онтологическим образом. Поэтому соответствующие практики себя тоже являются исключительными и альтернативными по отношению к практикам обычного существования. Что же касается «эллинистической формации», включающей у Фуко стоические, кинические и эпикурейские практики 1–2 вв., то философ особо настаивает, подчеркивает, что эти практики были во всех отношениях ограничены горизонтом эмпирического существования. Тем самым, «дистанция», преодолеваемая субъектом, здесь, в сущностном смысле, меньше, незначительнее — и, соответственно, ниже, незначительней и барьер, отделяющий их от прочих антропологических практик. История подтверждает это: практики, описываемые Фуко, были достаточно распространены, даже популярны, модны. Но, тем не менее, их цель (телос) оставалась особенной, уникальной, и они не сливались с прочими практиками, сохраняя печать инаковости и составляя удел избранного меньшинства. Барьер не исчезал целиком и был еще достаточен для того, чтобы Фуко смог увидеть в этих практиках контрастное сочетание всеобщности и исключительности. Однако наиболее чистым, резким этот контраст является не в них.
* * *
Как общеизвестно, наряду с «практикой себя», другое главное понятие концепции Фуко — «забота о себе». Это понятие — из иного дискурса, иной природы. Практика себя — введенное самим философом антропологическое и философское понятие, но забота о себе — историческое понятие, взятое из арсенала античной (преимущественно, позднеантичной) культуры, перевод греческого έπιμέλεια έαυτοϋ. Конечно, в концепции Фуко забота о себе оснащается многими дополнительными аспектами, измерениями, связями, в известной мере становясь также и современным антропологическим понятием; но эта модернизация понятия не является его подменой, и Фуко, пользуясь им, обычно тщательно держится исторической основы
[11]. Разделяя с практиками себя роль базового концепта теории Фуко, забота о себе также выступает топосом этой теории, порождающим центром концептуального комплекса; и, в соответствии с ее исторической природой, понятия и установки, что собрал в себе этот топос, в большинстве тоже носят исторический характер, принадлежа миру античной культуры. Однако наш анализ ставит сугубо антропологические цели. Поэтому мы не будем следовать за Фуко в его разборе античных источников, и наше описание заботы о себе и всего ее топоса будет самым беглым.
Курс 1982 г. открывается подробным, тщательным формированием понятия. История заботы о себе, согласно Фуко, охватывает тысячу лет, с 5 в. до н. э. и до 4–5 вв. н. э., «от первых форм философской деятельности, какими мы их видим у греков, к первым формам христианской аскетики» (24). На протяжении этой истории содержание понятия непрерывно менялось, однако эволюция всегда сохраняла его природу и смысловое ядро. Природа концепта глубоко синтетична: «в понятии έπιμέλεια έαυτοΰ перед нами… свод установлений касательно способа быть и действовать, форм рефлексии, практик» (24). Но в первую очередь, в самой сути, это — определенная установка, «установка по отношению к себе, по отношению к другим, по отношению к миру». В смысловое ядро входят, прежде всего, две черты этой установки: во-первых, она требует «отвести свой взгляд от внешнего… и обратить его на себя самого», она «предполагает некий способ слежения за тем, о чем ты думаешь, что делается у тебя в душе»; во-вторых, она «всегда подразумевает некие действия… над самим собой, с помощью которых… изменяют себя, очищаются, становятся другими, преображаются» (23). Вторая черта устанавливает связь между двумя главными понятиями: забота о себе реализуется в практике себя. И, как видно уже, оба принципа взаимно дополняют друг друга: практика себя может рассматриваться как антропологическое ядро заботы о себе, тогда как забота о себе осуществляет расширение практики себя до целостной культурной и социальной стратегии.
Далее, другая определяющая, конститутивная связь заботы о себе — с познанием себя, знаменитою установкой, заданной дельфийским оракулом γνώθι σεαυτόν. Из сказанного уже явствует, что эта последняя установка включается, входит в первую — коль скоро забота о себе требует «обратить взгляд на себя самого» и прослеживать свои мысли и душевные состояния. Но роль и место познания себя в сфере заботы о себе глубоко изменялись. Краеугольный камень всей поздней теории Фуко — тезис о том, что именно взаимоотношение двух принципов, познания себя и заботы о себе, является ключевой характеристикой, определяющей состояние человека, общества и культуры в каждую эпоху
[12]. Соответственно, обращаясь к анализу каждой из эпох, Фуко всегда в первую очередь выясняет и исследует данное взаимоотношение. Тезис дополняет широкая обзорная оценка: в ходе истории западной мысли и культуры, произошел необоснованный и неплодотворный отказ от установки заботы о себе; тогда как установка познания себя, трансформировавшись в установку познания как такового и утеряв связь с заботою о себе, заслонила, вытеснила эту последнюю и стала монопольно господствующим принципом западного мышления. Движущим фактором этого негативного процесса — Фуко с долей условности обозначает данный фактор как «картезианский момент» — служит постепенное укоренение и победа установки, согласно которой «познание и только познание открывает доступ к истине», а никакого (само)изменения субъекта для этого доступа не требуется. Далеко выходя за рамки задачи формирования концепта заботы о себе, эти положения намечают новый взгляд на весь путь развития западной философии — взгляд, близкий отчасти к известным критическим рецепциям этого пути (сам Фуко возводил свою позицию к Хайдеггеру
[13]), но отчасти, бесспорно, своеобычный — прежде всего, по выстраиванию критики с позиций антропологического принципа практик себя и эллинистического принципа заботы о себе. Обсуждая общие контуры и векторы поздней теории Фуко, мы вернемся еще к ее историко-философским импликациям.
Представляя платоновского «Алкивиада» как «первое теоретическое осмысление» заботы о себе, Фуко указывает, что это осмысление — и тем паче его итог, создание концепта (до которого, как он подчеркивает, платоновский этап еще не дошел) — должно различать в понятии, как он говорит, «две его створки», то бишь «заботу» и «себя», методично их разводя и осмысливая по отдельности. Как мы знаем, вторая створка концепта для Фуко еще важней первой: он не раз характеризовал весь замысел своего позднего периода как «историю субъекта» и говорил, что именно субъект — «предмет его изысканий». Взгляд под этим углом обнаруживает у позднего Фуко богатые, хотя очень разбросанные и не сведенные воедино разработки, начатки цельной и оригинальной «субъектологии». Отнюдь не покушаясь на ее реконструкцию, мы ставим сейчас лишь один частный ее вопрос: как следует, по Фуко, понимать «себя» в термине «забота о себе»? Об этом в текстах философа рассеяна масса замечаний; но довольно цельный ответ, думается мне, можно найти в следующем небольшом рассуждении по поводу соответствующего же места «Алкивиада» (129 и д.):
«Сократ ждет ответа не на вопрос…Что же такое человек? Поставленный Сократом вопрос гораздо более точен, он много труднее и интереснее:… что же это такое “самое само” (αυτό то άυτό), ведь как раз самим собой ты и должен заниматься? Под вопросом, стало быть, не природа человека, но то, что мы — мы сейчас, поскольку этого слова нет в греческом тексте — назвали бы субъектом. Что такое этот субъект, что это за точка, к которой должно обращаться мышление, деятельность рефлексивная и рефлексируем, поворачивающая человека к самому себе? Что такое “сам”? Это первый вопрос» (53–54).
Это — редкостно насыщенный текст, в котором — как то и бывает у настоящих философов — в форму вопроса вмещено содержание, чреватое не одним ответом, а целым клубком новых вопросов и ответов — или, по-другому сказать, дающее трамплин для прыжка в некоторый топос. В данном случае — топос «себя». В тексте заложен ряд отождествлений, которые не только продвигают к искомому ответу, но заодно раскрывают нам правила словоупотребления, принимаемого для себя Фуко. Вот этот ряд:
«сам», «самость» (le soi) = «самое само» (άυτό τό άυτό) в платоновском дискурсе = «субъект» = = «точка, к которой должно обращаться мышление, деятельность рефлексивная и рефлексируемая, поворачивающая человека к самому себе».
Последнее в этом ряду отождествлений — уже не очередной термин или оборот, а настоящее развернутое определение. Им можно заниматься долго, по содержательности оно способно стать ядром цельного опыта субъектологии. Можно найти в нем немало коннотаций — к Гегелю «Феноменологии духа» (один из самых важных для Фуко текстов западной мысли), к Декарту… Сейчас мы, однако, затронем лишь два самых необходимых момента. Первый из них касается того, что не присутствует, а отсутствует в ряду: в наборе отождествлений субъекта налицо явное зияние — здесь нет Я, Эго. В противоположность Декартову, Фукианский субъект отождествляется не с «Я», а с «себя», ему отвечает не личное, а возвратное (как во французской, так и в русской грамматике) местоимение. Сей языковый момент принципиален, он сразу же вводит нас в природу этого особенного субъекта.
С точки зрения субъектологии, «Я» и «себя» различаются чрезвычайно
[14]. Субъект-«Я», выступающий от первого лица, есть суверенный деятельностный центр, рождающий исток всех активностей человека. Как известно, подобного концепта, возникающего в итоге решения проблемы индивидуации, в античности не существовало; проблема индивидуации еще не была поставлена, тем паче не решена
[15]. Но понятие «себя», как полагает Фуко, хотя бы в основе уже было. Именно с ним он отождествляет знаменитое «самое само» Платона, и с ним же связывает своего «субъекта». Что это за понятие? Как учит грамматика, возвратное местоимение — это «обращающее действие на самого деятеля»; возвратность — возврат к себе, на себя, так сказать, притяжение, притягивание к себе; то есть, возвратное местоимение, категориально не будучи притяжательным местоимением, несет тем не менее аналогичный смысл притяжательности. По смыслу, «себя» — своего рода «притяжательный коррелят» «Я». Итак, если следовать наводящей нити языка, то субъект-«себя», «субъект-самость» есть субъект, осуществляющий возврат всякого действия на себя, и в силу этого он может мыслиться как центр притяжения, в который стягиваются и которым организуются все активности человека. Но при этом не предполагается, вообще говоря, что они этим центром и порождаются; «субъект-самость» скорее их распорядитель, нежели генеративный исток. Соответственно, в аспекте мышления, «субъект-самость» — лишь точка, «к которой должно обращаться мышление» — и она может, вообще говоря, не быть точкой, из которой исходит и в которой рождается мышление. Если он и есть средоточие, локус мышления, то лишь такой локус, куда мышление следует привести и водворить посредством обращения-на-себя, но не локус — генеративный исток мышления.
Эти свойства фукианского субъекта дают основания для вполне определенного вывода: конечно, этот «субъект», который не является Первым лицом, Я, cogito, а является только «притяжательной самостью», — не есть и субъект в собственном философском смысле; и когда Фуко использует этот термин в штудиях античных практик себя, он должен пониматься условно. Можно найти у Фуко и прямое заявление об этом: «Ни один греческий мыслитель не дал и не искал дефиниции субъекта; я попросту скажу, что субъекта не было… Классическая античность не проблематизировала конституцию себя как субъекта»
[16]. Наряду с этим негативным утверждением, можно найти и характеристики положительного смысла и содержания «субъектных конструкций», дающие хотя бы частичный ответ на вопрос: но если здесь нет субъекта, то кто/что же есть? Ср., напр.: «Я думаю, что не существует субъекта суверенного, фундирующего (fondateur), универсальной формы субъекта, которую можно было бы встретить всюду. К такой концепции субъекта я крайне скептичен и враждебен. Напротив, я думаю, что субъект конституируется в практиках субъективации (assujettissement) или же, более автономным образом, в практиках освобождения, свободы, разумеется, исходя из некоторого набора правил, стилей, конвенций, находимых в культурной среде»
[17]. Очевидно, что некоторым видом субъективации является и та субъектная конструкция или формация, которую Фуко сопоставляет дискурсу Платона. «Притяжательное место-имение», «притягивающее место», было бы вполне подходящим именем для нее, не будь здесь неоднозначности: притяжательное местоимение — не только soi, но еще и moi, toi. Поэтому описанную Фуко до-личностную субъектную формацию, отвечающую античному «субъекту», мы будем называть «притяжательной самостью».
«Субъективация, но не субъект»: такой характер субъектологии позднего Фуко неутомимо утверждал и отстаивал также Делез, немало писавший и говоривший о творчестве Фуко после его смерти. Он повторяет, что Фуко «никогда не возвращался к субъекту», что у него «субъективация без субъекта», «субъект без идентичности», «ансамбль безличных сил» и т. п.; наконец, что «Фуко говорит о субъективации как о процессе и о “Я” как об отношении (отношении к своему Я)»
[18]. Однако «субъективация» — не слишком определенное, размытое понятие; и Делез прилагал все усилия к тому, чтобы убедить: в дискурсе Фуко, субъективация предельно далека от классического субъекта, она не удерживает ровно никаких его предикатов, не несет никаких личностных характеристик. «Субъективация — это производство модусов существования или стилей жизни… то, что Ницше называл изобретением новых жизненных возможностей»
[19]. Предельно акцентируя анти-субъектную, не-личностную природу этих модусов, Делез доходит и до некоторой гипертрофии, стилизуя мысль Фуко в духе своей собственной страсти к расчеловечению, редукции антропологической реальности к топологии и физике: «Субъективация имела мало общего с представлением о субъекте. Речь идет скорее об электрическом или магнитном поле… о полях индивидов»
[20]. Здесь уже явный перебор; когда на месте субъекта мы обнаруживаем электрическое или магнитное поле — это уже точно Делез, но не Фуко.
Возвращаясь же к фукианскому «субъекту», мы отметим еще одно его важное для нас свойство. Дискурс практик себя и заботы о себе — деятельностный, «глагольный» дискурс, он говорит сугубо о том, как «заниматься собой», о действиях человека, и не оперирует никакими отвлеченными понятиями, сущностями. Поэтому протагонист этого дискурса, «субъект-самость», или же «точка, к которой должно обращаться мышление», окачествуется, определяется лишь исключительно — обращающейся к нему деятельностью как таковой; и нельзя сказать, строго говоря, чтобы эта деятельность «наполняла» его, как некое вместилище, какими-то субстанциальными или эссенциальными «содержаниями». В этом смысле, он — не «субъект деятельности», а «субъект-деятельность», «точка-деятельность» (возможно, было бы лучше говорить о «действиях», во избежание коннотаций с известной «деятельностной методологией»). Как «точка-деятельность», имеющая лишь самое деятельность, действия своим единственным наполнением и определением, он является динамическим образованием, имеет природу действия. И, следовательно, он не может получить адекватной концептуализации в эссенциальном дискурсе. Такова особенность персонологии или субъектологии не только в дискурсе практик себя, но в последовательном дискурсе каких бы то ни было практик — и, думается, здесь — один из основных факторов, ведущих к специфической рецепции Аристотеля: выстраивая взгляд на античную культуру и мысль в перспективе практик себя, Фуко заявляет: «Аристотель — не вершина античности, он — исключение» (добавив в порядке вызова: «как всякий знает») (30).
Понятно, что «сам» в формуле «забота о себе» — еще не «истинный сам», к которому следует продвигаться путем практики себя, воплощающей установку заботы о себе. Поэтому оба усмотренных нами свойства фукианского субъекта, раскрывающие его как «самость», наделенную лишь «притяжательной», но не личной природой, и как «точку-деятельность», характеризуют его до того, как он конституирует себя — или, как Фуко предпочитает говорить, «учредит», setablit, — в практике себя. Можно ожидать, что они как-то проявятся, отразятся на его конституции. К этой проблематике конституции «субъекта» у Фуко мы вернемся еще не раз, чтобы в заключение, в Разделе II, сопоставить ее с конституцией личности в духовной практике.
Понятие заботы о себе, по Фуко, «было опорой целого круга чрезвычайно насыщенных и богатых смыслами понятий» (24). Но, в силу исторического характера концепта, в этом кругу совсем немного понятий универсальных, связанных с заботой о себе как таковой, а не с какой-либо из ее частных форм. Мы ограничимся упоминанием всего двух, наиболее существенных: это — «искусство жизни» τέχνη του βίου, а также χρήσις, «пользование», универсальность которого Фуко отмечает специально: «С понятием χρήσις мы… будем встречаться на протяжении всей истории заботы о себе» (73). Тема «искусства жизни», как и многие другие, объединяет Фуко с Пьером Адо, который в те же годы писал о прочно присущей античности «концепции философии как искусства жить, как формы жизни». Аналогично Адо, Фуко констатирует, что «искусство жизни (эта знаменитая τέχνη του βίου … начиная с Платона, станет главным определением философии» (103). Но, в отличие от Адо, Фуко прослеживает связь этого искусства с принципом заботы о себе, находя, что с расцветом заботы о себе в эллинистическую эпоху две установки приходят к своему совпадению: «искусство жизни… и забота о себе или, экономнее, искусство жизни и искусство себя, все более явным образом совпадают… Забота о себе, возникшая в контексте… выработки τέχνη искусства жизни, распространяется на все пространство этой самой τέχνη του βίου. То, к чему с давних пор, с начала классического периода стремились греки, то, что искали они… эта τέχνη του βίου теперь полностью перекрыта требованием, гласящим, что надо заботиться о себе» (201, 525). Что же до χρήσις подчеркивает Фуко, в контексте заботы о себе она выступает отнюдь не в обычном смысле простого пользования, но скорее — как некий должный образ пользования, как понятие, определяющее особый способ, модус надлежащего отношения к вещам окружающего мира. Этот модус, диктуемый заботою о себе, связан с субъектной природой «себя»; выражая «особенную, стороннюю позицию субъекта по отношению к тому, что его окружает» (73), он становится одной из существенных внутренних характеристик «истинного себя». Фуко не прослеживает историю χρήσις в христианстве, но можно признать, что эта категория была воспринята раннехристианской культурой почти с тем же смысловым содержанием, войдя в арсенал патристики и аскетики. Заметим еще, что понятие «культуры себя», широко используемое Фуко и описываемое им в весьма общих культурфилософских категориях, не является, тем не менее, универсальным: по Фуко, можно лишь говорить о «развитии, начиная с эллинистического периода, некой культуры себя», тогда как в классической античности она еще не сложилась. Разумеется, это — не античное, а современное понятие, вводимое Фуко обобщение и расширение «заботы о себе». Это — способ существования, в котором «обретают особую интенсивность и особую ценность отношения себя к самому себе»,
[21] причем этому способу, как и практике себя, присуще контрастное сочетание всеобщности его целей и ценностей и исключительности, узости сообщества тех, кто способен реально следовать им. Согласно Фуко, культура себя входит в состав «культурной формы, обозначаемой как paideia», и весьма близко к ней стоит понятие немецкой культуры Просвещения Selbstbildung, «образование себя».
Наконец, в базовый словарь концепции Фуко, несомненно, входит еще аскеза (άσκησις), или «философская аскеза». В современной культуре термин привычно связывается с христианской Церковью и институтом монашества; но у него и богатая античная история, прослеживаемая от пифагорейства. К ней, разумеется, и примыкает употребление понятия у Фуко. Он принимает обычные дефиниции (аскеза — «прилежная, ревностная тренировка», практика, ансамбль практик, «упражнение в делании себя» и т. п.), а затем особо выдвигает и разрабатывает ряд нужных ему аспектов понятия. Прежде всего, аскеза весьма сближается с практикой себя, но предполагается при этом несколько более широким, общим понятием, как видно, к примеру, из такой ее характеристики: «В языческой аскезе, в аскезе философской… речь идет о том, чтобы воссоединиться с самим собой с помощью определенной практики себя… Сделать истину своей, стать субъектом истинной речи — вот в чем… заключается самая суть философской аскезы» (360). Как явствует из этой сути, аскеза разделяет с практикой себя и роль конституирующей активности: «Аскеза… конституирует — в этом и состоит ее цель — субъекта, делает его субъектом истинного говорения» (402). Синонимичный же в дискурсе Фуко термин «философская аскеза» используется для акцентирования двух моментов: во-первых, теснейшей и обоюдной связи аскезы и философии в эллинистическую эпоху, а во-вторых, отличия аскезы языческой от христианской
[22]. Фуко резко разводит эти две формации аскетизма, и их отличий мы ниже еще коснемся.
Абрис концепции
Итак, мы описали аппарат концепции или теории Фуко, фонд используемых ею средств. Пора теперь описать те цели, которым служили эти средства — описать общее строение и состав того, что философ успел осуществить, восстановить, по мере возможности, его недоосуществленные замыслы и вкупе попытаться представить полные очертания всего Проекта Фуко, дела последних лет его жизни. Представить — и оценить их в контексте философской, культурной, духовной ситуации нашего времени. Понятно, что в данном тексте мы реализуем эти задания лишь самым беглым образом.
Две формулы всегда звучат при попытках передать в двух словах главную тему, смысл, суть последнего проекта Фуко: «история субъекта» и «практики себя». Описывая язык проекта, мы ставили в центр, естественно, «практики себя», новое базовое понятие, введенное философом. Но сам он, характеризуя свой замысел, чаще делал упор на другую формулу: «Я задумал историю субъекта», — говорит он в самом последнем интервью; а, открывая курс 1982 г., так ставит его основной вопрос: «В какой форме истории завязываются на Западе отношения между “субъектом” и “истиной”?» (14). Разумеется, меж двумя формулами нет никакого конфликта, а есть простая логическая связь, которая уже видна и из нашего изложения: согласно Фуко, в практиках себя и конституируется субъект, так что «история субъекта» — не что иное как совокупность осуществляемых им практик себя. Практики себя суть новый взгляд на конституцию субъекта, рождающий новый подход к построению истории субъекта. Собственный путь, найденный Фуко в современной философии, определяется им так: «попытка поместить субъекта в исторический контекст практик и процессов, которые непрерывно его изменяли. Именно эту… дорогу я избрал» (572). Избранный путь диктовал: «надо начинать с истории практик, служащих основанием для форм рефлексивности, которые конституируют субъекта» (502; мы немного перефразировали перевод).
И философ начинает свой последний большой проект с капитального восстановления истории практик себя.
Крупную структуру этой истории задает вводимая им схема трех больших формаций (форм, типов, моделей) практик себя, последовательно сменяющих друг друга в истории Запада. «На уровне практик себя имеется три крупные модели, следовавшие в истории одна за другой. Модель… “платоновская”, центр тяжести которой составляет припоминание. Модель “эллинистическая”, где все строится на отношении к себе как самоцели (l'autofinalisation du rapport a soi). И христианская модель, основанная на экзегезе себя и самоотречении» (284). Ниже мы бегло охарактеризуем эти три модели, но можно сразу сказать, что в целом схема Фуко, вместе со всем его последним проектом, несет печать незавершенности. Относительно ясную картину являет собой лишь тысячелетие, отводимое Фуко на историю «заботы о себе» (4 в. до н. э. — 4–5 вв. н. э.) и завершаемое созданием основ христианского аскетизма, в котором, согласно Фуко, и представлена в чистом виде «христианская модель» практики себя. Как схема должна продолжаться далее, говорят лишь разбросанные отдельные замечания, хотя в планы Фуко входило дать ей самое четкое и полное продолжение (ср.: «Чего я хочу… попытаться разместить в историческое поле, описанное как можно точнее, совокупность практик субъекта, развивавшихся начиная с эллинистической и римской эпохи вплоть до нашего времени» (213, курсив наш)). Говоря о «христианской модели», мы приведем основные указания Фуко о том, как ему рисовалась дальнейшая история практик себя.
Генезис практик себя: Платоновская модель
«Платоновская модель» практик себя, отвечающая классической античности, у Фуко реконструируется оригинально — путем разбора единственного текста, Платонова «Алкивиада» (точнее, «Алкивиада Первого»), и обсуждения единственного героя, Сократа. (Волюнтаристская селекция — вообще один из главных элементов его методологии при создании концепции практик себя.) И этому тексту, и этой фигуре он придает значение выделенное и чрезвычайное: Сократ — «учитель заботы о себе», «Алкивиад» — «первое теоретическое осмысление и даже, можно сказать, единственный пример общей теории заботы о себе» (61).
Как мы говорили, в концепции Фуко ключевая характеристика всякой формации заботы о себе — соотношение между данной установкой и установкой самопознания. В данном случае обе установки символически совмещаются в фигуре Сократа: он учит и тому, и другому, вводит в философию и в эллинское сознание как принцип самопознания, так и «искусство себя». Соответственно, у его ученика, «у Платона… всякая забота о себе сводится к форме познания и самопознания» (62), как и в целом на этом этапе забота о себе в существенном сводится к самопознанию: «Высшей, если не исключительной формой заботы о себе выступает самопознание, заниматься собой — это познавать самого себя» (98), так что в итоге «вся область заботы о себе перекрывается императивом самопознания» (281).
Далее, в целом ряде особенностей сказывается ранний, начинательный характер этапа. Антропологическая парадигма лишь складывалась, забота о себе, как мы говорили, еще не выделилась в отдельный концепт. Многие аспекты позднейшего понятия еще отсутствовали в греческом сознании. Забота о себе преподносилась Сократом Алкивиаду еще как служебная установка: не как самоцель, но только как необходимая подготовка, тренинг для будущей деятельности Алкивиада в роли правителя; иначе говоря, она требовалась не чтобы быть человеком, а чтобы быть правителем. Как ясно отсюда, в ней отсутствовали аспекты универсальности, общечеловечности, которые выше мы отмечали как предикат всеобщности практики себя. Не была отрефлексирована и сама ее связь с практиками себя: дискурс заботы о себе не отсылает к той вполне развитой сфере практик себя, что была создана в Греции пифагорейством и мистериальными культами и представляла собой фактически некий архаический прототип, прообраз заботы о себе (хотя, указывает Фуко, в философии Платона «множество следов таких техник», но в сферу заботы о себе они будут вобраны лишь в позднейшую эпоху). В порядке отступления от анализа «Алкивиада», Фуко фиксирует основные виды этих «архаичных техник себя». В число их входят: 1) обряды очищения, в которые, по преданию, уже сам Пифагор внес столь высокоорганизованную интеллектуальную компоненту как «досмотр сознания», регулярный оценивающий обзор всех своих поступков и мыслей, 2) «техники концентрации души» (πνεΰμα) и охраны ее цельности, самособирания и самососредоточения, 3) «техника отрешения… άναχώρησις,, отшельничество… это некоторый способ отступить от мира, отсутствовать, не покидая при этом своего места в нем… оборвать все внешние связи, не ощущать и не замечать происходящего вокруг» (63), 4) техники испытания себя, своей способности побеждать искушения, выносить страдания телесные и духовные и т. п. В дальнейшем все эти виды войдут в основу репертуара практик себя зрелой «эллинистической модели» (а в немалой мере, и христианской).
Напротив, другие аспекты заботы о себе были выражены уже отчетливо. С самого начала прочное место в ней занимал интерсубъективный, или трансиндивидуальный аспект, условие необходимости наставника. Наставник органически входил в сам изначальный образ заботы о себе, так что утверждать его необходимость даже не было нужды. Дело в том, что на данном этапе субъект заботы о себе — вступающий в жизнь молодой человек, который все представления о том, что такое забота о себе и как следует ее культивировать, может получать только от наставника. Поэтому «в ранней сократовско-платоновской форме забота о себе — это прежде всего то, в чем нуждаются молодые люди в их отношениях с учителем, в их отношениях с любовником или учителем и любовником вместе» (53). Не углубляясь в тему, Фуко тем не менее серией беглых замечаний дает понять, что в его концепции полный, нормальный (?) вариант этой «ранней формы» заботы о себе — именно последний из названных, в котором наставник — это «учитель и любовник вместе»
[23]. Выше мы упомянули уже, что на данном этапе деятельность наставника, психагогика, — еще внутри педагогики. Последняя черта вносит сюда дополнение: по Фуко, это — педагогика, сочетаемая с педерастией, и Другой в парадигме заботы о себе (практики себя) — это учитель-педераст. И наконец, также изначально имеет довольно ясный и определенный ответ кардинальный вопрос о «второй створке» понятия, о том «себе», на которого должна направляться забота (парадоксальным образом, в следующей Большой Формации, эллинистической, эта ясность станет гораздо меньше!). Вопрос этот ставится напрямик в «Алкивиаде», и получаемый ответ в парафразе Фуко звучит так: «Что такое “сам”, о котором надо заботиться? — Это душа» (69). Фуко показывает, что платоновская трактовка «души» отвечает описанной выше концепции «субъекта-самости» и «субъекта-деятельности» (но не субъекта-cogito). Но парадигма заботы о себе / практики себя различает «себя» и «себя истинного», обретаемого в исполнении заботы/практики. В платоновской форме, исполнение заботы о себе в существенном совпадает с познанием себя; а это познание есть по своей природе анамнезис, припоминание. В трактовке Фуко, анамнезис и есть та форма, в которой забота о себе и познание себя приходят к взаимному совпадению: «Душа постигает, чтб она есть, припоминая, что она видела. И душа вновь обретает доступ к тому, что она видела, припоминая, что она есть» (281). И потому Фуко определяет суть, квинтэссенцию платоновской субъектности и платоновской формации практики себя как «модель припоминания субъектом самого себя».
Эллинистическая, или «этическая» модель
«Эллинистическая модель» практики себя — главный предмет внимания и интереса Фуко; даже, пожалуй, raison d’etre всех его поздних построений. Этой моделью он занимается всего больше, выделяет ее из всей истории изучаемых им антропологических парадигм, не раз называет ее и ее эпоху «Золотым веком заботы о себе», «высшей точкой эволюции» и т. п. Он придает ей не только историческую, но и современную ценность, отдает ей свои личные предпочтения и пристрастия: как подчеркивает его чуткий собеседник, «для М. Фуко, так же как и для меня, все это было не только предметом исторического интереса… Именно таким образом он мыслил для себя философию в конце своей жизни»
[24]. Однако, с другой стороны, он отводит ей сравнительно небольшой период 1–2 вв. и даже в пределах этого периода проводит свою волюнтаристскую селекцию, отсекая не одно крупное явление, прямо причастное к предмету его исследований (прежде всего, гностицизм и скептицизм). Без всякого рассмотрения остаются и самые значительные практики себя в античном мире, развитые в мистериальных культах и неоплатонизме. Поэтому, при всей впечатляющей глубине штудий Фуко, его модель вызывает немало сомнений и вопросов. Что в действительности она говорит о человеке, не стал ли он в ней слугой симпатий и склонностей философа? Насколько она пригодна для каких-либо общих антропологических и философских выводов? К этим вопросам нам нужно будет вернуться при итоговом обсуждении всего замысла Фуко.
Модель строится в исторической логике: прежде всего, Фуко фиксирует изменения, совершившиеся в сфере заботы о себе и практики себя сравнительно с эпохой Сократа и Платона. Он выделяет три главные изменения, которые все носят аналогичный характер, повышая значение заботы о себе и расширяя круг ее распространения. В классическую эпоху, забота о себе подчинялась трем условиям или ограничениям: во-первых, она не рассматривалась как общеантропологическая установка, но считалась нужной лишь для определенной группы, категории граждан полиса; во-вторых, она признавалась не целью, а только средством, нужна была лишь для подготовки молодого человека к роли властителя; в-третьих, ее осуществление ограничивалось познанием себя. В эллинистическую эпоху, все эти три ограничения снимаются, исчезают — и это сообщает феномену заботы о себе принципиально новую природу и статус. Феномен «обретает размах подлинной культуры себя» (231).
С отказом от первого ограничения, «забота о себе стала всеобщей и безусловной обязанностью, требованием, которое предъявляется решительно всем, в любом возрасте и независимо от положения» (99). Иначе говоря, императив заботы о себе приобретает предикат всеобщности, что Фуко именует «экспансией» и «генерализацией императива». Со снятием второго ограничения, забота о себе и практика себя становятся автономны, самоценны и приобретают чисто антропологическую природу. Они уже не подчиняются никаким внешним, внеположным целям; теперь забота о себе, выработка определенного отношения к себе самому, рассматривается как самоцель. В качестве Телоса практики себя твердо закрепляется «сам», субъект-самость: «в практике себя, как она складывается на исходе так называемого язычества и в первые века христианской эры, “себя” (le soi) оказывается самоцелью, конечной точкой» (276). Сама же практика, тем самым, становится собственно антропологической практикой, полностью самостоятельной, не интегрированной в какие-либо практики власти, социальные или иные практики и не подчиненной им. Снятие же последнего ограничения связано с кардинальным расширением сферы заботы о себе и практики себя. В эту сферу возвращаются многие элементы и черты древних практик, пифагорейских и иных, которые никогда не ограничивались практиками знания; и за счет этого содержание данной сферы делается очень разнообразным, гетерогенным. Практика себя приближается к холистической, требующей участия всех уровней человеческого существа. Установка познания себя при этом отнюдь не отвергается, не уходит из практики себя, однако теперь она — лишь некая часть этой практики; как говорит Фуко, «форма самопознания… смешивается с другими формами в составе гораздо более обширного целого» (100). Одновременно она и трансформируется, получая весьма интересное развитие (мы рассмотрим его при обсуждении парадигмы обращения).
Трансформируются и транс-индивидуальные измерения практики. Правило необходимости Другого, Наставника, остается незыблемым, но роль Другого и формы отношений с ним меняются принципиально. Основное содержание перемен Фуко передает формулой «обособление от педагогики». Эта формула выражает не только очевидное обстоятельство, что когда субъектом заботы стал (априори) каждый, а задачей практики стало формирование «истинной самости», — наставничество в такой практике заведомо уже не может быть частью или же вариацией простой педагогики. Наряду с этим, в формулу вкладывается и позитивное содержание: на новом этапе, Другой должен быть «специалистом по налаживанию отношений субъекта с самим собой», держателем той истины о субъекте, открыться которой — цель практики субъекта. Миссия Другого кардинально углубляется, интериоризуется: ему надлежит ведать и проницать «субъекта-самость» до самого, так сказать, его нутра — и указывать, каким образом эта «самость» должна преобразовываться. По отношению к такой задаче, любая педагогика оказывается слишком поверхностной формой, и психагогика должна отделиться от нее. Вместе с тем, как уже замечалось выше, она явственно приближается к тому, что в христианстве оформится как душепопечительство, пастырство, и к размежеванию этих двух психагогик мы еще вернемся. Однако всего ближе и полнее существо роли Другого, Учителя, в эллинистических практиках себя раскрывается, согласно Фуко, через классическое античное сравнение, о котором он много говорит: «сравнение между медициной, искусством кормчего и духовным руководством, управлением собой или другими». В этом тройственном сравнении сводится вместе «целая связка, целый набор греческих и римских понятий, указывающих… на один и тот же тип знания, один и тот же тип деятельности, один и тот же тип вероятностных познаний» (276). Последний эпитет для Фуко особенно важен: он выражает специфику данного типа деятельности как «деятельности одновременно рациональной и интуитивной», которая руководствуется лишь вероятными или правдоподобными аргументами и не располагает точными данными или доказательствами. Чтобы освоить эту специфику, в античности «пытались учредить некую tehvn(искусство, отработанную систему приемов, общих принципов и понятий)»; и, в итоге, тройственное сравнение вкупе с выросшею из него x£xvr| составили, как говорит Фуко, «настоящую матрицу теории управления». На базе этой матрицы и строится психагогика, дискурс Учителя в эллинистически-римской практике себя.
Еще одна сторона «дискурса Учителя» стала предметом специальных и обширных разработок Фуко: это — необходимое свойство речи Учителя, передаваемое античным понятием парресия. Пройдя сложную историю в античности, понятие не пережило ее и не перешло в новые языки. Спектр его основных значений более или менее охватывается принятым расплывчатым переводом свободоречие, которым мы предпочтем, однако, не пользоваться. Как показывает Фуко, в контексте эллинистических практик себя, парресия нагружается многими дополнительными смыслами и связями, приобретая характер особого «духовного упражнения» и интегрируясь в практику в качестве ее существенного элемента. Фуко изучает ее внимательнейшим образом: помимо подробных ее разборов в курсе 1982 г., он целиком посвящает ей (неопубликованные) курсы 1983 и 1984 гг., а также рабочий семинар в Беркли. Нам же надо поэтому понять не только суть понятия и его роль в практике себя, но и причины столь усиленного внимания философа (ведь всё же «дискурс Учителя» не относится непосредственно к главному, к ядру практики себя — пути «самости»),
У Фуко множество формул-определений, передающих различные аспекты парресии; и уже первые ее предварительные упоминания подчеркивают ее обоюдный, «бинарный» характер: в практике себя, парресия — не столько «свойство речи Учителя», сколько некое основополагающее качество отношения Учитель — Ученик, всей атмосферы их отношений. Да, непосредственно осуществление парресии — дело Учителя: «Παρρησία..… это принцип вербального поведения, которого надо придерживаться в своих отношениях с другим в ситуации наставничества» (187). Но это такой принцип, проведение которого должно установить между Учеником и Учителем даже не только определенную атмосферу общения, но и определенную этику. «Παρρησία..— это душевная открытость, это признаваемая обоими необходимость ничего не скрывать друг от друга из того, что они думают, необходимость чистосердечного разговора друг с другом» (158). И как таковая, она признавалась «одним из фундаментальных этических принципов руководства» (158; курсив мой). Этическое содержание парресии связано с ее полной бескорыстностью и, более того, нравственной высотой: «Тот, кто практикует παρρησία … никак непосредственно и лично не заинтересован в этой практике. Упражняются в парассия только по причине великодушия и щедрости. Великодушное отношение к другому составляет самую сердцевину морального обязательства паррасия» (417). Здесь, в этой этической наполненности парресии, — ее главное отличие от риторики, с которой она разделяет, в известной мере, свои цели (убедить, добиться определенной реакции адресата речи). Здесь же, что более важно, открывается ключевой мотив фукианской рецепции эллинистических практик себя: для Фуко эти практики — прежде всего, очаг или, если хотите, лаборатория по созданию некой новой этики или морали, и главное значение «эллинистической модели», ее историческую ценность он видит именно в том, что в ней «сложилась некая мораль», оказавшая огромное, хотя и скрытое влияние на последующую историю этического сознания, ставшая, как он говорит, «матрицей» будущих наиболее ригористичных этических систем.
Но парресия, подчеркивает Фуко, выступает в практике себя не только как этическое, но и как «техническое» понятие. Это — именно такой способ речи, какой необходим для достижения этой практикой своей прямой цели, Телоса, то есть «доступа к истине» и становления «себя» — «собою самим», «истинным собой». И эта «техническая» функция имплицирует целую серию требований, определяющих саму природу и внутреннюю структуру парресии.
Надо учесть, прежде всего, что речь Учителя — не побочный, не вспомогательный, а самый центральный, решающий элемент практики, она — единственный источник, «место» той самой истины, доступа к которой взыскует Ученик. «Истина целиком пребывает в речи учителя и только в ней» (394). Стало быть, коммуникация Учитель — Ученик генеративна в практике себя, это ее стержень, единственное питающее русло. И здесь надо учесть следующий момент: относительную пассивность Ученика в этой коммуникации. Концепция парресии предполагает, по Фуко, что роль Ученика сводится к молчанию: «Его [ученика] дело, в сущности, — хранить молчание… Парресия — это то, что… со стороны учителя отвечает молчанию со стороны ученика» (394–395). Как замечает Фуко, «Парресия это этимологически, говорение всего» — и в данном случае эту формулу можно понять в самом сильном смысле: всё, что только есть и должно быть в практике практикующего «себя» Ученика, должен выговорить — и притом донести до Ученика! — Учитель. И для этого ему надо — буквально выложиться. Речь его должна нести зримую печать своей истинности, и для этого он должен всецело вложить самого себя в свою речь, обеспечить «ощутимое наличие говорящего в том, что он говорит», достичь совпадения субъекта говорения и субъекта поведения. Именно в этом настоящая природа парресии: «Удостоверением того, что я говорю тебе правду, служит то, что я как субъект своего поведения… абсолютно, полностью тот же самый, что и субъект говорения… В этом сущность παρρησία» (441).
Как видно отсюда, в контексте практики себя парресия предстает очень смыслонасыщенным феноменом, дающим почву для многих вопросов и дальнейших разработок. Посожалев о недоступности последних разработок Фуко, отметим два момента. Во-первых, описанная «сущность парресии» такова, что это явно уже не простая речевая практика, но скорей тоже — практика себя или, по меньшей мере, одно из «духовных упражнений» (элементов практики себя, к которым мы вскоре перейдем). Обнаруживается своеобразная структура: в состав практики себя, проходимой Учеником, оказывается входящей — и необходимой для достижения Телоса практики — если не практика себя Учителя, то некоторые его «духовные упражнения»; иначе говоря, существенная часть практики перекладывается с Ученика на Учителя. В родственных системах антропологических практик — духовных практиках, речь о которых будет в следующем разделе, — подобной структуры не возникает (скажем, в Дзэн Ученик в решении коанов и других трудах должен сам извлекать из общения с Учителем опыт, открывающий доступ к истине). Здесь труд доступа к истине не перекладывается на Учителя, и барьер доступа — выше. Отметив данный факт, не будем сразу пытаться истолковать его. Укажем лишь, что для его понимания имеют, скорее всего, значение такие факторы как специфически «притяжательная», но не «личная» природа субъекта практики (повышающая его пассивность), а также сугубо имманентная природа Телоса практики, помещающая, согласно Фуко, «истинного себя» всецело в эмпирическом бытии и отвечающая ауто-, но не транс-субъективации. В свете этих двух факторов, описываемая Фуко практика предстает как облегченная практика себя, направленная к сниженному (чисто имманентному) Телосу. Но это — лишь предварительная, гипотетическая оценка, и ситуация требует дальнейшего анализа.
Далее, во-вторых, в свете фукианского описания парресии, мы видим, что эллинистические практики себя были и практиками развития, углубления форм человеческого общения. Условие «ощутимого присутствия» самого говорящего в своей речи (иначе говоря, требование вкладывать самого себя в общение), этика совершенной открытости в отношении Учитель — Ученик заставляют заметить, что в этом отношении пробиваются элементы нового для античности рода общения — «общения личностей», «личного общения», какое сложится в христианстве. Парадигма личного общения, созданная христианской культурой и прямо порождаемая самой природой христианского опыта как опыта встречи-соединения со Христом, Богом-Личностью, Богом и человеком, несла новую модель общения как нарастающего обмена экзистенциальными, личностными содержаниями, как цепной реакции углубляющегося обобществления внутренних пространств, созидания общей личностной среды, «двуединства», в терминологии русской религиозной философии. Продвижение к этой модели, некоторые ее черты явственно выступают из описаний Фуко, порой в этих описаниях он непроизвольно переходит в «дискурс личности», хотя и знает, что в античности его не было: «здесь, конечно же… нужны личные отношения. Переписка — это личные отношения. Еще лучше — личный контакт при беседе. А еще лучше — общий жизненный опыт, длинная цепь жизненных примеров, передаваемых как бы из рук в руки» (440–441). Христианство не было, разумеется, изолированным явлением, и позднеантичный мир в прочих своих частях был также в той или иной мере чреват «рождением личности».
Финал последней цитаты затрагивает еще один вопрос, тесно связанный с практиками себя: вопрос о сохранении и неискаженной передаче специфического опыта практики себя, опыта «доступа к истине». Как мы увидим в разделе II, в духовных практиках проблема подобной передачи — одна из главных, и ее решение выражается в необходимом создании особого антропологического и исторического механизма, духовной традиции, миссия которой — тождественная репродукция и трансляция опыта данной практики. Но в практиках, описываемых Фуко, такого феномена не возникает. «Длинная цепь», по которой идентично передается опыт, — это хотя и хорошо для практики, но вовсе не обязательно, и Фуко упоминает о ней только оттого, что незадолго до этого он говорил об эпикурейцах, в школе которых подобная цепь была создана и поддерживалась: «В династии эпикурейских начальников прямое восхождение к Эпикуру через передачу живого примера, через личный контакт, совершенно необходимо» (421): именно это прямое опытное преемство Учителя от Первоучителя рассматривалось как удостоверение истинности речи Учителя; и если только
Учитель, следуя парресии, вкладывал себя в свою речь, Ученик имел возможность воспринять собственно — речь самого Первоучителя, Эпикура. Этот феномен, которому Фуко дал имя «вертикальной трансляции», являет собой некий прототип, одну из зачаточных форм духовной традиции. В других практиках, разбираемых Фуко, нет и этого; Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий — Учители, для которых проблема трансляции опыта никак не стояла. Естественно связывать это обстоятельство опять-таки с «облегченным» характером этих практик, опыт которых, в силу имманентности Телоса, не имел радикального отличия от обычных форм жизненного и культурного опыта и не включал в себя того специфического инструментария и канона, создание и трансляцию которых осуществляет лишь духовная традиция.
Прежде чем перейти к разбору системы упражнений, составляющих «эллинистическую модель», нам следует еще указать, какую форму принимает в этой модели парадигма обращения-на-себя. Фуко здесь вновь начинает с отличий от предыдущего этапа, и главное отличие он связывает с только что обсуждавшейся имманентной природой Телоса. Обращение у Платона, представленное в метафоре Пещеры, есть обращение-возвращение, έπιστροφή, реализуемое в иерархической реальности, платонической онтологии символического двуединого бытия, и потому характеризуемое резкой противоположностью, противопоставлением двух миров, оставляемого душой и составляющего цель ее странствия (итог обращения, Телос практики себя). Согласно схеме П. Адо, ставшей уже классической, принимаемой и Фуко, этой реализации обращения как έπιστροφή противостоит христианское обращение-метанойя, «умопремена», несущая «полный переворот, радикальное обновление», etc. В эллинистической модели, согласно Фуко, обращение есть также возвращение к себе, однако иного рода, нежели платоновская έπιστροφή это — «обращение, которое не есть ни έπιστροφή, ни μετάνοια» (244). В отличие от платоновского понятия, это — возвращение, ставшее полностью имманентным: «Обращение… в эллинистической и римской культуре и практике себя… это возвращение, происходящее, так сказать, внутри этого мира… если платоновская έπιστροφή возносит нас из этого мира в мир иной… то теперь речь идет… об освобождении, достигаемом на оси имманентности» (236). Тем самым, онтологическое измерение парадигмы обращения, как и всей практики себя, в эллинистической модели отсутствует. И это несет прямые последствия для субъектологии. Теперь возвращение к себе означает не открытие в себе «истинного себя», обладающего иным положением, даже иным статусом по отношению к окружающей эмпирии, а простое обретение житейской мудрости — безразличного отношения ко всему, что не зависит от нас. В отсутствие онтологии, онтологической структуры реальности, нет и места ни для какого «истинного себя», отличного от «себя исходного». Поэтому «обращение, к которому призывают Сенека, Плутарх и Эпиктет, это некоторым образом поворот на том же месте: нет ни иной цели, ни иного предела, чем прийти к себе самому, “установиться в себе самом” и там остаться» (538). У обращения остается лишь единственное содержание: некоторое изменение отношения к себе — вполне единственному и «тому же» себе. «Конечной целью обращения на себя является установление некоторых форм отношения к самому себе. Иногда эти формы воспроизводят политико-юридическую модель: быть хозяином самого себя… Часто они отражают идею “удовлетворения от обладания”: быть довольным собой, довольствоваться собой» (538–539). Отличие этого «бытового» Телоса от Телоса платоновско-неоплатонических практик себя, равно как и от телоса духовных практик, нельзя не признать кричащим.
Фуко показывает также, что в рамках эллинистической парадигмы обращения возникает своеобразная когнитивная парадигма: парадигма познания мира, трактуемого как составная часть актуализации обращения на себя. Вопреки поверхностному взгляду, сосредоточенность на себе, диктуемая эллинистическими практиками, не исключает миропознания, но включает его в себя. Она требует, чтобы всякое знание было подчинено «искусству жизни» — а это, в свою очередь, означает, что знание во всей его совокупности необходимо преобразовать, упорядочить сообразно этому искусству: по Фуко, «стоики настаивают, что необходимо… направить взгляд на себя и в то же время охватить им всё мироздание» (286–287). Стоит обратить внимание на последнюю формулу: в ней выражен общий принцип построения всего комплекса знания в антропологическом ключе, под углом антропологических установок («взгляда на себя»), Фуко весьма подробно анализирует, как этот принцип реализуется у Сенеки: он рисует движение субъекта (или его разума), который отступает всё далее от себя, однако как бы «пятясь» и не теряя себя из вида — так что в конце концов это попятное движение, охватывая весь круг мироздания, «помещает нас на вершину мира и тем самым раскрывает перед нами тайны природы» (303). И, по его утверждению, эта стоическая парадигма — прямая противоположность платоновской: «Платоновское движение души… состоит в том, чтобы отвернуться от этого мира и направить взор к иному… оно оставляет позади [этот мир]… Стоическое движение души совсем не такое (303)… Нет никакого перехода в иной мир… Это не то движение, которое отвращает от этого мира… это движение, которое позволяет, ни на миг не теряя из виду ни мира, ни себя, ни себя в мире, охватить его целиком» (309). Сам Сенека и другие стоики отнюдь не видели в своих учениях полярной оппозиции платонизму. Фуко поправляет их, настойчиво проводя всюду свой лейтмотив: чисто имманентный характер эллинистических практик себя, культуры себя; ограниченность эллинистического миросозерцания исключительно «этим миром»; приверженность эллинистического человека и разума идее единственности мира, ограниченности всей реальности как таковой — миром нашего существования.
Естественно, основная часть реконструкции «эллинистической модели» практик себя у Фуко — конкретная дескрипция этих практик. Как мы говорили, в круг рассмотрения Фуко входят практики трех школ: кинические, стоические, эпикурейские. Он не проводит, однако, раздельной реконструкции каждой из этих трех систем практик; его анализ ведется на другом уровне строения. Каждая практика выстраивается из определенных блоков, субпрактик или же упражнений разного рода, умственных, поведенческих, физических и др. Некоторые из этих субпрактик специфичны для определенной школы, другие можно встретить и в разных школах. Именно эти субпрактики в их совокупности и составляют непосредственный предмет изучения Фуко. Для этих элементов или единиц строения практики себя он принимает термин, заимствованный у П. Адо: Духовные упражнения.
На выборе термина нельзя не остановиться. В современной культуре за ним прочно закрепилось одно определенное значение — значение даже не термина, а имени собственного: названия, которое в 16 в. Игнатий Лойола дал составленной им системе четырехнедельных христианских медитаций. Перенося данный термин на практики, развитые античными — прежде всего, позднеантичными, греческими и римскими, — школами философии, Адо утверждает, что такой перенос — только возвращение термина в его изначальную сферу и к его изначальному смыслу; причем употребление термина у Лойолы также восходит к этому смыслу. «Exercitia spiritualia [Лойолы] являются лишь христианским вариантом грекоримской традиции… Понятие и термин exercitium spirituale засвидетельствованы задолго до Игнатия Лойолы в раннем латинском христианстве, и они соответствуют аскезе греческого христианства. Но, в свою очередь, этот acrxrjatg, который нужно понимать не как аскетизм, а именно как практику духовных упражнений, существует еще в философской традиции античности»
[25]. Фуко перенимает эту позицию без обсуждения, говоря походя о «духовных упражнениях, обычных для христианства и восходящих к духовным упражнениям древних, в частности, к стоикам» (320). Но стоит сказать, что компаративистские утверждения Адо о христианских заимствованиях отчасти гипертрофированы и не бесспорны (как, скажем, тезис о «варианте греко-римской традиции», создаваемом молодым пылким католиком через тысячу лет после ухода этой традиции!). Мы, однако, сейчас не будем входить в их разбор, как равно не будем и обсуждать, насколько в позднеантичном язычестве существовало понятие «духовного» в употребляемом Адо смысле (его, верней всего, не существовало). Неоспоримо, при всем том, главное — существование самого культурного феномена: идущей из древности преемственно-пунктирной линии целенаправленных антропологических практик или упражнений, в которых участвует, по Адо, «не только мысль, но вся психика индивида» и достигается «преобразование видения мира и трансформация личности». Название же феномена, данное ему Адо и уже успевшее укорениться, примем как факт. Цельной истории его, доходящей до современности, еще не создано, и Фуко, «принимая эстафету» от Адо, делает о позднейших ее этапах ряд замечаний, которые мы ниже затронем.
Фуко выделяет ряд общих характеристик, которые можно отнести ко всей системе духовных упражнений. На первое место среди них надо поставить своеобразное понятие «оснащения», лараохегп1! передающее назначение всех упражнений. Как мы видели, в разбираемых практиках себя, согласно Фуко, сам «тип субъектности» и природа, базовые структуры «самости» не меняются; «путь к себе» в этих практиках — «поворот на том же месте». Такой поворот означает, что изменить надо лишь отношение к себе — надо установить адекватные формы этого отношения, или, проще сказать, «начать относиться к себе правильно». А это значит — правильно увидеть себя-в-мире, свои возможности и задачи; и соответственно, выработать, усвоить правильные, адекватные принципы поведения, реакции, стратегии. В итоге, данные практики себя занимаются, собственно говоря, не «самим собой» как таковым, то есть не преобразованием субъекта в его базовом строении (на этом особо настаивает Фуко, справедливо видя тут глубокое различие с христианством) — но только субъектом-в-мире, преобразованием его стратегий, реакций, моделей поведения. Практика — Фуко обычно называет ее «аскезой» или «философской аскезой», для различения с христианством — должна наделить, оснастить субъекта такими моделями и реакциями, которые сделают его подготовленным и адекватным для любых возможных ситуаций. Эту идею и выражает концепт лараохег)Г|. «Главной и непосредственной задачей aoxr)oig… будет Jtapaoxeuri, подготовка себя, экипировка (354)… jiapaoxeu'fi должна быть ничем иным как набором… приемов, совокупностью практик, необходимых и достаточных, чтобы сделать нас сильнее всего того, что может произойти на протяжении нашей жизни (349)… это снаряжение, та подготовка субъекта и души, которая вооружает их должным образом… на все случаи» (267). Содержанием jrapaax£uf|, «доспехами» субъекта, служат речи Учителя, «истинные речи», однако по-особому усвоенные Учеником — ставшие не «полученными сведениями», но принципами его действия и поведения. «Истинные речи» должны быть в субъекте переведены, претворены в некий «деятельностный модус»: превращены во всегда наличные, держимые наготове инструкции жизненного поведения (лат. перевод жхраохеил — instructio). Так раскрывается внутренний механизм «оснащения» субъекта: «ПараохеиУ)… это способ непрерывного преобразования истинных речей, глубоко укорененных в субъекте, в морально приемлемые принципы поведения… Это стихия преобразования логоса в этос» (354). Как видим, Фуко снова подчеркивает здесь этическую природу эллинистической модели.
Далее, общий взгляд на совокупность духовных упражнений обнаруживает различные возможности ее структурирования. Фуко рассматривает два принципа структурирования, в известной мере противоположных: принцип внешний, по затрагиваемым областям, сферам человеческого существования, а также принцип внутренний, по характеру самих упражнений. Внешний принцип устанавливает тройственное членение: «Заботы о теле, окружение и дом, любовь. Диететика, экономика, эротика. Вот те три обширные области, в которых в эту [эллинистическую] эпоху осуществляется попечение о себе» (184; курсив мой). Согласно Фуко, уже и в классическую эпоху Греции эти три области представляли главные сферы, в устроении которых реализовалось античное искусство жизни: «Постановка питания, управление домом и хозяйством, “ухаживание” за отроками… суть три фокуса, вокруг которых греки развивали искусство жизни, искусство своего поведения и искусство “использования удовольствий”»
[26]. При этом, «диететика понималась как искусство ежедневных отношений индивидуума со своим телом, экономика — как искусство поведения мужчины как главы дома и эротика — как искусство взаимного поведения мужчины и отрока, связанных любовными отношениями»
[27]. Но, вместе с тем, в классическую эпоху все эти «три фокуса» не входили в сферу заботы о себе — напротив, «забота о себе… в речах Сократа решительно отделялась от заботы о теле (от диететики), забот об имуществе (от экономики) и от любовных дел, т. е. от эротики» (185). Настаивая, как обычно, на резком различии классической и эллинистической эпох (и, кстати, в этом аспекте отнюдь не сходясь с Адо), Фуко видит очередное различие их в том, что сфера заботы о себе и практики себя, кардинально расширившись, вбирает в себя «три фокуса»: «Диететика, экономика и эротика отныне предстают областями практики себя» (185).
Этот внешний принцип членения практик и техник себя удобен и кладется философом в основу при изучении сексуального поведения (он, в частности, определяет композицию второго тома «Истории сексуальности»). Однако, переходя к герменевтике субъекта, сосредоточиваясь на судьбе «самости», Фуко находит более релевантным принцип внутренний. При этом, он утверждает, однако, что в таком членении никогда не достигалось полного упорядочения, сведения всех духовных упражнений в единую систему — в силу самой их «философской» природы. «Философская жизнь… правилу, regula, не подчиняется. Она подчинена форме… По представлениям римлянина или грека, повиновение правилу, или просто повиновение, никогда не позволит создать прекрасное произведение… И это, несомненно, причина того, что вы никогда не встретите в аскетике философов такой подробной каталогизации упражнений… какую мы имеем у христиан… перед нами гораздо более неопределенная целостность» (459)
[28]. Тем не менее, он находит, что в этой «целостности» все же есть внутренняя структура: в ней можно выделить два «семейства» или класса упражнений, принадлежащих к разным типам. Эти типы он характеризует двумя понятиями из словаря практик себя: peXexav (размышлять) и Yupvd^eiv (упражняться, тренироваться). В упражнениях первого типа проделывается «мысленный труд… главная задача которого — приготовить человека к тому, чем ему придется вскоре заняться» (460). Упражнения же второго типа — реальные действия, «тренировки в реальной ситуации», в которых участвуют, вообще говоря, и душа, и тело.
Упражнения второго типа практиковались всегда, они более чем традиционны для человека: ему было изначально свойственно «проверять, на что он способен». Фуко разделяет такие самопроверки вновь на два вида: упражнения в воздержании и (само) испытания. В первом случае имеется в виду тренинг стойкости, мужественности, выносливости, перенесения лишений; но чисто физические упражнения (как гимнастика, атлетика), в отличие от классической эпохи, от Платона, теперь считаются иррелевантными для практики себя. Однако и эти издревле известные упражнения проходят переосмысление: «В культуре себя смысл этих упражнений другой: учредить или удостоверить независимость человека от внешнего мира» (546) — и за счет этого создается иной образ тела: на месте Атлетического Тела — «тело терпеливое, наученное воздержанию», «тело, повинующееся душе» — т. е. прежде всего, воплощающее определенный «этос тела». (Само)испытания, возможные во множестве форм, сходны с практиками воздержания, но в ряде моментов глубже затрагивают сознание и мысль. В них есть элемент познания себя; а, поскольку типичные испытания — это упражнения по погашению своих эмоций, то в них входит и контроль мыслей, «особая работа по нейтрализации мыслей, желания и воображения». Согласно Фуко, эта работа приближается к христианской установке бесстрастия, однако не достигает ее резкости, «здесь мы находимся на полпути». Постепенно понятие «испытания» углублялось: как в эволюции заботы о себе, здесь тоже происходила «генерализация императива», и разнообразие частных испытаний дополнилось осмыслением всей жизни человека как непрерывного испытания. В таком осмыслении, испытания практически уже сливаются с духовными упражнениями первого типа.
В упражнениях первого типа отчетливо проводится общая методика, уже отмечавшаяся выше: те или иные занятия становятся духовными упражнениями, вбираются в практику себя, путем определенной «спецобработки» — поворота, претворения их в «деятельностный» или «практический» модус, в котором они делаются элементами системы обеспечения правильных действий и поведения субъекта, его правильного стояния-в-мире. И в первую очередь, такой поворот предполагается для производящего понятия всей этой группы — самого размышления, meditatio. Это отнюдь не обычное «размышление над некоторой мыслью», а «упражнение по усвоению и освоению мысли», в итоге которого мысль должна стать действенной и регулятивной для поступков и поведения субъекта. Такое освоение предполагает, в частности, «опыт самоотождествления» — мысленное погружение себя в ситуации, связанные с темой размышления. Здесь мысль активно участвует в формовке субъекта, осуществляя, по Фуко, «субъективацию истинной речи»; и про размышление, так «повернутое», можно вместе с Фуко сказать: это «не игра субъекта со своей мыслью, но игра мысли, в которой ставка — субъект» (386).
Аналогичный «поворот» проводится во всех упражнениях этого рода. В итоге, духовными упражнениями становятся «все техники и все практики, касающиеся слушания, чтения, письма и говорения». Фуко детально разбирает три возникающие упражнения (или группы упражнений): слушание (и молчание), чтение/письмо, говорение (устная речь, la parole). Слух сам по себе — самая пассивная модальность, однако в аскезе слушание насыщается многими активными элементами. Оно, в частности, превращается в «парэнетическое слушание», которое сразу же переводит выслушиваемое в форму наставления «себе»; и входит в практику себя как «первый шаг субъективации истинной речи». Чтение как духовное упражнение имело главную установку «дать повод к размышлению», в котором должно было происходить оснащение себя «истинными суждениями», превращаемыми в действенные наставления, инструкции. Поэтому чтение опиралось на строгий отбор немногих текстов, чаще в отрывках, и связывалось воедино с письмом: делом чтения было преимущественно собирание суждений, делом письма — их претворение в нужный модус; так что, согласно Сенеке, «надо чередовать чтение и письмо». Письмо как духовное упражнение особо интересует Фуко, он посвящает ему отдельный текст «Написание себя» (1983). Такое упражнение «подкрепляет, реактивирует чтение»: это — краткое изложение прочитанного, составление тематических сводов, антологий выдержек, запись полезных бесед, уроков, наконец, эпистолярия; и весь этот корпус тобой написанного — это «опоры для памяти», йлоцугцшта, играющие, по Фуко, чрезвычайно важную роль в культуре и практике себя поздней античности. Он именует их «вахтенным журналом» «себя» и ставит задачу — несомненно, антропологически нужную! — сопоставления таких журналов, оставленных разными эпохами. Далее, говорение, речь Ученика, субъекта, стало важным элементом практики себя лишь в христианстве, приняв форму «практик признания», выговаривания всей истины о себе, — и, согласно Фуко, «этот момент был безусловно решающим в истории субъективности на Западе» (392). В эллинистических же практиках «ведомый к истине речью учителя совсем не обязан говорить истину о себе… Нужно, чтобы он молчал, и ничего другого не надо», и все элементы речи Ученика в этих практиках «лишены духовной значимости» (392–393). Значима только речь Учителя, которая должна следовать принципу парресии.
Далее, к этому же типу принадлежит и группа упражнений, так сказать, философского анализа, требующих наблюдать за собственными представлениями и судить о соответствии истине наших суждений о них, а также вызываемых ими движений души (страстей и эмоций). Общее содержание их Фуко определяет так: «поток представлений и аналитическая работа по их определению и описанию», предполагающая схватывание представления в его спонтанности и выделение его объективного содержания. Работа эта осуществляется, в главной части, с помощью двух упражнений: отчетливое видение и описание предмета в его строении («эйдетическая медитация») и называние, произнесение его имени и имен его составных частей («ономастическая медитация»). Затем, на основе достигнутого видения предмета как такового, надлежит достичь его видения в общем космическом порядке: «уловить значение предмета для космоса, а равно его ценность для человека как… существа, помещенного, согласно его природе…. внутрь этого космоса» (324). И в этом космическом видении, согласно Марку Аврелию, «душа делается великой», приближаясь к стоическому идеалу невозмутимости и безразличия. Фуко отделяет и отдаляет такой анализ представлений от новоевропейской философской методологии картезианского типа и, напротив, сближает его с практиками проверки представлений в христианской аскезе.
Наконец, завершающую группу упражнений зрелой стоической практики себя составляют сложные, развернутые упражнения, как бы подытоживающие, суммирующие весь арсенал практики и ее цели. Фуко рассматривает три таких: досмотр души — мысленное предварение зол (praemeditatio malorum) — размышление о смерти. Они широко известны и нам нет нужды обсуждать их. В трактовке досмотра души Фуко в очередной раз проводит противопоставление христианству: у стоиков в этом досмотре нет установки самоосуждения, а есть скорей испытание-проверка, контрольный замер своей дистанции от цели, от совпадения в «себе» субъекта истины и субъекта действия. Разбирая мысленное предварение зол, Фуко сосредоточивается на его темпоральном аспекте, показывая, что здесь налицо отнюдь не погружение в будущее, а, напротив, «отмена будущего», дающая возможность «редукции» всей сферы зла к «простой и лишенной устрашающих атрибутов реальности». И наконец, размышлением о смерти философ завершает весь курс. В записи лекций последним следует досмотр души, но в авторском резюме курса финалом служит именно «знаменитое ре>.ётг| всгу&тои… упражнение в смерти». Его он называет «вершиной всех упражнений», и текст заканчивает цитата из Сенеки: «Смерть покажет, чего я достиг, ей я и поверю».
Христианская, или «религиозная» модель
«Христианская модель» практики себя, не получая систематической реконструкции, тем не менее, служит для Фуко постоянным примером для сопоставления с античными практиками, в самых разных аспектах. Поэтому общие очертания, главные акценты его трактовки христианских практик предстают перед нами отчетливо и определенно; все основные элементы своей позиции философ повторяет не раз, варьируя их и закрепляя. Обсуждение этой трактовки начать следует с вопроса о ее реальной основе. На какой феноменальной базе Фуко делает свои суждения о христианских практиках себя?
Прежде всего, прочно принимается тезис: та сфера общества и культуры, в которой христианством развиваются практики себя, — это, в первую очередь, сфера монашества и аскезы. Эта сфера кардинально отлична от «философской аскезы» языческой античности, но одновременно связана с нею тесной преемственностью и обильными, многочисленными заимствованиями. По Фуко, эллинистически-римская мысль 1–2 вв. со всей определенностью приняла установки необходимого самопреобразования субъекта, сфокусировалась на культуре себя, заботе о себе, практиках себя. Поэтому раннее христианство, с небывалой остротой поставившее вопрос о трансформации субъекта, могло считать эту мысль неким приуготовлением, преддверием христианства и многое из нее черпать. «Христианская духовность, обретшая, начиная с 3–4 вв., свою наиболее строгую форму в аскетизме и монашестве, совершенно естественно сможет представить себя завершением античной философии… Истинной философией станет жизнь аскета, монашеская жизнь, подлинной философской школой будет монастырь» (202). Выдвигая на первый план преемственность, непрерывность, Фуко оставляет в тени импульс разрыва с язычеством, роль которого была, бесспорно, доминирующей. К этому мы еще вернемся. Но, возражая против освещения отношений христианской аскезы с «философской аскезой», надо в то же время вполне согласиться с освещением ее значения внутри христианства. Фуко совершенно верно указывает игнорировавшуюся классической наукой ключевую роль аскетико-монашеской традиции как той стихии — или, если угодно, лаборатории — где создавались, выверялись, хранились христианские модели человека, Я, самости, христианские практики себя. «Складывается, начиная с 3–4 вв., христианская модель [конституции субъекта и отношения его к истине]. Надо бы сказать “аскетико-монашеская”, а не вообще христианская» (281).
В силу этой общей позиции, главную часть «базы данных» Фуко должно составлять раннехристианское монашество, его аскетические практики. Однако реальная ситуация весьма амбивалентна. Фуко действительно уделяет большое внимание раннехристианскому аскетизму, описывает и анализирует его — но при этом он опирается на единственного автора аскетической традиции, Иоанна Кассиана (ок.360–432). Лишь его тексты подвергаются обычному для Фуко тщательному аналитическому прочтению
[29]. Все же прочие христианские (но уже не аскетические) авторы и их тексты отнюдь не изучаются, а только бегло используются для иллюстрации, подтверждения отдельных тезисов проводимой позиции (так что последняя представляется явно априорной, а не формируемой на базе источников). Но и таких авторов, играющих роль «прислуги на случай», совсем немного. Основательней других привлекается Тертуллиан, а точней, его небольшой трактат «О покаянии», служащий главным источником Фуко при обсуждении раннехристианского института публичного покаяния. Кроме того, многократно, в разных текстах Фуко упоминает трактат «О девстве» Григория Нисского: он рассматривает его как крупную веху на историческом пути «заботы о себе», ибо данная тут трактовка этого концепта, связывающая его с безбрачием, берется им в подкрепление своего центрального тезиса о самоотречении как сути христианского отношения к себе. Все же прочие фигурируют совсем мельком: Климент Александрийский — при общем сопоставлении античной и христианской этики и культуры себя, Василий Великий — как составитель первого монашеского устава, Иоанн Златоуст, Августин — при разборе отдельных духовных упражнений, воспринятых христианством из «философской аскезы» язычников, Антоний Великий, Афанасий Великий — в связи с ролью письма, фиксации феноменов и состояний сознания в аскетическом опыте. Наконец, особняком стоит солидный комплекс источников по католическим практикам покаяния и исповеди, в основном, в эпоху Контрреформации (16–18 вв.), на котором базируются две упоминавшиеся лекции Курса 1974–1975 гг.: хотя темой здесь служат «практики признания», которые и на позднем этапе всего больше занимали Фуко в христианстве, но в этом курсе тема проблематизируется еще не в призме практик себя. Как и во всех исследованиях Фуко, здесь проводится его собственный неклассический подход, концептуализующий изучаемые явления в терминах всевозможных практик, в «глагольном», деятельностном дискурсе; но главными для него тогда были практики власти. Курс утверждал: «Все эти феномены [феномены религиозной психологии, как то видения, одержимость и т. д.]… могут быть поняты не в терминах науки или идеологии, не в терминах истории умозрений…. но в рамках исторического изучения технологий власти»
[30].
В итоге, круг достаточно репрезентативных и основательно рассмотренных источников сводится едва ли не к одному Иоанну Кассиану. Трактат «О покаянии» Тертуллиана относят к периоду непосредственно перед его уходом из христианства в монтанизм, секту фанатиков-ригористов с изуверскими практиками третирования личности и умерщвления плоти; ниже мы еще скажем о его качествах. Трактат «О девстве» Григория Нисского, восхваляющий безбрачие, написан им вскоре же после собственной женитьбы; и в проблемах семьи и брака, тела и телесной жизни, как пишет о. Иоанн Мейендорф, «взгляды Григория Нисского… не отличаются четкостью и несут отпечаток влияния столь любимого им Оригена»
[31]. Оба текста не обладают никаким особым значением и весом в христианской духовности. Не вызывает сомнений, что, опираясь лишь на описанную базу источников, заведомо невозможно выявить, восстановить и адекватно понять весь репертуар практик себя, созданных и культивировавшихся в христианстве. Каким же образом, в какой мере этот репертуар отражен у Фуко?
Соглашаясь с этимологией (άσκησις — упражнение, практикование), Фуко принимает, что сфера практик себя — это, в первую очередь, сфера аскезы: «философской аскезы» в позднеантичной культуре и аскезы монашеской в христианском мире (сферы монашества и аскезы в христианстве никогда полностью не совпадали
[32], но в такие различия Фуко не входит). Он делает целый ряд сопоставлений двух аскетических формаций, и из этого сравнительного дискурса мы можем извлечь его общую характеристику христианского аскетизма. Так, он формулирует три «четких отличия» этих формаций, и в этих его формулировках христианской аскезе приписываются следующие определяющие черты: 1) «целью этой аскетической практики… является отказ от себя» (359), 2) данный род аскетизма учреждает «какой-то порядок жертвоприношений, обязательных отказов от чего-то в себе и своей жизни» (359), и потому (читаем уже в другом месте) в «аскезе христианского типа основная задача… состоит в том, чтобы установить, от чего и в какой последовательности надо отказываться, чтобы прийти к последнему отказу, отказу от себя» (526), 3) «эта аскетическая практика себя основана на принципе подчинения индивида закону» (359). Имеется в виду, что главная техника себя в христианской аскезе (ее мы еще рассмотрим) есть артикуляция и экспликация собственной внутренней реальности — в терминологии Фуко, «расшифровка», «экзегеза» себя, которую он интерпретирует как «объективацию самого себя»; объективация же и означает подчинение закону. Так прочерчивает эту связь Фуко: «Раннее христианство внесло ряд важных изменений в античный аскетизм: оно усилило форму закона, но также и ориентировало практики себя в направлении герменевтики себя и расшифровки себя как субъекта желания. Связка закон — желание, по-видимому, весьма характерна для христианства»
[33]. Последнее замечание здесь справедливо, но с уточнением: связка, разумеется, характерна — больше того, фундаментальна — для иудаизма, религии Закона, и лишь в меру преемственности, «отраженным светом», для христианства как такового.
В этом ряду трех отличий, первая особенность является главной и центральной. Тезис о самоотречении, о совершенном отказе от себя (своей индивидуальности, самости, идентичности…) как цели и смысле христианской аскезы, всей христианской культуры себя — краеугольный камень позиции Фуко, в нем — фокус всей его трактовки феномена христианства; и он повторяет его десятки раз, словно заклинание, во всех своих текстах. И все другие особенности христианской культуры себя так или иначе связаны с этой ее финальной и всеобъемлющей целью, ею окрашены и подчинены ей. В данной трактовке христианской аскезы несомненно влияние Ницше. Наиболее развернуто он писал об аскезе в последнем разделе «К генеалогии морали», озаглавленном «Что означают аскетические идеалы?». И здесь прочтем: «Воление, ориентированное аскетическим идеалом… означает волю к ничто, отвращение к жизни, бунт против радикальнейших предпосылок жизни»
[34]. Фуко точно воспринял этот тезис, и в контексте концепции практик себя, он был им развит в принцип отказа от себя. Этот главный принцип христианских практик себя резко противопоставляет их позднеантичным практикам, цель которых прямо обратна: «учредить себя самого в качестве чаемой цели» (284), «положить — и притом самым эксплицитным, самым надежным и непререкаемым из всех способов — самого себя последней целью собственного существования» (359).
Данная противоположность, по Фуко, нимало не мешает тому, что во всей своей структуре и содержании, в своих конкретных упражнениях и рабочих принципах, христианская аскеза происходит из эллинистической, остается преемственной и вторичной по отношению к ней и вся сплошь пронизана заимствованиями из нее. В своем генезисе и становлении, «духовные практики на христианском Востоке обращались к аскетике…. которая по происхождению была стоической и кинической» (455). Больше того, уже на самом общем уровне античная «забота о себе стала чем-то вроде матрицы христианского аскетизма» (22–23). (Заметим, что столь глобальное утверждение Фуко делает на основании… названия одной из глав вышеупомянутого трактата «О девстве» Григория Нисского.) Далее, как мы уже говорили, Фуко, вслед за П. Адо, утверждает, что христианская модель восприняла из эллинистической структуру практики себя как ансамбля «духовных упражнений», а также и сами упражнения: «Эти упражнения… действительно вошли в состав христианства и выжили в нем» (455). При разборе конкретных упражнений, конкретизируются и утверждения о заимствовании: от стоиков переходят «важность упражнений в воздержании… упражнения в самопознании, которые христианская духовность будет культивировать, оглядываясь, беря за образец и следуя старой стоической подозрительности в отношении самого себя» (456). Аналогично, как сообщает Гро, «в лекции от 19 марта 1980 г. Фуко разрабатывает важный тезис о возобновлении Кассианом в христианстве языческих философских техник управления и испытания в связи с возникшей задачей подготовки отшельника до его ухода в пустыню» (143). И неизбежно, заимствованию в сфере практик себя соответствует и аналогичное заимствование в прямо связанной с ними сфере морали: «В рамках… эллинистической модели… сложилась некая мораль, которая была унаследована, воспринята, усвоена христианством и переработана им во что-то такое, что мы называем — неправомерно — “христианской моралью”» (285).
В итоге, новым (автохтонным, аутентично христианским) в христианстве признается, по существу, единственно лишь верховный принцип отказа от себя (принцип расшифровки себя, согласно Фуко, тоже имеет стоические корни). Такая позиция, настаивающая на вторичности и заимствованности из (поздне)античной культуры всех существенных элементов христианских практик себя и моральных установок, объединяет Фуко и П. Адо. Но к ней отнюдь не присоединяется Питер Браун, другой крупнейший (наряду с П. Адо) авторитет в области позднеантичной культуры, который, напротив, предостерегает: «Я часто видел, как резкий и рискованный дух многих христианских понятий делался пресным и выхолощенным, когда их объясняли простым заимствованием от предполагаемого языческого или иудейского “окружения”»
[35].
Помимо этих тезисных утверждений об общих свойствах христианских практик себя, корпус доступных текстов содержит все же и более подробное обсуждение ряда тем. Наибольшее внимание Фуко привлекали тесно взаимосвязанные практики признания (l’aveu) и практики досмотра (Гехатеп) сознания. В курсе «О правлении живыми», отправном и этапном для всей программы практик себя, согласно его «Краткому содержанию», «основная часть курса посвящена процедурам досмотра душ и признания в раннем христианстве»
[36]. Под термином «практики признания» Фуко объединяет все процедуры как в монашеском, так и в мирском образе христианского существования, в которых от христианина требовалось представить «истинную речь о себе» — чистосердечную и детальную словесную картину своего внутреннего мира — мыслей и движений сознания, желаний и побуждений, слабостей и склонностей и т. д. Заостренный интерес к этим практикам перешел в поздний проект Фуко из предыдущего периода, когда в центре внимания философа были практики власти. Тогда интерес к ним обусловливался тем, что феномен признания прямо связывается Фуко с властным отношением, и рассматривался он отнюдь не только в религиозной сфере. В одном интервью, данном после прочтения курса «Ненормальные», мы читаем: «[Вопрос: ] — В одной из лекций Вы пытались показать, что мы живем в обществе признания… Существует христианская исповедь, исповедь коммуниста, исповедь писателя, исповедь психоаналитическая, судебная… Все эти исповеди имеют одну и ту же структуру? [Ответ: ] — Нет… На общем уровне, признание заключается в речи субъекта о самом себе в присутствии властного отношения (dans une situation de pouvoir), когда над ним есть чье-то господство, он ограничен в своих действиях, и своим признанием он изменяет эту ситуацию. Это — формальная дефиниция признания, способная охватить названные виды исповеди»
[37]. Как видим, эта «формальная дефиниция» — всецело в дискурсе власти. Теперь, на новом этапе, тот же род практик рассматривается Фуко скорее как принадлежащий к практикам себя.
Именно в практиках признания находит, в первую очередь, свое выражение ключевой элемент христианского отношения к себе — герменевтическая природа этого отношения: в практиках признания христианином осуществляется герменевтика, расшифровка, экзегеза себя. Фуко подчеркивает, что этого отнюдь не было в эллинистических практиках: хотя «подозрительность», недоверие к себе присутствуют, как мы видели, у стоиков, но это не копание в собственной внутренней реальности, а лишь выправление своего отношения к себе, никак не ставящее целью кардинальную трансформацию себя. По Фуко, античный субъект в практике себя, усваивая «истинные речи», делается и сам субъектом, высказывающим истину, так что происходит «субъективация истинной речи»;
тогда как христианский субъект в практиках признания, совершая вербальную расшифровку себя, совершает, тем самым, «объективацию себя в истинной речи». «Христианство требует от каждого… чтобы он занимался извлечением на свет того, что в нем происходит, признавал бы свои ошибки, искушения, артикулировал свои желания; затем каждый должен всё это открыть Богу или другим членам общины — и таким образом, принести свидетельство против самого себя»
[38].
Понятно, что те эмпирические формы, в которых воплощаются подобные практики, — это, в первую очередь, практики покаяния и исповеди, с которыми неразрывно соединяются, как их необходимое условие, практики досмотра собственного сознания, фиксации всего, что в нем происходит или гнездится. Эти практики и составляют главный предмет штудий Фуко в сфере христианской духовности. И Курс 1980 г. (согласно его «Краткому содержанию»), и Вермонтский текст 1982 г. рассматривают те же три основные темы: раннехристианский институт публичного покаяния, или «экзомологезы», монашеская практика открытия всех помыслов духовному наставнику, или «экзагореза» (входящая в дисциплину послушания и «отсечения воли»), а также техники досмотра сознания.
По Фуко, экзомологеза и экзагореза — «две главные формы открывания себя» в раннем христианстве. Экзомологеза — ранняя форма покаяния, от которой Церковь отказалась на Востоке уже к концу 4 в., но на Западе — лишь в 7 в. Суть ее заключалась в наложении на тяжело согрешившего христианина, по его собственному прошению, особого статуса «кающегося», который налагался на долгий срок, измерявшийся годами, и предполагал наказательные лишения и ограничения, а также целый ряд публичных уничижающих обрядов и правил самоуничижительного поведения. Анализируя ее по упомянутому трактату Тертуллиана (в лекциях он также привлекает «Апостольские постановления»), Фуко указывает, что она «не вербальна, но символична, ритуальна и театральна», это — «театрализованное выражение ситуации кающегося, которое демонстрирует его статус грешника». Главный предмет его интереса — структуры сознания и процессы в сознании кающегося. Разумеется, покаяние — «это способ стереть грехи, вернуть индивиду чистоту, обретенную в крещении». Это также «демонстрация перемены, разрыва с собой, своим прошлым и с миром». И самое существенное, «цель покаяния — это не учредить идентичность, но, напротив, засвидетельствовать отказ от себя, разрыв с самим собой: Ego non sum, ego. Эта формула — ядро publicatio sui. Она представляет разрыв индивида со своей прежней идентичностью… Открывание себя есть в тоже время разрушение себя»
[39]. По поводу последних суждений надо сказать, что они не имеют достаточной опоры в приводимых источниках. В аспектах анализа сознания, эти ранние источники весьма бедны: Тертуллиан риторичен и экзальтирован, но вовсе не аскетичен, в смысле развитости ключевого свойства христианской аскезы, глубокой и непрестанной интроспекции; помимо того, в его время не было еще и самой сферы аскезы; «Апостольские постановления» вообще не входят в темы сознания. Поэтому приведенные выводы Фуко выражают отчасти общие свойства христианского покаяния, а отчасти его собственную интерпретацию этих свойств, направляемую его рецепцией христианства.
Экзагореза — одна из специфически монашеских техник себя, которую Фуко разбирает по текстам Иоанна Кассиана, давая ей следующее определение: «Это — аналитическая и непрерывная вербализация мыслей, которую субъект практикует в рамках установки абсолютного послушания наставнику»
[40]. Эта техника, развиваемая с 4 в., с раннего этапа восточного монашества (проводником которого был на Западе Иоанн Кассиан), входит в основное ядро восточнохристианской аскезы, которая в дальнейшем оформится в исихастскую традицию. Как верно акцентирует дефиниция Фуко, в структуре экзагорезы две главные стороны: во-первых, словесное выражение подвижником, как можно более полное, всех феноменов и процессов в его сознании; во-вторых же, тот факт, что это выражение делается в форме сообщения подвижника своему духовному наставнику. Для концепции Фуко существенны обе эти стороны. Первая из них является общей с практиками досмотра сознания и самоконтроля мыслей, и мы можем не рассматривать ее отдельно. Что же до второй, то постоянное, максимально полное, до мелочей, открывание своего сознания Другому — притом, для безоговорочного принятия его оценки, его суда над всем, что содержится в сознании, — предполагает, понятно, очень специальное отношение к этому Другому. Именно таковым и является отношение в «антропологической диаде» Старец — Послушник, служащей основным звеном восточнохристианской аскезы: это — отношение абсолютного послушания. Фуко описывает его, опять-таки противопоставляя его тотальную, всеохватную природу античным практикам: «Послушание, что требуется в монашеской жизни…. отличается от греко-римской модели отношения к учителю тем, что охватывает все стороны монашеской жизни… Нет ничего в жизни монаха, что было бы вне этого фундаментального отношения… Для любого своего действия, даже для акта смерти, монах должен иметь позволение наставника… Послушание предполагает полный контроль учителя над поведением. Это жертва собой, жертва субъекта своей волей. Это — новая техника себя»
[41]. Знаменитая монашеская техника «отсечения воли» описана здесь верно. Едва ли найдется другая установка, настолько же чуждая Фуко, как любое послушание, не говоря уж об абсолютном; но здесь у него хватает научного беспристрастия и зоркости, чтобы увидеть персонологическую плодотворность этой установки. «Хотя ценность такого отношения зависит от квалифицированности наставника, тем не менее сама форма послушания, независимо от своей направленности, несет положительную ценность»
[42], — причем именно ценность для строительства субъекта: «Самость (le soi) должна обрести свою конституцию путем послушания»
[43].
Зоркости философа хватает и на то, чтобы не сводить к послушанию весь смысл аскезы: «Послушание далеко не есть самостоятельное финальное состояние»
[44]. В этой связи возникает вопрос о том, каково же истинное финальное состояние и тем самым, каковы общие очертания всего аскетического пути, всей совокупной аскетической практики себя. Но в этом вопросе Фуко, увы, продвигается недалеко и в не совсем верном направлении: в финале он видит единственно — созерцание, и к тому же не сообщает ничего внятного о том, что же он под ним понимает. «Цель, в которую метят (l'objectif visd), есть непрестанное созерцание Бога… Это — обязательство монаха непрестанно обращать свои мысли к той точке, которая есть Бог, и удостоверяться, что его сердце достаточно чисто, чтобы узреть Бога»
[45]. Но «обращать мысли к Богу» — общая религиозная установка, даже не обязательно христианская, «чистота сердца» — условие, предпосылка Боговидения, данная еще в самом Евангелии (Мф 5, 8), так что ни специально об аскезе, ни о созерцании мы ничего здесь не узнаем. Вкупе с послушанием, это туманное «созерцание» составляет, по Фуко, бином ведущих начал всей восточнохристианской аскезы: «Эта новая техника себя, развитая в монастыре…. техника восточного происхождения, верховные (dominants) принципы которой суть послушание и созерцание»
[46]. В действительности, однако, ни послушание, ни созерцание отнюдь нельзя назвать «верховным принципом» восточнохристианской (т. е. исихастской) аскезы, и никакой особой взаимосвязи меж ними нет. Послушание — один из служебных, а не порождающих принципов аскезы; что же до созерцания, то его роль, его понимание различны в Западном и Восточном христианстве и составляют отдельную сложную проблематику, включающую, в частности, сопоставление с неоплатонизмом (говорить о котором Фуко избегает даже тогда, когда это требуется). Для краткости упрощая, скажу лишь, что исихастское Богообщение развертывается в парадигме личного общения, тогда как созерцание скорей отвечает имперсональному, спекулятивному мистическому опыту; и хотя этот термин нередко применяется к исихастскому опыту, но такое применение, строго говоря, справедливо лишь при понимании созерцания в очень специальном смысле, когда оно отождествляется с общением и обожением.
В теме досмотра сознания мыслитель-атеист уже не блуждает в тумане, как в сфере мистического опыта. Перед нами снова — уверенный фукианский анализ, выделяющий две «большие формы» досмотра, одна из которых является общей с античными практиками (ежевечерний обзор-разбор прошедшего дня), другая же, новая и более важная, — «постоянная бдительность (vigilance) над собой». Знаменитое аскетическое — собственно, исихаст- ское — искусство уловления и испытания помыслов (λογισμόι) описывается так. «Требуется схватить движение мысли (cogitatio =λογισμός) и рассмотреть его достаточно глубоко, чтобы увидеть его исток, раскрыть, идет ли помысл от Бога, от себя самого или от Лукавого, и произвести сортировку (что Кассиан описывает с помощью ряда метафор, из коих самая важная… — меняла, проверяющий монеты)»
[47]. Это — общая схема, каждая из стадий которой есть, в свою очередь, особая аскетическая работа, если угодно, техника себя. В Вермонтской лекции Фуко раскрывает схему подробней, однако не очень успешно. «Прослеживая, что происходит в себе, монах пытается сделать сознание неподвижным, устранить те движения духа, что отвращают от Бога. Это означает, что всякую мысль, возникающую в сознании, рассматривают, чтобы уловить связь между действием и мыслью, истиной и реальностью; чтобы увидеть, нет ли в этой мысли чего-то, что могло бы сделать наш дух подвижным, возбудить наше желание, отвратить дух от Бога»
[48]. Сказанное здесь не точно. Фуко очень хорошо сумел почувствовать стихию помыслов, эмбриональных движений мысли, которой, как правило, не чувствует и не знает западная философия; но что именно с нею делает аскетическое сознание — от него ускользает. В действительности, нет и речи о том, чтобы «сделать сознание неподвижным». Устранить требуется никак не движение как таковое, а определенный род движений: устранить блуждания и рассеивания ума, дабы сделать возможным и усилить, энергетизировать движение, восхождение ума к Богу. Требуется изменить тип динамики сознания, тип организации и сообразования энергий сознания: что в синергийной антропологии называется типом энергийного образа человека. Но вся эта тонкая работа духовной практики — вне поля зрения Фуко.
Далее, на стадии сортировки важную роль играет вышеупомянутая вербализация помыслов, входящая в экзагорезу. Как мы видели, эта вербализация должна быть полным раскрытием себя наставнику, «признанием», которое предполагает отношение абсолютного послушания. Зорко улавливая эти взаимосвязи, Фуко выделяет цельный комплекс, объединяющий различные элементы аскетического опыта и процесса: «Безусловное послушание — непрестанный досмотр — исчерпывающее признание образуют единое целое, в котором каждый элемент влечет за собою оба других»
[49]. Однако каков смысл этого комплекса, что именно в нем достигается и чему он служит? Вопрос критически важен — но ответ на него оказывается полностью продиктован априорными «идейными принципами» философа. Во-первых, всё это служит «необходимым элементом в таком правлении одних людей другими людьми, какое осуществлялось в монашестве». А во-вторых — читатель уже угадывает — это требуется для «установления такого отношения к себе, которое стремится к разрушению формы себя». Этим каноническим тезисом (в данном случае, кстати, вовсе не вытекающим из проделанного анализа) Фуко заканчивает «Краткое содержание» Курса 1980 г.
Осталось затронуть еще две-три темы в рамках «христианской модели», также обсуждаемые Фуко. В связи с особым его интересом к проблематике сексуальности, неудивительно, что в своем анализе раннехристианской аскезы он разбирает подробно (хотя опять-таки лишь по одному автору, Иоанну Кассиану) «борьбу с духом блуда». Это — часть борьбы со страстями, или «невидимой брани», самого древнего и известного раздела христианской аскезы; Фуко посвящает ей упоминавшийся раздел из «Признаний плоти», представляющий собой цельное систематическое исследование. Здесь сжато и отчетливо излагается по Кассиану стандартная аскетическая наука: сначала — место и значение блуда (сладострастия, сластолюбия) в кругу других главных страстей, его связи и отношения с ними; затем — свойства этой страсти, ее внутреннее строение; затем — собственно борьба со страстью, этапы ее искоренения. Но, разумеется, в этом изложении философ расставляет по-своему акценты, делает углубленные наблюдения — и представляет нам, в итоге, собственное видение предмета. В начальной теме он всячески подчеркивает важное положение и роль блудной страсти: «Будучи одним из восьми элементов в списке страстей, блуд занимает особое место по отношению ко всем другим: во главе причинной цепи [связывающей страсти между собой], в истоке падений… в одной из труднейших и решающих точек аскетической битвы»
[50]. Здесь есть некоторое педалирование: нельзя сказать, чтобы аскетическая традиция — да даже и используемый источник, Кассиан — придавали бы блуду столь чрезвычайное и выделенное значение. Далее, обсуждая строение блудной страсти, ее подвиды, Фуко видит ключевую особенность позиции Кассиана в его исключительном внимании к тем проявлениям страсти, что остаются в пределах индивидуальности: отсюда он извлекает важные заключения. «Нигде… он [Кассиан] не говорит о сексуальных отношениях как таковых… В этом микрокосме одиночества отсутствуют оба главных элемента, вокруг которых вращалась сексуальная этика не только у философов древности, но и у такого христианского автора, как Климент Александрийский: соитие двух индивидов (
συνουσία) и наслаждение актом (
άφροδίσια)
. Участвующие элементы — это движения тела и души, образы, восприятия, воспоминания, картины сновидений, спонтанные помыслы, согласие воли, бдение, сон. Тут вырисовываются два полюса, которые не совпадают — это надо ясно видеть! — с телом и душой: полюс невольного — физических движений, восприятий… и полюс самой воли, которая принимает или отвергает, отворачивается или позволяет себя пленить, медлит и соглашается… Таковы те две формы “блуда”, которым Кассиан целиком посвящает свой анализ: immunditia [нечистота], что поражает душу во время сна или бодрствования… и libido [услаждение страстными чувствованиями], что находится в сокровенности души»
[51].
Как ясно отсюда, даже и в такой теме как борьба с блудом, первая забота и тактика аскезы — не регуляция действий, запреты актов и т. п., но тонкий контроль за структурами сознания и личности, делающий возможным трансформацию этих структур. Саму же трансформацию Кассиан представляет как «шесть степеней целомудрия», из коих первая — «чтобы монах не подвергался возмущению плотской похоти в бодрственном состоянии», вторая — «чтобы ум не занимался сладострастными помыслами» и т. д., высшая же, шестая, — «чтобы даже и во сне не было соблазнительных мечтаний о женщинах»
[52]. Анализ этой «лествицы совершенства целомудрия» у Фуко закрепляет и углубляет проводимый им взгляд на труды подвижника как высокоорганизованную практику себя. Прослеживая все шесть степеней, Фуко заключает, что аскет «должен находиться по отношению к себе в состоянии постоянной бдительности к малейшим движениям, какие могут совершаться в теле или в душе… Эта бдительность заключается в проведении “различения помыслов”, стоящего в центре технологии себя, развитой в евагрианском русле духовности… Здесь — целая технология анализа и диагноза мысли, ее истоков, ее свойств, ее опасностей, ее потенций соблазна, а также и всех темных сил, что могут таиться за ее обличьем»
[53]. Недопустимым огрублением было бы сказать, что эта технология попросту производит «интериоризацию каталога запретов», которая заменяет запреты действий запретами мыслей и намерений. Ее существо глубже, тоньше: «В аскезе целомудрия можно признать процесс “субъективации”, далеко отодвигающий сексуальную этику, которая концентрировалась на регуляции действий… Но эта субъективация неотделима от процесса познания, ставящего необходимым условием обязательство находить и высказывать истину о себе… отчего, пусть и будучи субъективацией, она имплицирует бесконечную объективацию себя собою — бесконечную в том смысле, что она никогда не оканчивается, досмотр помыслов нужно углублять без конца, сколь малыми и невинными они ни казались бы»
[54]. Данный процесс бесконечной объективации в достижении «шести степеней целомудрия» Фуко связывает также с упоминавшейся нами парадигмой последовательных отказов или отбрасываний, которую он считает универсальной для христианского опыта: «Это разделение [на степени] указывает, что продвижение в целомудрии распознается по устранению отрицательных проявлений — последовательно исчезают различные следы нечистоты… Можно истолковать такое продвижение как задачу диссоциации… шесть степеней представляют шесть этапов процесса, в котором прекращается вовлеченность воли [в активности тела и души]»
[55].
В целом, надо признать, что в этом анализе аскетической «битвы целомудрия» Фуко довольно успешно избегает навязчивых идей, которыми к месту и (чаще) не к месту пронизана вся его рецепция христианства: власть, подавление личности, разрушение себя… Хотя и ведущийся на узкой, недостаточной базе, анализ достаточно проникает вглубь предмета, чтобы убедительно провести свою стратегию: представить «битву целомудрия» как комплекс достаточно изощренных практик себя. Питер Браун назвал этот текст Фуко «блестящим очерком», и основания для такого отзыва могли быть не только в том, что очерк заканчивается почтительной ссылкой на Питера Брауна.
Напротив, в теме о пастырстве позиция, редуцирующая христианский опыт к отношениям власти, развертывается с полной свободой. В работе «Субъект и власть» (1982) эта трактовка пастырства представлена с четкостью, не требующей комментариев, и мы можем ограничиться одними цитатами. «Христианство выдвинуло и распространило на весь Древний мир новые отношения власти… Назовем эту технику власти, рожденную христианскими институциями, пастырской властью… Христианство — единственная религия, организованная в Церковь. И как Церковь, христианство постулирует, что определенным индивидам, в силу их религиозной квалификации, положено пользоваться другими индивидами… в качестве их пастырей. Это слово обозначает особую форму власти. 1) Это — форма власти, конечная цель которой — обеспечить спасение индивидов в другом мире. 2) Пастырская власть — не просто форма распорядительной власти, она должна быть готова пожертвовать собой ради жизни и спасения стада. Этим она отличается от власти суверена… 3) Эта форма власти заботится не только о сообществе, но о каждом отдельном индивидууме в течение всей его жизни. 4) Эту форму власти невозможно отправлять, не зная, что делается в головах людей, не исследуя людских душ, не заставляя людей раскрывать их самые интимные тайны. Она предполагает знание сознаний и способность управлять ими. Эта форма власти направлена ко спасению (в отличие от политической). Она является жертвенной… и индивидуализирующей (в отличие от юридической)… Она связана с производством истины… о самом индивиде»
[56]. В других текстах Фуко связывает механизмы отправления пастырской власти с практиками признания, указывая, что властным рычагом служили внушаемые пастырями идеи греховности и вины каждого. В свою очередь, внедрению идеи греховности служила выстроенная христианством оппозиция тело — плоть, в которой конструкт «плоть» воплощал в себе падшесть, подверженность похоти и скверне. (Ср., напр., у Кассиана: «Не чувствовать жала похоти… значило бы пребывающему в теле выйти из плоти»
[57]).
Наконец, в заключение укажем, что в обсуждении «христианской модели» Фуко не мог, разумеется, обойти соответствующую ей форму столь важной для него парадигмы обращения. В целом, его трактовка этой христианской формы вполне следует направляющим линиям, намеченным еще старыми работами П. Адо об оппозиции μετάνοια — έπιστροφή Ср., напр.: «Μετάνοια… обращение, предполагающее тотальное переворачивание субъекта, его отказ от себя и следующее за этим возрождение» (242). Однако Фуко не только варьирует подобные формулировки, но и специально выстраивает субъектологические аспекты концепта μετάνοια, что весьма существенно для герменевтики христианского субъекта. Приведем еще одну длинную цитату. «Слово μετάνοια означает две вещи: μετάνοια — это покаяние и это также перемена, радикальное изменение образа мыслей… христианская μετάνοια обладает следующими отличительными чертами. Во-первых, христианское обращение предполагает внезапную перемену… эта перемена должна быть уникальным, внезапным событием, одновременно историческим и мета-историческим, которое разом перекраивает и преобразует всего человека. Во-вторых…. в этом драматическом, происходящем внутри истории и вместе с тем надысторическом обрушении субъекта вы имеете дело с переходом: переходом от одного типа бытия к другому, от смерти к жизни, от конечного бытия к бессмертию… В-третьих, обращение будет иметь место лишь постольку, поскольку в самом субъекте происходит разрыв. Обращающийся на себя — это от себя отказавшийся. Отказаться от себя, умертвить себя, возродиться в себе другом, в себе обновленном, таком, который в каком-то смысле не имеет ничего общего ни в своем существе, ни в способе быть, ни в привычках, ни в своем £θος'ε со мной прежним — вот один из основополагающих элементов христианского обращения» (237–238). Утверждаемые здесь черты конституции христианского субъекта почти все нам уже знакомы. Данная концепция христианского обращения — один из существенных элементов в обосновании фукианской рецепции христианства, с ее главным тезисом о разрушении субъекта.
версии. Наследует он и разоблачительную, обвинительную установку; в его словах о христианстве и Церкви дышат нередко дух и тон “ecrasez I’infame!”. Но важней всех этих «родовых признаков» то, что у философа был свой личный обвинительный пункт в адрес христианства, пункт, служащий ядром глубокого и непримиримого конфликта с ним. Этот пункт — конечно же, практики признания. Вышеописанная трактовка их у позднего Фуко, почти уже беспристрастная, академичная, далеко не отражает всех сторон, всех перипетий отношений философа с этим явлением. На предыдущем этапе он занимается практиками признания в пост-Ренессансную эпоху, «прочно вмонтированными в практику покаяния», в формальную дисциплину Церкви. Здесь он говорит о «тысячелетнем гнете признания», принявшего форму «всеохватного дознания», говорит, что «начиная со Средних веков, пытка сопровождает его как тень» — и перед нами рисуется один из худших видов гнета, подавления и раздавливания личности. В таком освещении этих практик, в самой постоянной концентрации внимания на них — уже не только научная позиция, но и глубокая затронутость: личная, экзистенциальная. Биограф, принадлежавший к близкому окружению Фуко, пишет так: «Быть может, сама идея “признания” приводила Фуко в ужас? Следы этого ужаса проступают в его последних книгах, где он из последних сил отторгает, порицает и разоблачает предписания высказываться, говорить, признаваться»
[58].
Это — ценное свидетельство, но в нем необходимо сместить границы. Биография Дидье Эрибона вышла в свет в 1989 г., когда еще не были изучены поздние лекции Фуко и не был осознан факт «концептуальной революции», происходившей в самые поздние его годы. В действительности же, «следы ужаса» — не в последних, а в «предпоследних» книгах, тогда как в последних совершается важный поворот. Дар ученого, глубина его научного зрения заставляют его увидеть, что в рассматриваемых им явлениях имеется не только то, что для него было столь одиозным, но и что-то совсем другое, ценное; и чтобы по-настоящему их понять, надо обратиться к истокам явлений и иначе ставить вопросы. В эпоху раннего христианства и в рамках программы практик себя, практики признания обнаруживают другие стороны, другие потенции, выступая как род герменевтики и ауто-герменевтики субъекта, как механизм конституции субъекта, как практика себя, способная проникать далеко вглубь субъекта. Раскрывая эти стороны и потенции, философ уже отнюдь не повергается в стихию ужаса, отторжения и разоблачения — из этой стихии едва ли могла бы родиться «Битва целомудрия». И такой итог имеет не только научное значение: в нем присутствует и преодоление себя, преодоление стереотипов и комплексов, освобождение от образа врага.
Но только лишь в некоторой степени. Недаром Фуко всегда столь подчеркивал элемент непрерывности в своем творчестве. Формулу «концептуальная революция» стоит всё же употреблять с осторожностью. Бесспорно, что на новом этапе, в фокусе внимания — практики себя. Философ освободился от гипертрофирования феномена власти, от давящей власти власти над своим сознанием; но практикам и отношениям власти по-прежнему придается кардинальное значение, и каждый тип конституции субъекта, как находит Фуко, создается «на скрещении определенных практик власти и практик себя». Не зашло — или не успело зайти? — особенно далеко и продвижение к более глубокому и всестороннему, более беспристрастному пониманию христианства. Выступая не просто исследователем, но и апологетом эллинистических практик себя
[59], Фуко в своем анализе христианских практик, по сути, недалек от позиции, которую можно упрощенно выразить так: все основные элементы христианских практик себя заимствованы из практик античных, а все изменения, которые при этом вносило христианство, были изменения к худшему. И, в первую очередь, это относится к главному изменению: к тому, что целью практики христианство сделало отказ от себя, абсолютное самоотречение, осуществляемое путем последовательной (само)разборки субъекта. С такою целью, это — ущербный род практик, заведомо не удовлетворяющий той дефиниции, какую Фуко дает цели практики себя: «сделать свою жизнь собственным произведением, несущим некие эстетические ценности и отвечающим определенным критериям стиля»
[60]. Возникает, таким образом, фундаментальная оппозиция: античные практики — практики созидания, творчества себя; христианские практики — практики разрушения себя. И вывод из этой оппозиции возможен только один: христианство — антропологически негативный феномен. Таков вердикт, с несомненностью вытекающий из всей речи о христианстве у Фуко.
Контуры замысла и дискуссия концепции
Существует неизбежная логика: новая конструкция антропологического дискурса, речи о человеке, проводимая в программе практик себя, имплицирует и некоторую новую конструкцию — а с нею также интерпретацию — дискурса любой науки о человеке, ergo, и всей сферы гуманитарного знания. Эти потенции, заложенные в идее практики себя, были для Фуко ясны изначально. Полную панораму гуманитарной сферы, видимой под углом данной идеи, он описывает в своей лекции 1982 г. в Берлингтоне. Новая интерпретация видит в дискурсах, занимающихся человеком, определенные «способы, посредством которых человек нашей культуры организует знание о себе», — и стремится раскрыть антропологические корни этих способов, т. е. возвести их к определенным «техникам, которые используют люди, чтобы понять, кто они такие». В такой интерпретации, науки о человеке предстают, в терминологии Фуко, как «игры истины» и как «мнимые науки» (в том смысле, что их основания не лежат в самих вещах, а производны от антропологических практик, от отношений человека с самим собой). Гуманитарная сфера транспонируется, таким образом, в область антропотехник; а эта последняя наделяется естественной структурой. «Эти техники разделяются на четыре большие группы, каждая из которых представляет собой некую матрицу практического разума: 1) техники производства, благодаря которым мы можем производить предметы, их трансформировать и оперировать (manipuler) ими; 2) техники знаковых систем, которые позволяют пользоваться знаками, смыслами, символами или обозначениями; 3) техники власти, которые определяют поведение индивидов, подчиняют их некоторым целям или господству, опредмечивают (objectivent) субъекта; 4) техники себя, которые позволяют индивидам осуществлять, самим или с помощью других, известное число операций над собственным телом и душой, мыслями, поведением и способом существования; позволяют преобразовывать себя, дабы достичь некоторого состояния счастья, чистоты, мудрости, совершенства или бессмертия»
[61].
Переведя «человекомерную реальность» в пространство практики, философ ставит по отношению к ней глобальную задачу: «Я хотел описать как специфические черты [каждого вида] этих техник, так и их постоянное взаимодействие»
[62]. При этом, как всегда, утверждая идейное единство своей работы, он относит эту задачу отнюдь не к последнему периоду, а ко всему своему творчеству, говоря, что такова была его «цель в течение уже более двадцати пяти лет», т. е. с самой первой книги. Это значит, очевидно, что концепцию практик себя — и шире, трактовку антропореальности в целом как описанного ансамбля практик — он рассматривал как фундамент, подводимый под всю его предшествующую работу. Так полагает и Ф. Гро: «Техники себя стали для Фуко к концу жизни концептуальным венцом всего его творчества, чем-то вроде завершающего основоположения» (560). Однако глобальная задача сразу сужается, в орбиту исследования включаются не все виды антропотехник: «Два первые типа техник применяются… к изучению естественных наук и лингвистики. Мое внимание главным образом привлекали два других типа, техники господства и техники себя»
[63]. Именно они ответственны за конституцию субъекта — и так «общий проект» (как иногда Фуко именует всю совокупность своих замыслов) принимает, как уж не раз говорилось, форму «истории субъекта». В статье о самом себе, написанной для «Словаря философов» в начале 80-х гг., философ писал: «В настоящее время Мишель Фуко, в рамках своего общего проекта, предпринял исследование конституции субъекта как объекта для самого себя: исследование процессов, которые приводят субъекта к тому, чтобы наблюдать себя, анализировать, расшифровывать, осознавать себя как поле возможного познания. В целом, здесь идет речь об истории “субъектности”
[64], если под этим словом понимать способ, каким субъект получает опыт себя в игре истины, в которой он соотносится с самим собой»
[65].
В этом же тексте эксплицируются, что немаловажно, методологические принципы проекта. «Если направляющая нить всех исследований — проблема отношения между субъектом и истиной, это влечет определенный выбор метода. Прежде всего — систематический скепсис по отношению ко всем антропологическим универсалиям. Это не значит, что их все надо с порога отбросить, новее, что нам предлагается как обладающее универсальной истинностью (validitd), будь то относительно субъекта или человеческой природы, должно быть подвергнуто испытанию и анализу… Первое правило метода таково: обойти по всему их кругу, задаваясь вопросом об их исторической конституции, антропологические универсалии (и, конечно, универсалии гуманизма, требующие считать права, привилегии и природу человеческого существа некой непосредственной и вневременной истиной для субъекта). Далее, нужно перевернуть философский подход восхождения к субъекту, когда, конституируя его, требуют учесть всё, что вообще может быть предметом познания; надо, наоборот, спуститься вновь к изучению конкретных практик, в которых субъект конституируется… И отсюда, третий принцип метода: в качестве области анализа обращаться к “практикам”, подходить к исследованию обходным путем, через “то, что делают”»
[66]. Разумеется, никакой законченной методологии в этом наборе установок нет; однако нетрудно согласиться, что эти или подобные установки действительно должны входить в «пролегомены ко всякой новой антропологии».
Столь же нетрудно увидеть в описанном замысле прямую близость к тому кругу идей, который Фуко развивал на пороге своего научного пути, едва ли не в самом раннем из своих текстов — «Введении» к французскому переводу книги «Сновидение и существование» JI. Бинсвангера (1954). В этом тексте не только ничто не предвещает будущую войну автора с «антропологической иллюзией» и «антропологическим сном», но, напротив, он сразу же открывается заявкой, в которой, даже и не имея предубеждений против антропологии, можно усомниться как в «антропологической иллюзии». Эта заявка молодого Фуко — декларация независимости антропологии, выдвигающая задачу создания автономного антропологического дискурса, который отказывается брать свои основания из каких-либо наличных наук, но имеет их в самом себе. Судите сами: «Эти строки введения имеют всего один побудительный мотив: представить форму анализа, в замысел которого не входит быть философией, а целью является не быть психологией; такую форму анализа, которая полагает себя фундаментальной по отношению ко всякому конкретному, объективному и опытному познанию; и наконец, принцип и метод которой изначально определяются лишь абсолютной привилегированностью их предмета: человека или скорее бытия человека, Menschsein. Таким способом можно охватить (circonscrire) всю несущую поверхность антропологии»
[67]. Уже здесь автору ясно, что к искомому типу дискурса следует продвигаться в элементе конкретности и историчности, и уже здесь возникает у него тот же образ «обходного пути», что и в цитированном позднем тексте: «Нам кажется, что в современной антропологии подход Бинсвангера соответствует царскому пути. Он берет в обход проблему онтологии и антропологии, направляясь прямо к конкретному существованию, его развитию и его историческим содержаниям»
[68]. Молодой автор «вчувствовал» в экзистенциальную психологию Бинсвангера предносившееся ему видение (или видёние?) новой антропологии; и, по-видимому, тогда он верил, что это видение можно воплотить в жизнь методом Бинсвангера, который представлялся ему как активность мысли, вооруженной арсеналом феноменологии Гуссерля и Хайдеггера и совершающей челночные рейсы между Menschsein и Dasein, обитающей на границе антропологии и онтологии. Однако зависимость даже и от столь впечатляющего арсенала не удовлетворяла, мысль философа искала своих путей — и вскоре, мы знаем, он решительно сменил вехи. Позиции «Слов и вещей» можно считать, в первом приближении, прямой противоположностью таковым «Введения»; но всё же и здесь, думается, он бы смог защитить свой тезис о непрерывности и единстве своей мысли. Еще до нового поворота, в 1975 г., в интервью бразильским журналистам, не удержавшимся от сакраментального вопроса: «Что такое человек? Это вообще существует?», — он отвечает так: «Конечно, он существует. То, что надо разрушить, — это собрание тех оценок, спецификаций, осадочных отложений, посредством которых определялись человеческие сущности с 18 в. Ошибка моя была не в том, чтобы сказать, что человека не существует, а в том, чтобы вообразить, будто так легко его убрать со сцены (с1ётоНг)»
[69]. В практиках себя его антропологическая интуиция начинает обретать собственную точку опоры, собственный арсенал — и поздний «общий проект» вновь сближается с видением юности, с начальным проектом 1954 г. Творческий же путь мыслителя обретает при этом явственные очертания эпистрофэ.
Таковы вехи последнего замысла Фуко. Работа над ним рано оборвалась, и нам стоит очертить бегло контуры исполнения замысла: того, что успело быть осуществлено. Прежде всего, была твердо зафиксирована общая структура истории субъектности: эта история (всего полнее представленная в Курсе 1982 г.) приняла форму процесса последовательной смены трех больших формаций, или моделей практик себя: платоническая модель в парадигме познания себя как припоминания себя — эллинистическая модель в парадигме обращения-на-себя (эпистрофэ) как этической культивации себя — христианская модель в парадигме «экзегезы себя и самоотречения» как религиозной культивации себя. На этой тройственной схеме Фуко настаивал и упорно ее внедрял в качестве основы своей концепции: «Именно этот вопрос о конституировании истины субъекта в ее трех крупных формах я и пытаюсь поставить с упорством маньяка» (280). Но из трех моделей, относительно полную реконструкцию получила лишь вторая, эллинистическая модель, во многом выделяемая и предпочитаемая философом. Платоническая модель получила развернутый анализ лишь в аспектах, связанных с сексуальностью (прежде всего, в «Использовании удовольствий»), тогда как собственно структуры субъектности и другие общеантропологические ее стороны рассмотрены скорее отрывочно. Наконец, христианская модель — в особом положении, по целому ряду причин. Хотя ее главные черты прочерчены весьма четко, резкими и решительными штрихами, но в целом четкость не достигается — прежде всего, из-за проблемы границ. В каком отношении меж собой находятся «христианская модель практик себя», построенная Фуко, и христианство как исторический (и антропологический) феномен? Модель формируется на материале раннехристианской аскезы 4–5 вв., как она представлена у Иоанна Кассиана, с отдельными добавлениями из Тертуллиана, Августина, Григория Нисского. Кроме того, Фуко анализировал еще практики пастырства и практики признания, уже на примерах других эпох и вне пределов монашества, главным образом, на материале Пост-Тридентского католичества 16–18 вв. Следует, видимо, считать, что выводы этих анализов также включаются в характеристику «христианской модели». Однако итоговая картина довольно невразумительна, она оставляет множество открытых вопросов. База модели — монашеские практики некоего узкого древнего периода, к тому же — определенной школы: как указывает мельком Фуко, «восточного монашества», которое насаждал Кассиан. Какое распространение, какое значение имеют эти практики за пределами своего периода и своей среды? Какой смысл будет иметь «модель», если эти практики дополнить такими, что развивались отнюдь не в раннехристианских монастырях, а через тысячу лет в мирском западноевропейском обществе? Логика, которая движет Фуко, когда он формирует свою модель из столь странно выбираемых островков, состоит явно в том, что все рассматриваемые им феномены подкрепляют его концепцию христианской субъектности как разрушения субъекта. Нельзя не признать, однако, что это — логика не научная, а идеологическая. В научном же отношении границы модели остаются крайне смутны.
В то же время надо учитывать, что в очень незавершенном проекте Фуко следует различать два горизонта, или концентра, широкий и узкий. Более узкий проект, который, по большей части, имеется в виду в «Герменевтике субъекта», ограничен рамками древней истории, которые философ указывал весьма конкретно: «длинную родословную отношения субъекта к себе самому я пытаюсь прочертить от “Алкивиада” до Августина» (213); или же в другом месте: «два крайних ориентира во времени — от Сократа до Григория Нисского» (536). Ясно, что в этом узком проекте Фуко не включает в строимую историю субъекта свои предшествующие штудии поздних христианских практик. Смутности исторических границ христианской модели тут нет, хотя вопрос о ее значении за пределами школы восточного монашества остается. Фуко не ставит его — а он между тем важен по существу: опираясь и на Кассиана, и на Августина, философ нигде (в опубликованных текстах) не упоминает и никак не учитывает, что эти два отца Церкви расходились между собой в кардинальном вопросе о благодати и свободе воли, очень небезразличном для конституции субъекта. Притом, позиция Кассиана была на Западе официально отвергнута (Вторым Оранжским Собором 529 г.) и признана «полу-пелагианской ересью». Конституция субъекта по Кассиану (и в православии) — заведомо не та же что конституция по Августину (и в католичестве), отчего, в частности, и практики признания в Восточном христианстве далеко не те же что в Западном. И это значит, что «христианская модель» Фуко, относимая им к западному субъекту, но игнорирующая эти различения, оперирует некорректной и неотрефлектированной базой данных. Как мы увидим в разделе II, данная модель игнорирует и многие еще более принципиальные моменты христианских практик себя.
Замечания же о смутности относятся не к узкому, а к широкому горизонту проекта. В этом горизонте предполагалось исполнить то же задание, реконструировать историю субъектности как процесс смены формаций практик себя, — только уже не до Августина, а до наших дней. Нет сомнений, что в полноте своей «общий проект» включал данный горизонт: об этом говорят и прямые слова Фуко (мы приводили одну из таких цитат), и несомненная, постоянная обращенность его мысли к современности, в силу которой выстраиваемые исторические модели как бы автоматически проецировались на современность, соотносились с нею (об этом мы также приводили свидетельство П. Адо), но главное — реальные идеи и разработки, рассеянные в корпусе текстов. Из этих рассеянных элементов, увы, не удается восстановить, какою представлялась Фуко история субъекта в ее непрерывном развитии от Августина (или Григория Нисского) до нашего современника. Можно, однако, сделать некоторые наблюдения о его позициях. Первое — негативного характера: Фуко определенно не считает, что в позднейшей истории Запада появились какие-либо новые Большие Формации практик себя, в дополнение к трем, которые он выделил в Древнем мире. Во всех своих экскурсах в область этой истории, он обнаруживает лишь сохранившиеся, выжившие элементы тех же трех формаций, претерпевшие более или менее существенные изменения. В этом нам видится своеобразный антропологический пессимизм: не создав новых формаций, человек, тем самым, не сумел сделать в культуре себя новых существенных открытий и привнесений на всем протяжении христианской эпохи, равно как пост-христианской (которая, судя по отдельным замечаниям Фуко, начинается, на его взгляд, едва ли не от Фомы Аквината). Вглядевшись, можно увидеть и корни этого пессимизма философа. Понятно, что позиция, утверждающая первопринципом христианской субъектности отречение от себя и разрушение себя, уже предопределяла, что Фуко сможет найти в христианском мире лишь отсутствие антропологического творчества. Что же до пост-христианского, секуляризованного мира, то убежденность в его антропологическом бесплодии коренится в другом важном тезисе Фуко, который мы затрагивали уже выше (см. с. 512): тезисе о конкуренции установок заботы о себе и познания себя в истории западного субъекта. Суть тезиса в том, что в данной истории Фуко усматривал не только культивацию практик себя, но также и иную линию развития: так сказать, конкурирующую линию, в которой человек пренебрегал практиками себя и предпочитал стратегии, где он не занимался собой, а практиковал предметное познание.
Практики себя в этом русле как бы упраздняются за ненужностью: «Незачем… субъекту себя изменять. Достаточно ему быть таким, какой он есть, чтобы иметь в познании доступ к истине» (215).
Фуко упорно подыскивал пару категорий, которая схватила бы суть оппозиции двух линий: он сопоставляет их как линии «духовности» и «философии»
[70], или же «катартики», дисциплины самоочищения, и «политики» (в неоплатоническом понимании терминов) — но недостатки обеих пар очевидны, а найти адекватный вариант он уже не успел. Тем не менее, его тексты позволяют проследить «конкурирующую линию» почти на всем ее протяжении в истории Запада, хотя, увы, все стадии и вехи ее пути характеризуются лишь беглыми замечаниями. Общее рождающее лоно обеих линий — Платон, в чьей мысли эти линии уже обе присутствуют, однако связаны тождеством. Основание же отделяющейся линии «философии» — Аристотель, который «в античности один был философом… для кого вопросы духовности не так важны» (30). Следующая веха — богословие схоластического типа — «Богословие… которое может опереться на Аристотеля… и которое благодаря св. Фоме, схоластике и т. д. займет свое место в истории западной мысли» (41). Именно богословы-схоласты «вбили клин» между «возможностью доступа к истине» и «духовностью», принципом необходимости самопреобразования субъекта: «Схоластика… уже была попыткой упразднить условие духовности, которого неизменно придерживалась вся античная философия и вся христианская мысль» (216). Таким образом, согласно Фуко, в истории христианства имел место конфликт между богословием и духовностью, и весьма длительный: «В течение двенадцати веков… с конца 5 в. (конечно, это св. Августин) вплоть до 17 в… противоборствовали не духовность и наука, но духовность и богословие»
[71]. И лишь на базе этого длительного этапа, разделившего духовность и «рационально обосновывающую рефлексию», стало возможным то решающее усиление «бездуховной» линии, которому Фуко дает имя «картезианский момент». В этот момент, в декартовом cogito ergo sum, «истина оказалась доступной субъекту как таковому (215)… Декарт сказал, что для познания достаточно одной философии» (41) — и, в итоге, связь между «духовностью» и философией «оказалась разорванной (думаю, окончательно)». Окончательность разрыва закрепил Кант: «Кант, если угодно, делает еще один виток по спирали, который состоит в том, чтобы сказать: то, что мы не способны познать, и составляет саму структуру познающего субъекта, исключающую познание этого» (215). Два эти имени знаменуют, по Фуко, полное воцарение конкурирующей линии: «У Декарта и у Канта происходит устранение того, что можно было бы назвать условием духовности… Кант и Декарт представляются мне важными вехами» (216). И это воцарение — определяющая черта мысли Нового Времени: «Современная эпоха в истории истины начинается с того мига, когда было допущено, что само познание и только оно позволяет получить доступ к истине» (30).
Однако, набрасывая этот путь «бездуховной философии», Фуко постоянно делает оговорки, процесс видится ему глубоко неоднозначным: «В 17 в. стоял вопрос о соотношении требований духовности с проблемой выбора пути и метода достижения истины. Имелось множество точек соприкосновения, множество промежуточных форм» (42). И, что еще важнее, история мысли драматична: вслед за изгнанием «духовности» немедленно начинаются усилия ее возвращения. Как находит Фуко, под знаком этих усилий стоят все самые значительные явления философской мысли и 19 и 20 веков. «Возьмите всю философию 19 века, ну или почти всю, Гегеля… Шеллинга, Шопенгауэра, Ницше, Гуссерля периода “Кризиса”, того же Хайдеггера — вы увидите, что и здесь тоже… познание… по-прежнему привязано к требованиям духовности. Во всех этих философиях некоторая структура духовности увязывает познание, познавательный акт… с преобразованиями в самом существе субъекта. В “Феноменологии духа”… только о том и речь. И всю философию 19 века можно мыслить… как вынужденную попытку вернуть структуры духовности в философию» (43). Основной вектор философского процесса, который в 19 в. обозначился как «восстановление и второе пришествие структур духовности», сохраняет такое направление и в 20 в. Поздний Гуссерль, Хайдеггер были названы уже выше как прямо принадлежащие к данному направлению; а в некой мере, пусть ограниченной, Фуко сближает с ним также марксизм и психоанализ. Вполне сознавая, что это сближение звучит парадоксом, он пишет: «Я вовсе не утверждаю, что это формы духовности. Я хочу сказать, что вы обнаружите в этих формах знания вопросы, проблемы, требования, которые… если посмотреть в исторической перспективе, по меньшей мере, в одно или два тысячелетия, суть очень старые… вопросы, связанные с£аитоО и, стало быть, с духовностью» (44). Он также признает, что проблематика духовности вместе со всеми к ней выходами здесь вуалировалась, маскировалась: «Были попытки упрятать присущие этим формам условия духовности внутри некоторых социальных форм», — и за счет этой маскировки, подмены происходило «забвение вопроса о том, как соотносятся между собой субъект и истина» (44). В итоге, если тут и не было полного отсутствия духовности, то была налицо ее очень ущербная репрезентация. Именно с этих позиций Фуко оценивает Лакана: он видит у него попытку преодолеть указанную ущербность, находя, что Лакан «захотел сделать центральным в психоанализе как раз вопрос об отношениях истины и субъекта» и благодаря этому, «оживил на почве психоанализа древнейшую традицию… ёаитотЗ, которая была наиболее общей формой духовности» (45).
Так очертания «широкого проекта» Фуко, пунктирно набрасываемые им, доходят до современности и его собственного положения в ней. Пускай намеченная лишь грубыми большими блоками, схема обретает некоторую цельность. После тысячелетия активной культивации заботы о себе, создавшего три Большие Формации практик себя, преобладание получает конкурирующая линия, культивирующая «познание себя», отделяющая его от преобразования себя и главную опору для этого отделения находящая в Аристотеле. В своей начальной, богословско-схоластической стадии, она оттесняет «условие духовности», установку преобразования себя; на следующей, философской стадии, с приходом Декарта и картезианства, она прямо их отвергает: такова, согласно Фуко, философия «классического типа», философия «Декарта, Лейбница и т. д.». Но затем начинается обратный процесс «восстановления и второго пришествия структур духовности», к которому так или иначе примыкают крупнейшие мыслители и течения 19 и 20 вв. Естественно ожидать, чтобы Фуко сближал бы с этим процессом и свою собственную мысль — и он действительно это делает. В некоторых текстах последних лет, он характеризует эту же линию «восстановления структур духовности» в других терминах: вопрос об условиях нашего доступа к истине есть также, очевидно, онтологический вопрос о нас самих каковы мы суть в нашей сегодняшней реальности; вопрос, поставленный так, он называет «проблемой онтологии настоящего (ontologie du present), онтологии нас самих». И с полной определенностью, он относит себя к руслу, что занимается такой проблемой: «… Критическая мысль, которая примет форму онтологии нас самих, онтологии актуального (ГасШаШё): вот та форма философии, что от Гегеля до Франкфуртской школы, проходя через Ницше и Макса Вебера, фундировала ту форму рефлексии, в которой я пытался работать»
[72]. В другом сходном пассаже линия преемства дана подробней. «… В конце 18 в… философская активность создала новый полюс, и этот полюс характеризуется постоянно возобновляемым вопросом: “Что мы такое сегодня?”… Кант, Фихте, Гегель, Ницше, Макс Вебер, Гуссерль, Хайдеггер, Франкфуртская школа пытались отвечать на этот вопрос. Причисляя себя к этой традиции, я стремлюсь дать ответы… через посредство истории мысли или точнее, через посредство исторического анализа отношений между нашей рефлексией и нашими практиками»
[73].
Но историко-философские аспекты не исчерпывают всех измерений проекта Фуко как проекта антропологического; описанная схема не дает ответа на самые существенные для нас вопросы о судьбе практик себя. Как подчеркивает сам Фуко, выделенная им линия «восстановления структур духовности» еще вовсе не совершает никакого актуального восстановления: она всего лишь «ставит, по крайней мере, имплицитно…вопрос о духовности» и не возвращается к установке заботы о себе, а только «проявляет, вслух о том не говоря, заботу о заботе о себе» (43). Иными словами, речь идет о неких довольно эмбриональных чертах и не слишком выраженных тенденциях — и неудивительно, что грань между линией «восстановления духовности» и «классической философией», что, по Фуко, от «духовности» отказалась, во многих случаях оказывается спорной и сомнительной. Если критерий «духовности» — признание необходимости изменения субъекта для достижения истины в познании, то те или иные изменения предполагаются любой когнитивной парадигмой, и попытка Фуко показать, что изменения, входящие в классическую парадигму картезианского типа, — это лишь некие несущественные изменения, которые «не затрагивают субъекта в его бытии… субъекта как такового» (31), не оставляет впечатления убедительности. В итоге же, положение в схеме Фуко всех трех главных фигур классической европейской метафизики — Декарта, Канта и Гегеля — весьма оспоримо. Декарту отводится роль стержня, столпа всей линии, отвергающей «условие духовности», — но П. Адо не раз красноречиво возражал против такой трактовки; в одной из своих книг он пишет: «Духовные упражнения… мы также находим у Декарта (по крайней мере, в “Медитациях”…)»
[74], в другой указывает, прямо в адрес Фуко: «выбирая для одного из своих трудов название “Медитации”, Декарт прекрасно знал, что это слово в традиции античной и христианской духовности означало упражнение души… Каждая из шести “Медитаций” представляет собой духовное упражнение, т. е. именно работу мыслящего Я над самим собой, которая необходима, чтобы перейти к следующему этапу… У Декарта все еще представлена античная концепция философии — в частности, в Письмах к принцессе Елизавете, которые… являют пример духовного руководительства»
[75]. Аналогично, Адо утверждает и принадлежность Канта к этой же концепции философии. Но в случае Канта и сам Фуко не раз уточнял и усложнял вышеприведенную его трактовку, данную в Курсе 1982 г. и явно слишком упрошенную, однозначную. В Курсе 1983 г., фрагмент которого опубликован в форме статьи, говорится, что такая трактовка отвечает философии, данной в «Критиках» (в другом месте Фуко ее ограничивает даже одной «Критикой чистого разума»), тогда как в других текстах Канта можно увидеть зарождение «другого способа критического вопрошания», который ведет к «онтологии настоящего» и основывает еще одну «большую критическую традицию» — ту самую, которая производит «восстановление структур духовности» и к которой причисляет себя сам Фуко
[76]. Наконец, включение Гегеля в линию «восстановления духовности» спорно ничуть не меньше, чем включение Канта в линию отрицания последней. Как есть основания полагать, оно базируется у Фуко на той рецепции Гегеля, что была развита Кожевом, усвоена слушателем Кожева и учителем Фуко Ипполитом и обрела большое влияние во французской мысли. Но эта кожевская рецепция мысли Гегеля (прежде всего, «Феноменологии духа», которую и Фуко всегда имеет в виду в первую очередь) как антропологии представляет собой лишь один весьма специфический угол зрения, не нашедший принятия, например, в немецкой традиции и заведомо не отменяющий совсем других, которые неоднократно отмечали у Гегеля глубокие черты анти-антропологизма (такова, скажем, рецепция Кьеркегора). Под этими другими углами зрения, не менее основательными, следовало бы поместить Гегеля в другую линию…
Итак, историко-философская схема Фуко оказывается, на поверку, довольно шаткой; оставленные философом беглые наброски не воплощают с должною убедительностью нужную ему цель: представить две отчетливо различающиеся и противоборствующие линии в европейском философском процессе, одна из которых принимает (явно или неявно) установки заботы о себе и практики себя, другая же — отвергает их в пользу «чистого познания». Но, вместе с тем, вполне следует согласиться с общею картиной процесса: бесспорно, европейская мысль в своей после-античной истории переживала отход от названных установок, рождала — сначала в богословии, затем в философии — концепции и целые большие формации, идущие вразрез с ними, а в философском движении 19–20 вв. возникают и, в целом, растут, усиливаются тенденции возрождения их, в каких-то новых, скорее еще неясных формах (что сегодня часто передают формулой «антропологический поворот»). Нельзя также не согласиться, что все философии, обсуждаемые Фуко, остаются еще весьма далеки от прямого восстановления в правах заботы о себе и от включения в свою орбиту практик себя, подобного тому включению, какое было в философии стоиков или в аскетическом богословии. С другой стороны, однако, Фуко, как и П. Адо, твердо убежден, что и принцип заботы о себе, и практики себя (духовные упражнения) сохраняют универсальную значимость, имеют ценность и нужность для наших дней, для современного человека. Поэтому у обоих философов в корпусе их текстов, в порядке спорадических и не слишком заметных отступлений, проходит тема о современной судьбе практик себя. Она развивается в стихии вольных, нестрогих размышлений и имеет личное звучание, несет личные пристрастия. Как мы не раз уже говорили, пристрастия Фуко связаны с эллинистическими практиками себя. Соответственно, вокруг этих практик и вращаются все раздумья его о практиках себя в нашей современности.
Вот важный пассаж из Курса 1982 г. Разбирая стержневую парадигму эллинистической практики себя, «возвращение к себе», Фуко раскрывает, что эта парадигма и эта практика означали определенную «этику себя и эстетику себя» — после чего развертывает медитацию о путях культуры себя и этики себя в последующие эпохи. И самым отчетливым образом, эта медитация философа направляется… наивной мифологемой Золотого Века, заставляющей видеть всю историю мысли как серию возобновляемых вновь и вновь «попыток воссоздать некую эстетику и этику себя» — а точней, именно позднеантичную этику себя как единственный, по существу, образец. «В 16 в. вам встретится настоящая этика себя, а также настоящая эстетика себя…. откровенно возводимые к трудам греческих и латинских авторов… историю мысли 19 в. можно было бы пересмотреть примерно с тех же позиций… мышление 19 в. может быть воспринято… как ряд попыток воссоздать этику себя» (277). Что самое существенное — здесь не простая научная фиксация повторяющегося феномена или типологически родственных феноменов, а именно ориентация на уникальный, непреходящий образец, первообраз этики себя, который остается единственно нужным образцом и поныне: «Создание… такой этики сегодня… — задача, по-видимому, насущная, главная, политически необходимая» (278). Однако и здесь возникает уже отмечавшийся антропологический пессимизм: хотя образец ясен, «главная и насущная задача» определена, философ сомневается в ее выполнимости: «Не исключено, что крах возобновляемых попыток… череда более или менее тщетных усилий… породят резонное сомнение в самой возможности такой этики сегодня» (278).
Ясно, однако, что мысль историка и методолога калибра Фуко никогда не оставит подобные «наивные» ходы мысли незамеченными и непроработанными. Описанная медитация — лишь момент в сложном развитии большой темы «Эллинистическая и современная культура себя» у Фуко. Вот другой, корректирующий его момент: в публикации большого, углубленного интервью «О генеалогии этики» (апрель 1983) встречаем подзаголовок: «Почему античный мир не был Золотым Веком и что мы, тем не менее, из него можем извлечь»
[77]. И постепенно выступает истинная картина. Эллинистические практики себя действительно служат для Фуко уникальным непреходящим образцом; и обдумываемые, предлагаемые им решения и стратегии для современности ориентируются на них, предполагают возрождение их общего типа, их существенных черт. Но в то же время, развитие этих современных стратегий не мыслится у него ретроутопией, простым возвратом вспять и воспроизведением уже бывшего. Такой возврат исключают два крупных взаимосвязанных фактора: радикальная инаковость, новизна фактуры современной антропологической и социальной реальности (сравнительно с античностью), а также наличие принципиальных структурных несовершенств, ущербных особенностей в самих позднеантичных практиках (как видим, философ не идеализировал их). — Начнем со второго фактора. Фуко сквозь всю свою жизнь пронес резкое, почти анархическое неприятие всех внешних принуждений, регламентаций, кодификаций, налагаемых на существование индивида (и напротив, всегда утверждал плодотворность, необходимость самой суровой внутренней дисциплины, «господства себя над собой»). Это аллергическое чутье к принуждению дало ему уловить в структуре столь им любимых практик одно глубокое противоречие, которого они не смогли преодолеть. На более ранних этапах этих практик им явно недоставало антропологической универсальности: они культивировались в узком слое (узком даже внутри слоя свободных граждан), осознавались как некая привилегия элиты, «покоились на идее социального превосходства, презрении к другому» (Ф. Гро). Когда же в поздней античности сознание антропологической универсальности постепенно формируется — оно выражается, едва ли не в первую очередь, в возникновении нормативной и принудительной морали, которую Фуко отвергал категорически: «Поиск такой формы морали, которая была бы принимаема всеми, — в том смысле, что все должны были бы ей подчиняться, — мне кажется катастрофой»
[78]. Эту апорию философ фиксирует в своем последнем интервью «Возвращение морали», и именно в связи с нею он произносит свою сакраментальную фразу: «Вся античность была, мне кажется, одним “глубоким заблуждением”»
[79].
Что же до первого фактора, то он станет ясен при описании антропологической (и этической) стратегии, которую предлагал Фуко. Обычно эта стратегия обозначается формулой «эстетика существования», которая популярна не менее чем «забота о себе» и «практики себя», но, в отличие от них, до сих пор вызывает многие разногласия, расходящиеся понимания. Поэтому постараемся быть точны. Термин имеет у Фуко две сферы употребления: прежде всего, он обозначает определяющую особенность античных практик себя и античной морали, и уже затем переносится в современность. Особенность заключается в том, что в практиках себя «люди… стремятся сделать свою жизнь собственным произведением, которое несет некоторые эстетические ценности и соответствует некоторым критериям стиля» (часть этой цитаты мы уже приводили). Оформляясь таким стремлением, данные практики и несут в себе то, что именуется эстетикой существования. Блюдение этой
эстетики понималось как нравственная задача, так что, по Фуко, в античных практиках себя имела место «мораль как эстетика существования» (ср. еще: «Моральная рефлексия классической античности в сфере удовольствий была направлена… к стилизации расположений и к эстетике существования»
[80]). Как полагает Фуко, такая особенность смогла сформироваться за счет того, что в античном обществе религия не была инстанцией, конституировавшей сознание индивида и регламентировавшей весь комплекс его практик; она была скорее малозначительным фактором в основоустройстве индивидуального существования. Сегодня в пост-христианском обществе она стала вновь малозначительным фактором — и потому Фуко высказывает гипотезу о возможном переносе, внедрении эстетики существования в современные антропологические и этические стратегии. Вот как артикулируется этот важный переход из древности в современность: «В греческой морали люди заботились о своем нравственном поведении, этике, отношениях к себе и другим гораздо больше, чем о религиозных проблемах… То, что их занимало больше всего, их великая тема, это было создание некоторого рода морали, который был эстетикой существования. — Так вот я спрашиваю себя: не является ли наша проблема сегодня той же самой? ибо мы, по большей части, не верим, что мораль может быть основана на религии и мы не хотим юридической системы, которая вмешивалась бы в нашу жизнь, нравственную, личную и интимную»
[81].
Так идея эстетики существования, почерпнутая из античных практик себя, становится современным антропологическим и этическим проектом: проектом «создания некоторого рода морали, который был бы эстетикой существования». Как далеко успел продвинуться этот проект? Конечно, не слишком далеко; но всё же мы находим в самых поздних текстах Фуко и некоторые его теоретические принципы, и некоторые мысли, предложения касательно его воплощения в жизнь. Что до теоретических принципов, то в той же важной беседе в Беркли в апреле 1983 г. Фуко высказывает ради
кальные положения, которые, пожалуй, нельзя уже в полной мере отнести к античной этике и практике себя и которые обозначают грань между антропологической и этической ситуацией Греко- Римской эпохи и современного Запада. «Пред нами не стоит выбор между нашим миром и миром греческим. Однако, коль скоро мы можем заметить, что некоторые из видных принципов нашей морали были в некий момент связаны с эстетикой существования, я полагаю такой исторический анализ полезным… Я думаю, что мы должны избавиться от идеи существования необходимой аналитической связи между моралью и другими структурами, социальными, экономическими или политическими. [Вопрос: ] — Но какого рода мораль мы можем развить сегодня…? [Ответ: ] — Меня удивляет, что в нашем обществе искусство связывается только с предметами, а не с индивидами и не с жизнью… Разве жизнь каждого не могла бы быть произведением искусства? Почему картина или же дом — это предметы искусства, но не наша жизнь?»
[82].
Как легко видеть, в этом емком тексте — два решительно утверждаемых тезиса. Первый — это полное дистанцирование, «отвязка» этики от всех измерений и ограничений социальной жизни, объявление сферы этики («нашей индивидуальной морали, нашей повседневной жизни», уточняет Фуко) лишенной связи со всеми сторонами и структурами общественного устройства. Второй — обратного рода, это — столь же полная «привязка» морали к эстетике. Эта привязка утверждается вызывающе, демонстративно: на заданный вопрос о характере морали следует ответ, где вообще нет слова «мораль», а есть контр-вопрос, в форме «от противного» говорящий, что жизнь каждого должна быть произведением искусства. И если это и есть ответ на вопрос, какой должна быть мораль, этика
[83], то этот ответ гласит: нет никакой этики, кроме эстетики. Можно считать этот второй тезис квинтэссенцией, краткой формулой проекта «эстетики существования». Тезис сразу подкрепляется историческим аргументом: Фуко утверждает, что главным стрем
лением античного человека, его «великой темой» было именно — создать «род морали, который был эстетикой». И наконец, в этой же берклианской беседе четко выражено одно важное для Фуко размежевание, которое можно рассматривать как третий принцип проекта. Это — размежевание сразу с двумя связанными современными явлениями, с психоанализом и с тем, что Фуко называет «современный культ себя», а его собеседники — «сосредоточение на себе, которое многие считают центральной проблемой нашего общества». Казалось бы, Фуко и его проект говорят тоже о сосредоточении на себе, но тут — два разных рода сосредоточения. С их различием мы уже сталкивались, это — старое различие в природе обращения-на-себя в эллинистической и христианской моделях практик себя: в первом случае, по Фуко, имеет место лишь «возвращение к себе» — установление правильного отношения к «себе», остающемуся в своей основе неизменным; во втором же случае происходит «расшифровка себя», доходящая до последней глубины и ведущая к радикальному изменению себя. Теперь, в наши дни, это различие возникает вновь: эстетика существования утверждает греческое отношение к «себе», однако и «современный культ себя» и психоанализ, хотя уже — всецело пост-христианские явления, в отношении к «себе» наследуют, согласно Фуко, христианскую парадигму: «В том, что можно назвать современным культом себя, цель (l'enjeu) — открыть свое истинное Я, отделяя его от того, что могло бы вызвать его отчуждение или его затемнить; расшифровывая его истину посредством психологического знания или психоаналитической работы… Я не только не отождествляю античной культуры себя с… современным культом себя, но думаю, что они диаметрально противоположны. Произошла в точности инверсия классической культуры себя. Она произошла в христианстве, когда идея себя, от которого надо отречься…. сменила идею себя, которого надо строить, творить подобно произведению искусства»
[84]. Итак, это античное отношение к «себе», усиливаемое до полной неприкосновенности и закрытости, необсуждаемости внутреннего содержания, основоустройства «себя», — третий принцип эстетики существования.
Как мы сказали, помимо теоретических принципов, Фуко высказывал и практические соображения. Это, главным образом, идеи и предложения по перестройке культуры себя в сообществе геев, излагавшиеся в его интервью гомосексуалистской прессе. Прежде всего, мы здесь видим, как Фуко внедряет в сознание этого сообщества только что нами указанный «третий принцип»: убеждает его отказаться от попыток «расшифровки себя» в пользу реализации себя в своей гомосексуальной данности — принимаемой как данность, не ставимой под вопрос. «Надо бросить вызов… тенденции сводить вопрос о гомосексуальности к проблеме: “Кто я такой? Какова тайна моего желания?” Быть может, лучше спросить: “А какие отношения можно с помощью гомосексуальности установить, изобрести, умножить, смодулировать?”… Гомосексуальность — это не форма желания, это нечто желанное. Мы должны со страстью становиться гомосексуальными…»
[85]. Далее, собственно эстетику существования здесь предлагается внедрять, отходя от примитивной модели «гомосексуальности в виде немедленного удовольствия, в виде пары мальчишек, что встречаются на улице, соблазняют друг друга взглядами, кладут друг другу руку на ляжку и посылают друг друга куда подальше через четверть часа». Предлагается вместо этого «продвигаться в гомосексуальной аскезе… творить гомосексуальный образ жизни», в основе которого должна лежать «дружба, то есть сумма всех вещей, посредством которых можно доставлять удовольствие друг другу»
[86]. «Образ жизни» и «дружба» выступают как ключевые понятия в размышлениях и предложениях Фуко о развитии гомосексуальной культуры себя. «Быть геем — это значит… пытаться определить и реализовать определенный образ жизни»
[87]. Должно быть множество образов жизни, в которых должно культивироваться множество видов межчеловеческих отношений: «Существуют брачные отношения, семейные отношения, но сколько других отношений должны иметь возможность существовать… должны быть признаны отношения временного сожительства, усыновления… [Вопрос: ] — Детей? [Ответ: ] — Или же — почему бы нет? — одного взрослого другим. Почему я не могу усыновить друга, который моложе меня на 10 лет? Или даже старше на 10 лет?… Мы должны пытаться вообразить и создать новое правовое поле, в котором все типы отношений могли бы существовать, и институции не могли бы мешать им»
[88]. Устраивать, выстраивать эти отношения, изобретать новые — это и есть творческая стихия эстетики существования. Что касается дружбы, то особый ее расцвет, богатство ее моделей, органически включающее и гомосексуальную связь, отличает, согласно Фуко, эллинистический мир — и именно в этой связи он заявляет: «У меня истинная страсть к эллинистически-римскому миру до прихода христианства»
[89]. В целом же, эстетика существования предстает здесь в форме «культуры геев» — специфического рода культуры, которая «имеет смысл лишь на основе определенного сексуального опыта» и «делает из удовольствия точку кристаллизации новой культуры».
В составе научной концепции практик себя, «эстетика существования» — самая мало научная часть, проект и предложение, обращенные к широкому обществу, собственно — к каждому современнику. Поэтому она имела свою отдельную судьбу, дебатируясь в широких кругах, порождая немало кривотолков и вызывая разногласия даже среди наиболее знающих. «Эстетика существования, источник стольких заблуждений», говорит Ф. Гро, и вся его характеристика проекта строится как опровержение этих заблуждений. На первый план он выдвигает бесспорный факт, что античная эстетика существования (а, следовательно, и ее современная версия) развиваются в рамках заботы о себе и практик себя, и напоминает, что, согласно Фуко, эллинистическим практикам себя отвечает самая строгая и самооограничительная мораль. Этим и опровергаются главные заблуждения, видящие в эстетике существования «уступку соблазну нарциссизма» и доходящие до «заявлений,
будто мораль Фуко заключается в призыве к периодическому переступанию границ, в культе неистощимой маргинальности». Нельзя отрицать — замечает Гро справедливо — что «Фуко не Бодлер и не Батай. В его последних текстах нет ни дендизма исключительности, ни поэтизации трансгрессии»
[90]. Но едва ли эти доводы достаточны для ответа на всю звучавшую и возможную критику в адрес эстетики существования. П. Адо направляет настойчивую критику в оба ареала последней: он не согласен с интерпретацией античных практик, античного философствования как эстетики существования, а равно и не приемлет эту эстетику в качестве современной модели существования. «Я не стал бы говорить вместе с М. Фуко об “эстетике существования”, как по поводу античности, так и о задаче философа вообще… В платонизме, равно как и в эпикуреизме и стоицизме… речь идет не о построении “Я” как произведения искусства, но, напротив, о превосхождении “Я” или же… об упражнении, в котором “Я” располагается в целокупности и переживается как часть этой целокупности»
[91]. Что же до современности, то «этический проект “эстетики существования”, предложенный Фуко современному человеку… представляется мне слишком узким, недостаточно учитывающим космическое измерение, присущее мудрости, и в итоге скорей представляющим собой новый вариант дендизма»
[92]. Ф. Гро, как мы видели, хочет отделить проект Фуко от дендизма, вопреки Адо; но в число форм или феноменов эстетики существования дендизм включал сам Фуко (ср., напр.: «Идея, что главное произведение искусства, которому надо посвящать заботы, это… самость (soi-meme), собственная жизнь, собственное существование… встречается в Ренессансе… а также в дендизме 19 в.»
[93]).
Едва ли, однако, плодотворно спорить о таких мелочах как оценка дендизма; три принципа эстетики существования, выделенные нами, дают возможность оценки проекта в целом. Прин
цип второй, «нет иной этики, кроме эстетики» (а я настаиваю, что это — корректное прочтение DE II, 1436!), очень красноречив: если Фуко действительно утверждает эстетику в качестве этики, то все его зримые и бесспорные (тут Гро прав) отличия от дендизма, от Бодлера и Батая суть, при всем том, отличия в рамках одного рода морали, утверждающего: морально то, что красиво. Попросту лично для Фуко красиво не то же что для Бодлера или Батая (или «калифорнийского культа себя», от которого он отмежевывается), а то же что для стоиков; и его мораль — не эстетика трансгрессии, а эстетика суровой умеренности, тренинга себя перед испытаниями, перед смертью. Но и то, и другое, и третье — разновидности эстетики существования. Далее, Гро защищает эстетику существования еще от одного звучавшего обвинения, в том, что она отвечает «мысли, застрявшей на эстетической стадии» (в смысле схемы Кьеркегора, по которой сознание развивается от эстетической стадии к этической, а затем религиозной). Здесь с ним следует согласиться: безусловно, эстетика существования отвечает отнюдь не эстетическому, а этическому сознанию. Только своеобразному: такому, которое в итоге продуманного, рефлексивного и экзистенциального выбора отождествляет себя с эстетическим сознанием, утверждает эстетику как высший и должный род этики (так что схема Кьеркегора подвергается прямой инверсии).
Но, пожалуй, еще глубже в суть проекта вводит принцип третий. Если эстетика существования предполагает эстетическую и творческую культивацию некой основы «себя», принимаемой как данность, не подлежащей никакой расшифровке, не допускающей никакого «влезанья и копанья», — то, прежде всего, такая позиция имплицирует определенный тип субъектности, или модель конституции человека. Здесь отвергается поверка себя и конституция себя путем открывания, размыкания себя, во встрече с Иным себе или же, в вариации Адо, в интеграции себя во всеобъемлющее мировое целое. Соответственно, здесь конституируется не открытый, а замкнутый тип субъектности, и это согласуется со вторым принципом, с тем, что эстетика существования — это этическое сознание, которое выбрало для себя позицию эстетического сознания: ибо, по Кьеркегору, замкнутость (причем проявляющаяся именно в сохранении закрытого, неприкасаемого ядра себя) — определяющий предикат эстетического сознания, «эстетик… остается постоянно скрыт… как бы почасту и помногу он себя ни отдавал миру, он никогда не делает этого всецело, всегда остается нечто, что он удерживает»
[94]. Стоит уточнить, что лучше охарактеризовать тип субъектности в проекте Фуко как своего рода «вторичную замкнутость»: ибо здесь налицо не недозрелость, не «первая стадия на пути» к размыканию себя, а сознательный выбор и негативный ответ на возможность размыкания. Далее, следует спросить: а что у Фуко включается в эту неприкасаемую, неразмыкаемую основу «себя»? Поздние тексты дают достаточный материал для ответа. Первое и очевиднейшее — сексуальная ориентация; самое охраняемое и неприкасаемое для институтов общества, для психоанализа, для всего, — это гомосексуализм гомосексуалов. И далее это исходное ядро естественно — и довольно значительно — расширяется. В неприкасаемое основоустройство «себя» входит комплекс импликаций ядра: тип отношений субъекта с собственным телом, способы получения удовольствий, способы завязывать и поддерживать отношения, типы отношений, которые субъект создает и в которые вступает, etc. etc. В обществе возникают, т. о., группы субъектов, наделенных сходным основоустройством, типа сообщества геев. Любое такое сообщество должно, по Фуко, быть признано в качестве свободно существующей и развивающейся субкультуры; и все институты общества должны обеспечивать подобным субкультурам максимум возможностей для благоприятного существования. Фуко рассматривает не только субкультуру геев; одна длинная беседа почти целиком посвящена «субкультуре С/М», то бишь садомазохизму. Философ признает в ней ту же природу, это — еще одна разновидность эстетики существования, причем идущая в ценном и интересном направлении, указывающая новые пути: «С/М — это действительно субкультура. Это процесс изобретения… это эротизация власти, эротизация стратегических отношений… реальное творчество новых возможностей удовольствия… Практики С/М показывают нам, что мы можем продуцировать удовольствие посредством очень странных предметов, используя некоторые причудливые части наших тел, в самых необычных ситуациях… Нечто очень важное — это возможность использовать наше тело как возможный источник множества удовольствий… Мы должны создавать новые удовольствия»
[95]. Т. о., субкультура С/М наглядно указывает, каким должно быть новое русло развития человека и культуры; и становится ясно, какие еще субкультуры надо выстраивать: «Элементом нашей культуры должны стать наркотики… как источник удовольствия. Мы должны изучить наркотики… должны производить хорошие наркотики — способные порождать очень интенсивное удовольствие… Сейчас наркотики — это часть нашей культуры. Как есть хорошая и плохая музыка, есть хорошие и плохие наркотики. И как нельзя сказать, что мы “против музыки”, так же нельзя сказать, что мы “против наркотиков”. [Реплика: ] — Цель — это испытание удовольствия и его возможностей. [Ответ: ] — Да»
[96].
Итак, субкультура геев, садомазохистская, наркотическая субкультуры… Любой способ получать удовольствие может быть ядром субкультуры эстетики существования, если только его адепты не формализуют и не институционализируют его, а, творчески развивая, делают из него произведение искусства. Могут быть, видимо, субкультуры каннибалов, охотников за черепами, серийных убийц… — так ли уж они далеки от радостно одобряемых садистов? Нигде, ни намеком философ не говорит, что должна быть хоть где- то, хоть какая-то грань запрета, непреступаемая черта — напротив, признание такой черты противно всей логике его мысли. Да, человек должен себя подвергать суровым самоограничениям, но — только имманентным и только сам; и Шестая Заповедь, «Не убий», неприемлема, как и все другие, за то что заповедь, независимо от содержания. — Как видим, эстетика существования имплицирует новое структурирование человеческого сообщества, на субкультуры специфического рода. Их специфичность в том, что они конституируются способом получения физического удовольствия, т. е. сугубо биологическим и антропологическим принципом. Есть у них и еще отличительное свойство, подчеркиваемое Фуко: они принципиально вне-институциональны, не связаны ни с какими институциями общества, не учреждают своих и не подчиняются существующим. При таких свойствах, в них можно видеть sui generis человеческие породы или племена; и можно сказать, что в своем социальном измерении, проект эстетики существования являет собою некий неотрайбализм. Заметим, что эта «неотрайбалистская модель» имеет также характерное антропологическое отличие. Ее базовое понятие субкультуры соответствует, очевидно, социологическому понятию «меньшинства», которое тут становится и антропологическим понятием; антропология, отвечающая проекту эстетики существования, есть «антропология меньшинств». Спросим: но какая роль тут отводится «большинству»? В социальном плане, «большинство» есть, очевидно, источник институтов и практик подавления меньшинств, прямой аналог «класса угнетателей» в марксистской идеологии, и меньшинства должны любыми средствами добиваться освобождения и независимости от него. В антропологическом же плане «большинство» обходится фигурою умолчания, оно вытесняется и исчезает из антропологического дискурса, который практически всецело строится как речь о меньшинствах
[97]. За этим можно предполагать понятную логику борьбы. Большую часть своей жизни, Фуко — самый активный защитник прав меньшинств; но лучшая защита есть нападение — и в антропологическом проекте Фуко защита гонимых меньшинств сказывается позицией, согласно которой никакого «большинства» не предусмотрено вообще. Каким мы видим этот проект в последних интервью и статьях, в нем вся Территория Человека предстает как территория субкультур-меньшинств. Но есть, по крайней мере, одно значимое последствие такой успешной защиты: вместе с «большинством», из дискурса исчезает и определенная группа или класс понятий — обобщающие, универсализующие антропологические предикаты, такие как «Человек как таковой», «всеобщий человек» (важное понятие у Кьеркегора), универсальность человека, общечеловечность и т. п. Вне зависимости от проекта Фуко, в современном антропологическом дискурсе подобные понятия уже заметное время приобретают архаическое звучание и употребляются все меньше; однако прямого отказа от них не заявлялось. Такой отказ знаменует определенную грань в истории Человека, развитии его отношений с самим собой: это — заметный шаг в направлении, ведущем к расчеловечению и Постчеловеку.
Итак, по радикальности отбрасывания фундаментальных черт антропологического и социального основоустройства, неотрайбалистская модель несет явственную постчеловеческую окраску. Разумеется, в связи с «ницшеанством» Фуко, о котором он любил заявлять, можно тут вспомнить, что и Ницше говорил о «породах» людей, и эта тема его породила грубо вульгаризованный нацистский конструкт «арийской породы». И если бы не расистский фактор, глубоко чуждый Фуко, то эту «арийскую породу» можно было бы считать тоже одной из субкультур его модели. (Делез прямо возводит к Ницше последний проект Фуко и характеризует его как «витализм на основе эстетики».)
Стоит также отметить, что, подобно практически всем современным разработкам постчеловеческих трендов, неотрайбалистская модель тоже еще не является всерьез философски фундированной. В ее основании, как мы видели, — принцип удовольствия: каждое племя-субкультура самоопределяется по своему способу получать удовольствие. Но Фуко совершенно не анализирует этого принципа, ни в философском плане, ни даже в историческом, что он обычно делает со всеми своими понятиями. В стороне оставлены даже дискуссии удовольствия в эллинистическую эпоху, в полемике между стоиками и эпикурейцами, когда, например, стоик Гиерокл, «человек достойный и авторитетный», по Авлу Геллию, утверждал: «Считать удовольствие целью достойно разве блудницы». Не ставится никаких вопросов о связи удовольствия с желанием, с другими базовыми установками и структурами сознания. В итоге, в дискурсе эстетики существования, удовольствие выступает как чистый идеал, как, скажем, «коммунизм» в социалистической утопии, и это заметно усиливает общую утопическую окраску проекта, которым философ утешал себя в последние годы…
Далее, мы могли убедиться, что проект эстетики существования невозможно адекватно понять без учета гомосексуализма Фуко. Было бы очень странно, если бы влияние данного фактора в творчестве Фуко ограничилось этим единственным проектом. Разумеется, оно и не ограничивается им. Фуко — как сам он доносит это до нас не в одном тексте — был не просто гомосексуалистом, но воинствующим и пылким гомосексуалистом, человеком, для которого сексуальность — гомосексуальная! — играла огромную роль и в течении его жизни и в строении его личности. Как раз о позднем периоде, которым мы занимаемся, биограф пишет: «Фуко жаждет всецело жить своей гомосексуальностью»
[98]. Всецело — это значит и в своем творчестве, тем паче что речь идет о философе, который усиленно возрождал понимание философии как способа жизни. И в свете всего этого, так ли уж абсурден критикуемый тем же биографом подход, при котором пытаются «каждую строчку Фуко истолковывать, исходя из его гомосексуализма, как это делают многие представители американской университетской науки»
[99]. Но мы этому подходу следовать не будем. Для нашего обсуждения концепции практик себя достаточно показать, что влияние гомосексуализма можно — или должно — усматривать в двух ключевых пунктах этой концепции, из коих один — это конститутивная черта христианской модели практик себя, другой же — эллинистической модели. В первом случае мы имеем в виду опять-таки «практики признания», уже неоднократно затронутые. Их последнее обсуждение, где мы указали, что именно в них — ядро конфликта философа с христианством, уже подвело вплотную к выводу о присутствии гомосексуального фактора в отношении к ним Фуко; мы лишь не поставили точек над i. При обсуждении эстетики существования было досказано и остальное: именно гомосексуалист- ское сознание категорически отвергает и, по Фуко, должно отвергать всякую расшифровку себя, а особенно принудительную и (в той или иной мере) публичную, «признание». И потому в клубок сильных эмоций Фуко, связанных с «практиками признания» — протест, ярость, ужас, мы приводили о них выразительную цитату Эрибона — его гомосексуализм вносит самый весомый вклад. На уровне же идей, а не эмоций, гомосексуалистское отторжение феномена приводит к тому, что и природа и функция его, по крайней мере, в сфере аскетической традиции, оказываются поняты совсем неверно. Мы покажем это в разделе II.
Что же касается эллинистических практик, то в отношении к ним также была заметная эмоциональная компонента, но — прямо противоположного тона. Мы уже приводили слова Фуко о его «истинной страсти» к эллинистическому и римскому миру; а произносит он их как раз в интервью на темы гомосексуализма. Гомосексуальное сознание естественно тяготело к тому, чтобы видеть в христианстве образ врага, а в мире греческом — образ дружественного мира, в котором модели существования и личности допускали, как говорит Фуко, «любые возможные типы отношений», включая и гомосексуальные отношения. Какими же должны быть эти модели? Говоря о проблемах геев, Фуко снова и снова повторяет: «Гомосексуальное движение сегодня больше нуждается в искусстве жизни, чем в науке или научном… знании о том, что такое сексуальность»
[100]. Свою гомосексуальность гомосексуалист должен не изучать, а жить с нею, брать ее за основу жизни и строить на ее фундаменте «искусство жизни». Но за этими установками, как их необходимая предпосылка, лежит определенный тип субъектности, конституции субъекта. И ясно, что это — тот самый тип, который утверждается нашим «третьим принципом» эстетики существования: чисто имманентная конституция «себя», не подлежащего в своем основоустройстве ни расшифровке, ни трансформации. Такой тип нужен для гомосексуального сознания, каким видит его Фуко, — и именно такой тип Фуко находит в эллинистических практиках, как мы показывали при их описании. В его трактовке этих практик мы отмечали настойчивое утверждение их полной имманентности, если угодно, пафос имманентности — и теперь убеждаемся, так сказать, в гомосексуалистской корреляции этой важной черты. Но более того. Справедливость утверждения
Фуко о чисто имманентном типе субъектности в эллинистических практиках оказывается дискуссионной: это утверждение оспаривает опять-таки П. Адо. Пересматривая анализ Фуко, он находит в нем «много неточностей», и в качестве главной из них выделяет именно трактовку конституции субъекта, развиваемую на базе «Писем к Луцилию». Адо находит эту конституцию у Сенеки никак не имманентной. «Стоик находит свою радость не в своем “Я”, но, говорит Сенека, “в лучшей части себя”… “Лучшая часть” себя, это в конечном итоге трансцендентная самость. Сенека находит свою радость не в “Сенеке”, но трансцендируя Сенеку»
[101]. Как видим отсюда, по Адо (авторитет которого в исследованиях поздней античности непререкаем), конституция субъекта у стоиков не имманентна, а трансцендентна. Отчего же Фуко приписывает ей имманентность? Как мы теперь можем заключить, его настойчивое тяготение к чисто имманентной субъектности, с большим вероятием, имеет гомосексуалистские корни.
* * *
Наконец, окончательно завершая обсуждение всей концепции практик себя, нельзя не остановиться на одной ее странности. Странность заключают в себе отношения этой концепции с философией Кьеркегора, которые для начала можно резюмировать очень кратко: зависимость концепции от идей, понятий, ходов мысли Кьеркегора, без всякого преувеличения, огромна; но имя Кьеркегора во всем корпусе текстов позднего Фуко полностью отсутствует. Конечно, разбор этих отношений — проблема для фуковедов, но в них отражаются и характерные стороны отношений Фуко с христианской мыслью вообще, что существенно для нашей темы. Не проводя полного разбора, мы ограничимся лишь указанием важнейших заимствований и попытаемся оценить общий характер взаимодействия мысли Фуко с философией «датского Сократа».
Главное заимствование — это заимствование главного: с достаточным основанием можно сказать, что сама концепция практики себя взята у Кьеркегора. В начале, описывая понятие практики себя, мы уже отмечали это. Затем мы говорили о связи этой концепции с античной традицией философствования как способа жизни, о влиянии работ П. Адо, в которых эта традиция реконструировалась и возрождалась, соединяясь с модернизированной концепцией духовных упражнений. Бесспорно, это — реальные идейные связи и влияния, но связь с Кьеркегором — иного рода, здесь мы видим прямое заимствование самого порождающего принципа всей концепции, вместе с ядром сопровождающих его идей. Порождающий принцип практики себя есть определенный принцип конституции субъекта: конституция субъекта как процесс самопреобразования, в котором субъект становится самим собой («истинным собой» и т. п.). В «Или — или» Кьеркегора центральная тема — именно новый принцип конституции субъекта: конституция субъекта как процесс самопреобразования, в котором субъект становится самим собой («истинным собой» и т. п.). Данный процесс здесь именуется «выбор себя», а точней, «этический» или «абсолютный» выбор себя. Так выражает Кьеркегор принцип конституции себя в этическом выборе: «Кто выбирает себя этически, тот имеет себя самого как свое задание… В сношении с самим собой, индивид беременеет собой и вынашивает себя… Наибольшее — это стать собой, и это может каждый человек, если пожелает»
[102]. Так выражает Фуко принцип конституции себя в практике себя: «Цель практики себя — я сам… Человек постепенно преобразует себя в себя… Это конечная цель для каждого человека» (146, 28, 147). Эти формулы выбраны нами наудачу: поскольку речь о центральном принципе, то подобных вариаций множество у обоих философов. То, что принцип — один и тот же, не вызывает сомнений. Его развитие есть специфический философский дискурс — дискурс «себя», конституирующегося в развертывании отношения к «себе» же. Он введен в философию Кьеркегором и связан с ним персонально (в отличие от общеэкзистенциальной темы о философии как искусстве жизни, звучащей у очень многих). В философии же Фуко, он, стало быть, представляет собой заимствование.
Как мы сказали, концепция Фуко «молча заимствует» у Кьеркегора также и комплекс основных идей, сопровождающих центральный принцип. Укажем две, что играют в этой концепции едва ли не главную роль. Парадигма обращения-на-себя, как признавал сам Фуко, несет прямое влияние П. Адо, которому принадлежит и современная разработка концепта έπιστροφή, и противопоставление έπιστροφή — μετάνοια. Но эта парадигма присутствует и у Кьеркегора, который, не занимаясь ее античной историей, тем не менее почти во всех своих текстах настойчиво утверждает установку концентрации на собственной внутренней реальности, практически совпадающую с обращением-на-себя. Внутренняя реальность, Inderlighed, один из quasi-синонимов «себя», входит в ряд ключевых концептов Кьеркегора, и призыв, пафос обращения к внутренней реальности — лейтмотив его философии. С учетом этого, обратим внимание на одно из возражений Адо в адрес Фуко: концепция Фуко «излишне настойчиво сконцентрирована на “себе”, или, по меньшей мере, на некоторой концепции “себя”»
[103]. Как явствует отсюда, концентрация на «себе», усиленно проводимая в концепции Фуко, расходится с позициями Адо. Но зато подобная концентрация — самая характерная кьеркегоровская черта. Далее, как мы помним, важнейшую роль в концепции практик себя играет сопоставление центрального принципа самопреобразования себя с принципом «познай себя», γνώθι σεαυτόν. Опять-таки и это взято у Кьеркегора, который проводит сопоставление центрального принципа (этического) выбора себя с принципом «познай себя», и соотношение, какое он устанавливает между ними, чрезвычайно близко к соотношению принципов заботы о себе и познания себя у Фуко. «Выражение γνώθι σεαυτόν повторяли часто, видя в нем цель всех стремлений человека… но оно не может быть целью, если не является одновременно началом. Этический индивид познает себя, но это познание — не простое созерцание, а осмысление себя, которое само по себе есть действие, отчего я и предпочитаю выражение “выбрать себя”… “Себя”, познаваемое индивидом, это одновременно актуальное “себя” и идеальное “себя”… в которое он должен себя преобразовать»
[104]. Здесь принцип познания себя становится лишь частью задания, включаясь в установку преобразования себя. Точно то же — у Фуко.
Следующий пункт тесного соприкосновения с Кьеркегором уже иного характера. Мы видели, что в характеристике христианской модели практик себя центральное положение — тезис о совершенном отказе от себя, самоотречении (renonciation) как цели и смысле христианской аскезы, ведущей установке христианского сознания, христианской веры. Самоотречение — вновь понятие Кьеркегора, одно из основных в его анализе верующего сознания, который проделывается в «Страхе и трепете». Но у Кьеркегора едва ли не главная идея всей этой вещи — различие, проводимое между самоотречением и верой! Это различие датчанин проводит даже в образной форме, рисуя две разные фигуры, «Рыцаря Самоотречения» и «Рыцаря Веры». Самоотречение, по Кьеркегору, — не противоположность веры, а «последняя стадия, предшествующая вере», нужная для нее, но не имеющая ее главного и решающего элемента, который описывается как неколебимая убежденность в том, что любимое и отдаваемое в самоотречении будет непостижимым, «абсурдным» образом обретено вновь — так что в последнем счете путь веры ведет не к (само)опустошению и разрушению, но к новой и единственно истинной полноте личности. Что же до Фуко, то он всегда избегает говорить о телосе практик себя, и он не проводит собственного анализа высших стадий пути, который удостоверил бы, что в его финале — действительно лишь отказ от себя и разрушение себя. Разумеется, он отлично знает, как знает и всякий студент-философ, что самый знаменитый текст Кьеркегора кардинально различает, разносит самоотречение и веру. И при всем том — он столь же упорно, сколь и бездоказательно повторяет, что финал христианской практики себя — самоотречение, вызывающе противореча Кьеркегору и даже не называя его.
Похожее обращение с Кьеркегором и в другом широко известном пункте его философии, пресловутой схеме трех «стадий жизненного пути», или же стадий развития сознания, которое, по Кьеркегору, продвигается от эстетической формации к этической и затем религиозной, к вере, в которой только и обретается полнота конституции субъекта. На эту схему Фуко даже ссылается мельком в Курсе 1982 г., говоря об «индивиде, застрявшем на эстетической стадии» (единственное полу-явное упоминание Кьеркегора). Она прочно присутствует в сознании философа, и особенно — в самый поздний период, когда основной продумываемой коллизией для него явно служит отношение между эстетическим и этическим сознанием, проблема «морали» (напомним вновь название его последнего интервью). Именно для этой коллизии призвана дать решение «эстетика существования». Каково же это решение, если сопоставить его со схемою Кьеркегора? Религиозная формация сознания отбрасывается целиком, как разрушающая «себя». Этическая формация отождествляется с эстетической и вбирается в нее: нет иной этики, кроме эстетики. Эстетическая же формация, в форме эстетики существования, в итоге, оказывается даже не просто вершинной, а скорее — всепоглощающей, единственной. Зависимость от Кьеркегора кроется и в этом решении, оно возникает в рамках его общей картины трех формаций сознания. Но ясно, что перед нами — прямое и резкое отрицание схемы Кьеркегора.
Сквозящий в последних пунктах стереотип вопиющей деформации, диаметрального перевертывания эксплуатируемых элементов
[105] философии Кьеркегора заставляет внимательнее взглянуть и на первый пункт, в котором мы констатировали как будто бы простое заимствование принципа «преобразования себя в истинного себя». Конечно, и здесь сдвиги и перевертывания налицо. У Кьеркегора принцип «стать самим собой» — принцип трансцендентной конституции субъекта, у Фуко этот же принцип — принцип сугубо имманентной конституции субъекта. Кьеркегор специально разбирает стоические концепции как пример, где не достигается «этического выбора себя» (а достигается лишь «абстрактное культивирование добродетелей»); истинный же этический выбор органически связан со структурами христианского сознания, прежде всего, покаянием. У Фуко — обратное: в зрелой и совершенной форме, «преобразование себя в истинного себя» реализуется, прежде всего, в стоических практиках. Здесь и лежит самая радикальная деформация. Кьеркегор выдвигает свои понятия, парадигмы как получающие совершенную реализацию в христианском сознании и ущербные, в том или ином неполные, либо искаженные реализации в языческом сознании. Фуко берет эти понятия и парадигмы и представляет их как имеющие совершенную реализацию в языческом сознании и получающие непоправимую порчу в христианском сознании. При этом — не споря с трактовкой самого автора понятий, не упоминая ее: «отодвигая ногой».
Мысль Кьеркегора — не абстрактная, академичная мысль, она религиозна и экзистенциальна, она — живой организм с напряженной жизнью. Что должен чувствовать этот организм, когда его органы, отчуждая, заставляют служить прямо противоположным целям, нежели те цели проторения пути к вере, ко Христу, которым эта мысль себя посвятила? — Мысль Фуко привыкла двигаться в дискурсе власти и сексуальности. В этом привычном его дискурсе, то, что проделано им над мыслью Кьеркегора, следует назвать — изнасилование.
II. Духовная практика, синергийная антропология и проект Фуко
В числе прочего, Фуко был главным проводником аскетических ценностей и понятий среди крупнейших интеллектуалов нашего времени[106].
В данном разделе нам предстоит провести сопоставление проекта практик себя с проектом синергийной антропологии. В крупных чертах, оба проекта во многом родственны: они развивают неклассическую антропологию, покидая русло эссенциальной антропологической модели Аристотеля-Декарта-Канта и проводя альтернативную идею конституции человека в определенных практиках аутотрансформации. Помимо того, в круг изучаемых практик оба проекта включают практики христианской аскезы, предлагая, таким образом, две разные концептуализации и герменевтики данной сферы антропологического опыта. Отсюда явствует, что стоящая задача двояка: необходимо обозреть в их различиях и сходствах общие основания, принципы и структуры двух проектов; и, кроме того, сопоставить две возникающие трактовки аскетического опыта, дабы установить, какая из них является более адекватной.
Начнем наше сравнительное обозрение с общего контекста и генезиса проектов. В каком контексте, какой логике идей в творчестве Фуко возникает концепция практик себя? Философ раскрывает это в известном Введении ко второму тому «Истории сексуальности», служащем своего рода объяснительной запиской ко всему позднему периоду Фуко. Замысел «Истории сексуальности», первоначально предполагавший исследование в рамках Нового Времени и прежних установок, всецело ориентированных на дискурсы власти и знания, при продумывании радикально вышел за эти рамки. В глазах Фуко важнейшее значение приобрел вопрос о связке сексуальность — мораль, о том, отчего вокруг феномена сексуальности формируется насыщенная «моральная проблематизация». Рефлексия на моральную проблематизацию и смещает рамки проекта. Проблемное поле исследований изменилось в направлении обращения к субъекту, к проблемам «отношения индивида к самому себе, а также конституирования себя в качестве субъекта», а историческая база исследований сместилась «от современной эпохи через христианство к античности», поскольку «чтобы лучше разобраться в формах отношения к себе, я вынужден был всё дальше и дальше отступать во времени». При этом, субъект здесь возникал как субъект проблематизирующий: видящий себя самого, свои действия, мир своего существования в элементе проблемы, подвопросности. И такой взгляд на субъекта выводил еще к одному предмету исследования, последнему и важнейшему. Моральная проблематизация, происходящая в сознании субъекта, отражается, оказывает формирующее воздействие на определенный род практик субъекта: на те практики, которые он обращает на себя самого и в которых целенаправленно изменяет себя. Это и есть практики себя. Именно при фиксации логической связи этих практик с моральной проблематизацией у Фуко возникает их первая развернутая дефиниция: «Эта проблематизация связана с ансамблем практик… в которых люди не только устанавливают себе правила поведения, но стремятся также преобразовывать самих себя, изменять себя в своем уникальном единичном бытии». Такова логика генезиса концепции: она ведет от моральной проблематизации сексуальности к практикам себя, исследование которых сразу же понимается как исследование конституции субъекта и герменевтики субъекта.
Корни синергийной антропологии лежат в совершенно иной почве, в ином контексте. Основное понятие, определяющее этот контекст, — Восточно-христианский дискурс: специфический дискурс, создаваемый Восточным христианством (православием) и содержащий духовный, концептуальный, эпистемологический фонд для формирования Восточно-христианского (византийского, а затем и русского) менталитета и культурно-цивилизационного организма. Строение этого дискурса характеризуется наличием производящего ядра, которым служит определенный род опыта: аутентично христианский опыт устремления ко Христу и соединения с Ним; опыт христоцентрического Богообщения, утверждаемый как конститутивный для человека, формирующий его личность и идентичность. В составе культурно-цивилизационного организма существует специальная сфера, где культивируется данный род опыта: это — исихастская мистико-аскетическая традиция, которая создает и поддерживает комплекс практик, продуцирующих искомый опыт.
По отношению к философской мысли, Восточно-христианский дискурс — исходный объемлющий контекст, определяющий самоидентичность мысли, ее глубинные задания и устремления, направляющие интуиции, ее навыки и устойчивые ходы, ее типологию. Однако философствование в Восточно-христианском дискурсе — всегда не в одном лишь его контексте, а в скрещении контекстов. Для философского сознания, самое философию как таковую репрезентирует европейская философская традиция: она воспринимается как «дом философии», и она доставляет язык философии. Посему другой неизбежный и необходимый контекст философской мысли — европейский философский процесс; а ближайший и непосредственный контекст — итог этого процесса на текущий момент: наличная философская ситуация, ее концептуальный узус и проблемное поле.
После сложных перипетий развития русской мысли в 20 в., характеризовавшихся запутанностью отношений между ее европейским и Восточно-христианским контекстами, а также между философским и богословским дискурсами, при восстановлении «после перерыва» возможности свободного философствования в России, явилась безусловная необходимость «другого начала», новой рефлексии философской мысли на собственные истоки и основания, собственную «двуконтекстную» природу. В первую очередь, этим предполагается рефлексия на сам Восточно-христианский дискурс, его строение и строение его ядра; и очевидно, что именно в понимании ядра — ключ ко всей проблеме «другого начала». Таким образом, в качестве насущной и магистральной задачи выдвигалась современная реконструкция производящего опыта Восточнохристианского дискурса — антропологического и мета-антропологического опыта практик христоцентрического Богообщения. Поскольку эта постановка задачи несла в себе утверждение в качестве конституирующего опыта человека определенного рода предельного опыта (а точнее, онтологически предельного) и предполагала систематическую реконструкцию культивирующих его практик, то в европейской перспективе, в призме актуальной философской ситуации, она означала подход, оставляющий в стороне Аристотелевы, эссенциальные основания антропологического дискурса и развивающий репрезентацию человека в деятельностном и энергийном дискурсе, в измерении бытия-действия; и она была ориентирована, тем самым, к построению некой «антропологии практик» или «энергийной антропологии».
Реконструкция исихастской практики
Реконструкция исихастского опыта, исихастской практики, осуществляемая как их феноменологическая дескрипция, входит в си- нергийную антропологию, образуя основу ее фундамента. Уже на этом этапе синергийная антропология намечает некоторую парадигму конституции субъекта и развивает определенную герменевтику субъекта. Характер их определяется специфической природой изучаемой практики. Анализируя исихастскую практику, мы обнаруживаем в ней антропологический феномен весьма особого рода: пример практики, которая является в определенном смысле альтернативной по отношению ко всем практикам и стратегиям, развиваемым человеком в его обычном, обыденном существовании. Это качество альтернативности заложено уже в свойстве, указанном выше: в отличие от всех «практик обыденного существования», данная практика не является только антропологической практикой, но имеет и мета-антропологическое измерение. Это выражается в том, что исихастская практика является строго целенаправленной, однако ее цель не присутствует, не локализована нигде в горизонте эмпирического бытия: она онтологически вне- положна этому горизонту, ибо представляет собой Божественное бытие — иной онтологический горизонт, или «Инобытие», как мы будем говорить. Для такой не-наличной цели, «транс-цели», употребителен термин телос. Ориентированность к инобытийному телосу и есть то определяющее свойство, что делает исихастскую практику альтернативной практикой и наделяет ее крайне специфической природой: такой, которая требует особых условий для осуществления практики, превращает практику в процесс с уникальным в антропологии типом динамики, сродни процессам самоорганизации, а также придает ей характер всецелого преобразования человеком самого себя. Последнее означает, что исихастская практика является практикой себя, но — весьма специальной, онтологической практикой, обладающей многими существенными чертами, отнюдь не описанными в теории Фуко.
Реконструкция столь специфичного антропологического феномена требует методологической рефлексии. Ясно, прежде всего, что здесь особенно существенны полнота и надежность учитываемой феноменальной базы. Поэтому синергийная антропология проводит определение и описание всего совокупного поля иси- хастского опыта, то есть реконструкцию полного хронотопа аскетической традиции — этапов ее развития и ареалов ее распространения. Аналогично, проводится дескрипция корпуса источников и их анализ, включающий выявление специфических особенностей аскетического дискурса и установление корректных правил прочтения. Вся эта подготовительная база представлена в моей книге «К феноменологии аскезы» (М., 1998), где реконструкция исихастской практики описана во всех аспектах. Здесь же нам достаточно рассмотреть избранные пункты этой реконструкции, необходимые для сопоставления с концепцией Фуко, — то есть те, где раскрываются ключевые особенности строения и природы исихастского феномена.
На первое место следует поставить свойство, которое сразу же выделяет исихастскую практику и ей подобные в особый класс антропологических явлений. Реконструкция обнаруживает, что онтологическая практика себя, ориентированная к мета- антропологическому телосу (в дальнейшем мы будем называть данный вид практикдуховными практиками), характеризуется необходимым наличием органона своего опыта. Термин «органон» здесь имеет свой точный Аристотелев смысл: для определенного вида опыта, органон есть его законченный практико-теоретический канон — такой свод правил постановки, проверки и толкования опыта, что его наличие делает данный опыт «полным опытом», т. е. полностью эксплицирующим некоторую природу. В нашем случае, опыт имеет дело с природой человека, и наличие органона исихастского опыта означает, что исихастская практика является конституирующей для человека. Оно также означает, что исихастский опыт даже не просто следует определенному методу, но представляет собою опыт полностью выверенный и выстроенный, проработанный и отрефлектированный (хотя и не в философском дискурсе). Исихастская же практика есть духовно-антропологический процесс, обладающий органоном своего опыта и осуществляющий конституцию человека, раскрытие и исполнение его природы. Тот в высшей степени нетривиальный факт, что исихастская практика вырабатывает подлинный и полномерный органон своего опыта, объясняется не чем иным как инобытийным характером ее телоса. Продвижение к такому телосу, который заведомо отсутствует в горизонте непосредственного опыта, возможно лишь при условии наличия точной и полной «путевой инструкции», каковою и служит органон опыта практики. Создание органона, его применение и хранение — особая и сложная деятельность, которая не может выполняться отдельным адептом практики, но требует некоторого сообщества. Так сразу обнаруживается, что духовная практика есть антропологическая — иначе говоря, индивидуальная — практика, необходимо включающая трансиндивидуальные (интерсубъективные, «сообщественные») измерения; к ним мы еще вернемся.
Следующее из ключевых свойств определяет общую структуру духовно-антропологического процесса практики: эта структура отвечает ступенчатой парадигме или, проще говоря, представляет собою «лестницу». Это чисто опытный факт: исихастская практика, а равно и каждая из духовных практик, уже на ранних стадиях развития обнаруживает, что продвижение к мета-антропологическому телосу носит характер восходящего процесса, который разбивается на отчетливо выраженные ступени. Что это за ступени? Процесс исихастской практики есть восходящее продвижение к Инобытию, к общению и соединению со Христом, осуществляемое посредством «холистической аутотрансформации», всецелого преобразования человеком самого себя. Но нужно важное уточнение: человек здесь преобразует себя не в своем материальном составе, а в своих энергиях, и по мере продвижения, это преобразование чем дальше тем больше осуществляется не его собственными энергиями, а энергиями Инобытия — в процессе практики, оно манифестируется как «внеположный исток» некоторых энергий, которые не принадлежат человеку и с которыми энергии человека достигают встречи, контакта. (При этом, финал практики, ее телос, есть совершенное соединение этих двух онтологически различных энергий, передаваемое богословским понятием обожения θέωσις Это уточнение, как видим, из двух частей; вторую из них мы будем обсуждать ниже. Согласно же первой, в духовной практике человек выступает как «энергийное образование»: он трактует себя как совокупность всевозможных энергий, духовных, психических и физических, и он последовательно трансформирует это образование. Таким образом, на «лестнице» практики каждая ступень отвечает некоторой определенной конфигурации (или же способу организации, или режиму активности) множества всех энергий человеческого существа.
Помимо отдельных ступеней, в составе «лестницы» практики может быть выделена крупная структура — группы ступеней, отвечающих близким энергийным конфигурациям и выполняющих близкую роль в процессе. Такая структура позволяет отчетливо увидеть общий ход процесса и последовательность решаемых в нем антропологических задач. Проделанная мной реконструкция выделяет три подобные группы, разбивая, таким образом, весь процесс практики на три блока. В первом из них происходит становление практики как альтернативной антропологической стратегии — иначе говоря, закрепляется исход человека из обычного порядка существования, из «мира». (Это важное аскетическое понятие имеет не субстанциальный, а энергийный смысл, означая определенный образ бытия и устроения человека, или же совокупность всех антропологических стратегий, отвечающих обычному существованию, подчиненному социальной эмпирии.) Такой исход — драматическое действо, осуществляемое путем необычных, резких и радикальных практик, расшатывающих, отменяющих или разрушающих все прежние стереотипы сознания и существования человека. Это — борьба, битва, и потому после начального блока нужно «прийти в себя»; за ним следует ступень внутренней тишины и уединенной сосредоточенности: исихия, давшая свое имя всей Восточнохристианской духовной практике. Плод этого блока — переориентация вектора главных усилий человека; благодаря ей, может начинаться новое строительство себя, организация энергий человека в такие конфигурации, которые принципиально невозможны в мирских стратегиях.
В следующем, центральном блоке решается ключевая и кардинальная задача создания «онтологического движителя» — антропологической динамики, которая делала бы возможным актуальное продвижение к Инобытию, придавая процессу характер актуальной онтологической трансформации антропологической реальности. Необходимой предпосылкой такой динамики является открытость «энергийного человека» навстречу вышеупомянутым энергиям Инобытия, возможность встречи этих энергий и их взаимной сообразованности, согласия (ибо онтологическая трансформация может осуществляться лишь энергиями «внеположного истока», но не собственными энергиями человека). Достижение подобной открытости, или, что то же, размыкание человека, — ключевой и решающий момент духовно-антропологического процесса. Встреча и согласное сообразование энергий человека и энергий Инобытия, Божественных энергий, взаимно различных онтологически, в византийском богословии получила название синергии.
Дальнейшие ступени, на которых динамика онтологического продвижения уже существует и проявляется в действии, образуют заключительный блок процесса. Полагаемая внеположным истоком, эта динамика — специфическое порождение и принадлежность духовной практики, и за счет нее, практика на своих высших ступенях уже со всею наглядностью демонстрирует альтернативность всем «обыденным», «горизонтальным» антропологическим стратегиям. По мере приближения к телосу, процесс восхождения по ступеням всё более приобретает характер спонтанного формостроительства, напоминающий процессы самоорганизации и синергетические процессы, в которых происходит спонтанная генерация иерархии динамических структур. Энергии человека спонтанно, «самодвижно» выстраиваются в новые формы, которые являются структурно высшими, представляют собой развитие и превосхождение предшествующих. Человеческое существо обретает в них новые способности; как аскетическое сознание и определяло изначально суть практики, в ней совершается самопревосхождение человека. Сами же ступени, или антропологические энергоформы, представляют собой такие конфигурации энергий человека, которые не осуществимы отдельно и изолированно, вне процесса практики. В пределах этого процесса не достигается всей полноты онтологической трансформации, однако обширный опыт всех духовных практик свидетельствует о существовании определенной зоны актуального приближения к телосу. Отличие этой зоны — явственные знаки начинающейся трансформации человеческого существа в самом его основоустройстве, знаки изменения фундаментальных предикатов способа существования человека. Указанные знаки обнаруживаются, в первую очередь, в сфере перцептивных модальностей человека и выражаются в проявлениях некоторой новой перцептивной модальности радикально иной природы. Эта новая способность восприятия, которую в исихазме именуют «умными чувствами», характеризуется такими качествами как «синэстезис» (это — единая синтетическая способность, не разделяющаяся на частные модальности) и «панэстезис» (принадлежность всему человеческому существу в целом, вне связи с каким-либо отдельным органом). В опыте этих радикальных перцептивных трансформаций, в которых начинают меняться фундаментальные предикаты способа бытия человека, актуализуется мета-антропологическое измерение духовной практики. Необходимо, однако, подчеркнуть, что феномены, происходящие в зоне приближения к телосу, заведомо не вполне адекватно описываются на объективированном языке систем и процессов, и данный язык здесь должен сочетаться по принципу дополнительности (в смысле Н. Бора) с дискурсом личного общения (Богообщения).
В каждом из описанных блоков совершается нетривиальное антропостроительство: практически для каждой из ступеней лестницы развиваются специальные техники себя. В этом отношении, начальный блок наиболее богат, благодаря разнообразию решаемых им задач. «Исход из мира» включает в себя два крупных задания: первое — совершить акт выбора, принять и осуществить фундаментальное решение об избрании альтернативной, «вертикальной» стратегии или, что то же, пройти «Духовные Врата», как часто называют начальную ступень духовной практики; второе — преодолеть препятствия, что обнаруживаются сразу вслед за прохождением Врат и заграждают путь восхождения, — «страсти». Вступление на путь практики — сложное антропологическое и онтологическое событие, структуру которого удачно передает метафора Врат: Врата разделяют две области, в чем-то разные, и входящий стремится, во-первых, покинуть одну из них, а во-вторых, внедриться в другую. В этой двойственной структуре, первый элемент — событие ухода, разрыва с прежним миром, от-вращения и об-ращения от него — прочь, к иной стратегии, иному способу существования (напомним, что «мир» тут понимается в деятельностно-энергийном залоге, как мир стратегий, практик, энергоформ). Второй же элемент — вхождение и встраивание в этот иной способ, принятие его принципов и ценностей. Первый элемент носит название Обращения, второй — Покаяния, а вкупе они образуют фундаментальное событие изменения сознания, «перемены ума», что отвечает греческому термину метанойя и составляет содержание вступительной ступени духовной практики. Итак, за счет онтологической и альтернативной природы духовной практики, ее начальная ступень приобретает следующую структуру:
Метанойя = Обращение + Покаяние.
Феномен духовной практики и заключенная в нем антропологическая парадигма до сих пор избегали внимания исследователей, и потому данная структура не была замечена и описана, хотя по отдельности оба ее элемента изучались немало. Практически незамеченной была и та специфическая форма, в которой в событии «умопремены» выступает Обращение. Как зачинающее событие духовной практики, Обращение отнюдь не соответствует античной модели обращения-возвращения, έπιστροφή (в соответствии с которой трактуют, как мы видели, Обращение Фуко и Адо). Здесь оно ставится в совсем иной смысловой контекст, диктуемый онтологической структурой практики, которая, в свою очередь, определяется присутствием внеположного истока. Как всегда подчеркивают достаточно глубокие обсуждения духовной практики, ее начало имеет по своей природе общность с ее финалом, телосом: в его смысловую структуру также с необходимостью входит внеположный исток. В бытийной ситуации человека, его присутствие выражается как наличествующая предпосылка, открытая возможность соединения с ним — и в этом смысле, как присутствующий в реальности его зов. И Обращение — это когда человек «обернулся на зов»: уловил его, распознал как зов внеположного истока и весь и всецело, всем существом откликнулся на него
[107]. В силу онтологической внеположности Зовущего, такое Обращение-на-Зов несет с собой то, что и предполагалось от обращения: выбор стратегии, альтернативной всему обычному способу существования. Если угодно, оно также означает, подобно Обращению в трактовке Фуко, обращение-на-себя, поскольку альтернативная стратегия заключается во всецелой трансформации себя (притом, несравненно более радикальной и глобальной, нежели в эллинистических практиках).
Далее, Покаяние — установка, необходимая для укоренения в избранном ином способе существования. Характер ее определяется тем, что «иной способ» в данном случае — онтологически иной, альтернативный прежнему в самом сильном, бытийном смысле. Поэтому все его позиции, установки, оценки реальности иноприродны принимавшимся прежде и отвергают их радикально; вхождение в альтернативный способ существования требует решительного отталкивания от старого способа со всеми содержаниями его. Исихастская практика реализует это отталкивание в богатом комплексе очень разнообразных техник себя, которые все, по самому своему характеру и назначению, противоречат не-обращенному разуму и всегда, во все века, вызывали его непонимание и негативные реакции. Подобные реакции мы отмечали и у Фуко (причем можно заметить, что предмет его самого острого неприятия, «практики признания», далеко не являются самыми поражающими, самыми крайними в арсенале техник покаяния, где есть столпничество, постничество, молчальничество, плач духовный…).
Именно здесь, в начальном блоке духовной практики, — та ее часть, в которой она, казалось бы, подтверждает взгляд Фуко (и не только его), осуществляя «разрушение себя», «отказ от себя» и т. п. В аскезе покаяние — действительно, «отказ от себя», безжалостный перебор всех устоев, всех содержаний себя — и резкое отбрасывание всего прежнего строя сознания и существования. И тем не менее данный взгляд неверен категорически, ибо смысл и содержание цельного феномена духовной практики прямо противоположны. Взгляд на техники покаяния как на нечто отдельное и самодовлеющее — абсурдный и обессмысливающий взгляд: покаяние есть исключительно начало духовного процесса, цель и смысл которого — отнюдь не разрушение, а строительство. При описании высших ступеней практики мы уже видели, что на этих ступенях практика обретает характер спонтанного порождения, выстраивания новых, более совершенных антропологических энергоформ; и вскоре мы убедимся, что за этим стоит созидательная природа духовной практики — как практики, в которой открывается и актуализуется новый тип субъектности, новая парадигма конституции человека. Исток этой созидательности духовной практики — внеположный исток, соединение с энергиями которого составляет онтологическое измерение практики. Явственно и наглядно это измерение выступает на высших ступенях, но роль его существенна на любой из них. Усиленный акцент на онтологической природе и функции покаяния, его сугубой необходимости как в начале, так и на всем пути восхождения к обожению, — самая характерная особенность исихастской практики и Восточно-христианского дискурса в целом
[108]. Именно эта онтологическая природа феномена, только она, обосновывает и объясняет все крайности покаянного самоотречения и саморазрушения.
Существует необходимая связь, если угодно, универсальный закон практик себя: в той же мере, в какой телос практики не является чисто имманентным, — зачин практики требует «отказа от себя», разрыва с обычным способом существования. Трансцендентность телоса практики имплицирует «альтернативность» пути практики и манифестируется в зачине практики наличием вступительного барьера, преодолеваемого посредством особых «приготовительных» техник себя, которые можно называть «техниками очищения» (понимая последнее в широком и обобщенном смысле). В эллинистических практиках, рассматриваемых Фуко, им утверждается (хотя Адо отрицается) полная имманентность телоса — и, соответственно, мы находим тут отсутствие техник очищения; структура Врат таких практик — одно лишь обращение, без всякого очищения, покаяния и т. п. В широком спектре других практик Древнего Мира — мистериальных, гностических, неоплатонических и др. — обычно предполагалась та или иная, часто лишь смутно артикулированная, степень трансцендентности — и, соответственно, Врата таких практик включали практики очищения. Наконец, в христианстве трансцендентность телоса практики достигает абсолютного предела, онтологического разрыва — и, соответственно, в зачине ее пути выстраиваются небывалые прежде практики покаяния — своего рода «предельного очищения», требующего полного исхода из мира.
В итоге же, мы приходим к самому простому, общеизвестному: отказ от «ветхого себя» в покаянии, у Врат практики — необходимая предпосылка обретения «истинного себя» в финале практики. «Истинная самость», выстраиваемая в практике и ничуть не напоминающая тотального «разрушения себя», — не декларация, не фикция, но содержание многажды удостоверенного, описанного и осмысленного опыта. Но весь талант философа не мог победить в Фуко его ярую природу, для которой невозможно было признать этот опыт. Здесь сталкивались две концепции творчества себя: Фуко признавал таким творчеством эстетическую культивацию изначального ядра «себя», меж тем как христианство утверждает творчество себя в размыкании себя и лицетворении (зиждущихся на предельной полноте раскрытия и пересмотра себя). Эти концепции — взаимоисключающие: для Фуко, мы видим, путь христианства — не творчество, а разрушение себя; но стоит сказать, что и для христианства, путь Фуко — никакое не творчество себя. В оставляемом без проработки ядре «себя», согласно христианству, лежат страсти человека
[109], и культивация их есть не творчество, а покорная служба им, рабство в плену у них.
Завершающее задание начального блока исихастской практики — борьба со страстями, или «Невидимая Брань». Страстей человека множество, лишь главных «духов зла» — восемь, задачи борьбы с ними рассматривались и отдельно для каждой страсти, и купно для всего сонма их — и в итоге, разработанный здесь репертуар антропологических, психологических, интеллектуальных приемов, техник себя далеко превосходит, по крайней мере, числом, все системы духовных упражнений в античных практиках. Нам незачем рассматривать эти техники, но стоит указать общую мотивацию
Невидимой Брани. Феномен страсти толкуется процессуально и динамически: страсть — «противоестественное состояние» (Исаак Сирин), в котором человек попал в плен некоторому своему устремлению, целиком себя подчинил ему и, без конца воспроизводя свою сосредоточенность на нем, лишен свободы действия и развития; в частности, неспособен к духовному восхождению. Поэтому борьба со страстями и достижение их искорененности, бесстрастия, есть выход из их плена, освобождение. Здесь, и в установке изгнания страстей, и в утверждении высокой ценности бесстрастия, незачем отрицать близость и преемственность со стоиками, прямые заимствования у них. Но важен процессуальный контекст: если в стоицизме бесстрастие, вкупе с атараксией, — финал практики себя, то в исихазме бесстрастие — только финал «Праксис», «деятельной» части процесса, за которою еще следуют высшие ступени, «Феория». В двух традициях «бесстрастием» называются очень разные конфигурации энергий. Отсылая за детальной характеристикой исихастского бесстрастия к книге «К феноменологии аскезы», скажем лишь кратко, что это бесстрастие, в отличие от стоического, «дифирамбично», двунаправлено: в отношении к вещам мира, страстям души, оно — неподвижность, но в отношении к телосу практики, к ее высшим ступеням, оно — живая, напряженная устремленность.
Специфические техники централ ьного блока практики начинаются с формирования особого модуса сознания: модуса трезвения, который представляется мне одним из важных антропологических открытий духовной практики (в исихазме он особенно проработан, но необходимо присутствует и в других традициях). Первоначально главной активностью, которую должно поддерживать аскетическое сознание и которой должны подчиняться другие его активности, предполагалась diaxpioig— различение, рассудительность. Еще Иоанн Кассиан ставит ее в центр, посвящая ей Второе из своих «Собеседований» и возводя ее примат к самому Антонию Великому, основателю аскезы. Она включает в себя, прежде всего, принцип меры, умеренность и явно созвучна стоическому мышлению; Фуко справедливо замечает, что данный концепт уже активно вводился в практику себя Эпиктетом. Опыт показывал, однако, что главная активность или модальность аскетического сознания, в действительности, должна быть иной. Онтологическая природа христианской практики сказывается в изменении характера активности, способов работы сознания, сравнительно с языческими практиками, и тщательный поиск приводит на следующем этапе, в 5–7 вв., к занятию центрального места в аскетическом дискурсе новым ключевым концептом, νήψις , для которого в русском исихазме даже изыскан был неологизм, трезвение, весьма отличный по смыслу от простой «трезвости» — антонима «опьяненности». Изменение этим не ограничивается: вместе с трезвением важное значение приобретает ряд родственных ему понятий — и вкупе все они образуют единую концептуальную структуру, которая характеризует определенный способ устроения и режим работы сознания; его мы и называем модусом трезвения.
Само трезвение может быть определено как установка собранной и нацеленной бдительности сознания; оно становится топосом сознания, производящим принципом его особого модуса, за счет того, что сообщает сознанию специфический строй, в котором преодолевается оппозиция пассивности и активности. Богатый, изощренный дискурс, описывающий работу сознания в модусе трезвения, был создан в период так называемого «синайского исихазма» (7—10 вв.). В круг основных понятий модуса входят: внимание (подразделяемое на целый ряд видов — внимание ума, сердца и др.), память (также имеющая много подразделений), стража, или хранение ума/сердца, самонаблюдение, бодрствование, различение (смещенное с главной позиции, но отнюдь не отброшенное) и т. д. Аскетический дискурс устанавливает связи между понятиями этого комплекса и, в частности, выделяет основной каркас модуса, из трех элементов: трезвение — внимание — стража. Анализ этого модуса в его работе приводит к принципиальному выводу: сознание в модусе трезвения есть в точности то, что современная феноменология именует интенциональным сознанием, и его деятельность представляет собой интенциональный акт — акт интеллектуального всматривания, в котором совершается концентрация сознания на определенном опытном содержании и фокусировка на нем, нацеленно продвигающаяся к ясному и отчетливому его узрению в его смысловой структуре. Само же трезвение есть прямой аналог интенциональности в аскетическом дискурсе.
Трезвенное, оно же интенциональное сознание — существенная принадлежность парадигмы духовной практики, которой не обладают все практики себя, рассмотренные Фуко. Но суть и цель духовной практики — онтологическое восхождение, и по отношению к нему модус трезвения играет хотя и важную, но служебную, вспомогательную роль. Ядро, сердцевина парадигмы — специфическая техника себя, о которой также нет и намека у Фуко: формирование связки модуса трезвения с совсем иной активностью, которая и является собственно активностью восхождения. Это — знаменитая связка Внимание — Молитва, считавшаяся ключом к практике, так что ее греческая форма, προσοχή —προσευχή, была как бы некою «исихастской мантрой». В центральном блоке практики, молитвенное Богообщение достигает формы непрестанной молитвы, которая и обладает силою выстраивания высших ступеней практики; а поддержание этой формы обеспечивается «вниманием», точнее же — модусом трезвения, посредством интенциональ- ной нацеленности осуществляющим бдительную охрану пространства молитвы от вторжений помыслов. Понятно, что эта ключевая техника себя, предполагающая одновременно две активности сознания, радикально различные, но тесно согласованные, беспрецедентна по тонкости и трудности. В этом отношении, с ней может быть поставлена рядом другая из центральных ступеней, служащая ее непосредственной предпосылкой: сведение ума в сердце. Это — объединение и взаимная координация интеллектуальных и эмоциональных энергий человека, в итоге которой выстраивается кардинально новая структура, «умосердце». За счет сцепки, согласования и единства двух главных видов человеческих энергий, эта структура обладает особой прочностью и устойчивостью и потому создает основу для строительства дальнейших энергоформ, служа, как говорит св. Феофан Затворник, «рычагом, которым приведешь в движение весь внутренний мир».
Тонкие операции, какими «ум» аскета сводится в его «сердце», невозможно описать просто (см. «К феноменологии аскезы», с. 105–109). Но важней детального описания для нас — заметить, что в этих техниках себя центрального блока духовной практики зарождается некий новый уровень организации сознания и человеческого существа. Когда сознание выстраивает и поддерживает в работе связку Внимание — Молитва, когда оно строго определенным образом сближает и затем сводит воедино интеллектуальные и эмоциональные энергии, — оно, очевидно, берет два своих различных модуса или два ареала — скажем, в первом случае, «интенциональное сознание» и «мистическое сознание» — и целенаправленно ими оперирует, тем самым, обнаруживая в себе некий мета-уровень или мета-центр, своего рода «высшую инстанцию», которая обладает способностью и властью управлять не чем иным как строением сознания и способами его деятельности! Как говорит Фуко, целью античных практик было владение собой. Духовная практика ставит иные цели — но здесь мы видим, что в ходе нее достигается попутно такая степень владения собой, рядом с которой духовные упражнения стоиков выглядят как «владение собой» малыша, который уже умеет, идя, не задевать одной ногой за другую. Формирование мета-уровня сознания было замечено и отрефлектировано в исихазме: Григорий Палама зафиксировал его как появление у человека «ума-епископа» (греч.
επίσκοπος — надзирающий, управляющий), который «полагает законы каждой силе души и каждому из членов тела» — такие «законы», что обеспечивают восхождение к обожению
[110]. Таким образом, эта новая (мета-)способность человека нисколько не самоцель, она служит продвижению к телосу; а самое существенное — ее формирование совершается уже не одними собственно человеческими энергиями, но лишь с участием энергий внеположного истока.
Здесь, как видим, духовная практика входит уже в область, где она приближается к синергии и становится непосредственно практикой онтологического размыкания человека. В проявлениях, отвечающих этим ступеням практики, человек актуализует отношение к онтологически Иному себе, — по самому определению, конституирующее отношение. Соответственно, в этой актуализации, он наделяется определенной конституцией, характер которой прямо связан с телосом практики. Телос исихастской практики есть обожение — совершенное соединение энергий человека с энергиями Инобытия, Божественными энергиями. Такое соединение осуществляется отнюдь не по типу физического взаимодействия энергий двух различных источников, но в парадигме личного общения. Данная парадигма отсылает к понятию личности, и это — принципиальный момент. Телос исихастской практики и полагаемая им конституция человека концептуализуются в дискурсе личности, это их главная и неотъемлемая особенность.
«Личность — открытие христианства», — гласит старая максима, современное понимание и обоснование которой представлено, например, в трудах Г. Флоровского. В этом современном понимании, онтологически Иное способу бытия человека, Божественное бытие, трактуется как онтологический горизонт бытия Личности, или же «личного бытия-общения»: образ бытия, определяемый онтологической (внетемпоральной) динамикой непрестанной и совершенной взаимоотдачи бытия между тремя Лицами, или же Ипостасями (где понятие Ипостаси, ύπόστασις, сформировано каппадокийской патристикой на базе концепта «первой сущности» Аристотеля, путем его радикальной «переплавки» (Флоровский) и отождествления с совершенно внефилософским прежде понятием «лица-маски», или «лица-роли», πρόσωπον). В соответствии со связующею их единой динамикой, все три Ипостаси имеют единую, общую для них Сущность, Усию. Вневременное меж-Ипостасное кругообращение бытия носит название перихорезы (что и означает «обход по кругу») и рассматривается как любовь, связующая Ипостаси, и как их общение. Здесь устанавливается, таким образом, тождество трех фундаментальных понятий: перихореза — любовь — общение, каждое из которых понимается как онтологический принцип. Будучи взаимно тождественны, эти три онтологических принципа вкупе характеризуют определенный онтологический горизонт, образ бытия, который и есть, по определению, бытие личности, или же «личное бытие-общение» (иначе говоря, указанное тройственное тождество выступает как внутреннее определение личности). Итак, совершенная личность (Ипостась) самоопределяется в совершенном принятии и совершенном же отдании бытия — и в этом способе самоопределения она, очевидно, осуществляет также и совершенное подтверждение себя себе, совершенное самоудостоверение, — и это, по самому определению, означает, что она наделена совершенной самоидентичностью. Данная концепция личности, развитая и принятая в Восточно-христианском дискурсе, известна как теологическая, или же тринитарная персонологическая парадигма, в отличие от антропологической персонологической парадигмы, развитой на Западе и сопоставляющей личности базовые понятия субъекта и индивида (см. выше, Гл. 2). Эта парадигма предполагает, что в горизонте эмпирического бытия фундаментальное тождество разрушается, перихореза не имеет места, а эмпирический человек и его общение лишь в некой несовершенной мере представляют собой «личность» и «личное общение». Духовная же практика есть именно та стратегия человека, в которой он обретает подлинную личность, «лицетворится» (термин Л.П. Карсавина).
Действительно, телос исихастской практики, Инобытие, есть личность, рассматриваемая как личное бытие-общение и заключающая в себе определенные законченные парадигмы «субъектности» (в смысле способа конституции человека) и идентичности. В синергии, онтологическом размыкании, энергии человека начинают сообразовываться с энергиями Инобытия — иначе говоря, начинают входить, включаться в присущий им строй. Это значит, что в онтологическом размыкании себя навстречу Инобытию человек приобщается к строю личного бытия-общения, к личности. Можно сказать, что такое приобщение совершается и во всей практике в целом, пред-синергийные ступени которой подводят к размыканию, а высшие ступени приближают размыкание к его полноте, обожению. В свете этого, нам раскрывается конкретное содержание той парадигмы конституции человека, которую исихастская практика заключает в себе: как видим, это — парадигма ступенчато возрастающего энергийного приобщения к (тринитарной) личности и идентичности, которые, в свою очередь, определяются онтологической парадигмой перихорезы, совершенного кругообмена бытия. Описание же духовной практики как процесса конституирования человека, или «субъекта», в условном смысле Фуко, субъектной формации, представляет собой определенную «герменевтику субъекта», которая будет постепенно раскрываться.
Будучи полагаемы строем личного бытия-общения, конституция человека и герменевтика субъекта в исихазме и Восточнохристианском дискурсе в самых разных своих аспектах обнаруживают тесную связь с феноменом личного общения, диалогическую природу. В этой связи, стоит сделать терминологическое уточнение: в рамках Восточно-христианского дискурса естественно называть «личным общением» такой род диалогического общения, который ориентирован к строю «личного бытия-общения», т. е. совершенного обмена бытием, а не «информацией», и потому предполагает спонтанное расширение диалогического пространства, тенденцию дойти до последней глубины, до вовлечения в пространство общения всей полноты общающихся личных миров. В духовной практике человек участвует в подобном общении двояким образом: во- первых, его размыкание навстречу Инобытию совершается именно в стихии личного общения в описанном смысле, которое выступает как молитвенное Богообщение; во-вторых, любая из ступеней практики содержит и транс-индивидуальные, интерсубъективные аспекты, в которых практика выходит за пределы индивидуальности подвижника и включает участие другого человека или сообщества, — и эти аспекты строятся опять-таки как личное общение. Мы видели, что, согласно Фуко, такие аспекты играют первостепенную роль в античных практиках себя; в духовной практике они не менее существенны. Сейчас мы займемся их описанием, но сначала укажем одно кардинально важное следствие этой личностной природы духовной практики. Личное общение — именно в описанном смысле, ориентирующееся к строю личного бытия- общения, — конституирует определенный тип субъектности, отличный от «притяжательной самости» античных практик себя. Этот тип субъектности есть подлинный «субъект первого лица», Я. Открытие Личности в онтологическом и богословском плане имеет своим прямым следствием в антропологическом и субъектном плане рождение «субъекта первого лица» в практиках человека. Онтологическое размыкание человека, достижение им открытости себя в бытии базируется на особом углубляющемся, распахивающемся общении, в котором человек постепенно артикулирует и открывает себя с предельной полнотой — и в этом предельном размыкающем усилии артикуляции и открытости совершается рождение новой субъектной формации. Напомним, что в античных практиках себя задачей адепта, Ученика, было усвоение «истинных речей» Учителя, что и конституировало его как «притяжательную самость», или «субъекта», который приобретает, получает «своё», «себя» из конституирующей речи Учителя. Но в духовной практике конституирующая речь переходит к самому адепту, и этот переход есть персонологическое событие: артикулируя сам конституирующую речь, адепт необходимо выступает как «субъект первого лица», Я-субъект.
Обращаясь к транс-индивидуальным элементам духовной практики, напомним, что важнейший их них уже указывался: эта практика следует своему органону, органон же создается и хранится в определенном сообществе, которое мы называем духовной традицией. Необходимость духовной традиции, тот факт, что существование духовной практики возможно лишь исключительно в связи с нею, в ее среде, — одна из фундаментальных, определяющих особенностей духовной практики. Будучи связана с необходимостью органона практики, эта особенность, как и органон, полагается, в конечном счете, онтологическим измерением практики, инобытийностью ее телоса. Поэтому в античных практиках, отвечающих «эллинистической модели» Фуко, мы, разумеется, не найдем духовной традиции. Но можно заметить в этих практиках отдельные явления и черты, которые мы в ретроспективе можем интерпретировать как ее прото-формы или зачатки. Духовная традиция — инструмент идентичной трансляции аутентичного, подлинного опыта; и в силу специфики этого опыта, духовного и антропологического, главный способ трансляции — живой контакт, личное общение. Важность непрерывной цепочки личных передач опыта — конститутивная черта всех духовных традиций; и, согласно Фуко, к ее открытию вплотную приближалось эпикурейство. Вот уже приводившиеся его слова: «В династии эпикурейских начальников прямое восхождение к Эпикуру через передачу живого примера, через личный контакт, совершенно необходимо» (421). Мотивировалась же эта необходимость именно идеей идентичной трансляции подлинного опыта, «истины»: эпикурейский учитель «будет говорить истину — ту, что как раз и принадлежит [первому] учителю, с которым у него установилась… связь опосредованная, но через ряд прямых контактов» (там же). И эта личная передача «позволит ученику услышать речь того первого учителя, речь Эпикура» (там же). Фуко называет подмеченный им феномен «вертикальной трансляцией», мы же опознаем в нем, как уже замечалось выше, не что иное как зачаток духовной традиции.
Итак, духовная практика может осуществляться лишь при наличии духовной традиции и в ее среде. Не только знание органона почерпается адептом практики из традиции, но и применение им этого знания, выстраивание каждой из ступеней практики, в определенных частях включает обращение к традиции, участие других ее членов. Такой транс-индивидуальный характер носит, прежде всего, проверка опыта, удостоверение его в качестве истинного опыта данной ступени: ее существенным звеном служит диалогическое общение с искушенными носителями опыта практики. Нетрудно увидеть, что это общение должно быть личным общением в описанном смысле. Испытанный опыт необходимо понять, истолковать в смысловой перспективе процесса практики, для чего он должен быть универсализован, включен в совокупный опыт сообщества адептов. В свою очередь, для этого он должен быть вербализован и артикулирован с предельной доступной полнотой и глубиной. Доведение артикуляции до этой предельной степени и происходит путем общения, которое само углубляется и, углубляясь, осуществляет своеобразный «транс-индивидуальный аналог» интенционального акта, постепенно все ясней схватывая рассматриваемый опыт. Подобная проработка опыта — важнейшая миссия духовной традиции, в свете которой эта традиция предстает как пространство, всецело прозрачное для (личного) общения: универсум общения. Поскольку же то, что выносится в пространство общения, есть опыт подвижника в его полном объеме, со всеми победами и поражениями, продвижениями, уклонениями, падениями (причем лишь в общении все эти моменты опыта и удостоверяются как победы, поражения и т. д.) — то духовная традиция есть также пространство разделяемого опыта.
Эти базовые определения духовной традиции делают прозрачными смысл и назначение вырабатываемых ею конкретных форм.
Понятно, в частности, что институт духовного руководства, отцовства, — естественный механизм толкующего, «герменевтического» разделения опыта, инстанция его обобществления, а с помощью этого — обобщения, универсализации, необходимой адепту для дальнейшего восхождения. (Заметим, что конституирующее отношение этого института, личное общение
[111] не имеет ничего общего с отношениями господства — подчинения, управления и т. п.; любой элемент властного отношения в личном общении есть искажающее привнесение, чуждое его природе). Понятна и практика экзагорезы, «открытия помыслов» — очевидным образом, также одна из транс-индивидуальных процедур герменевтики аскетического опыта. В обычном своем виде, она отнюдь не принадлежит к особо строгим, экстремальным техникам себя; к экзагорезе относят, например, и крайне распространенные у отцов-пустынников вопро- соответы с разъяснением отдельных опытных случаев и ситуаций (эта практика вопросоответов могла быть даже заочной — такой, к примеру, она была у знаменитых старцев Варсануфия и Иоанна). Большое значение ей придавалось в студийских монастырях, где она имела форму ежедневного похода монаха к игумену; утверждая ее необходимость, Феодор Студит в «Малом катехизисе» дает ей и ясное, простое обоснование: «Неуместный помысл…. когда открывают его, милостию Божиею прогоняется, а когда скрывают, мало- помалу переходит в дела тьмы. Отсюда душевные смерти, отсюда разделения друг от друга, отсюда самооправдательные слова, порождаемые неведением и заблуждением»
[112]. Как видно из этих слов, экзагореза — как и вообще студийское монашество — не слишком связана со спецификой исихазма, Умным Деланием.
Что же до Фуко, то его внимание сосредоточено исключительно на той крайней форме, какую экзагореза принимает у «новоначальных» в монашестве (возможно, потому, что именно эту форму описывает его единственный источник в традиции, Кассиан). Уже
Мы не касаемся здесь вопроса о пастырстве, отношении священника к пастве, которое строится не на одном личном общении, но имеет в реальном социуме весьма смешанную природу.
Св. Феодор Студит. Подвижнические монахам наставления //Добротолю- бие. Т. 4. Св. — Троицкая Сергиева Лавра, 1992. С. 631.
в самый ранний период христианской аскезы, формирующаяся духовная традиция породила антропологическую структуру, ставшую ее своеобразной первичной ячейкой: антропологическую двоицу (диаду, бином) «Послушник — Старец». Послушник — лишь на пороге духовной практики, и его «личное общение по поводу опыта» не может не иметь принципиальных отличий. Опыта практики у него собственно еще нет, его проблема в другом: он еще заведомо не совершил подлинного исхода из мира, т. е. претворения своих энергий, волений в альтернативный, не-мирской строй, и должен откуда-то воспринимать и как-то усваивать этот строй, учиться ему. Традиция нашла решение этой задачи, оказавшееся успешным. Конечно же, Ученик поступает в обучение к Учителю; но он должен научиться очень специфической вещи, не знаниям и не умениям, а иному, притом альтернативному строю себя, которым обладает Учитель. Поэтому найденный способ обучения также специфичен и состоит в том, что мир Послушника включается в мир Старца: все воления Послушника насколько лишь возможно элиминируются («гроб воли», как говорит Иоанн Лествичник), но Старец должен быть достаточно искушен, даже прозорлив, чтобы мир Послушника был бы полностью открыт для него, и он мог нести духовную ответственность за всё происходящее в этом мире. «Гроб воли» порождает и особую, усиленную форму экзагорезы: в антроподиаде, при исключении всех (в принципе) волений, Старцу для его позволения или запрета должны открываться и все (в принципе) мысленные намерения — вплоть до малейших, как прямо говорит Кассиан. Как найдено было на опыте, именно в такой антроподиаде совершается рождение из Послушника — Подвижника, кому предстоит уже собственное онтологическое восхождение к Инобытию. Иначе говоря, дело Старца и суть происходящего в антроподиаде — онтологическая, или же трансцендирующая майевтика: аналог дела Сократа, но в иной онтологической ситуации и потому — в более странной внешней форме. Но ведь и действия Сократа казались очень странны для афинян…
Следом за древним старчеством, нужно упомянуть и русское старчество нашего времени, в котором, как мы обнаруживаем, была развита еще одна, новая транс-индивидуальная практика в исихастском русле. Говоря точней, в русском старчестве исихастская традиция уже выходит за свои рамки, обращается к социуму. Здесь проявляется неоднократно отмечавшаяся парадигма или диалектика ухода — возврата: исход из мира в духовной практике затем, на стадиях зрелого овладения практикой, может смениться возвращением к миру для духовного служения. Такая стратегия получала наибольшее распространение в эпохи интенсивного творческого развития традиции — в Исихастском возрождении в Византии 14 в. и при возрождении исихазма в России в 19 в. — и приводила к образованию вокруг узкого сообщества адептов практики обширного «примыкающего слоя», в котором духовная традиция имела влияние, служила нравственным и жизненным ориентиром, становясь, тем самым, значительным духовным и культурным фактором в обществе. Форма «возврата», рожденная русским исихазмом, заключалась в том, что искушенные представители духовной традиции, «старцы», переходили к широкому общению со множеством простых мирян, всех слоев и сословий, служа для них в качестве духовных советников и наставников. Аналогичную стратегию дистанцирования, ухода от социальной активности и последующего возврата к ней Фуко усматривает в эллинистических практиках. Сравнение двух версий одной стратегии поучительно. Понятно сразу, что вследствие инобытийности телоса исихастской практики, момент «ухода» выражен в ней несравненно более резко, радикально. Иным оказывается и «возврат». В античных практиках, по Фуко, он органически входит в практику, довершая ее: благодаря предшествующему «уходу», в «возврате» мы можем уже правильно позиционировать себя в социальной реальности, правильно устроить наши в ней связи и активности. У старца же исихаста, в отличие от стоика, возврат, во-первых, ограничен и амбивалентен: старец никоим образом не оставляет практики с ее альтернативным строем человеческих энергий и, находясь в гуще людей с мирским строем, входя в их мир, он отнюдь не принимает этого строя, но репрезентирует Иное ему, мир и ценности духовной традиции. Во-вторых, его дело состоит уже не в преобразовании себя (оно — не сама исихастская практика как таковая, но — дополнительно, параллельно к ней), а в отдаче себя, в служении любви. И отсюда — самая существенная черта: служение старцев есть победа антропологического над социальным. Будучи по внешним признакам социальной активностью, оно есть, в действительности, сугубо антропологическая практика, ибо совершается исключительно путем личного общения и в стихии любви, будучи противоположно любым институциональным началам, властным отношениям, «матрицам управления», как выражается Фуко, и т. п. При этом надо учесть, что контакты старца неисчислимы, подавляющей частью совсем недолги, авторитет же его громаден — и при таких условиях скорей следовало ожидать формализованных или ритуализован- ных отношений, с присутствием и дискурса власти. Поэтому явление парадоксально и поразительно; а также указывает нам некоторые неисчерпанные ресурсы антропологических стратегий.
На этом мы обозрели, пожалуй, все основные транс-индивидуальные явления в составе духовной практики. Но тут нельзя не спросить: почему не было рассмотрено то явление, которое для Фуко на первом месте и в христианской аскезе, и во всей христианской культуре себя? почему мы не обсуждали практик признания? Ответ прост: мы не обсуждали практик признания, поскольку в составе духовной практики их нет. То есть как нет??! А так вот. В транс-индивидуальном измерении духовной практики происходит «личное общение по поводу опыта» в универсуме Традиции, дополняемое немногими явлениями, выходящими за рамки этого универсума (как русское старчество). Это общение многообразно, в нем есть даже, на начальном этапе, «гроб воли» — однако нет (мы следуем дефинициям практик признания у Фуко) «речи субъекта о самом себе, когда над ним чье-то господство» и нет «принесения свидетельства против себя». «Личное общение» — в принятом нами смысле, ориентированное к «личному бытию-общению», к взаимообмену бытием — и дискурс власти, властное отношение, взаимно исключают друг друга, и даже в антроподиаде Послушник — Старец совершающаяся здесь работа онтологической май- евтики не может быть понята в дискурсе власти: родить нельзя по приказу, и майевтическое воздействие, как и у Сократа, заведомо не есть властное воздействие.
В преувеличенном значении, какое Фуко придает практикам признания, помимо отмеченных уже нами личных факторов, сказываются также различия Западного и Восточного христианства. Выше мы заметили бегло, что практики признания в этих ареалах христианства различны; теперь уже есть возможность раскрыть это замечание. Как мы видели, практики признания связаны с властным отношением, тогда как «личное общение» с ним, напротив, не связано, так что в сферах, формируемых личным общением, роль властного отношения, а с ним и практик признания, сокращается. Кроме того, личное общение, ориентируясь к «личному бытию-общению», предполагает, тем самым, понимание личности, соответствующее патристической персонологической парадигме и закрепившееся в Восточно-христианском дискурсе, но не в Западном христианстве. — Вывод же тот, что в православном сознании и православной религиозности «личное общение» играет более значительную роль, нежели в Западном христианстве; напротив, практики признания в Западном христианстве играют большую роль, чем в православии. Одной из подтверждающих иллюстраций может служить судьба обсуждаемой у Фуко экзомологезы. Этот обряд публичного покаяния (не принадлежащий к сфере духовной практики) наиболее приближается к практикам признания и наиболее отдаляется от личного общения. Он найден был плохо отвечающим христианской духовности и исчез из употребления — но на Востоке он исчез гораздо быстрее, уже к концу 4 в., тогда как на Западе еще сохранялся и в 7 в. Что же касается исихастской практики, то она — феномен именно Восточного христианства, лишь на весьма ранней стадии, и то в виде исключения, представленный на Западе Кассианом. Фуко признает восточную принадлежность аскетической школы Кассиана, однако игнорирует (в известных нам текстах) все немаловажные следствия такой принадлежности. В числе же этих следствий и тот факт, что адекватное толкование транс-индивидуальных элементов аскетической практики себя дает лишь дискурс личного общения. Как ясно само собой, эти последние замечания — вариация на тему общего утверждения о «юридическом» складе западного сознания, в отличие от «личностного», «экзистенциального» склада сознания русского и православного. Утверждение — избитое, огульное и все же относительно верное.
От исихазма — к синергийной антропологии
Проект герменевтики субъекта, возникающий в рамках синергийной антропологии, отнюдь не ограничивается той почвой «исихастского субъекта» и Восточно-христианского дискурса, на которой мы пока оставались. Как сказано выше, синергийная антропология выделяет в качестве своей феноменальной базы определенный род конститутивного антропологического опыта: предельный опыт человека, который она описывает в терминах «предельных антропологических проявлений». Соответственно, проблему герменевтики субъекта, конституции личности и идентичности человека здесь предлагается рассматривать на базе всего совокупного многообразия предельного опыта человека, или же всего множества предельных антропологических проявлений, которому дается название Антропологической Границы. Определяющая черта предельного опыта — его связь с размыканием человека, другим базовым понятием синергийной антропологии, уже вводившимся выше. Размыкание человека есть достижение им открытости, которая в синергийной антропологии понимается энергийно: это — открытость конфигурации энергий человека, когда происходит встреча (контакт, взаимодействие) этих энергий с энергиями Иного человеку, имеющими свой исток вне горизонта его сознания и опыта. При рассмотрении исихастской практики мы видели, что ее ключевое событие — онтологическое размыкание, в котором энергии человека достигают открытости навстречу Инобытию — «личному бытию-общению», служащему мета-антропологическим телосом практики. Однако это не единственный вид размыкания человека. Вне горизонта сознания лежит, по самому определению, и бессознательное, существование которого также сказывается на некоторых конфигурациях человеческих энергий — так что в этих конфигурациях также осуществляется размыкание человека. Бессознательное не имеет статуса Инобытия, и потому размыкание навстречу ему не является онтологическим размыканием, получая название оптического размыкания. И кроме того, следует считать, что размыкание человека, открытость конфигурации его энергий, наличествует и в его виртуальных практиках, в выходе в виртуальную реальность. Природа этого третьего, виртуального размыкания, носит несколько другой характер, антропологическая открытость в нем не является открытостью навстречу некоторой репрезентации Иного человеку; но мы не будем останавливаться ни на ее обсуждении, ни на демонстрации того кардинального факта, что все возможные способы антропологического размыкания ограничиваются тремя названными. Эти вопросы — вне проблематики проекта Фуко, и наше сопоставление двух проектов не требует в них входить.
Итак, синергийная антропология базируется на парадигме (энергийного) размыкания человека, устанавливая, что существуют три, и только три, репрезентации этой парадигмы — соответственно, онтологическое, онтическое и виртуальное размыкание. Данный вывод естественно выражается с помощью понятия Антропологической Границы. С каждым из видов размыкания связан определенный вид предельного опыта человека, определенный ансамбль предельных антропологических проявлений. Но Антропологическая Граница — совокупность всех таких проявлений; и, стало быть, указанный вывод получает следующую форму: Антропологическую Границу образуют три области, состоящие из антропологических проявлений, в которых осуществляется, соответственно, онтологическое, онтическое и виртуальное размыкание человека. Эти области мы именуем, соответственно, Онтологической, Онтической и Виртуальной топиками Границы. При этом Онтологическая топика включает в себя не только проявления, осуществляемые в практике исихастского типа, телос которой есть личное бытие-общение. По определению, в эту топику входят проявления, отвечающие любым духовным практикам (т. е., напомним, «онтологическим практикам себя, ориентирующимся к мета-антропологическому телосу»). Духовные практики характеризуются наличием органона своего опыта; они создаются в лоне мировых религий, и фундаментальное разделение на «религии Личности» и «религии Космоса» имплицирует и аналогичное разделение в сообществе духовных практик. Я называю это разделение онтологической бифуркацией: онтологическое Иное человеку, выступающее как телос его духовной практики, может выступать как в личностной репрезентации, так и в безличной, имперсональной — как нирвана или Великая Пустота дальневосточных практик, бескачественное бытие, неотличимое от небытия. Духовные практики, ориентирующиеся к имперсональному телосу, также имеют ступенчатую структуру, но их ступени, или антропологические энергоформы, уже радикально иные. Продвижение к телосу, разумеется, не происходит в парадигме личного общения и носит характер постепенного самоопустошения, деконструкции личностных структур, «разравнивания себя». Онтологическая же топика Границы складывается из двух частей, отвечающих двум ветвям онтологической бифуркации.
Опыт размыкания человека (предельный опыт) конститутивен, и в силу этого, любой определенный вид подобного опыта заключает в себе некоторый способ конституирования, тип конституции личности и идентичности человека. Можно усилить это положение: только предельный опыт конституирует человека как такового. В любом другом опыте человек конституируется лишь участненно; он может принять такой частный опыт в качестве конституирующего и тогда будет наделен некоторой участняющей конституцией, определит себя теми или иными частными, не общечеловеческими предикатами (как то, принадлежностью к некоторой партии, субкультуре и т. п.). Оставляя же в стороне такие участняющие человека способы конституирования, мы заключаем: обладая описанием строения Антропологической Границы, мы получаем принципиальную возможность реконструировать на его основе полный репертуар выстраиваемых человеком структур личности и идентичности — развить полную герменевтику субъекта. Прежде чем перейти к описанию этих структур, подчеркнем, что уже само наличие целого репертуара, спектра типов конституции Человека как такового — важнейшая и радикально неклассическая особенность синергийной антропологии. Классическая эссенциалистская концепция человека диктует, что конституция Человека полагается его сущностью и, коль скоро сущность Человека как такового единственна, то Человеку соответствует и единственный, универсальный тип конституции, тип личности и идентичности: а именно, классический субъект, наделенный сущностью и субстанцией, и классическая субстанциальная идентичность. В противоположность этому, в нашей концепции каждый вид предельного опыта (что то же, способ размыкания) человека определяет некоторый тип конституции человека — именно человека неучастненного, Человека как такового! — иными словами, некоторую законченную полноценную репрезентацию существа Человек. Сам же человек плюралистичен в самой природе своей: это — ансамбль самодостаточных, радикально разных существ, отвечающих разным способам антропологического размыкания, или же топикам Антропологической Границы. Рассмотрим эту компанию.
В первую очередь, налицо три главных типа, соответствующих трем базовым механизмам размыкания: Онтологический Человек — Оптический Человек — Виртуальный Человек. Для каждого из них имеются преимущественные сферы его реализации, которые суть: духовные практики — паттерны бессознательного — виртуальные практики. Существуют также три дополнительных «гибридных типа». Три основные вида предельных антропологических проявлений, образующие Антропологическую Границу, могут совмещаться, ибо априори возможны (и апостериори действительно обнаруживаются) такие проявления, предельность которых конституируется одновременно двумя — или всеми тремя — базовыми механизмами. Это означает, что три описанные топики Антропологической Границы перекрываются, и их перекрытия составляют также три области, которые мы называем «гибридными топиками». Отвечающие им гибридные структуры личности и идентичности весьма характерны, симптоматичны для сегодняшних антропологических процессов; но для целей данного текста мы можем ограничиться основными типами.
Онтологический Человек конституируется энергиями Инобытия. Это значит, что его идентичность формируется в процессе восхождения по лестнице энергоформ, ориентированной к Инобытию как мета-антропологическому телосу всего процесса. Идентичность, конституируемая таким путем, может быть названа участной идентичностью (или причастной, приобщительной и т. п.): ибо она обретается посредством соучастия, причастия, приобщения к энергиям Инобытия. Инобытие выступает здесь как высший источник идентичности: единственный держатель и гарант начал, производящих и полагающих идентичность, единственная инстанция, обладающая способностью и силой из самой себя конституировать и делегировать идентичность. Тем самым, это также единственная инстанция, наделенная абсолютной идентичностью или точней, идентичностью в полном смысле — а все структуры и типы идентичности, реализуемые эмпирическими (quasi)личностями в бытии сущего, должны рассматриваться лишь как частичные и несовершенные воплощения истинной идентичности, актуализуемой Инобытием.
Дальнейшие свойства Онтологического Человека уже зависят от вышеописанной онтологической бифуркации. Личностная и имперсональная репрезентации онтологического Иного, Бог- Личность (личное бытие-общение) и имперсональный Абсолют (нирвана или Великая Пустота, начало за пределами оппозиции бытия и небытия), выступая в качестве телоса антропологических стратегий, конституируют в корне разные типы личности и идентичности человека (хотя и имеющие одинаковую участную природу, т. е. формируемые одним и тем же производящим принципом — принципом энергийного приобщения онтологическому Иному). В наиболее чистом виде, эти типы реализуются в соответствующих духовных практиках, каковы исихазм в личностной парадигме и тибетская Тантра или даосизм в имперсональной парадигме. На том, каковы конкретно эти типы, сказывается самым ярким образом формирующая роль мета-антропологического телоса.
Структуры личности и идентичности, формируемые в восхождении к личностному телосу, уже были нами бегло описаны. Этот телос есть личное бытие-общение, или же совершенная Личность, или же Троица единосущных Лиц-Ипостасей, образ бытия которой передается понятием перихорезы и фундаментальным тождеством: перихореза — любовь — (личное) общение. Очевидно, что этим тождеством определяется и некоторый тип самоидентичности, который естественно назвать тринитарной самоидентичностью. Как уже было сказано, это — идеальная, абсолютная идентичность, реализуемая в полноте лишь исключительно (личностно репрезентирующимся) Инобытием. Что же касается эмпирического человека в горизонте наличного бытия, то им реализуется несовершенная участная идентичность, которая означает энергийное приобщение к тринитарной идентичности и формируется в восходящем духовно-антропологическом процессе. Как мы говорили, этот процесс совершается в стихии «личного общения» — такого общения, которое, углубляясь, приближается к взаимоотдаче бытия, перихорезе. Здесь это общение — двоякого рода: во встрече с энергиями телоса и в транс-индивидуальных, интерсубъективных техниках, входящих в органон духовной практики. В подобном общении происходит личностное строительство, порождение более высокоорганизованных антропологических энергоформ, обладающих более высокою связностью (что, в частности, означает рост отчетливости самосознания). Этому содействует и двунаправленная установка «изгнание образов — возгревание чувств» (формула преп. Феофана Затворника): за счет нее, процесс носит напряженный экзистенциально-эмоциональный характер, отвечает «разогреванию» внутренней реальности человека. В итоге, приобщение тринитарной, «перихоретической» идентичности, совершаясь при существенном участии эмоциональных активностей, несет укрепление, артикуляцию и наращивание, обогащение редуцированных и ущербных структур идентичности, отвечающих обыденному существованию.
Почти прямая противоположность этому — структуры идентичности в имперсональной парадигме. Телос имперсональный — Абсолют, лишенный всякой динамики, всяких структур. В силу этого, ступени лестницы, возводящей — или, если угодно, низводящей — к нему, представляют собой энергоформы, всё менее и менее сложно организованные. Антропологические энергийные структуры последовательно саморазбираются человеком, демонтируются, размываются и растворяются. В неоплатонической мистике, также принадлежащей к имперсональной парадигме, этот процесс получил название алХ. шо1д, упрощение. Методики подобных процессов противоположны правилу преп. Феофана: они осуществляют «созерцание образов — изгнание чувств», базируясь по преимуществу на разных техниках медитации и проводя постепенное отключение всех эмоциональных активностей. Взамен «разогревания» внутренней реальности, при котором развивается личностное строительство, возводящее к динамически структурированному триипостасному бытию-общению, — здесь происходит «охлаждение» внутренней реальности и (ауто)деструктурирование, своего рода «разравнивание» себя или само-опустошение. И понятно, что в финале такого процесса личная идентичность и самосознание целиком исчезают, растворяясь. Как формулирует одна из Йога-сутр Патанджали, при приближении к телосу (Самадхи), «самосознание лишается всякой собственной формы и целиком растворяется в сущности созерцаемого, где Бытие и Небытие неразличимы» (Сутра III.3).
Оптический Человек. Онтологическая бифуркация разделяет область Человека Онтологического на две части, очень отличающиеся между собой. Но, как бы ни были велики их различия, различия между разными основными топиками Антропологической Границы куда более значительны. В широком смысле, можно сказать, что самое общее различие Онтологической и Онтической топик заключается в замене онтологии топологией. Действие бессознательного порождает антропологический процесс с динамикой, радикально отличной от онтологической динамики, порождающей процесс генерации восходящей иерархии антропологических энергоформ. В данном случае антроподинамика порождается внеположным истоком, принадлежащим не иному, а тому же онтологическому горизонту, «бытию сущего», и она обычно характеризуется как топологическая. Термин связан с тем, что присутствие энергийного, или силового источника в том же горизонте бытия, однако за пределами горизонта сознания и опыта действует как топологическая аномалия: за счет влияния этого незримого, вне- опытного источника, топология мира сознания и опыта перестает быть обычной топологией евклидова мира и делается какой-либо «неклассической» (впрочем, сам этот термин к топологиям не применяется): искривленной или многосвязной или дискретной и т. д. Это отражает, в частности, тот факт, что типические феномены, обусловливаемые бессознательным, именуются «паттернами» или «фигурами» («фигуры бессознательного» — термин Юнга), что указывает на их топологическую природу. Богатейшую базу для выявления и изучения топологической природы феноменов индивидуального и коллективного бытия предоставляет философия Делеза, декларирующая «топологическое мышление» и развивающая цельный философско-топологический дискурс с обширным арсеналом концептов необычного для философии рода (как то складка, стык, сгибание, изгиб, прореха, выворачивание, подкладка и т. д. и т. п.). Однако, используя этот арсенал, необходимо учитывать, что сам
Делез относится к топологическому мышлению с некритическим энтузиазмом, абсолютизирует топологическое видение реальности и зачастую игнорирует факт наличия целых сфер явлений и процессов иной природы, для которых такое видение неадекватно.
Топологическая динамика порождает крайне специфические структуры идентичности, и можно сказать, что идентификация и коррекция этих структур есть главное содержание и цель всех изощренных методик психоанализа, если не всей этой дисциплины в целом. Факт, что эти структуры рассматриваются как требующие коррекции, терапии, свидетельствует о том, что они близки к патологическим формациям, если и не принадлежат прямо к ним. Уже здесь кроется глубокое различие между топиками: в своем отношении к идентичности человека, Онтологическая и Онтиче- ская топики, отвечающие им репрезентации Иного, оказываются взаимно противоположны. Если Инобытие — источник идентичности, конституирующий и питающий ее, то бессознательное, топологическая аномалия в мире сознания, — источник воздействий, деформирующих и травмирующих идентичность. Ключевая характеристика всей Онтической топики как таковой — несвязная топография сознания. За счет нарушенной связности мира сознания, порождается широкий спектр всевозможных «субнормальных явлений» — расстройств и дисфункций на низших уровнях сознания, каковы, скажем, разнообразные рассогласования и несоответствия в поведении и активности, промахи, «оговорки по Фрейду» и т. п. Понятно, что все такие явления выражают дефекты идентичности, и подобные топологические дефекты и нарушения должны рассматриваться как специфические особенности структур идентичности в Онтической топике.
Виртуальный Человек — еще довольно новый пришелец, и его природа и свойства пока недостаточно изучены. Тем не менее, главные отличия его структур идентичности непосредственно очевидны. Ключевая характеристика виртуального явления как такового — недоактуализация: всякое такое явление — недоактуализованная копия некоторого актуального явления, т. е. копия, приближенно совпадающая с последним, за вычетом отсутствия каких-либо базовых предикатов. Эта общая характеристика приложима также и к идентичности: можно сказать, что Виртуальный
Человек наделен недоактуализованной идентичностью: идентичность его является неполной, лишенной каких-либо базовых элементов или структур полноценной идентичности человека. Такая привативная характеризация сближает виртуальный тип идентичности с онтическим типом, который мы также характеризовали наличием некоторых дефектов идентичности. С другой стороны, это напоминает и структуры идентичности в духовных практиках с имперсональным телосом, где, как мы говорили, происходит размывание, растворение этих структур. Оба сопоставления полезны; проследив их детальней, мы выясняем ряд новых свойств виртуальной идентичности.
В духовных практиках восхождение к имперсональному телосу предполагает осознанное и намеренное, последовательно-планомерное и контролируемое растворение идентичности, которая на начальных стадиях была вполне развитой и артикулированной. Напротив, в виртуальных практиках идентичность недоразвита, недоактуализована изначально, и вовсе не подвергается какому- либо намеренному и контролируемому изменению (способности самоконтроля у Виртуального Человека более всего недоактуализованы и дефектны). Что же касается паттернов бессознательного, то каждый их вид представляет собой некоторый топологический феномен или эффект, имплицирующий определенный специфический дефект (деформацию, псевдоморфозу, усечение или иное нарушение) идентичности; так что возникающие здесь дефекты далеко не произвольны, а, напротив, могут быть систематизированы, классифицированы и сведены к типовым формам, которые служат симптомами соответствующих паттернов — неврозов, фобий и т. п. Но в недоактуализованной идентичности Виртуального Человека, вообще говоря, любые элементы или структуры идентичности могут оказаться не актуализовавшимися. Иными словами, здесь возможны совершенно произвольные дефекты идентичности; и это означает, очевидно, что, сравнительно с Онтической топикой, в Виртуальной топике деструктивные и распадные тенденции в сфере идентичности человека принимают более глубокий, радикальный характер.
Историческая последовательность антропоформаций
Несомненно и явственно, антропологический опыт наших дней отвечает какому-то радикально новому, максимально пластичному, меняющемуся и полифоническому образу Человека — Человека, который способен выбирать ошеломляюще различные сценарии самореализации. Синергийная антропология предлагает определенный путь и способ реконструкции всего спектра этих сценариев — базируясь на ключевом наблюдении, что древняя парадигма синергии, или же антропологического размыкания, может быть заново продумана и обобщена — с тем, чтобы, включив в себя новые способы размыкания, стать универсальной динамической парадигмой конституции человека. Этот путь не связан с постулатами и ограничениями классической эссенциалистской антропологии, и благодаря этому нам открывается принципиальное обстоятельство: основоустройство способа человеческого существования таково, что человек плюралистичен, и это не только на очевидном уровне возможности разных сценариев самореализации, а и гораздо глубже. Уже на уровне базовых структур своей конституции, Человек есть, если угодно, сообщество. Правильней говорить, что вместо единого «человеческого существа» (каким всегда философия представляла Человека), существует «антропологическое пространство», в котором актуализуется набор существ, имеющих фундаментально различную конституцию личности и идентичности, но при этом совершающих всевозможные и непрестанные взаимопревращения. Онтологический Человек, реализующий парадигму христоцентрического обожения или же парадигму Калача- кра Тантры, есть одно из таких существ — но он не один в антропологическом пространстве. Топологический Человек, реализующий паттерны бессознательного, есть одно из таких существ — но он не один в антропологическом пространстве. И так далее.
Поучительно сопоставить эти выводы с позициями проекта Фуко. Его основная часть, представленная в Курсе 1982 г., осуществляет реконструкцию трех моделей или «больших формаций» практики себя, почти целиком ограничиваясь тысячелетием 4–5 вв. до н. э. — 4–5 вв. н. э. Разумеется, все эти три формации воплощают неоспоримое и безальтернативное в ту эпоху унитарное, а не плюралистическое видение природы Человека; собственные же воззрения философа на Человека как такового здесь остаются довольно имплицитны. Мы можем отметить разве что, что явное и в этом курсе тяготение Фуко к утверждению чисто имманентной конституции человека несет в себе скрытую тенденцию к плюралистической антропологии. Но в комплексе менее капитальных поздних текстов (интервью и статей), эта тенденция выражается с гораздо большей определенностью. Как мы видели, в русле проекта «эстетики существования» у Фуко вырисовывается «неотрайба- листская модель», представляющая человеческое сообщество как совокупность «субкультур», меньшинств, самоопределяющихся по способам получать удовольствие. Ее можно рассматривать как своеобразную экстраполяцию «эллинистической модели» в наши дни — но экстраполяцию радикального характера, доводящую имманентность конституции человека до максимума, до «самой свирепой имманенции», как шутили в России встарь. Действительно, если способ получать удовольствие принимается как принцип конституции человека, это, разумеется, — сугубо имманентная конституция. Не опираясь на предельный опыт человека, в котором (см. выше) только и может конституироваться человек как таковой, это также — участняющая человека конституция. Но тут надо сказать, что в предлагаемой парадигме конституции имманентность является столь полной, что грань, различие между человеком участненным и неучастненным исчезают. Человек каждого из меньшинств вправе полагать себя «человеком как таковым», а не «человеком участненным», поскольку невозможно стало ответить на вопрос: участнением чего (кого) является человек этого меньшинства? Все меньшинства — равного антропологического статуса, «большинства» же нет теперь вообще, оно устраняется из дискурса. «Нет универсального, есть только сингулярное», — заявляет Делез, в данном пункте — полный единомышленник Фуко. Что же до свойства плюралистичности, то мы видим, что неотрайбалистекая модель бесспорно и радикально плюралистична: каждая из субкультур — самодостаточная, полная в себе реализация Человека. Но эта плюралистичность — иной природы, нежели в синергийной антропологии. Последняя лишь констатирует некоторую изначальную внутреннюю плюралистичность Человека, заложенную в самой структуре его конститутивного, предельного опыта. Эта констатация нисколько не означает, что в своих стратегиях человек должен эту плюралистичность воплощать, культивировать (как, скажем, констатация того, что человек может быть не только обычным честным человеком, а еще и лгуном, вором, шулером, не есть еще утверждение ни желательности, ни неизбежности таких стратегий). Сама по себе, она еще отнюдь не предрешает, каким должно быть отношение человека к этой своей особенности (видя здесь особый вопрос, требующий для ответа совсем иного контекста). В противоположность этому, «неотрайбалистская модель» сразу же возникает у Фуко как выдвигаемая и защищаемая им антропологическая стратегия, как его проект антропологического будущего. И сейчас становится еще несколько ясней, что такой проект тесно примыкает к проектам, ориентированным к Постчеловеку.
Надо сказать, что Жиль Делез в своей книге о Фуко представил бегло свое прочтение его антропологического проекта, довольно- таки отличное от нашей трактовки этого проекта как «неотрайбалистской модели». Как находит Делез, концепция Фуко, в ее применении к Новому Времени и современности, сводится опять- таки к трем большим антропологическим формациям — но эти формации отнюдь не совпадают с теми тремя, которые выделяет сам Фуко, исследуя «тысячелетие заботы о себе». Все эти формации образуются посредством одной и той же, универсальной динамической парадигмы, суть которой — встреча и взаимодействие собственных, внутренних сил человека с некоторыми внешними силами: «силы в человеке конституируют форму, лишь когда они вступают в отношения с внешними силами»
[113]. Новые три формации, тоже п9Следовательно сменяющие друг друга, соответствуют различным репрезентациям внешних сил, и, согласно Делезу, они таковы: «форма-Бог», конституируемая «силами возвышения к бесконечному» (17 и 18 вв.), «форма-Человек», конституируемая «силами конечности», в качестве которых выступают Жизнь, Труд и Язык (с 19 в.), и наконец, «форма-Сверхчеловек», которая пока только зарождается и предположительно будет конституироваться силами «конечного-неограниченного» (fini-illimitd), которые присутствуют, например, в компьютерных чипах, элементах генетического кода и аграмматических структурах (des agrammaticaux), «берущих реванш у означающего» в текстах модернистской литературы. Последняя формация прямо возводится к идее Сверхчеловека у Ницше; по Делезу, это — единственно адекватное современное воплощение этой идеи.
Необходимо несколько замечаний в связи с подобным прочтением Фуко. Прежде всего, описанная динамическая парадигма явным образом совпадает с введенной нами парадигмой антропологического размыкания — и, тем самым, способ конституирования антропологических формаций Фуко сближается почти до полного совпадения с аналогичным способом в синергийной антропологии
[114]. Но я нахожу, однако, что описание Делеза не вполне соответствует дискурсу Фуко и парадигма размыкания — скорей делезовская, чем фукианская. Именно мысль Делеза, куда более чем мысль Фуко, сосредоточена на динамике реальности, динамической структуре явлений и форм, тогда как мысль Фуко более занята их интеграцией в исторический и культурный контекст. Описывая конституцию антропоформаций, Фуко не занимается точным «прописыванием» динамической парадигмы этой конституции, но зато он усиленно подчеркивает имманентный характер последней (как мы помним — чувствительный для него пункт). Но парадигма размыкания задает заведомо не имманентный способ конституирования — и, стало быть, трактовка Делеза не отражает пафоса имманентности, составляющего столь характерную черту, если не лейтмотив, последнего проекта Фуко. Следует уточнить, однако, что схема трех формаций у Делеза имеет в виду по преимуществу «раннего Фуко»; ее описание отсылает почти исключительно к «Словами и вещам». Характеризуя же этап практик себя, Делез, как мы говорили
[115], настойчиво (и совершенно верно) указывает, что на этом этапе Фуко вовсе не возвращает в свою философию концепт субъекта, и его «история субъекта» есть, более точно, история форм субъективации, представляемой как «производство модусов существования» — так что антропологическая реальность здесь описывается как набор подобных модусов. Эти модусы или способы существования, называемые также Делезом «стили жизни», мы можем естественно сопоставить «субкультурам» тех поздних интервью Фуко, на базе которых мы пришли к характеристике его позднего проекта как «неотрайбалистской модели», хотя у Делеза их принцип конституции мыслится шире, чем только «способ получать удовольствие» (он, в частности, говорит, что выстраиваемые модусы «включают даже самоубийство»), В итоге, трактовка позднего проекта Фуко у Делеза достаточно согласуется с нашей, лишь несколько расширяя ее и, в частности, уместно напоминая, что в собрании субкультур не должна быть забыта и субкультура суицида. Пунктов же расхождения остается всего два. Первый из них — отмечавшийся неучет стойкой имманентности субъективации у Фуко, второй же состоит в том, что мы решительно не видим в проекте Фуко никаких элементов «формы-Сверхчеловека»: рассматриваемые здесь субкультуры — геев, садомазохистов и т. п. — далеко не носят столь футуристического и постчеловеческого характера, и Фуко отнюдь не связывает их со Сверхчеловеком Ницше (дискурс Сверхчеловека вообще отсутствует у него, и Делез здесь приписывает ему собственное увлечение).
Как мы видели, в проекте Фуко — и в основной части, посвященной «тысячелетию заботы о себе», и в набросках современной «истории субъекта» — существенную роль играет упорядочение изучаемых антропологических формаций в диахронии, в исторической последовательности. Синергийная антропология также осуществляет такую «историческую привязку» вводимых в ней формаций, устанавливая их историческую последовательность, прослеживая причины и механизмы их смены. Мы исходим из того, что в любой период истории имеет место преобладание определенных антропологических формаций; и находим соответствующие формации в наличном их фонде, который собирательно представлен Антропологической Границей. При этом, как мы увидим, будут возникать и такие ситуации, когда в этом фонде не обнаружится адекватной формации. Но эти ситуации не будут противоречить основаниям синергийной антропологии. Напротив, просмотр этих оснований в историческом плане подтверждает, что конститутивным антропологическим опытом является предельный опыт, т. е. опыт размыкания, имеющий три (и только три) главных вида.
В нашем фонде, фундаментальных формаций всего три: Человек Онтологический, Человек Топологический и Человек Виртуальный. Но уже ранние эпохи истории доставляют первый пример, когда доминирующая антропологическая формация — не из числа этих трех. Зная, что в эти эпохи доминирующим антропологическим отношением было отношение человек — Бог, мы можем, казалось бы, заключить, что преобладающей антропоформацией для этих эпох был Онтологический Человек. Но это — поспешный вывод. Мы обнаруживаем, что парадигма размыкания в трех ее «чистых формах», отчетливо отделенных друг от друга, сформировалась у человека отнюдь не сразу, не изначально. Длительное время антропологическое размыкание осуществлялось в слитных, сращенных прото-формах, а человек, хотя и имел своим формообразующим отношением отношение Человек — Бог (или «божественные силы»), однако был не Онтологическим, а «Пред-топическим» Человеком. Лишь очень не скоро он выработал у себя парадигму онтологического размыкания. Путем огромной работы разума Человек достиг идентификации себя в бытии, разделил онтологическое и онтическое; и еще один значительный этап работы разума и религиозного сознания потребовался, чтобы сформировались христианская онтология бытийного расщепления и онтологическое размыкание к Инобытию.
Начальная же антропологическая формация определялась архаическими формами религиозности, в которых предельный опыт человека был представлен лишь смутными, не артикулированными импульсами и устремлениями, имевшими смешанную природу: человек еще не разделял те проявления, в которых реализовывались его идентификация себя в бытии и его отношения с бессознательным. Онтологическое и онтическое в его сознании не были различены
[116]. В кругу подобных примитивных религиозных форм, одною из основных является шаманизм, который Фуко упоминает не раз как комплекс практик, предшествовавший практикам себя классической Греции и на них повлиявший: «Упражнения, по-видимому, восходящие к шаманизму…. положили начало духовным упражнениям, которые разрабатывались в греческой философии» (451). С позиций синергийной антропологии, шаманизм — чистейший пример проторелигиозной формации, отвечающей изначальной неразделенности Онтологической и Онтической топик: здесь совокупность целей духовной практики, организуемая трансцендированием, сочетается с совокупностью средств, целиком опирающихся на энергии бессознательного. Дальнейшая эволюция античной религиозности также естественно связывается с процессом разделения топик: можно интерпретировать античную теогонию, войну и разделение олимпийских и хтонических богов как мифологическое отражение антропологического процесса формирования сознания, в котором происходило разделение усилия самоопределения в бытии и паттернов бессознательного («верхней» и «нижней» топик сознания). Однако же не только шаманизм, но и олимпийская мифология, и даже зрелая греческая и греко-римская мысль еще пребывают в рамках Пред-топической антропоформации. Здесь еще «нет субъекта», говорит Фуко. «Нет субъекта, потому что нет Личности и нет онтологического размыкания человека», — соглашаясь, дополняет синергийная антропология. Но в то же время, глубоко прав и специалист по античности, напоминающий нам: «Греки обладали… предельно очерченными формами трагической субъективности»
[117]. И заранее ожидаемым, неизбежным образом, в эллинистической модели практик себя, как она представлена у Фуко, мы видим немало черт, в которых Пред-топическая формация приближается, подходит вплотную к Онтологическому Человеку. «Притяжательная самость», преобразуя себя, приобретает элементы основоустройства подлинного «первого лица». Но принципиальная грань между ними остается всегда: в этом мы полностью соглашаемся с Фуко.
Incipit Persona (хотя, как многажды объяснялось, латинская Perkma — очень мало адекватная передача концепта Личности, созданного в грекоязычной среде и занявшего вполне адекватное место лишь в Восточно-христианском дискурсе). Онтологический Человек кратко описан выше. Наиболее чистая форма его самореализации — духовная практика, существующая в единстве с духовной традицией и следующая, в согласии с онтологической бифуркацией, одной из двух парадигм, личностной или имперсональной. Выстраивая историческую последовательность, мы оставим в стороне мир дальневосточных имперсональных практик. Что же до личностного русла, то оно развивается в ареале Восточного христианства, и основная эпоха его формирования и культивирования — по длительности, тоже тысячелетие, как и в случае античных практик. Если «эпоха заботы о себе», по Фуко, — тысячелетие с 4–5 вв. до н. э. по 4–5 вв. н. э., то «эпоха исихастского органона» — период с 4 по 14 в., завершаемый Исихастским возрождением в Византии. Здесь совершается «открытие Личности» — и Личность конституирует основоустройство новой антропоформации. Возникает принципиально новая установка сознания, установка «предстояния лицом к Лицу», которую учитель исихазма передает так: «Позаботьтесь утвердиться в том убеждении, что всегда имеете внутри себя Лице, на вас смотрящее и все в вас видящее»
[118]. И в этой установке, ставшей конституирующим стержнем, организующим началом человека, рождается наконец подлинное «первое лицо» — Я, «субъект», «личность», и как еще его будут называть. Вспоминая характеристику античного типа субъектности как «ансамбля безличных сил», можно сказать, что совершившееся событие соответствует, mutatis mutandis, знаменитой формуле Фрейда, определяющей цель психоанализа субъекта: Wo es war, soil Ich werden (откуда следует, что дело Христа можно, если угодно, считать включившим в себя и дело психоаналитика). «Первому лицу» соответствует «личное общение» как особая форма человеческого общения, продвигающаяся вглубь от обмена информацией к обмену бытием по образу перихорезы.
Однако, в итоге процессов секуляризации, начиная с Ренессанса, человек постепенно отвергает онтологическое размыкание как принцип собственной конституции. Отношение к Инобытию дезавуируется в своем доминирующем антропологическом значении, отодвигается и вытесняется. Но бессознательное не занимает место Инобытия — приходящая антропоформация вновь не принадлежит к топикам Границы. Века Ренессанса, как и Нового Времени, — эпоха, когда бессознательное не стало еще предметом для разума, отношения с ним не рефлектируются и оно отсутствует в горизонте сознания. Таким образом, отношение к Онтической границе человека еще не формируется, тогда как отношение к Онтологической границе уже активно вытесняется — и это значит, что Человек утрачивает отношение к Антропологической Границе как таковой. Его стратегии и практики больше не отражают ее присутствия и, в результате, он перестает ее видеть, у него стирается само представление о ее наличии. Очень естественно, в такую эпоху в центре его сознания оказывается идея бесконечного. Человек создает концепцию бесконечного мироздания и стремится себя осмыслить как субъекта познания, который конституируется из своего познавательно-орудийного отношения к этому мирозданию. Поскольку мироздание бесконечно, то потенциально бесконечен, тем самым, и процесс его познавательно-орудийного освоения, а отсюда — и конституируемый в этом процессе Человек. У человека складывается убеждение, будто у него нет границ. В культуре Ренессанса и Просвещения найдется сколько угодно прямых выражений такой позиции; так, в известном трактате Кондорсе, автор (скрывающийся от якобинского террора и вскоре покончивший с собой в тюрьме) пишет: «Не было предопределено никакого предела в развитии человеческих способностей… способность человека к совершенствованию действительно безгранична, успехи в этом совершенствовании имеют своей границей только длительность существования нашей планеты»
[119]. Можно говорить, что здесь налицо промежуточная антропологическая формация, которую мы называем формацией Безграничного Человека. Она по сей день весьма влиятельна и распространена, пусть больше и не является доминирующей. Во многом, западный человек продолжает признавать идеалы и ориентиры Безграничного Человека, и именно эта формация теснее всего связана с технологическим прогрессом и техногенной цивилизацией. Стоит поэтому ее описать подробней.
Определяющие элементы этой формации — идея бесконечного мироздания и бесконечного процесса познания, как бы прямолинейно продвигающегося вдаль и вдаль; и понятно, что в осново- устройство этой формации необходимо входят также идеи бесконечного прямолинейного движения и мироздания, оформляемого прямолинейной системой координат. Безграничный Человек — Декартов субъект познания, живущий в Декартовых координатах. Он близок и к «форме-Бог» Делеза, которая конституируется взаимодействием сил в человеке с внешними силами, репрезентированными как «силы возвышения до бесконечного». Но этого мало нам. Методология синергийной антропологии требует отчетливо реконструировать парадигму конституции, реализуемую в данной формации. Конституирующее отношение, избранное для себя Безграничным Человеком, — «познавательно-орудийное отношение к бесконечному Универсуму». В этом отношении человек, несомненно, размыкает себя, и нам следует идентифицировать род, способ этого размыкания. Как ясно прежде всего, последнее не совпадает ни с одним из видов размыкания, определяющих топики Антропологической Границы. Все же прочие виды — либо смешанные, гибридные, либо участняющие, т. е. представляющие собой размыкание к некоторому определенному сущему. Структура размыкания Безграничного Человека оказывается любопытной.
Мы замечаем, что отношение к бесконечному Универсуму является существенно ущербным, недостаточным в качестве конституирующего отношения. Определяющая характеристика этого Универсума, бесконечность, есть по своей природе негативный принцип, утверждение отсутствия каких-либо определенных границ, законченных очертаний предмета; и в таком предмете, фигурально выражаясь, невозможно найти упора. Выражаясь же точно, Универсум, если он определяется предикатом бесконечности, не может выступать в качестве полноценного Иного человеку — в качестве инстанции, при встрече с которой человек испытывает оформляющее, конституирующее его воздействие. Определяя себя отношением к нему, человек наделяется лишь «возможностью бесконечного развития», и этот предикат (в отличие от предикатов отношения к Богу или к бессознательному) еще не задает какой-либо определенной, законченной парадигмы конституции человека. И это значит, что в отношении к бесконечному Универсуму осуществляется лишь иллюзорное размыкание, в котором не заложено полноценного принципа и способа антропологической конституции. Человек, определяющий себя этим отношением, не может из него получить какой-либо законченной конституции, но разве что ее отдельные элементы. — Таким образом, Безграничный Человек недооформлен, недоопределен в своей конституции, и ее недостающие элементы он заимствует, «добирает» из разных источников. В зависимости от эпохи и обстоятельств, он может усваивать элементы Онтологической или Онтической топики, различных участняющих видов размыкания. Поскольку его определяющее отношение включает в себя орудийную, технологическую компоненту, этот человек, в Частности, непременно осуществляет размыкание в орудийно-технической деятельности и получает в нем элементы конституции Homo technicus. Это — один из основных видов участняющей конституции; и Безграничный Человек, тесно соседствуя с ним, легко редуцируется в него. В целом же, описанные свойства характеризуют Безграничного Человека как формацию смешанную и промежуточную, лишенную собственной независимой парадигмы антропологической конституции.
Понятно также, что эта формация целиком базируется на абсолютизации разума, своего рода культе разума. Именно разум осуществляет отношения человека с мирозданием. И чтобы это отношение было конститутивным для человека и обладало бы всеми нужными свойствами, разум человека должен быть конститутивен, а, кроме того, бесконечен и всемогущ, хотя бы в потенции. Подобная концепция разума неотделима от Безграничного Человека. Она означает, что у этого человека происходит рефлексия лишь таких границ разума, которые разум сам полагает из себя (ее блестяще проделывал немецкий идеализм), однако невозможна рефлексия другой границы — антропологической, которая вовсе не из разума, а из бессознательного. Установление отношений с этой границей блокируется, и это следует сопоставить с ситуацией в Онтологической топике. Онтологический Человек отнюдь не игнорировал бессознательное. Рефлексия тогда была развита не на уровне классической метафизики, отношения с бессознательным не были эксплицированы в научном или философском дискурсе, но они далеко не игнорировались. Онтологический Человек прорабатывал свои отношения с бессознательным: называя его проявления страстями, он признавал за ними важную роль и строил практики, им препятствующие. Человек Безграничный, вытесняя отношение человек — Бог, постепенно отбросил все основоустрой- ство этого отношения, включая и практики борьбы со страстями (при этом до неузнаваемости переосмыслив и диаметрально переоценив само понятие страсти). В результате, если Онтологический Человек обладал определенным конструктивным отношением к бессознательному, то Человек Безграничный способен был только отрицать бессознательное. Но при такой установке, воздействия бессознательного могли беспрепятственно развиваться и расти; роль и место бессознательного в антропологической реальности усиливались. Этот вывод я резюмирую кратким афоризмом: культ разума ведет в царство безумия. Исторические штудии раннего Фуко, реконструирующие отношение Безграничного Человека к безумию, к практикам наказания, подавления, не расходятся с этим тезисом.
«Невроз заменяет в наше время монастырь»: это высказывание Фрейда есть точная формула смены доминирующих антропоформаций, требующая разве что дополнения: «невроз» вышел на авансцену не прямо после «монастыря», а после «физической лаборатории», которая подготовила и облегчила этот выход. Онтический Человек (он же Человек Безумный и Человек Топологический) достигает доминирующего положения на исходе 19 столетия и удерживает это положение в течение почти всего 20 в. В середине этого века отнюдь даже не фрейдист, а видный представитель неогегельянства Жан Ипполит утверждал: «Изучение безумия находится в центре антропологии, в центре изучения человека». Происходит резкая активизация Онтической топики, фрейдизм становится мировоззрением, а паттерны бессознательного — подавляющей формой предельного опыта человека. В закреплении доминантности Онтического Человека существенную роль сыграли эстетические, художественные практики: художественное творчество всегда скрывало в себе нити тесной и глубокой, интимной связи с областью бессознательного. Можно отчетливо проследить, как культура модернизма продвигается в своей эволюции из сферы Человека Безграничного (где она еще граничила с романтизмом) в царство Человека Безумного. Вначале «опыт безумия» переживался человеком-художником как опыт в высшей степени подлинный, ответственный и смертельно опасный (чему свидетельством — многие яркие и трагические судьбы). Но постепенно — скажем, уже в сюрреализме — художник начинает сознательно эксплуатировать этот опыт.
Следующий шаг за сознательною эксплуатацией — инсценировка, и это уже — стратегия недоактуализованных проявлений, принадлежащая к Виртуальной топике. Антропологическая динамика убыстряется, и на грани третьего тысячелетия на авансцену уже выступает Виртуальный Человек. Не будем судить, насколько уже утвердилась доминантность этой антропоформации. Отметим лишь, что эпоха доминантности Виртуального Человека необходимо приобретает одно определяющее качество: по самому определению виртуального явления, здесь исключается возможность творчества новых форм. В известном смысле, вся эта эпоха — только один большой римейк всех других антропоформаций с их эпохами.
За описанной эволюцией Человека просматривается некая общая направленность, объединяющая динамика, и это — динамика последовательного спада, убывания формостроительной, творческой энергии человеческого существа. Можно назвать этот глобальный мета- или мега-процесс «скольжением Человека по его Границе вниз». Из наших рассуждений, эта динамика спада видна, в частности, на примере идентичности: описывая Онтического и Виртуального Человека, мы специально демонстрировали ущербный характер их структур идентичности, причем было указано и то, что такой характер усугубляется с переходом от топики Онтической к Виртуальной. Но надо еще добавить, что возможности виртуального римейка нисколько не безграничны. Все более полное погружение в Виртуальную топику влечет за собой нарастающую утрату владения собой и системами обеспечения жизни, влечет виртуализацию смерти — и выливается, как мы показывали
[120], в развертывание сценария эвтанасии для человечества.
Антропологические сценарии и проекты для современности
Продвигаясь хронологически, описание исторической последовательности антропоформаций естественно переходит в прогностический или проектно-сценарный дискурс. С позиций философии, он — один из самых сомнительных; но в ситуации сегодняшнего мира, меняющегося непонятно, ускоренно и опасно, такой дискурс приобретает значение, вызывает интерес. Попробуем бегло сравнить под этим углом три проекта, которые были затронуты: проект Делеза, или «форма-Сверхчеловек», проект Фуко, или «эстетика существования», а также проект синергийной антропологии. Они все учитывают сегодняшнюю реальность и ее обозначившиеся ведущие тренды, и потому «в самом крупном» не расходятся между собой. Это — неклассические проекты, полностью отделившиеся от всей европейской традиции эссенциальной антропологии. Они фиксируют радикальные изменения с существом «Человек» и пытаются различить проступающие черты того, «кто приходит после Субъекта»
[121]. Черты же, естественно, улавливаются уже различные.
Проект Делеза, данный в небольшом приложении в конце книги о Фуко, — всего лишь самый беглый набросок. «Форма- Сверхчеловек» не превращена им в концепт, что он полагал необходимым для философского предмета. Она также не была им связана с его собственными разработками, имеющими, казалось бы, ближайшее отношение к антропологическому проекту: скажем, с концептом la visageitd (конституция человеческого лица, «лицевость») в «Тысяче плато» или с концептом мозга, изготовлением которого многозначительно заканчивается «Что такое философия?». «Сверхчеловек определяется новым способом чувствования»
[122], — указывал он еще в ранней книге «Ницше и философия», но в «форме-Сверхчеловек» и этот аспект не развит. Словом, это скорей эмбрион проекта — и все же он не только содержателен, но и несет характерные черты мысли Делеза. Из трех проектов, он выражает наибольшее доверие к ходу вещей в современном мире, к перспективам техногенной цивилизации. Новейшие технологии увлекают его, перспективы манипулирования генетическим кодом
человека, превращения Человека в Киборга вызывают его энтузиазм: ибо здесь новые и богатые возможности взаимодействий — не человека, нет! — но «сил в человеке» с новыми и разнообразными «внешними силами» — кремниевыми чипами, изгибами генетических цепочек… Важнейшая предпосылка этого энтузиазма — моментально разлагающий взгляд, минующий человека и непосредственно видящий на его месте «сенсомоторные схемы», «жизнь, труд и язык», «мембрану между Внутренним и Внешним» и иные подобные предметы, с особым уклоном к физико-биологическим и математическим (топологическим) реалиям. Он говорит: «Одно из наших расхождений с Фуко: для него социальное поле пересечено стратегиями, для нас оно полностью ускользает»
[123]. За этим расхождением стоит, в частности, и то, что для Фуко, особенно позднего Фуко, социальная реальность формируется стратегиями человека, который развивает определенные практики себя, определенную культуру себя, — она имеет, иначе говоря, некие несводимые аутентично человеческие измерения. В дискурсе же Делеза это невозможно и невообразимо, здесь эта реальность — «сингулярные процессы, которые происходят во множествах». «Культура себя» и «забота о себе», весь проект практик себя знаменовали у Фуко если и не прорыв, то порыв к человеку, ностальгию по нему — и Делез, описывая этот проект, прилагает немалые усилия, чтобы, не искажая его, очистить тем не менее от антропологической ностальгии. Как мы говорили уже, он всячески (и справедливо) подчеркивает, что проект Фуко есть исследование способов субъективации, отнюдь не опирающееся ни на какую конструкцию субъекта; но, кроме того, он перелагает проект в свой дискурс «топологии складки», где он предстает уже совершенно делезовским, как номенклатура модусов субъективации, возникающих как «вариации изменчивых складок». Из «Герменевтики субъекта» (которой, правда, Делез не знал) ясно видно, насколько подобный дискурс чужд проекту Фуко. — Возвращаясь же к проекту самого Делеза, мы констатируем, что для этого проекта проблематика культуры себя и практик себя совершенно чужеродна. Без сомнений и колебаний, философ принимает новейшие генетические и компьютерные полу-утопии,
направляющиеся к радикально расчеловеченному Постчеловеку (которого он отождествляет со Сверхчеловеком).
С известным правом, можно сказать, что проект Делеза — уже скорее топологический и технологический, нежели собственно антропологический проект. В отличие от этого, проект Фуко — безусловно, проект антропологический, который не отвлекается в научно-технологические новации; но, оставаясь в антропологической сфере, он не менее внимательно учитывает новейшие изменения и не менее решительно идет им навстречу. Не менее существенно другое отличие: если Делез наблюдает и обсуждает происходящие процессы, возникающие и намечающиеся антропологические явления, то Фуко занимает другую позицию по отношению к происходящему — он выдвигает и защищает собственную модель, собственный антропологический сценарий. Характерная специфика этой модели — тесное сопряжение опыта древности и современности, укорененности в Греко-римской культуре себя и сегодняшних экстремистских идеологий. Идею эстетики существования Фуко находит в античности (хотя, возможно, было бы осторожней сказать: свою идею эстетики существования Фуко приписывает античности), содержательно разрабатывает ее на античном материале — после чего обосновывает ее актуальность для наших дней и развивает ее приложение к сегодняшней антропологической и социальной ситуации. И нельзя не признать, что «неотрайбалистская модель», возникающая в итоге этого приложения древней идеи, по своей экстремальности, по решительности принятия самых крайних антропологических и социокультурных трендов не уступает никаким движениям и стратегиям постчеловеческой ориентации. Больше того, в случае Фуко речь идет не о принятии крайних трендов, а о формировании их и руководстве ими. Роль, избираемая Фуко в его последние годы, активней и радикальней, чем роль Делеза. Его речь в его последних интервью — особенно, тех, что давались представителям «субкультур», — хотя и подчеркнуто лишена трибунных интонаций, нажима, эмфазы, но это, без сомнения, — речь учителя жизни. Недаром он так вжился в Эпиктета и Сенеку…
Что касается синергийной антропологии, то мы уже могли видеть, что ее многогранные отношения с проектом Фуко весьма двойственны, включая моменты и близости, и расхождения. Эта двойственность сохраняется и в сценарном плане. Очевидный элемент типологической близости в том, что сопряжение опыта древности и современности — существенная черта также и синергийной антропологии, где при анализе новейших метаморфоз человека не утрачивается перспектива Онтологической топики, ориентация на опыт древних духовных практик. Особых расхождений нет и в характеристике антропологической ситуации наших дней; прочтение этой ситуации как начала доминантности Виртуального Человека не входит в противоречие ни с проектом Фуко, ни с проектом Делеза. Идущая непрерывно экспансия виртуальных практик, расширение их спектра, увеличение места их в существовании человека — очевидные и неоспоримые приметы времени. В основном, к сфере виртуальных практик принадлежит «психоделическая субкультура», которой Фуко отводит важное место в своем проекте. У Делеза в «форме-Сверхчеловек» «силы кремния, берущего реванш над углеродом», превращая человека в киборга, выводят его в Виртуальную топику. Как и появление «новых внешних сил», о котором говорит Делез, как становление «субкультур», пропагандируемых Фуко, виртуализация — в числе ведущих трендов, формирующих антропологическую ситуацию и ее развитие; и каждый из трех проектов, в зависимости от своих базовых концептов и логики своих идей, ставит в центр тот или иной из подобных трендов. Относительно новое в нашем проекте — лишь вывод о неизбежном переходе виртуализации, с ее углублением, в сценарий эвтанасии, виртуализованной видовой смерти человека. Однако и этот вывод — на грани очевидного (и можно, кстати, заметить тут, что сценарий трансгуманизма, радикальный вариант любезного Делезу «реванша кремния», есть также род эвтанасии).
Но в каждом из проектов присутствует и аспект оценки, присутствует некоторая позиция по отношению к ситуации, а также и предпочтения, рекомендации по выбору антропологических стратегий. Здесь-то и начинаются глубокие расхождения. Из трех проектов, позиция Делеза наиболее проста и прямолинейна: его выбор, его рекомендация человеку — опыт трансгрессии, который должен быть реализуем с максимальной полнотой и переживаем с максимальной интенсивностью (и «форма-Сверхчеловек» мыслится им как максимальное продвижение по этому пути, как сверхчеловеческая трансгрессия). Для французской мысли, это отлично известная и отлично освоенная позиция. Учителями, проводниками ее были Батай и Бланшо, и эссе Бланшо «Опыт-предел» (1962) сформулировало с полной ясностью, о каком опыте идет речь: «Мы полагаем, что в сущности своей человек удовлетворен: как универсальному человеку, ему нечего делать… он покоится в становлении своей недвижной тотальности. Опыт-предел — это такой опыт, который ожидает высшего человека, способного не остановиться на этой удовлетворенности… это опыт неудовлетворенности того, кто удовлетворен “во всем”, это недостаток, чистый изъян, где, однако, имеет место свершение бытия… Опыт-предел есть опыт этой пустоты, что на краю всякой исполненности, опыт того, что имеет место вовне всего, когда всё устраняет всякое “вовне”, того, чего остается достичь, когда все достигнуто»
[124]. В наших терминах, это, очевидно, также будет предельный опыт; но максимальная широта его форм, к которой призывает Делез, заведомо не включает онтологического предельного опыта, она — в пределах его безонтологической, топологической реальности. Позиция Делеза — а он придает ей характер прямой и настойчивой рекомендации, отбрасывая роль «абстрактного мыслителя»
[125], — утверждение Онтической топики.
Позиция Фуко сложней и оригинальней. Он тоже испытал влияние Бланшо и Батая, написал эссе «О трансгрессии» (1963) и еще в 1980 г. говорил так: «Идея опыта-предела, вырывающего субъекта у него самого, — вот что для меня было важно в чтении Ницше,
Батая, Бланшо и благодаря чему я всегда понимал свои книги… как прямые попытки вырвать себя у себя самого, помешать себе быть тем же»
[126]. Важно и то, что подобный опыт служил для него конкретным примером опыта, не отвечающего феноменологической парадигме
[127], и тем содействовал эмансипации от феноменологии, которая была одной из существенных задач философского становления Фуко. И однако в позднем своем проекте он уходит от предельного опыта вообще, не только в трактовке Бланшо-Батая, но и во всех более фундаментальных его представлениях, находимых, к примеру, у Кьеркегора, Левинаса, Хайдеггера. Он отказывается строить на нем конституцию и герменевтику субъектности, хотя они в той или иной форме, явно или неявно, никогда не обходились без опоры на предельный опыт! — чтобы стать защитником безнадежного дела, утверждать «чисто имманентную» конституцию человека в не заходящих слишком вглубь, не копающихся в «себе» духовных упражнениях своей «эллинистической модели» и в ориентирующихся на эту модель практиках современной «эстетики существования». Он нигде не говорит, что он порывает с предельным опытом, но это ясно и так: предельный опыт, являющийся, по самому определению, опытом выхода из себя, опытом, «вырывающим субъекта у него самого», заведомо не может быть опытом чистой имманенции, который «привязывает к самому себе — ни к чему другому и ни к кому другому как только к самому себе» (581); он не может покоиться на фукианском принципе имманентности: «безусловность и самодостаточность отношения себя к себе» (581).
И все же в итоге разрыв с предельным опытом в пользу опыта
чисто имманентного не удается. Фуко описал довольно отчетливо (особенно в неопубликованных разработках, цитируемых Гро), каким должен быть чисто имманентный тип конституции человека; однако в рассматриваемых им практиках реализуется, на поверку, не этот тип, а нечто другое. Возражая Фуко, Адо демонстрировал, что в разобранных Фуко примерах из стоиков конституция, в действительности, вовсе не имманентна. Но можно и на более общем уровне утверждать, что чисто имманентная конституция — чистая иллюзия, подобная чисто имманентному подъятию себя из болота бароном Мюнхаузеном. И если «имманентная конституция» описываемых философом субкультур конституируется «способом получать удовольствие», то удовольствие как таковое выступает для них чистейшим трансцендентным началом
[128], что бытовой язык и выражает формулою «культ удовольствия», философски абсолютно верной. Нас, однако, интересует судьба предельного опыта. Опыт не чисто имманентный — отнюдь не обязательно предельный опыт, и не столь трудно убедиться, что в духовных упражнениях стоиков он и действительно не является предельным. Вообще говоря, отнюдь не обязан быть предельным и опыт удовольствия. Однако в проекте эстетики существования такой опыт избирается в качестве конституирующего опыта, так что удовольствие делается доминантой в собрании энергий человека, и это значит, что оно становится страстью. Хотя этот род страсти и не несет столь яркой печати экстремальности и предельности как трансгрессия, но по своей природе, это также — предельный опыт, принадлежащий топике бессознательного.
Но даже и независимо от этого вывода о природе опыта, нет сомнения, что проект эстетики существования и «неотрайбалист- ской модели» отвечает самым крайним антропологическим трендам. Общая направленность этих трендов встречает позитивное отношение философа; но, в отличие от Делеза, он не просто приемлет эту направленность, а стремится «оседлать тигра», оказывать на антропологические и социокультурные тренды учительное влияние и воздействие.
Еще иного рода — позиция синергийной антропологии. В первую очередь, ее характер определяется тем, что в ее распоряжении — хотя и набросанная в беглых контурах, но полная дескрипция типов предельного антропологического опыта, а отсюда и парадигм неучастняющей конституции человека. Обозревая эту антропологическую панораму, синергийная антропология не может не заметить в ней определенный выделенный пункт: топос Личности. В истоке его создания — простое открытие: единственный способ актуального отличия от небытия — Личность. Не станем подробно обсуждать этот тезис, хотя данная выше характеризация Личности посредством парадигмы перихорезы и концепта «личного бытия- общения» еще отнюдь не вполне обосновывает его. Разве что заметим, что имперсональная динамика природного космоса заведомо не конституирует иного небытию онтологического горизонта; современная наука, квантовая теория поля и космология, ярко показывает, как эта динамика описывает взаимопревращения сущего и не-сущего, которые вкупе сополагают единый онтологический способ и горизонт. Далее, онтологическая выделенность Личности имплицирует антропологическую выделенность тех стратегий Человека, в которых он так или иначе ставит себя в связь с Личностью.
И наконец, в кругу стратегий такого рода особое, выделенное место занимает стратегия максималистская — та, что, не мудрствуя лукаво и будучи движима неким непосредственным импульсом, выдвигает своей (транс-)целью актуальное претворение в Личность, «обожение». Абсолютно иной, следующий вопрос — возможно ли это? Не есть ли такая стратегия лишь иллюзия, абсурд, безумие? Прежде чем отвечать на этот вопрос о стратегии, стоит констатировать определенные качества ее телоса: независимо от своей достижимости, такой телос есть подлинное исполнение человека в бытии, в онтологическом способе совершенного бытия-общения, и как таковое — действительно, максимальный, самый высокий замысел Человека о себе. Коль скоро определяющее свойство Личности — актуальная онтологическая отличность от небытия, то этот телос предполагает и некоторое радикальное претворение отношений Человека с началами небытия, ничто, смерти. Его глубокая связь с этими отношениями отражается и на движущем импульсе обсуждаемой стратегии: как мы показываем
[129], ее порождающим истоком выступает «первоимпульс неприятия смерти», входящий в основоустройство конечности человека.
Очевидным образом, эта максималистская стратегия — не что иное как духовная практика (ориентированная к личностному телосу). Наши разъяснения отчетливо раскрывают ее онтологические истоки и показывают ее выделенность во всем многообразии антропологических стратегий. Это усмотрение выделенного положения определенной стратегии человека — отличие синергийной антропологии в кругу современных антропологических проектов; в том числе, и отличие от проектов Делеза и Фуко. Позиция синергийной антропологии в проблемах оценки антропологической ситуации и выбора стратегий человека формируется с учетом и в свете вы- деленности топоса Личности в онтологическом аспекте и парадигмы духовной практики в антропологическом аспекте.
Это означает, прежде всего, что, анализируя антропологическую ситуацию и ее тренды, мы задаем дополнительный вопрос об их связи с топосом Личности и с основоустройством Онтологической топики Антропологической Границы. Известный ответ, что эта ситуация отвечает началу доминантности Виртуального Человека, а ведущие тренды — углублению этой доминантности, здесь далеко еще не достаточен. Как мы выше упоминали, духовная традиция порождает в социуме некоторый «примыкающий слой» вокруг себя — слой, для членов которого мир духовной практики служит ориентиром в их воззрениях, установках, поведении. Поэтому основоустройство Онтологической топики включает в себя не только духовную практику и духовную традицию как таковые, но и обширный круг стратегий и практик, «примыкающих» к духовной практике, т. е. ориентирующихся на нее и в самой разной мере усваивающих самые разные ее элементы. (Весь этот круГпока еще почти не описан и не изучен.) Доминантность же какой-либо иной топики Границы не означает, разумеется, совершенного исчезновения ни духовной традиции, ни ее примыкающего слоя. Равным образом, ведущие тренды нисколько не исчерпывают всех тенденций и потенций, заложенных в ситуации, и в высокоподвижной антропологической реальности они способны легко меняться и сменяться другими. При всей определенности и даже, в известной мере, прогнозируемости крупных черт и тенденций ситуации Человека, в развитии этой ситуации заведомо нет предопределенности. В круг формирующих ее факторов входят воля человека, его свобода, и в той или иной мере, она всегда остается пластичной и доступной воздействию. И в силу этого, ничуть не предопределена и судьба основоустройства Онтологической топики.
В свете сказанного уясняются и принципы, формирующие позиции синергийной антропологии. Ее анализ антропологической ситуации должен быть более пристальным, направленным не на одни лишь новые и главенствующие черты, но и на те еще сохраняющиеся элементы, что так или иначе причастны к Онтологической топике. Данные анализа, выводимые оценки и рекомендации должны относиться не только к ведущим трендам, но и к этим элементам, к перспективам их существования. Следует анализировать возможности их усиления, расширения, изобретения новых подобных элементов (как Фуко призывает к изобретению новых способов удовольствия). Практики Человека не могут не быть «современны» ему — но кто сказал нам, что в самых современных практиках нельзя открыть, и освободить, и развить некие ресурсы примыкания, которые дали бы возможность не утерять нашей связи с Личностью! Сегодня залог сохранения этой связи — в способности творческой культивации человеком его личностных измерений, тех, в которых он выступает как существо, ориентированное к Личности. Нет и не может быть никаких гарантий этого сохранения; напротив, сегодня оно в большой опасности. Безусловно ясно: культивация личностных измерений, заинтересованность в судьбе основоустройства Онтологической топики — в судьбе человека как существа, способного стать Личностью, — исключает безоглядное доверие к сегодняшним ведущим трендам — ведущим к эвтанасии Человека, к киборгам и мутантам (эвфемически называемым «реваншем кремния и геноцепочек»), к распределению всего человечества по меньшинствам, будь то наслаждающимся или иным. Здесь наши расхождения с проектами Делеза и Фуко радикальны.
Как мы могли убедиться, в проекте Фуко также присутствует особо выделяемый род практик человека. Фуко ставит в центр «эллинистическую модель» практик себя, находя эти практики вершиной западной культуры себя, считая их сохраняющими ценность и для современного человека и даже утверждая возрождение заключенной в них этики «задачей насущной, главной, политически необходимой» (278). Выше мы достаточно говорили о корнях и мотивах этого предпочтения философа, его, по собственным его словам, «страсти» к эллинистической культуре себя. Сейчас, в заключение, время задать другой вопрос: можем ли мы здесь пойти за Фуко, присоединиться к его предпочтению и выбору.
Вспомним, прежде всего, что сам философ неоднократно, во многих темах отмечает явную недовершенность философских позиций эллинистических практик себя, недоопределенность и не- додуманность в них самых ключевых вопросов о человеке. В таком положении остается даже вопрос о смысле и назначении человеческого существования, о том, «к чему же боги готовят человека»: как замечает Фуко, «очень трудно было бы найти у Сенеки законченную теорию на этот счет… для Сенеки эти вопросы не были главными» (483). Не ставится и другой коренной вопрос, этический: «что представляет собой деление людей на добрых и злых», является ли оно врожденным и предопределенным, существует ли воздаяние и т. п. — «Ни Сенека, ни Эпиктет… не ищут всерьез ответа… Оба вопроса были странным образом обойдены стоиками» (483–484). Аналогичная недодуманность отмечается и в столь важном пункте эллинистической субъективации как определение того «отношения себя к себе», которого стремятся достичь практики себя: «В эллинистическом и римском мышлении так и не было выяснено… представляет ли собой “себя” (le soi) что-то такое, к чему возвращаются, потому что оно уже имелось заранее, или это цель, которую надо перед собой поставить и которой можно в конце концов достичь… Будет ли “себя” той точкой, куда возвращаются после долгой аскезы и философской практики? Или это непрестанно маячащая перед глазами цель…? Здесь… перед нами случай фундаментальной нерешенности» (240), — и притом эта нерешенность касается самого конституирующего телоса практики себя. Перечень таких философских «нерешенностей» нетрудно продолжить; однако важней указать, что подобные же моменты неполноты, не- довершенности мы обнаруживаем и в других аспектах.
Фуко (во взглядах которого — заметный след французской антирелигиозной традиции) не без удовлетворения констатирует религиозное безразличие той среды, где культивируется «эллинистическая модель». В практиках себя, входящих в эту модель, вся религиозная проблематика в стороне, и религиозный опыт беден и неглубок. Тема спасения в них присутствует, но спасение осмысливается не в религиозном, а в философском дискурсе: оно «функционирует как философское понятие в своем собственном философском поле… В понятии спасения, какое мы находим в эллинистических и римских текстах, нет ничего, что имело бы отношение к таким вещам, как смерть, бессмертие или загробный мир» (208). Гро отмечает специально: «Фуко подчеркивает равнодушие римских стоиков к вопросам загробной жизни»
[130]. И сами духовные упражнения в этих практиках себя «не были нацелены на то, чтобы распознать в себе божественное начало» (456), тем паче — чтобы достичь открытости, размыкания себя навстречу этому началу. В итоге, религиозное измерение «эллинистической модели» нельзя не признать совершенно недоразвитым.
Наконец, глубина и фундаментальность само-преобразования человека в практиках «эллинистической модели» критически зависят от ее ключевой особенности, важной для Фуко и усиленно им подчеркиваемой: от сохранения во всех этих практиках неприкасаемого ядра «себя» — ядра, которое не подлежит ни изменению, ни анализу, «расшифровке». Такая особенность влечет целый ряд следствий. С «неприкасаемым ядром» связана определенная сфера опыта человека, которая, стало быть, изымается, исключается из работы понимающего узрения и преобразования себя. Опыт себя артикулируется не полностью и не со всей глубиной, его проработке и рефлексии ставятся некие ограничения. С этим тесно связана и вышеотмеченная недоопределенность телоса практик себя, неясность его природы и статуса. Понятно также, что при таких изъятиях и ограничениях, опыт этих практик принципиально не может быть опытом духовной практики, опытом восхождения и размыкания человека к онтологически Иному: ибо подобный трансцендирующий опыт затрагивает и трансформирует, вовлекает в работу самопретворения всю полноту антропологической реальности, все уровни человеческого существа, не оставляя в человеке никаких закрытых областей, незатрагиваемых анклавов. Вследствие этих же ограничений, данный род опыта заведомо не является опытом, дающим полное выражение определенной «природы» и, соответственно, он не может обладать органоном, его методология не может быть до конца философски фундированной. И все эти свойства — одного рода, они выражают весьма ограниченный уровень внутренней организации опыта, его рефлексивной проработки и эпистемологической обеспеченности
[131].
В итоге, в философском, религиозном, антропологическом аспектах эллинистическая модель практик себя равно демонстрирует некий недоделанный и недодуманный характер, демонстрирует качества мысли, не доходящей до конца, до полноты проработки своего предмета — человека, «себя». Она опирается на недостаточно зрелый, недостаточно глубокий опыт «себя». Человек оставляет здесь без ответа многие существенные вопросы о себе, он отказывается разбираться с собой во всем объеме и полноте своей наличной данности. Его понимание и преобразование себя не распространяется на некоторые сферы «себя», его отношения с собой не достигают последней глубины. И всё это влечет однозначный вывод: эта модель, несовершенная и как бы незаконченная в стольких отношениях, могла быть лишь принципиально «временной», промежуточной формацией практик себя. В значительной мере, этим и объясняется та ее историческая судьба, на которую сетует Фуко, — ее позднейшая заслоненность соседними моделями, платоновской и христианской. Дальнейшее продвижение, следующий шаг в отношениях человека с самим собой были необходимы и неизбежны. Рождение какой-то новой формации практик себя, где бы проработка человеком себя — своего сознания, своей субъектности — не останавливалась ни на каких рубежах, но стремилась дойти до конца, до исчерпывающей полноты, вбирающей все содержание «себя», — было императивом логическим и духовным.
Духовная практика и представляет собой эту новую формацию. Именно духовная практика, как она описана нами, а отнюдь не то, что представлено у Фуко под именем «христианской модели» или «христианской аскезы». К трактовке христианской аскезы у Фуко мы вернемся вскоре, а сейчас констатируем, что в духовной практике человек действительно додумал и доопределил себя до конца, до собственных пределов — включительно. Максималистское задание актуальной онтологической трансформации имеет своим необходимым условием глобальный и тотальный пересмотр себя (герменевтику, экзегезу, расшифровку и т. п.) и исчерпывающее, всецелое преобразование себя. Подобная же практика, в свою очередь, требует иного типа субъектности, она может исполняться только новым «субъектом первого лица». Этот субъект никак уже не «ансамбль безличных сил», он связан с горизонтом личного бытия-общения и им полагаем. Переход к новому типу субъектности отражается, в частности, в той инверсии ролей, которую отмечает Фуко в своем анализе парресии: если старого «себя» конституировали «истинные речи» Учителя, то аскета в духовной практике конституирует внеположный исток, размыкание к которому осуществляется с помощью собственной его «истинной речи». «Субъект первого лица» выстраивает свое личное и уникальное отношение с Богом, и для этого он должен сам, и предельно полно, артикулировать свой опыт. Достигается же это, как мы видели, в «личном общении по поводу опыта», которое учреждают духовная традиция и ее органон.
Духовная практика, о которой мы здесь говорим, есть исихастская практика — именно та, представителем раннего этапа которой был Иоанн Кассиан. В своей полной и зрелой форме, эта практика образует основу, стержень Восточно-христианского дискурса; на Западе же дело св. Иоанна Кассиана не было продолжено и исихазм здесь отнюдь не укоренился. Напротив, как мы уже говорили, ключевая исихастская концепция синергии была здесь осуждена, а исихастская практика и исихастское энергийное богословие
были резко отвергаемы вплоть до недавнего времени. Фуко строит «историю западного субъекта», его практик себя, — но в качестве «христианской модели» включает в эту историю христианскую аскезу по Кассиану. Его выбор не только понятен, но даже, в известном смысле, оптимален: Кассиан подвизался на Западе и писал по латыни; но в то же время, он принадлежал к исихастской линии, именно в лоне которой создавались цельная практическая антропология и «герменевтика субъекта». Здесь был богатый материал, которым философ и воспользовался с виртуозностью (можно вспомнить опять «Битву целомудрия»). Но при этом аскеза Кассиана отрывается от своего действительного контекста, происходит смешение и дезориентация между духовностью христианского Запада и Востока. Вдобавок, хотя анализируется один Кассиан, но то, что строится на базе анализа, притязает быть «христианской моделью практик себя», реконструкцией христианской аскезы как таковой. И можно сразу сказать, что эта претензия несостоятельна: не только оттого что Кассиан — лишь единичный автор, и не из ряда крупнейших столпов традиции (каковы Евагрий, «Макариев корпус», Исаак Сирин, Иоанн Лествичник), но и оттого уже, что это — автор раннего этапа традиции, когда множество важнейших элементов ее органона еще не успели сформироваться.
Отрыв от истинного контекста ведет и к прямым искажениям, ошибкам. Кассиан и практики, им описываемые, — часть духовной традиции, специфического явления, конституируемого задачей строго тождественного, с подлинным верного хранения и воспроизводства опыта онтологического восхождения человека к Личности. Этим конституирующим заданием определяются все частные задания и стороны жизни традиции, и лишь в свете него они могут быть верно поняты. Единственно корректный принцип герменевтики явлений духовной практики есть принцип истолкования в свете телоса практики и ее органона. Это истолкование осуществляет локализацию явления по отношению к лестнице духовно-антропологического процесса практики. Однако трактовка христианской аскезы у Фуко не имеет с этим принципом ничего общего. Все базовые понятия, что образуют необходимый каркас для понимания исихастской аскезы — в частности, аскезы Кассиана — у него попросту отсутствуют, включая даже основоположную ступенчатую парадигму,
идею о том, что аскетическая практика имеет структуру лестницы, ступени которой восходят от обращения и покаяния к синергии и обожению. Сюда же добавляется полное неупоминание Христа и молитвы, роль которых в аскезе поистине невозможно преувеличить. Отсутствие общего образа явления в его целом, вкупе с отмеченной только что узостью феноменальной базы, ведет к тому, что в орбите анализа Фуко оказывается лишь набор из немногих разбросанных обрывков явления; и отсутствие представления о живом целом, которому они принадлежат и из которого осмысливаются, ведет к их неверным истолкованиям.
Конечно, в концепции Фуко всякая практика себя целенаправленна, и ее цель определяет собой многие особенности процесса практики: неоспоримое положение, аналогичное тезису о конститутивноести телоса духовной практики. Но в случае «христианской модели», эта цель, как постоянно утверждает Фуко, заключается в «полном отказе от себя», и соответственно, путь к ней — не что иное как череда нарастающих отказов от всё новых и новых содержаний, частей «себя», неуклонно продвигающаяся к совершенному самоотречению и самоопустошению. Странно читать всё это — настолько это неверно, в силу сразу многих и самых неопровержимых причин. Я ограничусь всего двумя. Главное и уже достаточное — что утверждение Фуко с подлинным неверно, и кричаще неверно. Обычно он делает его голословно, а в лучших случаях — полуголословно: он демонстрирует наличие «отказа от себя» в начале практики, в покаянии, но никогда не показывает основного — серии отказов, продолжающейся во всем ходе практики и достигающей апогея на ее высших ступенях. Этого и нельзя показать, ибо этого нет. Высшие ступени исихастской лестницы почти отсутствуют в дискурсе Кассиана, в его время они еще были мало освоены; а что до Фуко, то его тексты оставляют впечатление, что он попросту ничего не знает о них, включая названия. А между тем, здесь-то и разыгрывается самое уникальное, что выделяет духовную практику, как онтологическую практику, из всех прочих. Как мы видели, здесь начинается спонтанное созидание-порождение новых антропологических энергоформ, реальное существование которых удостоверено корпусом обильных свидетельств опыта и отрефлек тировано в богатом аскетическом и богословском дискурсе. Формирование человеком «умосердца» и онтодвижущего сцепления лрооохч — лроасухц, генерация «умных чувств» и еще многое другое — в свете этого личностного строительства, рядом с которым упражнения стоиков, по Чехову говоря, как ремесло плотницкое супротив столярного, — что же можно сказать об утверждении Фуко? Лучше ничего не говорить. Но мы все же собирались указать и вторую причину вопиющей неверности этого утверждения.
Вот что непонятно и странно: парадигма последовательного отказа от себя (углубляющегося демонтажа, растворения, разравнивания личностных структур, развоплощения, самоопустошения и т. д. и т. п.), которую Фуко приписывает христианству, исконно известна религиозно-философской мысли и прочно связана с определенным, вовсе не христианским типом мистики и мистических практик. Как не может не быть известно философу, эта парадигма в точности соответствует хаплозису, «опрощению» неоплатоников и явным образом присутствует в имперсональных дальневосточных практиках (где особо ярко, пожалуй, выражена в даосизме). Христианство — попросту на другом полюсе от этого! Христианин в своей духовной жизни — в частности, исихаст в практике аскезы — устремляется не к Великой Пустоте, а ко Христу, и его устремление реализуется в стихии личного общения, которое ищет углубиться до бытия-общения, перихорезы. Процесс практики здесь — в элементе обретения, а не утраты, строительства, а не растворения себя. Даже необходимый исходный отказ от себя означает не утрату идентичности и непрерывности личного сознания, но их потенцирование, как сказал бы Кьеркегор: «Петр остается Петром, Павел — Павлом и Филипп — Филиппом; каждый, исполнившись Духа, пребывает в собственном своем естестве и существе»
[132]. Так говорит исихастская классика 4 в., и в 20 в. традиция выражает идентичный опыт: «Внутри кающегося раскрывается Персона-Ипостась… Ипостасное начало в нас актуализуется»
[133]. Там же, где Фуко читал свой курс, в Париже, вышла и стала широко известна во Франции книга Вл. Лосского, объяснявшая, что в христианской аскезе «человеческие личности отнюдь не вовлечены в какой-то процесс, который упразднял бы свободу и уничтожал бы самые личности»
[134]. Этих цитат достаточно, чтобы оценить позицию Фуко по достоинству.
На фоне общей несостоятельности этой позиции, освещение в ее рамках отдельных тем становится не так уж важно. Как мы помним, одна из главных таких тем у Фуко — покаяние, при анализе которого база источников почти целиком исчерпывается трактатом Тертуллиана «О покаянии». Не обсуждая лишний раз драстическую узость базы, заметим другое: этот единственный источник выбран как нельзя хуже, если явление берется как практика себя, и задача его анализа — раскрытие антропологии и субъектологии покаяния, структур и процессов в кающемся сознании. И дело не только в ранней дате источника, в силу которой он не имеет отношения ни к христианской аскезе (еще не родившейся), ни к зрелой сложившейся культуре христианского покаяния. Еще существенней то, что Тертуллиан, гениальный стилист и ритор, блестящий апологет, — всего лишь грубый и поверхностный знаток духовнодушевной стихии, никак не открыватель глубин сознания. Что есть кающееся сознание, этого он и не желал раскрывать, а если бы пожелал — не смог. Так пишет о нем и о его покаянном трактате чуткий и глубокий духовный писатель, историк Церкви о. Сергий Мансуров: «Гениальный писатель оказался неглубоким христианином… Поражает, прежде всего, несоответствие между суровыми требованиями “духовности”… и тем, что говорит он о положительном содержании духовной жизни. Больше всего и красноречивее всего он говорит только о внешней оболочке этой жизни… как будто в ней-то и сущность дела… Как бледно то, что сказано в сочинении “О покаянии” о внутреннем возрождающем действии покаяния. Здесь есть понукание к покаянию… но нет ни описания его сущности, ни ее раскрытия»
[135]. Мансуров расценивает трактат как «неудачный и неглубокий опыт», где автор обнаружил «бессилие в изображении внутренней христианской жизни». Как ясно из сказанного, трактовка Тертуллиана, выдвигающая вперед одни «суровые требования» и «понукание», чрезвычайно подходит к образу «христианской модели» у Фуко — и этого оказывается для него достаточно, чтобы «неудачный и неглубокий» текст, где «нет ни описания ни раскрытия сущности покаяния», был бы положен им в основу его собственной концепции покаяния.
Удивительно, что при этом, вопреки своему источнику, концепция Фуко все же не оказалась слепа к сущности покаяния как онтологического события, фундаментального выбора онтологически альтернативной антропологической и мета-антропологической стратегии. Эту онтологическую природу события философ передает ярко и выразительно: «В этой христианской μετάνοια, — в этом внезапном, драматическом, происходящем внутри истории и вместе с тем надысторическом обрушении субъекта — вы имеет дело с переходом: переходом от одного типа бытия к другому, от смерти к жизни, от конечного бытия к бессмертию, от тьмы к свету, из царства дьявола в царство Божие и т. д.» (237–238; мы позволили себе процитировать вторично этот отличный текст). И тем не менее, многочисленные ошибки в его трактовке покаяния были совершенно неизбежны. Укажем для примера одну из наиболее важных. Настойчивый лейтмотив аскетического дискурса — необходимость непрестанного покаяния. Она связана сразу со многими ключевыми свойствами исихастской Лестницы (само существование которой игнорируется у Фуко). Достаточно сказать, что энергий- ная природа аскетического восхождения диктует необходимость непрекращающегося усилия, «делания», которое на каждой своей ступени сохраняет, воспроизводит в своем составе все предшествующие ступени. Поэтому «двадцать четыре часа дня и ночи имеем мы нужду в покаянии»
[136], — наставляет авторитетнейший учитель аскезы. В противоположность этому, Фуко отождествляет «смысл, который привнесен христианами» в понятие покаяния, со смыслом, придаваемым покаянию у позднего пифагорейца Гиерокла
[137], который раскрывает покаяние формулой «приготовление к жизни без угрызений». Варьируя эту формулу, Фуко говорит, что христианское покаяние «открывает доступ к жизни, где уже не будет места раскаянию» (242). Но это неверно в корне. Жизни, о которой тут сказано, не существует для христианина, и покаяние открывает ему доступ никак не к ней, а к Лестнице восхождения, где ему предстоит блюсти покаяние «двадцать четыре часа дня и ночи».
Далее, стоит в заключение еще раз коснуться не раз затронутой уже исторической и компаративистской темы об отношениях эллинистической и христианской формаций практик себя. Представляя «христианскую модель» в разделе I, мы заметили, что на принципиальном уровне тема решается у Фуко просто и однозначно: все находимые элементы общности и совпадения двух формаций интерпретируются им как заимствования, которые делались христианством. Но, как мы только что убедились, христианские практики себя выработали кардинально новую парадигму духовной практики, фундаментальные принципы и основания которой — онтологическое восхождение к Инобытию как Личности и полный органон опыта восхождения — было заведомо неоткуда заимствовать, они могли быть только чистыми открытиями. На этих основаниях возникала новая, неведомая античному человеку антропологическая процессуальность и выстраивался отвечающий ей новый антропологический контекст, куда ничего сколько-нибудь существенного невозможно было просто заимствовать, то бишь «принести со стороны и начать использовать». Неизбежно и несомненно, мир духовной практики имел немалые элементы общности со множеством явлений античной духовности и культуры себя; но телос Личности и христоцентрический контекст, которые определяли всё в этом мире, категорически исключали простую трансляцию таких элементов, вынуждая для каждого из них находить некую уникальную переплавку. Классический, парадигмальный пример такой переплавки — рождение Ипостаси из двух неожиданных, взаимно чуждых слагаемых, «первой сущности» Аристотеля и «личины», лрбосолоу, не входившей вообще в философский словарь. В горниле накопленного уже опыта Личности, оба слагаемых изменились неузнаваемо, вкупе став Личностью-Ипостасью, понятием не только нового содержания, но и нового рода, которое, родившись, само стало основанием нового рода дискурса, догматического богословия. Этот аутентично христианский дискурс, развивавшийся с 4 в. при решающем участии опыта Соборов, дал христианской мысли собственную почву, собственный язык, строй и собственные критерии, на базе которых развернулся глобальный пересмотр всех обширных заимствований (лишь тут это слово к месту!), что были сделаны из античной философии в раннюю эпоху. Судьба наследия Оригена — лучший пример того, сколь глубок и строг мог быть этот пересмотр; но Фуко, говоря о христианских заимствованиях, обходит полным молчанием даже сам факт его.
Что же до практик себя, то становящаяся исихастская практика обнаруживала моменты близости к стоическим практикам себя, поскольку им были присущи интегральное видение человека и тенденция к организации опыта самопреобразования в связную систему упражнений; обнаруживала моменты близости и к неоплатоническим практикам, ибо в них воплощалось онтологическое видение человека (хотя и отвечающее иной онтологии). Но в то же время, конститутивные элементы этой практики, телос Личности и христоцентрический контекст, выступали как два фундаментальных фактора, что полностью обеспечивали ее творческую самостоятельность, ее преобразующую, переплавляющую силу по отношению ко всем явлениям, вбираемым в ее организм. В итоге, какую же модель отношений правильно будет здесь увидеть? Нас занимает сейчас антропология, история же — лишь как история отношений человека с самим собой; и, оставляя в стороне все прочие измерения, мы можем говорить о творческой преемственности антропологических проектов. Мы видели, что «эллинистическая модель» во многих существенных моментах несет качества незавершенности; в то же время, в духовной практике достиг полноты, получил окончательную форму определенный тип практик человека и определенный подход к конституции человека. Это дает возможность видеть в духовной практике своего рода «исполнение-трансцендирование» античных практик себя. Взгляд в ретроспективе позволяет увидеть, что многие антропологические открытия духовной практики, такие как органон опыта, углубленные формы общения, могут быть замечены в лоне античных практик себя как зарождавшиеся потенции. В духовной практике эти потенции достигают полноты раскрытия, обретают зрелую форму, которой было невозможно предугадать, — и, разумеется, это их исполнение-трансцендирование безмерно далеко от заимствования. Но отношения творческих миров глубоки, многомерны; в них находится место и чистейшим заимствованиям (не особо важных деталей), и прямой противоположности установок, и идейной враждебности… И, к сожалению, этой глубины, масштабности и драматичности отношений никак не передает реконструкция «христианской модели» у Фуко с ее упрощенческой речью о «заимствованиях».
Однако несправедливо было бы, проводя оценку «христианской модели», не упомянуть снова и ее бесспорный успех — «блестящее эссе» (Питер Браун) с анализом блудной страсти. Как исследователь блуда Фуко демонстрирует самую высокую компетенцию и скрупулезность.
В итоге всего, у нас вырисовывается до обидного простая и даже, многие скажут, примитивная рецепция проекта Фуко. Идея практик себя — в ее адрес у нас не найдется ничего, кроме самой почтительной хвалы: по нашему убеждению, эта идея, революционная по отношению к классической антропологии, — до крайности актуальна, замечательно богата и необычайно перспективна. Помимо того, для синергийной антропологии она составляет в высшей степени ценное соседство. Однако на ее воплощение наложил свою сильную печать сторонний, нефилософский фактор: воинствующий и распалённый гомосексуализм Фуко. Имплицитно, он повлиял на антропологические позиции философа, на многие его историко-культурные предпочтения и оценки; а эксплицитно и совершенно прямо — на предлагаемые им современные антропологические стратегии. И те, и другие влияния, на наш взгляд, далеко не были философски благотворны.
III. Куда ж нам плыть?
Не вызывает сомнений, что наше сравнительное обсуждение двух антропологических проектов, при всех найденных расхождениях, в крупных чертах показывает их сходными и соседствующими, какими они и казались на первый взгляд. Иначе не могло быть: слишком велика та почва сходства и близости, что заложена уже в совпадении исходной позиции, в решении взять базовым концептом антропологического дискурса — антропологические практики. В этом решении крылась принципиальная установка, принимающая, что Человек конституируется в своих определенных практиках, и данная установка изначально намечала для антропологического дискурса новое русло, отличное от известных типов антропологии. Возникающая парадигма конституции человека влекла отказ от классической эссенциальной антропологии Аристотеля-Декарта- Канта; опора на практики человека означала уход от концептуальных систем философской антропологии, от всего ее русла; в то же время, концепция антропологических практик не совпадала и с любыми версиями «деятельностного подхода», развивавшегося в нео- и пост-марксистской мысли; и т. д. В исходную позицию входило и указание опорного класса практик, способных конституировать человека. Этот класс выделялся однозначно: в него включались практики, в которых человек занимался целенаправленным преобразованием самого себя, — практики аутотрансформации, как я называл их, или же практики себя, в терминологии Фуко; найдя термин Фуко более кратким и удачным, я также принял его.
Финальные цели обоих проектов связываются с современностью; главной необходимой задачей виделось понимание сегодняшнего человека и определение его стратегий. Однако «практическое» направление должно было сформировать свои основания — определить свою феноменальную базу, развить методы, построить концепты. Оба проекта констатировали, что человек Нового Времени, в основном, пренебрегал практиками себя; и, таким образом, феноменальную базу для изучения конституирующих практик человека могли доставить лишь более древние эпохи. Возникающее направление приобретало специфическую двояко-ориентированную структуру: оно должно было выделить в истории и исследовать некоторую формацию антропологических практик — с тем, чтобы на базе этих практик развить новую неклассическую антропологию, дающую понимание антропологической ситуации наших дней. Как мы видели, эта двунаправленность, к древности и к современности, за счет которой древние практики становятся источником новых понятий и идей, продвигающих к решению сегодняшних антропологических проблем, — общая характерная черта обоих проектов. Также оба проекта прослеживают и историческую последовательность антропоформаций, типов субъектности, определяемых типами практик себя. Но далее уже следуют кардинальные различия, только что обсуждавшиеся. Если проект Фуко избирает своей феноменальной базой практики себя поздней языческой античности, то синергийная антропология ставит в центр онтологическую парадигму конституции, размыкание человека в бытии — и, соответственно, делает основой своей феноменальной базы практики, осуществляющие подобное размыкание, — духовные практики. Отсюда проистекает целый спектр дальнейших различий и расхождений, самой разной глубины и остроты.
К каким задачам нас обращает эта картина? Что дальше? Конечно, оба проекта имеют далеко еще не исчерпанные потенции, имеют и свою проблематику и будут, по всей вероятности, развиваться, разрабатывая ее. Но наше совместное рассмотрение их побуждает задать более широкие вопросы — вопросы о проблемах и перспективах всего направления, которое в этих проектах сформировалось. Каков основной достигнутый опыт этого направления, этого типа антропологии, радикально неклассической, бес- сущностной и бессубъектной? Куда и как это направление может или должно продвигаться?
Что касается опыта, то я бы его кратко охарактеризовал как опыт нового антропологического ландшафта. Опыт Человека, антропологической реальности приобрел совершенно иной характер. Прежде, в старое доброе время, это был опыт определенного существа, которому мысль о человеке все подбирала подходящие имена: смертный? субъект? личность? индивидуум? — и всё решала, какие свойства непременно входят в его сущность. Сегодня же наш опыт обнаруживает антропологическую реальность как некий странный ландшафт, в котором разбросаны во множестве причудливые пост-субъектные антропоструктуры: «модусы существования», «сценарии субъективации», «топические энергоформы»… Философия Делеза тоже формирует этот ландшафт, занимая его крайний фланг своими уже совершенно расчеловеченными тополого-физическими силовыми образованиями. Можно заметить, что ландшафт еще не совсем полон, вклад синергийной антропологии должен включать антропоструктуры, отвечающие не только трем топикам Антропологической Границы, но также и примыкающим стратегиям и практикам человека; и эти последние, весьма существенные для развития ситуации, предстоит еще описать. На месте человека, пред нами — в высшей степени пестрое собрание, все сочлены которого, несомненно, представляют собою нечто, «относящееся к человеку», но столь же несомненно, далеко не составляющее того полномерного и полновесного человека, каким было прежнее существо; вместо одного целостного существа, явился обширный набор частичных формаций.
Но дело отнюдь не только в частичности формаций, их урезанное™ до разных и странных очертаний. В любой из новых антропоструктур мы не только не обнаруживаем многих привычных предикатов антропологической реальности, но и находим в драстически изменившемся виде оставшиеся основные предикаты. Процесс бурных изменений захватил всю сферу отношений человека со своим телом, и характер процесса свидетельствует об остром кризисе этих отношений. Человек переживает дезориентацию: как вдруг ему стало ясно, он не знает, перестал знать, что значит для него его тело, и принялся отыскивать заново смысл своей телесности, проводя ее через предельные испытания — подвергая разъятию, культивируя все виды экстремальных телесных практик (к чему активно причастны и многие радикальные течения в новейшем искусстве). Возникает новая культура перцепций, перестройка отношений модальностей восприятия, кардинальное возрастание роли слуховой модальности и т. п. Некоторые из новых «модусов существования» ориентируются на перестройку сознания, измененные (разнообразными техниками, с химией или без) состояния сознания; в других предикаты обычного модуса подвергаются виртуализации. Особо следует упомянуть изменения, идущие или назревающие, подготавливаемые на уровне биологических оснований человека — внедрение новых способов биорепродукции, манипулирование генетическим материалом, клонирование и проч. — ибо здесь масштаб изменений потенциально неограничен, до исчезновения Человека как вида включительно.
Наконец, один новый модус требует отдельных слов. Требует потому, что он не столько новый (хотя и новый!), сколько самый древний, строящийся на базе одного из фундаментальных антропологических отношений, отношения со смертью. В большинстве новых антропоструктур это отношение испытало глубокую перемену. Здесь тоже совершилась плюрализация, смерть перешла из статуса «жребия Человека», единственного, универсального и лежащего вне сферы собственной активности человека, — в разряд сценарных сюжетов, предметов для собственного решения и экспериментирования. Делез и Фуко оба активно утверждают право на самоубийство — оно для них sine qua non, из круга неотчуждаемых прав человека
[138]. Оба они развивают тему апологии суицида, связывая ее с центральной проблемой субъективации и ассоциируя с суицидом особый модус существования. Но этот модус у них рисуется несколько по-разному. По Делезу, «линия внешнего», воплощаемая в практиках власти, «возможно, движется к смерти, самоубийству»; однако субъективация (в дискурсе Делеза, «операция, образующая складку на линии внешнего») открывает «единственный способ противостоять этой линии и даже оседлать ее». И когда человек выстраивает модус существования, способный оседлать движение к смерти — «самоубийство может стать искусством, для которого потребуется вся жизнь»
[139]. В своей основе, такая идея самоубийства — простая вариация на тему «забегания (Vorlaufen) в смерть» в «Бытии и времени», однако инструментовка идеи у двух мыслителей весьма различна: хотя в обоих случаях звучит явный мотив героизации смерти, но Хайдеггер, еще молодой и влюбленный в Ханну Арендт, специально предупреждает, что в «забегании» человек максимально далек от всякой тяги к эмпирической смерти. — В отличие от этого, у Фуко суицидный модус существования выстраивается не в ключе суровой героики, а в ключе наслаждения. Его основной текст на эту тему — лирический этюд, воспевающий суицид, под манящим названием «Такое простое удовольствие». Название — не просто манящее, но знаковое: в дискурсе позднего Фуко, «удовольствие» — верховный принцип его антропологической утопии, и включение суицида в категорию удовольствий значит, что философ отводит ему свой модус субъектности и свою субкультуру, равноправно входящую в ансамбль субкультур «эстетики существования». Вот некоторые установки этого модуса, открыто спорящие с платоновской догмой о философии как научении смерти: «Меня слегка раздражают премудрости, сулящие научить умирать, и философии, толкующие, как надо об этом мыслить. Мне безразлично, что нам воспрещается “подготавливать это”. Ее нужно готовить, обустраивать, мастерить по кусочкам, рассчитывать и подбирать наилучшим образом ингредиенты, воображать, выбирать, советоваться, трудиться над ней, чтобы создать из нее произведение без зрителя, существующее для меня одного кратчайшую секунду жизни… У нас есть шанс заполучить в наше распоряжение этот абсолютно уникальный момент… чтобы сделать из него безмерное удовольствие, терпеливая подготовка которого осветит всю жизнь»
[140]. И надо, пожалуй, еще добавить, что здесь, в сфере отношений со смертью, значащими факторами в сегодняшнем антрополандшафте являются не только тексты Фуко и Делеза, но и их личные судьбы. Эти судьбы — суицид, смерть от СПИДа — органично входят в этот ландшафт, ибо это не судьбы «субъектов», а реализации принадлежащих обоим философам способов субъективации или, если воспользоваться формулой Фуко (которая стала уже избитой, применяясь всеми к нему самому), — их жизни как произведения искусства. По нешуточной актуальности, а не виртуальности исполнения — скорее модернистского искусства, нежели постмодернистского.
И у Делеза, и у Фуко тема занимает достаточно серьезное место, чтобы требовать «оргвыводов». Налицо их общая (в крупном и основном) философская позиция, имеющая и свою историю в западной мысли. Суицид проповедовал философ Киренской школы Гегесий, прозванный «Учителем смерти». Хотя он имел успех и собрал целый круг последователей-«гегесианцев», сегодня его проповедь можно было бы считать забытой, если бы не его появление на страницах, которые читали и перечитывали поколения французских интеллектуалов. В «Искушении святого Антония» Флобера Смерть говорит: «Философ Гегесий в Сиракузах так красноречиво проповедовал меня, что люди покидали лупанары и бежали в поля, чтобы повеситься». Учение Гегесия ненамного старше изучаемых Фуко эллинистических практик себя; и уже по нашей цитате из «Такого простого удовольствия» ясно, что позиция Фуко (и Делеза) вполне может быть названа неогегесианством, которое дополняет их неотрайбализм в сфере отношения к смерти. В культуре модернизма и постмодернизма появление этого римейка гегесианства столь же естественно и органично, как появление самого Гегесия на закате античности. Непосредственный же исток римейка — конечно, опять Ницше, написавший: «Если уничтожаешь себя, то делаешь достойное величайшего уважения дело»
[141]. А с позиций синергийной антропологии, культ суицида — один из ожидаемых, и весомых, знаков сценария и тренда видовой эвтанасии антропоса.
Во что складываются вкупе фигуры нового антрополандшафта — пока совсем плохо обозримо. Ландшафт не создает впечатления осмысленности, и взгляд не находит в общей картине какого- либо связующего начала, принципа единства. Мы не видим, чтобы разные антропоструктуры в ландшафте объединялись между собой еще чем-либо помимо отрицательных качеств бес-сущностности, пост-субъектности и т. п. И эта неосмысленность антрополандшафта, совершенно очевидно, и составляет очередную задачу. Необходимо достичь осмысливающего видения, для которого антропологическая реальность во всей ее полноте представляла бы собой не просто ландшафт, но была организована в некоторую цельную антропологическую перспективу. «Перспективу» следует понимать здесь в эпистемологическом смысле, как когнитивную перспективу, как способ видения, заключающий в себе парадигму познания. И Фуко, и Делез находят, что феноменологическая парадигма является если и не совсем неадекватной, то, во всяком случае, недостаточной для новой философской и антропологической реальности
[142]; и логика развития новой антропологии естественно выводит к той точке зрения, что в русле этой антропологии должен формироваться и некий собственный, «антропологический» (антропологически фундированный и ориентированный) способ видения, «антропологическая» (в том же смысле) когнитивная перспектива. Вбирая в себя явления, эта перспектива будет по-своему группировать их, устанавливать их отношения, в ней выступит иным и историко-культурный контекст. Приведем небольшой пример, показывающий, что в наших антропологических проектах имплицитно уже присутствуют элементы подобной перспективы. Мы отмечали, что Фуко обнаруживает в эпикурействе специфический феномен «вертикальной трансляции», организм идентичной передачи конституирующего опыта практики србя; и указали, что этот феномен представляет собой зачаток «духовной традиции» в смысле синергийной антропологии, т. е. важнейшего элемента духовной практики и, в частности, исихастской практики в христианстве. Анализ эпикурейства у Фуко выявляет и другой не менее существенный момент сближения с христианством: здесь вызревала та новая культура личного общения, что станет одним из главных следствий «открытия личности» в христианстве. Согласно Фуко, в эпикурействе культивируется особая «душевная и сердечная открытость в общении», и именно в нем зарождается прообраз христианской исповеди: «Здесь мы впервые имеем дело с обязанностью, с которой встретимся в христианстве: на слово истины, которое учит меня истине и значит помогает спастись, я должен… ответить истинной речью, в которой я раскрываю перед другим, другими истину моей собственной души» (423). Оба важных сближения носят специфически антропологический характер; тогда как стандартные историко-культурные оценки, стоящие на идейных критериях, на сравнении доктрин, видят в эпикурействе течение, самое далекое от христианства, и полярное христианству мировоззрение. Таким образом, анализ Фуко выстраивает антропологическую перспективу, в которой оказываются близки явления, весьма отдаленные в стандартной идейной перспективе.
На этих путях и может мыслиться ее построение. Элементы антропологической перспективы должны систематически выявляться в обоих проектах, кропотливо собираться, суммироваться. Концептуальный аппарат проектов определяет рабочий принцип этой перспективы, который уже виден в нашем примере: феномены антропологической реальности помещаются в данную перспективу посредством их описания на основе практик себя, а в случае синергийной антропологии, также и практик Границы. Иными словами, антропологическая перспектива достигает осмысливающего видения антрополандшафта, представляя его как формируемый определенными практиками себя. Такая герменевтика антрополандшафта, в известной мере, аналогична «герменевтике субъекта», проделанной уже в обоих проектах; однако теперь встающая проблема — «следующего поколения»: если прежде речь шла о конституции отдельных субъектных формаций (в проекте Фуко ограниченных к тому же рамками «тысячелетия заботы о себе»), — то сейчас задачей является единое видение всей в высшей степени плюралистичной и раздробленной, подвижной и противоречивой панорамы антропологической реальности начала третьего тысячелетия, вместе с ее трендами. Есть, однако, основания полагать, что методологические и эвристические ресурсы подхода практик себя — или, в терминах синергийной антропологии, подхода, стоящего на принципах энергийности и предельности, — достаточны для решения такой задачи.
Даже и более того. Практики себя, практики Антропологической Границы конститутивны для человека, и антропологическая перспектива, выстраиваемая на их основе, естественно ведет и выводит за рамки антрополандшафта, или же собственно антропологической реальности; она вбирает в себя и всю, вообще говоря, реальность «человекомерную», формируемую и организуемую присутствием и действием человека. В самом деле, уже то выстраивание исторической последовательности антропоформаций, которое
описано выше и которое необходимо проделывает развитый дискурс практик себя/практик Границы, может рассматриваться как своего рода вбирание истории в антропологию, как переосмысливающая трансформация исторического дискурса, в итоге которой история представляется как история Человека — и уже в составе, в рамках последней конституируются производные истории социальных, культурных и иных измерений существования Человека. При этом, антропологический дискурс (репрезентированный как дискурс практик себя/практик Границы), осуществляя эту трансформацию исторического дискурса, выступает, тем самым, как мета-дискурс по отношению к последнему. Возникает естественное предположение — конечно, нуждающееся в обосновании, — что в аналогичной роли он способен выступить по отношению и к другим гуманитарным/человекомерным дискурсам. В пользу него говорит, в частности, тот факт, что тенденции к такой «экспансии» антропологического дискурса, вбиранию им в себя смежных человекомерных дискурсов без труда просматриваются во всех репрезентациях этого дискурса посредством практик себя/практик Границы.
Вот убедительный пример. Реконструируя, как реализуются и как сочетаются между собой установки обращения-на-себя и познания себя в стоических практиках, Фуко приходит к следующей емкой формуле: «направить взгляд на себя и в то же время охватить им все мироздание» (287). Более подробно он раскрывает ее так: «Стоики… настаивают на необходимости упорядочить всякое знание сообразно t£xvt| топ (Зюи: направить взор на себя, одновременно видя в этом обращении и переводе взгляда на себя возможность охватить взглядом все мироздание, узрев его общий порядок и внутреннее устройство» (286–287). Здесь, как видим, обращение- на-себя, аутентично антропологическая установка или парадигма, осмысливается как цельная программа миропознания, вобранная в антропологическую задачу и реализуемая в антропологическом дискурсе (коль скоро в ходе «узрения порядка и устройства мироздания» взгляд человека остается обращен на себя!). Такое переосмысление парадигмы обращения-на-себя в стоицизме не остается пустой декларацией или заявкой: Фуко обнаруживает его в «Изысканиях о природе» Сенеки — сочинении энциклопедического характера,
«великой книге, в которой обозревается весь мир» (288). Понятно, что оно заключает в себе определенную эпистемологическую позицию, которая именно и есть позиция экспансии антропологического дискурса, антропологизирующей трансформации всех дискурсов, участвующих в дескрипции порядка и устройства мироздания. Идеи, идущие в этом направлении, нетрудно обнаружить и у самого Фуко: так, Ф. Гро находит, что в последний период у него намечается «этопоэтическая» концепция истины — «такой истины, которая… прочитывалась бы в узоре исполненных актов и телесных жестов»
[143]. В нашей логике, это идея антропологизации истины, а с нею и когнитивной парадигмы, то есть снова — экспансия антропологического дискурса.
В этой своей экспансии, антропологический дискурс начинает, как мы уже заметили, выступать в роли мета-дискурса, трансформирующего смежные дискурсы и их отношения. Тем самым, он приобретает и некоторый новый статус. Антропологическая перспектива, вбирающая в себя — в потенции — все сообщество гуманитарных/человекомерных дискурсов и при этом наделенная собственной эпистемологической парадигмой, становится объединяющим принципом, общей методологической основой этого сообщества, становится объемлющей его эпистемологической формацией — тем, что можно называть эпистемой
[144] В методологическом, эвристическом аспекте, «антропологическая эпистема» — радикально новый образ и статус антропологии, но в общем плане движения идей, в ее появлении нет крайней революционности. Как замечал Гадамер, уже в период между Мировыми войнами произошел «поворот от мира науки к миру жизни», и гуманитарная парадигма, которую принес с собой этот поворот, может быть обозначена, используя известный концепт позднего Гуссерля, как «гуманитарная парадигма жизненного мира». Затем поворот продолжался, развивался. Хайдеггер занимает свое, особое положение по отношению к этому движению, но в любом случае, он также внес в него свой вклад, хотя бы уже словами, сказанными в финале «Письма о гуманизме»: «Будущая мысль уже не философия». В последний период, поворот стал уже называем «антропологическим поворотом», и антропологическая эпистема может рассматриваться как проект, отвечающий финальной форме, логическому завершению этого поворота. И естественно считать, что к «парадигме жизненного мира» этот проект находится скорей в отношении преемственности, нежели противоположности, оппозиции.
Таким образом, антропология, развиваемая как дискурс практик себя/практик Границы, обнаруживает в себе достаточно уникальные методологические и эвристические качества, возможности своего превращения в антропологическую (антропологически фундированную) эпистему для гуманитарного знания, в «науку наук о человеке». Этот новый образ и статус антропологии расходится с ее образом и статусом в классической формации научного знания ничуть не меньше, чем ее бессущностные и бессубъектные основания расходятся с классической европейской моделью человека. Безусловно, сегодня этот образ — только «проект следующего поколения», отдаленный и радикальный, который решительно выводит антропологию из-под эгиды «философской антропологии» и направляется к выстраиванию некоторой принципиально новой конфигурации гуманитарного знания. Но при всем том, некоторую нить, ведущую к этому проекту, этому будущему образу, можно при желании увидеть уже в… античной культуре себя, в основаниях греческой заботы о себе, как они представлены у Фуко. Философ находит в этих основаниях понимание жизненной задачи как задачи «искусства жизни», созидания для собственной жизни единого эстетического стиля и строя. Это, очевидным образом, — антропологическое задание, которому должна быть подчинена вся и любая деятельность человека; в частности, и установка yvcoQi oeauxdv должна быть включена в так понимаемую заботу о себе. Но разве не заложена уже в этом основоустройстве заботы о себе позднейшая установка стоиков «направить взгляд на себя, но охватить при этом все мироздание», разве не заложена здесь установка, которую сегодня на нашем языке мы определим как «антропологизацию гуманитарных/человекомерных дискурсов»? Не скрывается литенденция к антропологической эпистеме уже в глубине развитой Фуко концепции античных практик себя?
Итак, если новая антропология действительно будет осуществлять радикальный эпистемный проект, продвигаясь к образу и статусу эпистемы, науки наук о человеке, по праву будет можно сказать, что у истоков этого проекта стояла мысль Мишеля Фуко — та самая мысль, которая на раннем своем этапе не менее радикально заявила о смерти человека. Но никакой непоследовательности здесь нет. Протагонист новой антропологии уже далеко не человек, каким мы понимали его.
ФИЛОСОФИЯ КАРСАВИНА В СУДЬБАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ МЫСЛИ О ЛИЧНОСТИ
Преамбула: Классичность Карсавина?
В новейший период, когда исчезли идеологические препятствия к свободному изучению русской мысли, некоторые из русских философов оказались в центре усиленного внимания, их творчество почти внезапно обрело широкую славу. Такой всплеск известности мы наблюдали, скажем, в судьбе наследия Флоренского, Бахтина, Федорова, Ивана Ильина; поздней, уже в наши дни, сходный ренессанс происходит в судьбе наследия Густава Шпета. Лев Платонович Карсавин не вошел в этот ряд. Хотя его творчество внимательно изучается, оно не приобрело особенной популярности, не стало предметом интеллектуальной моды. И тем не менее, мне хотелось бы указать одну примечательную особенность рецепции карсавинской мысли, которая, пожалуй, не менее громкой популярности показывает современность Карсавина. Как можно заметить, восприятие философии Карсавина меняется вместе с ходом современного философского процесса: иначе, по-новому начинают видеться не только ее отдельные грани (что всегда неизбежно), но и сама ее природа, ее главное существо.
Действительно, на исходной стадии современной рецепции, сформированной классическими уже «Историями русской философии» Лосского и Зеньковского, Карсавин твердо квалифицировался как философ всеединства, автор одной из больших систем метафизики всеединства, составляющих центральное ядро философии Серебряного Века. Но метафизика всеединства, в целом, отвечающая дискурсу классической европейской метафизики, к концу 20 в., в свете длительного процесса «преодоления метафизики», воспринималась уже как принадлежность истории, как философское направление, идеи и язык которого не отвечали задачам современного философствования. И здесь начало обнаруживаться, что мысль Карсавина допускает также другие, вполне уже современные прочтения.
В 80-90е гг. в мировой философии, а также и в христианском богословии чрезвычайно велик интерес к диалогическому мышлению. Оно интенсивно осваивается, обсуждается, огромное внимание привлекают диалогические концепции Бахтина; и в ходе этого «диалогического бума» выясняется, что и Карсавин может быть также понят как диалогический философ. В середине 90-х гг. профессор Франсуаза Лесур, присутствующая среди нас сейчас, организует коллоквиум по творчеству Карсавина во Франции, в университете Дижона. Мой доклад на этом коллоквиуме носил название «Диалогическая природа философского творчества Карсавина», и в нем последовательно раскрывались многочисленные формы диалогизма, находимые во всех измерениях карсавинской философии, от общего типа онтологии до деталей стиля. Наиболее существенными из них были: онтологический диалог Творца и твари, построенный на их обоюдной жертвенной смерти друг ради друга; насыщенный, экзистенциально заостренный полифонический диалог «Поэмы о смерти»; наконец, особый «кьеркегоровский» род диалогизма, заключающийся во внутренней диалогичности корпуса текстов философа — им соответствуют различные образы авторского Я, находящиеся в имплицитном диалоге между собой. (Данный род связан, в первую очередь, с Кьеркегором, который выпускал разные свои тексты от лица разных авторов-псевдонимов, а в одной из книг даже устроил встречу их всех, обсуждение их взаимоотношений. Карсавин тяготеет к маскам и псевдонимам, однако явно не вводит их — за вычетом разве что мистификации «София земная и горняя» — и потому такой «интертекстуальный» диалог у него более имплицитен.) Суммарный вывод доклада, согласно которому «философия Карсавина… примыкает вплотную ко всему диалогическому направлению в современной мысли»
[1], созвучен был рецепции творчества Карсавина в тот период; как можно заметить, эта рецепция тогда действительно складывалась в диалогическом ключе.
Однако диалогизм — не столь уж глубокое и мощное направление мысли, и он недолго выступал на философской сцене в ведущей роли. На первый план возвращается фундаментальная проблематика начал философствования — и здесь философия Карсавина опять представляется в новом свете. В 2002 г. проходят юбилеи Карсавина — полвека с его гибели в лагере и 120 лет со дня рождения. В Вильнюсе проводится юбилейный конгресс памяти философа, и мой доклад на этом конгрессе носит название «Карсавин и время». Здесь намечается новая линия прочтения творчества мыслителя: Карсавин как философ времени. За таким прочтением — достаточно прочные основания. На первом этапе творчества, Карсавин — историк и, тем самым, в кругу главных его рабочих понятий — историческое и эмпирическое время. Затем, обратившись к философии, он строит, прежде всего, философию истории, которая базируется уже на определенной философской трактовке времени. Эта трактовка в дальнейшем становится основой его концепции и конструкции всеединства: нетрудно увидеть, что в этой концепции, исходная и базовая репрезентация всеединства есть всевременность; и за счет этого, сама его метафизика всеединства может, в известной мере, рассматриваться как философия времени. В поздний период творчества, предшествующий его аресту в 1949 г., философ обращается к проблематике темпоральности прямо и непосредственно: он работает над большим трудом «Метафизика истории» (по-литовски) и над сочинением, условно названным мною «К метафизике всевременности» (авторское его название нам неизвестно). Возможность истолкования творчества Карсавина в ключе темпоральности была давно очевидна исследователям, которые всегда сближали его с Бергсоном, философом длительности; и теперь, с публикацией поздних трудов, посвященных этой проблематике, почва для такого истолкования еще укрепляется.
И наконец, в наши дни, с очередным продвижением философского процесса, в очередной раз намечается и новая рецепция карсавинской мысли. По мере того как в философии осознавалась вся окончательность эпистемологического события «смерти субъекта», уяснялось и первое непосредственное следствие данного события: наступление персонологического вакуума, отсутствия основательных базовых позиций в проблематике человеческой личности и идентичности. В европейской мысли происходит напряженная рефлексия персонологической проблематики во всех ее измерениях: развертываются поиски новой субъектности, неклассических начал для антропологии, в свете новой антропологической и персонологической ситуации пересматривается структура гуманитарного знания и т. д. Налицо, в целом, новая существенная активизация темы личности — и мы констатируем, что эта активизация немедленно отразилась и на рецепции философии Карсавина. Очередная карсавинская конференция, начинающая свою работу сегодня, проходит под девизом «Поиск Лица и вселенскость личности», и в ее программе мы видим, что едва ли не в большей части докладов мысль Карсавина рассматривается в персонологической перспективе. Полная обоснованность подобного подхода к Карсавину не вызывает сомнений, его главный труд носит название «О личности», и нельзя, безусловно, не признать, что Карсавин — философ личности. Итак, в очередной фазе философского развития, мысль Карсавина вновь обнаруживает в себе содержания, актуальные в данной фазе, откликающиеся на ее запросы.
Подмеченная особенность имеет глубокую природу. Культурные феномены, обладающие подобным свойством неуходящей, самовоспроизводящейся актуальности, играют особую роль в культурном процессе: они не стареют, не сдаются в архив, но в каждый очередной культурный период принимают участие в жизни культурного сознания, в работе его само-осознания и само-определения; и в отношениях с такими феноменами, на материале этих отношений, культурное сознание — в частности, философское сознание — понимает и формирует себя. Описанное свойство отличает явления классики — те «кормчие звезды», по которым каждая культурная эпоха определяется, находит собственное положение в космосе культуры и духа. Его, пожалуй, можно считать даже не одним из характерных свойств, а самим определением таких явлений: определением предиката классичности. Конечно, было бы большим преувеличением утверждать сегодня, что философия Карсавина обрела уже статус подлинной классики русской и европейской мысли. Но все же наши наблюдения подводят к выводу, что пройденный ею путь выявляет в ней определенные качества, потенции классики. И отнюдь не обо всех именитых философах Серебряного Века можно сделать сегодня подобный вывод.
Две парадигмы европейской персонологии
Итак, сегодня философия Карсавина подтверждает вновь свою актуальность, будучи репрезентируема как философия личности. Однако, разумеется, эта репрезентация должна строиться в современном контексте, должна направляться к тому, чтобы раскрыть роль и место мысли Карсавина по отношению к современной проблематике личности (субъектности, самости, идентичности) человека. Поэтому для начала мы бегло опишем данный контекст, очертив базовые концепции и исторический путь европейской персонологии.
«Личность — открытие христианства» — гласит первая истина этой персонологии. Античное сознание, античная философия не знали личности, они создали натуралистическую и космологическую картину реальности. Как известно, истоки персонологии — в христианской догматике и классической (каппадокийской) патристике; но нельзя забывать, что за этими концептуальными истоками лежат их онтологическая предпосылка и опытный первоисток, которые заключаются в событии Христа и опыте общения христианина со Христом — новом, аутентично христианском виде опыта. Подвергая дискурс античной мысли (преимущественно, Платона, Аристотеля и неоплатоников) коренному переосмыслению, переплавке, каппадокийские Отцы формируют исходный комплекс-каркас персонологических понятий, задача которого — уловить, передать и закрепить образ бытия, отвечающий Богу.
Понятие «ипостаси», отвечавшее «первой сущности» Аристотеля, что обозначала частное, конкретное бытие или существование в его самостоятельности, отождествляется с «лицом» или «личиной» (prosopon), которая не была вообще философским понятием: prosopon, или синонимично, prosopeion — театральная маска, роль, амплуа. Связь же с сущностью, напротив, элиминируется, термин «первая сущность» исключается из употребления — и в итоге такой переплавки, ипостась становится самостоятельным понятием, иного рода и природы, чем сущность. Теперь это — «личность», или «лицо», принципиально новый концепт, основывающий новый дискурс, персонологический. Аспект конкретности, реализованности в конкретном, оставаясь в смысловой структуре понятия, сразу же его связует с догматом троичности: Ипостась — каждое из Трех Божественных Лиц, которые друг от друга конкретно отличны. Однако выраженный в догмате христианский опыт есть опыт единобожия, а не троебожия; и этот фундаментальный факт выражается посредством следующего, второго понятия персонологического дискурса. Это понятие — «усия», сущность — также Аристотелев концепт, проходящий переплавку. «Вторая сущность» Аристотеля обозначала отвлеченно представляемое умом общее содержание конкретных вещей, явлений; она начинает именоваться просто сущностью, а в смысловом своем содержании приобретает предикат трансцендентности, абсолютной отделенности от тварного бытия как такового. Тем самым, она становится характеристикой иного способа или горизонта бытия, не тварного, эмпирического, а Божественного; и поскольку трансцендентность тварному бытию не входит в привычные представления о понятии сущности, то эта «Божественная Сущность» в позднейшем богословии нередко именуется Сверх-Сущностью, Гипер-Усией. Согласно догмату, она есть общая принадлежность всех Ипостасей. Концептуальная конструкция единой Усии и трех Ипостасей образует каркас первой концепции личности, или же персонологической парадигмы, которую мы будем называть теологической персонологической парадигмой. Это — новая, неизвестная античности онтологическая парадигма; определяемое ею бытие личности (личностное, ипостасное бытие) становится определением образа Божественного бытия. Существенно, что это не философская конструкция: наряду с философскими построениями Каппадокийцев, она включает в себя, как необходимое и решающее завершение, соборные догматические определения, являющиеся не философскими утверждениями, а выражением соборного опыта Церкви, нового рода духовного опыта. Поэтому она входит в дискурс догматического богословия — новый, аутентично христианский дискурс.
Дальнейшее развитие теологической персонологической парадигмы устанавливает ее связь с эмпирическим индивидуальным человеком. Общий характер этой связи выражает идея или парадигма причастия: человек не является личностью, но имеет назначение ее достичь, стать ею посредством своего приобщения, причастия Божественной Личности. Онтологической предпосылкой приобщения человека к Богу служит событие воплощения Христа, и обретение личности человеком содержательно совпадает с достижением соединения со Христом, которое передается понятием обожения. Поэтому связь человека с началом личности описывает в ее онтологических основаниях христологическое богословие — раздел догматического богословия, следующий за тринитарным богословием, дающим описание Божественной Личности.
Но проблематика указанной связи не исчерпывается ее основаниями и предпосылками. Эта связь должна осуществляться человеком на практике, и такое осуществление, в котором человек устремляется ко Христу и обожению, представляет собою особый духовно-антропологический процесс. Восточно-христианская аскетика ставит его в центр своего внимания: он составляет содержание православной духовной практики, исихазма. Т. о., исихастская практика, как духовно-антропологическая дисциплина восхождения к обожению, также соприкасается с теологической персонологической парадигмой, составляя своего рода практический аспект ее. В 14 в., как итог «Исихастских споров» о высших ступенях этой практики, возникает богословие Божественных энергий, которое на базе опыта подвижников-исихастов существенно продвигает вперед богословскую дескрипцию встречи человека с Божественной Личностью. На этой стадии отчетливо закрепляется, что приобщение человека к Богу, Христу, Личности — лицетворение человека, как будет говорить Карсавин — имеет энергийный характер: оно означает соединение энергий человека с Божественными энергиями и не может нести соединения с Божественной Сущностью, Гипер-Усией, Которая остается абсолютно неприобщаема для тварного бытия. Несомненно, здесь все же не было еще создано общей концепции человеческой личности, ибо антропология исихазма занималась лишь человеком-исихастом; однако можно считать, что таковая концепция здесь уже возникала имплицитно — как концепция энергийной конституции человека в процессе приобщения к Личности Христа, осуществляемом на пути аскетического восхождения.
В дальнейшем, в развитии теологической персонологической парадигмы наступает длительный перерыв, в ходе которого она оказывается практически забытой. Не только в Западном христианстве, но и в Православии понятие личности относят к человеку, и связь этого понятия с принципом Божественной Ипостаси почти утрачивается. Учение о личности развивается чрезвычайно активно, но в иной парадигме, которую мы кратко рассмотрим ниже. И однако, во многом неожиданно, в 20 в. происходит интенсивное, плодотворное возрождение оставленной патристической и византийской парадигмы. В первую очередь, оно совершается в православном богословии, магистральное направление которого в последние десятилетия часто определяют как «богословие личности». Современными лидерами этого направления являются греческие богословы и философы митроп. Иоанн (Зезюлас) и Хр. Яннарас, признанный же основатель его — В.Н.Лосский (1903–1958). Однако, как правило, не отмечают, что именно в персонологии Лосский был учеником Карсавина. Он слушал его лекции в Петроградском университете, много встречался с ним в эмиграции, тщательно изучал его; и развитая им (Вл. Лосским) концепция личности несет прямое карсавинское влияние. По праву можно сказать, что современное возрождение теологической персонологической парадигмы на новом уровне имеет своим истоком (незаслуженно забываемым) мысль К. Ниже мы это предметно и подробно покажем; но сначала кратко опишем другую из двух европейских персонологических парадигм.
Антропологическая персонологическая парадигма, относящая понятие личности к человеку (и, тем самым, разумеется, не отождествляющая личность и Ипостась) — концепция западного происхождения, которая оформляется в ходе освоения грекоязычной Каппадокийской персонологии на латиноязычном Западе. Латиноязычная терминологическая база на львиную долю доставлялась богатым римским гражданско-юридическим дискурсом, где, в частности, ключевой для персонологии термин persona уж давно обозначал юридическое лицо; и потому эта база отчетливо уклоняла к антропологии. Уже у Августина, почти современника Каппадокийцев, его знаменитый метод Analogia Trinitatis, поясняющий природу Божественного бытия аналогиями из сферы человеческого сознания, придает явственную психологизированную окраску учению о Св. Троице. Решающий шаг в развитии этого уклона совершает Боэций. В трактате «Против Евтихия и Нестория» он строит определение личности, приходя к знаменитой формуле: persona est rationalis naturae individua substantia — и эта формула, у него еще относимая к Божественной реальности, вскоре начинает рассматриваться в горизонте эмпирического бытия и в философском (схоластическом) дискурсе, вместо опытного догматико-богословского.
Ключевой элемент всякой персонологической парадигмы — концепт носителя личностного начала, и в антропологической парадигме этот концепт должен, очевидно, принадлежать антропологической реальности, иметь прямую связь с эмпирическим человеком. Создание такого концепта оказалось трудным заданием для европейской мысли. В существенном, работа сводилась к решению проблемы индивидуации: идентификации, либо конструкции «элементарного мыследеятельного агента», автономного и неделимого. Поиски решения затянулись надолго, поскольку схоластика, доминировавшая в Западном христианстве, была чужда антропологической и персонологической ориентации, и схоластический разум, посвящая немалые усилия проблеме индивидуации, оставался, большею частью, замкнут в сфере бытия вещи, утеряв греко-патристическое видение бытия личности. Решающим прорывом стала лишь мысль Декарта: Декартов концепт субъекта — как субъекта познания, Cogito, res cogitans… — одновременно стал основанием новоевропейской метафизики, и в ее рамках — классической европейской модели человека. Данная модель, получившая затем кардинальное усовершенствование у Канта и в после-Кантовом немецком идеализме, была зрелой, оформившейся реализацией антропологической персонологической парадигмы, где личностное начало несли понятия субъекта и индивида. Репрезентация человека в этой модели покоилась на трех фундаментальных концептах: наряду с понятием субъекта, в ее основании лежали также понятия сущности и субстанции. Субъект (он же субъект познания) стал базовым и универсальным антропологическим концептом, клоны которого (субъект нравственный, правовой, хозяйственный и др.), в свою очередь, стали центральными понятиями основных гуманитарных дискурсов.
С середины 19 в. восходящая ветвь развития классической метафизики начинает сменяться нисходящей: набирает силу импульс «преодоления метафизики». Он порождался многими недостатками последней, но, в первую очередь, — недостатками персонологической парадигмы, стоящей на понятии субъекта: дескрипция антропологической реальности на ее основе страдала коренными дефектами, проявлениями «анти-антропологизма». Сейчас мы не будем углубляться в них
[2], ограничившись констатацией того, что, начиная уже с Кьеркегора и Ницше, критика в адрес классической метафизики и классической модели человека соединяется с поиском альтернатив, новых принципов и оснований для философии и антропологии. Однако критическая рефлексия развивалась заметно эффективней, успешней, неуклонно приближая к отказу от прежних базовых принципов и понятий. Постепенно на протяжении 20 в. совершается устранение из философского мейнстрима всех трех фундаментальных концептов классической антропологической модели: сущность, субстанция и субъект, — а с ними, в конце концов, и всего основоустройства классического философского способа, как то субъект-объектной когнитивной парадигмы, эссенциалистской онтологии, нормативных этических дискурсов и проч. На этапе постструктуралистской и постмодернистской мысли ниспровержение и разрушение этого основоустройства достигли предела. Меж тем, новые позитивные принципы, выдвигаемые в многочисленных возникавших «неклассических» течениях мысли (таких как экзистенциализм, философия жизни, диалогическая философия и др.), как правило, далеко не были столь же основательны, капитальны как отвергаемые классические устои.
В итоге, как мы уже констатировали выше, философская мысль ныне продолжает оставаться в ситуации интенсивного антропологического и персонологического поиска. Оказавшись перед необходимостью нового начала, она изучает возможность новой субъектности, задаваясь вопросом:
Кто приходит после субъекта? [3] И одной серьезной возможностью новой неклассической субъектности является, несомненно, энергийная конституция личности человека, в той или иной мере использующая базу теологической персонологической парадигмы. Итак, в современной кризисной ситуации присутствуют, как ни странно, и некоторые предпосылки, семена возможного сближения и встречи двух противоположных парадигм европейской персонологии.
Философия же Карсавина, как мы указывали, осуществляет возрождение теологической парадигмы, служа началом нового современного витка ее развития. И никак не исключено, что, наряду с инициирующей ролью, которую эта философия уже сыграла для современного богословия, возможно и обращение к ней сегодняшней философской мысли — как к неисчерпанному ресурсу персонологической рефлексии.
Основы персонологии Карсавина в беглом обозрении
В свете различения двух персонологических парадигм, перед нами раскрывается внутренняя эволюция карсавинской мысли о личности. Разумеется, нас интересует, был ли философ — философом личности изначально, уже в ранних своих работах? Ответ здесь амбивалентен: мысль Карсавина изначально имела
антропологическую ориентацию, однако отнюдь не сразу она обратилась к теме личности, к
персонологической рефлексии. В ранних текстах, где он выступает как историк средневековой религиозности, — и особенно в последнем своем большом историческом труде, «Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках», — Карсавин развивает антропологическую трактовку исторической проблематики, выдвигая задачу реконструкции образа человека в историческом бытии — его мира, сознания, поведения (и тем далеко предвосхищая будущее развитие науки, подходы исторической и культурной антропологии). И все же, хотя на этом пути он конструирует, например, фигуру «среднего религиозного человека», «носителя религиозного фонда» данного общества и времени, — здесь еще нет рефлексии на личность, это понятие не анализируется им, но используется в готовой и общепринятой трактовке, в антропологической парадигме (ср.: «Историку… ценна индивидуальность личности… Изучая личность, историк стремится выяснить развитие и происхождение ее духовного облика»
[4]). Равным образом, анализ личности отсутствует и в первых философских работах. В «Saligia» (1919) основной персонологический термин — «Я», и он также не анализируется, хотя здесь все же выдвинут один из главных тезисов будущего карсавинского учения о личности: о том, что человек имеет бытие не собственное, а лишь отдаваемое, жертвуемое ему Богом: «Отъединилось «я» от Бога и стало говорить: «Я само!», хотя как само, оно — пустышка, существуя лишь потому, что его поддерживает или творит Бог»
[5]. Далее, «Noctes Petropolitanae» (1922) — первая философская монография Карсавина и одновременно, книга любовной лирики; она полна экзистенциального напряжения, написана к тому же от первого лица — но при всем том, и здесь еще личность не подвергается рефлексии. В основном, она по-прежнему тут представлена в согласии с антропологической парадигмой, отчего равносильно именуется также «конечная личность», «эмпирическая личность», «индивидуально-человеческая личность» и др. Но уже различимо и раздвоение, предугадываются элементы теологической парадигмы: «Личность моя — только отблеск Божественного лика… Всё «моё»… и самая моя личность — всё только Бог, участняемый тварной ограниченностью моей»
[6]. Главный предмет «Noctes» — метафизика любви, и с нею связана важная персонологическая тема: любовь — конститутивный принцип человеческой личности, и одновременно — принцип ее расширения, выхода из себя — к соединению с другими личностями. «Любовь — начало личности нашей… В любви моей познаю я, что моя личность лишь часть высшей личности, другая половина которой в любимой моей. В любви превозмогаю я грани моей личности… и сознаю себя личностью двуединой»
[7]. Идея единства любящих как единой «двуединой личности» подводит вплотную к связи личности с всеединством, однако здесь эта связь еще явно не утверждается.
Как все мы знаем, базовая структура философии Карсавина — конструкция всеединства как сложной иерархии «моментов» или «качествований» разных порядков, связанных между собой отношением «стяженности, contractio, взятым у Николая Кузанского. Эта структура получает у него персонологическое осмысление, переносится на строение личности — но происходит это не сразу. Ее первая презентация в «Философии истории» (1923) связывает ее с исторической реальностью, хотя применение ее к личности нетрудно уже предвидеть: здесь вводится иерархия личностей, в которой «низшая личность» существует, «индивидуализуя» в себе «высшую личность» в некотором лишь ей присущем образе: «всякая личность — индивидуализация всеединой высшей личности»
[8].Описание этой иерархии — прообраз концепции «симфонической личности», которая возникнет у Карсавина вскоре. Следующий из главных трудов философа, «О началах» (1925), в целом, тоже не сосредоточен на личности. И тем не менее, решающее событие в становлении карсавинского учения о личности совершается на его страницах:
именно здесь мысль Карсавина встречается с теологической персонологической парадигмой, осваивает ее — и принимает как руководство к действию. Конечно, он и прежде отнюдь не оспаривал ее, однако не продумывал в полном ее объеме и не доходил до ясной мысли о том, что она противоречит той антропологической концепции личности, которой он постоянно пользовался. «О началах» — первый текст, где Карсавин углубляется в область учения о Боге. Он тут же в нем выделяет патристическую концепцию Личности-Ипостаси и выражает ее на языке всеединства: «Логос есть Всеединая Личность… или Совершенное Всеединство Личностей… Во Христе два «естества», две «воли», две «души», но — только одна Личность, Божественная Ипостась… Личность Его есть Его Божественность… Личность — момент Божественного Всеединства и сама Всеединая Ипостась»
[9]. Отсюда следует четкий вывод, утверждающий главное отличие теологической парадигмы: «Личность не что-то тварное и случайное, но — исконно-Божественное … И потому христианство и есть «религия личности»»
[10]. С такою же четкостью формулируются другие положения парадигмы, фиксирующие отношение эмпирического человека к личностному началу: «Само по себе «человеческое» безлично… Утверждать, будто существует какая-то тварная личность, значит отрицать Божественность личного начала… Можно говорить… и о человеческих личностях, если не забывать об относительности и настоящем смысле такого словоупотребления… Человеческая «личность» — только бесконечно-малое причастие человека к умаляемой им в этом причастии Божественной Ипостаси… В меру единства моего со Христом я должен понимать себя как личность… Истинная личность каждого из нас … — Ипостась Логоса в полноте нашего причастия Ей»
[11]. Как видим, проблематика актуального осуществления человеком своего причастия Личности-Ипостаси Христа, тематизируемая в исихастской аскетике и энергийном богословии, здесь не затрагивается; однако положения теологической парадигмы личности, доставляемые тринитарным и христологическим богословием, выражены весьма ясно и довольно полно.
Во всем последующем творчестве Карсавин пребудет твердо на этих позициях; возвращение в философию теологической персонологической парадигмы совершилось. «Апологетический этюд» (1926) констатирует в сноске, как нечто установленное, не требующее доказательств: «Для простоты пользуюсь здесь термином «личность» в обычном его значении, т. е. в смысле «тварная личность». На самом деле, разумеется, никакой тварной личности нет, а есть только Божественная Ипостась Логоса (Она же и личность Иисуса Христа), по причастию коей тварь получает личное бытие»
[12]. Эти же позиции представляет и зрелое окончательное изложение карсавинской персонологии — трактат «О личности», главный труд философа. Поскольку, в согласии с теологической парадигмой, личность есть онтологический принцип, то основная часть трактата — построение онтологии, базирующейся на личности. Ядро этой онтологии образует фундаментальное тождество трех принципов: по Карсавину, между собой всецело тождественны — Личность, Бог и Триединство. Понятие же личности раскрывается входящими сюда двумя отождествлениями:
Личность есть Бог; Личность есть Триединство.
Обоснование первого отождествления начинается с этимологического анализа семантического гнезда личности (личина, лик, харя, обличье…): «Со словом «лик» соединяется представление о личности
совершенной… лику противостоит личина (греч. prosopeion, лат. persona), как извне налегающее
«об-личье», как закрывающая лицо неподвижная и мертвая, безобразная «харя» или «маска». Разумеется, и чрез личину познается личность… но большое несчастие для западного метафизика, что ему приходится строить учение о личности, исходя из понятия «хари» (persona, personne, personnalité, Person, Persönlichkeit). Не случайно в русском языке со словом «персона» сочетался смысл чисто-внешнего положения человека, частью же — смысл внутренно необоснованной и надутой важности, т. е. обмана»
[13].Усматривая отсюда, что «лик наиболее близок к Богу, а личина наиболее от Бога удалена», Карсавин заключает, что «в связи с понятием лика мы переходим к отношению личности к Богу… прежде же и более всего к понятию
ипостаси (hypostasis, по латыни persona, т. е. маска, чему, строго говоря, соответствует греч. prosopeion, а не prosopon = лицо, личность)»
[14]. На этом пути, положения теологической парадигмы личности не столько, конечно, выводятся, сколько подтверждаются из этимологии: «Ипостась есть истинная личность (но не личина!) Но ипостась —
Божья личность», откуда и вытекает отождествление
личность — Бог («Истинная личность — Божья Ипостась»), а далее и ключевой тезис парадигмы: «Признавая Бога единственною истинною личностью, мы должны понять человеческую и вообще тварную личность как причаствуемую человеком Божью Ипостась»
[15]. Сугубая связь парадигмы с догматом Троичности подчеркивается пояснением: «Триипостасная личность так же остается одною личностью, как Триипостасный Бог — одним Богом»
[16].
Второе отождествление утверждается категорично: «Личность или вообще не может существовать, или есть триединство, образ и подобие Пресвятой Троицы»
[17]. Личности как таковой сопоставляется универсальная «онтическая» (не темпоральная) динамика из трех стадий:
Первоединство — Саморазъединение — Самовоссоединение, каковая и есть, по Карсавину, Триединство. В Триипостасной же Личности Бога, Ипостась Отца соотносится с первоединством, Ипостась Сына-Логоса — с саморазъединением и Ипостась Духа — с самовоссоединением. В этом соотнесении раскрывается внутреннее содержание личности, динамика личного бытия. Особенность персонологии Карсавина в том, что его теория триединства делает невозможным отдельное описание Божественной (истинной, совершенной) личности и тварной, несовершенной личности: личность совершенная и несовершенная, Бог и тварь связаны внутренне и неразрывно. Ключ к этой связи — во втором моменте триединства, саморазъединении. Данный момент трактуется как утрата бытия, смерть Бога, что для Бога может означать только свободную отдачу, жертву Им Его бытия некоему «Другому», «Иному», что (кто) не есть Бог и чем (кем) может быть лишь тварь. Эта трактовка показывает, что, наряду с догматом Троичности, карсавинская персонология в равной степени ориентирована и на догмат Искупления. Назначение же твари — восприять Божественную жертву и актуализовать в полноте воспринятые начала бытия, которые суть и начала личности, поскольку «в совершенстве своем всё сущее лично»
[18]. Как видно отсюда, динамика триединства имплицирует «необходимость… понять человека как тварный безличный субстрат… Смысл же человеческого и тварного бытия раскроется тогда как его «лицетворение» или «обожение» (theosis)»
[19]. Но, обретая полноту бытия и личности, «тварная личность» как «обоженная всецело тварь» прекращает уже быть «Иным» Богу, в качестве «Иного» уходит в небытие. Карсавин толкует это как жертвенный отказ твари от «своего собственного» бытия, как «самоотдачу или жертвенную смерть твари», в которой та «свободно и радостно возвращается в небытие, дабы воскрес Бог, и возвращает себя отдавшемуся ей Богу»
[20].
В итоге, личность наделяется у Карсавина сугубо динамическим и процессуальным способом бытия. Бытие личности объемлет и Божественную и тварную реальность, вовлекая их в единую онтологическую динамику Бога и твари: «Сначала — только один Бог, потом — Бог умирающий и тварь возникающая, потом — только одна тварь вместо Бога, потом — тварь умирающая и Бог воскресающий, потом — опять один только Бог»
[21], причем эта стадийность не темпоральная, а онтическая. Реализуя эту глобальную динамику, «личность всевременна и всепространственна»
[22]. Такой же «вселенский» характер носит и ее телесность: этот неотъемлемый аспект личности («Личности без тела не бывает»
[23]) таков, что «необходимо определить внешнее тело личности как особый личный аспект всего мира»
[24]. В своей структуре, глобальная динамика строится из двух взаимно противоположных ветвей: бытие — небытие — бытие Бога; небытие — бытие — небытие твари. Вся эта своеобразная «двойная спираль» — единая История или Драма Личности. Связующим узлом единства служит жертвенная смерть Бога — смерть, утверждаемая как необходимое, ключевое (но не финальное!) событие в Драме Личности — и потому вся суть личного бытия резюмируется сжатою формулой-девизом:
Жизнь-чрез-Смерть. «Жизнь личности — ее воскресение чрез ее умирание»
[25]. При всей специфичности этой картины Богочеловеческой динамики, ее онтологическому ядру, идее кругового взаимообмена бытием между Богом и устремляющимся к нему, «лицетворящимся» человеком, можно найти близкую параллель в византийской мысли. Св. Феофан Никейский (ум. 1380/81) развивал концепцию «перихорезы Бога и верных», или «стяжания перихорезы верными». Согласно этой концепции, на вершине духовного восхождения святые достигают перихорезы, т. е. включаются в кругообращение Божественного бытия, в котором обретают совершенную проникнутость этим бытием (его энергиями)
[26].
Особое место в персонологии Карсавина занимает его учение о симфонической личности. Ввиду его тесной связи с евразийской доктриной, это, пожалуй, — самый известный раздел его философии, но одновременно и самый дискуссионный, вызывавший острые (и далеко не беспочвенные, как мы увидим) возражения. Однако к его появлению вела достаточно естественная логика: с постепенным превращением философии Карсавина в философию личности, вставала задача «персонализировать», описать на базе концепта личности также социальную и историческую реальность. К этой логике добавлялся «социальный заказ»: с 1925 г. философ сотрудничает с Евразийством, и интересы движения требовали создания программ и платформ — на тему опять-таки об отношении к социальной и исторической реальности. Эти факторы вкупе приводят к появлению в 1927 г. брошюры «Церковь, личность и государство», где впервые представлена концепция симфонической личности — концепция человеческого сообщества, трактуемого как единая коллективная личность. Впервые же Карсавин здесь обращается к понятию Церкви, и для его задачи это было прямою необходимостью. Коль скоро, как он прочно принял, «личность есть понятие Божественное, и само Божество», то ввести описание социальной реальности в дискурс личности возможно лишь, связав эту реальность с Богом. Эту связь и осуществляет Церковь, одновременно будучи сообществом людей и Телом Христовым.
Не отклоняясь от теологической парадигмы личности, Карсавин может утверждать, что
Церковь есть «всеединая личность» — и этот тезис открывает путь ко всей цепи построений, которые и составили учение о симфонической личности. «Всё, что входит [в Церковь] … становится и личным. Всё, о чем молится Церковь, становится «кем-то», т. е. личностью. И нет оснований признавать только всеединую личность Церкви… Между единой личностью всей Церкви и индивидуальными личностями находятся еще личности, объединяющие индивидуумов… Мы называем такие личности
соборными или
симфоническими личностями… Такими соборными личностями будут, например, поместные национальные церкви… Всеединая личность Церкви предстает нам как иерархия личностей, в порядке убывания их соборности нисходящая от самой единой Церкви до индивидуумов… Соборная личность иерархически выше индивидуальной, и есть соборные личности разной степени. Тем не менее все личности и равноценны, а высшая никак не ограничивает низших и не стесняет их свободы. Ибо она не что-то отдельное, вне их сущее, но — само их единство и все они в каждой из них»
[27]. Позднее Карсавин уточнит терминологию: «соборная» и «социальная» личности состоят из «индивидуальных личностей», но «симфоническая личность» включает, наряду с последними, также и окружающее материальное бытие. При этом, имманентная связь с Церковью имплицирует и имманентное этическое измерение личности: «Сотворенная Богом личность (как индивидуальная, так и симфоническая), злом быть не может, и зло никогда не может быть личностью («
злая личность» не равнозначна «личности-злу»). Зло — не личное бытие… а грех личности»
[28].
Вместе с тем, нельзя не заметить, что учение о симфонической личности заведомо не удерживается в рамках теологической персонологической парадигмы. Согласно этой парадигме, для всякого сообщества, единственная связь с личным началом — это связь с Церковью; однако учение Карсавина, первоначально это признав, вскоре же начинает оперировать терминами «соборная личность» и «симфоническая личность» применительно к любым сообществам. Подобное расширительное употребление терминов заставляет заключить, что учение о симфонической личности непоследовательно в своих основаниях, постепенно теряя почву теологической персонологической парадигмы. Поскольку же оно явно не принимает и альтернативной, антропологической парадигмы личности, то, стало быть, оно и вообще покидает почву персонализма, оказываясь de facto не персоналистским, а коллективистским, социоцентристским учением. Вследствие этого, оно в известной степени выпадает из общего русла христианской персонологии Карсавина и обретает, вместе со всем евразийским учением, родство с теориями совершенно иного рода.
Концепция симфонической личности имеет явные сближения с давно бытующим в европейской мысли подходом морфологии культур, трактующим конкретные культуры, а также и этносы, социумы, классы и т. п., как автономные социокультурные организмы или «коллективные личности». Представление о «душах народов», об историческом процессе как жизни народов-личностей стало общераспространенным в Новое Время, отразившись, в частности, в мысли романтиков, в философии истории классического немецкого идеализма, у Шпенглера и мн. др. В этом русле, концепция Карсавина — один из поздних образцов, в котором социальная органика предстает в форме иерархической коллективистской конструкции, лишающей индивидуальное начало всякого самоценного и несводимого содержания и оставляющей за ним лишь функцию выражения вышестоящего всеединства. Человек жестко подчинен здесь социальным инстанциям, трактуемым как «высшие личности»: «Всякая личность должна осознать себя как свободное осуществление высшей личности… Личность должна увидеть свою задачу, свой долг и подлинное свое желание в том, что она не создает что-то свое, а только — по-своему образует и индивидуализирует целое… ошибочно видеть задачу каждой личности в эгоистическом саморазвитии… всякая личность должна прежде всего проникнуться смирением… Истинную задачу личности можно определить как саморазвитие в раскрытии высшего и ради раскрытия высшего»
[29]. Эти мотивы, явно созвучные тоталитарной идеологии, вызвали острую критику Бердяева, писавшего: «Учение о симфонической личности означает метафизическое обоснование рабства человека»
[30]. Современная же история философских и политических течений прочно относит это учение, как и евразийскую доктрину в целом, в разряд теорий, родственных тоталитаризму. Но стоит задать вопрос: насколько эти аспекты учения о симфонической личности, лишающие человека прямой связи с Богом, утверждающие его вторичность и несвободу, действительно характерны и представительны для мысли Карсавина? Бесспорно, они получили широкую известность и даже вышли, пожалуй, на первый план в обычных, распространенных представлениях о карсавинской персонологии. Однако, на поверку, они принадлежат лишь определенному этапу в творчестве философа и явно не входят в ядро его концепции личности. Резко выражены они лишь в евразийский период. Уже в «О личности» они почти незаметны, хотя там имеется обширный раздел о симфонической личности, и это позволяет спросить: являются ли они неизбежными в концепции симфонической личности? нельзя ли придать этой концепции иную, свободную от них форму? В цикле же поздних сочинений послевоенного (1945-49) и лагерного (1949-52) периодов мы не находим симфонической личности вообще. Можно заметить, кроме того, что концепт симфонической личности имеет и ценные стороны, он может служить эффективным орудием аналитики социального бытия. У Карсавина мы найдем оригинальные производные понятия от «симфонической личности», напр., «социальные эфемериды» — многоединые социальные личности, возникающие, когда происходит «всякое взаимообщение двух или более индивидуумов — беседа или даже просто мимолетная встреча»
[31]. Так что, в итоге, следует полагать, что учение о симфонической личности заслуживает еще внимания и требует современного пересмотра.
Заключение
Учение Карсавина о личности — живой организм идей, гетерогенный как всё живое, соединяющий в себе творческие открытия, удачные и не слишком удачные новации, законченные теории и неосуществленные замыслы… Как явствует из нашего беглого обзора, то главное, что определяет его место в европейской персонологии, — это смелое возвращение в современный философский контекст древней, патристической и православной, теологической парадигмы личности. Следуя этой парадигме и отрицая за эмпирическим индивидом роль «первоисточника» личного начала, философия личности Карсавина оказывается противостоящей всему руслу европейского персонализма; однако, вопреки этому, плодотворность избранного ею пути сегодня уже доказана историей. Но можно отметить и определенный рубеж, на котором остановилось ее освоение парадигмы: она, как мы говорили, оставила в стороне, не вобрав в себя, те элементы теологической персонологии, что были внесены исихастской аскетикой и богословием Божественных энергий. Важнейший из этих элементов — энергийная онтология, определяющая характер Богопричастия человека и природу конституции личности, обретаемой человеком в Богопричастии. Карсавинской же онтологии присущ достаточно жесткий эссенциализм, в котором можно видеть и некоторое влияние католической мысли, впитанное в период углубленных занятий философа католическим Средневековьем. Именно этот эссенциализм и является причиной столь же жесткого социоцентризма, который мы видели в учении о симфонической личности: принятие принципа прямой энергийной причастности человека Личности-Ипостаси сразу сделало бы этот социоцентризм невозможным.
Однако переход к энергийной онтологии есть рубеж, на котором остановилась и вся русская мысль Религиозно-философского возрождения и Серебряного Века. Преодоления этого рубежа достиг лишь следующий ее этап, на котором она стала неопатристическим и паламитским богословием.
«ФИЛОСОФИЯ КЬЕРКЕГОРА КАК АНТРОПОЛОГИЯ РАЗМЫКАНИЯ»
«РУССКАЯ МЫСЛЬ»: Историко-методологический семинар РХГА (совместно с Институтом христианской мысли РХГА)2 июня 2009 г. Заседание ведет Ректор РХГА Дмитрий Кириллович Бурлака
Д.К. Бурлака: Коллеги, у нас сегодня внеплановое заседание нашего русского семинара, хотя одновременно и семинара по истории христианской мысли. Наш давний партнер Сергей Сергеевич Хоружий — человек, который не нуждается в представлении, живой классик. Сегодня тема его доклада посвящена Сёрену Кьеркегору. Это не совсем русский семинар, но с учетом того, что он в русском менталитете будет представлен…
С.С. Хоружий: Кьеркегор наш человек.
Д.К. Бурлака: Да, наш человек, особенно в версии Сергея Сергеевича Хоружего, да. Прошу любить и жаловать. Распорядок обычный. Сначала доклад Сергея Сергеевича Хоружего, примерно час или около того. Потом вопросы, и, может, если останется время, небольшие выступления. Надо понимать, что пределы человеческих сил ограничены и, коллеги, вопросы кратко, по существу, и, соответственно выступления. Всё. Сергей Сергеевич, пожалуйста.
С.С. Хоружий: Упоминание об ограниченности сил человеческих сил более чем уместно, поскольку эта лекция у меня происходит после наиплотнейшего рабочего дня… Ранним утром сегодня я приехал в прекраснейший июньский Петербург, и с десяти часов мы начали заседание Российско-ливанского семинара в рамках ЮНЕСКО, по Исламо-христианскому диалогу. Шли интенсивные дискуссии, которые закончились около часу назад. Поэтому сейчас мне предстоит постепенно припоминать с вашей помощью, а кто же такой этот Кьеркегор, про которого надо говорить.
Тем не менее, выбор темы очень не случаен. Последняя наша с вами встреча в этих стенах была посвящена основательной презентации синергийной антропологии — развиваемого мной направления в современной философии и антропологии. Точно сейчас не поручусь, но наверняка я тогда уже не преминул сказать, что из всех авторов европейской философской традиции, ближайший к моему направлению — это именно Кьеркегор; и в офисе Института синергийной антропологии на почетном месте рядом с иконой святителя Григория Паламы — портрет Кьеркегора. Как вам ясно уже отсюда, мое освещение Кьеркегора будет весьма субъективным: Кьеркегор в призме синергийной антропологии. И я буду всеми средствами вас убеждать, что именно такая интерпретация Кьеркегора самая правильная и современная.
Начнем из более общего горизонта. Тема обозначена так: «Философия Кьеркегора как антропология размыкания». В центре здесь слово «антропология», и оно задает широкий контекст, в который мы помещаем нашего автора. В философской традиции, в истории философской мысли у него твердо определенная репутация: Кьеркегор — основатель и классик европейского экзистенциализма. Она так к нему приросла, что можно сказать — уже не она за ним закреплена, а он за нею, как крепостной состоя при этой репутации первого экзистенциалиста. Эта каноническая интерпретация не является неверной, однако сегодня она уже глубоко недостаточна. Мы будем рассматривать Кьеркегора в антропологическом контексте. Что сие значит? Это не альтернативная интерпретация, она не отбрасывает прежней, но она существенно расширяет и осовременивает видение Кьеркегора. Каким же образом? В сегодняшней перспективе, после пронесшегося постмодернистского урагана, мы видим экзистенциализм сильно поубавившимся в его значении и масштабе. Как философское явление, он предстает нам, говоря по-английски, very dated, как явление, меченое и ограниченное своей эпохой, временем 40-60-х годов XX столетия, и достаточно узкое по своим идейным и духовным ресурсам. Конечно, как полагается историко-философскому, а не идеологическому мышлению, из всякого минувшего эпизода истории мысли мы извлекаем уроки. Из экзистенциального направления мысли мы также усваиваем полезное наследство: усваиваем, что категория «существования» гораздо богаче, глубже своего узко-технического и схоластического толкования в классической европейской метафизике, и в ней можно и должно видеть выходы, ведущие в совсем ином направлении, работающие уже в русле преодоления метафизики. Но, будучи превращено в основание, первопринцип собственного философского дискурса, это сакраментальное «существование», «экзистенция», основывает довольно-таки узкое и ограниченное направление. Ныне же экзистенциализм сделал свое дело, и как мавр может вполне уйти (в учебник). А вот Кьеркегор не может уйти. В его мысли — что я и буду сегодня раскрывать — заложены гораздо более широкие возможности. Собственно, это судьба всякого настоящего, полномасштабного мыслителя. Сначала его зачисляют по ведомству некоторой школы, а потом со временем понимают, что в школу он не укладывается. Однако с Кьеркегором в историко-философской традиции до сих пор еще не было проделано подобной работы. Я очень надеюсь, что та интерпретация, которую я представлю сегодня, может рассматриваться как подступ к назревшей, необходимой следующей интерпретации Кьеркегора в истории мысли. В связи с этой большой задачей, стоит сказать, что пристальное внимание к философии Кьеркегора, отнюдь не ограничивающее ее школьным руслом, отличает Хайдеггера и Фуко, двух мыслителей, чью роль в сегодняшней философской ситуации трудно преувеличить.
Дабы развивать антропологическую интерпретацию Кьеркегора, нам требуется подготовить для нее определенный контекст; и, как достаточно очевидно, адекватным современным контекстом для такой интерпретации должна служить история отношений европейской философии, с одной стороны, и антропологии — с другой. Классическая европейская антропология как концептуализованный и систематизированный дискурс ведет начало от Аристотеля — прошу прощения за повторение азов время от времени. Аристотель твердой рукой определил природу антропологии как существенно эссенциалистскую, основанную на фундаментальном начале сущности. Мы, разумеется, не имеем ни малейшей возможности прослеживать путь этой классической антропологии; и потому, опуская все многовековые перипетии, перейдем сразу к некой кратчайшей характеристике ее зрелой новоевропейской формы. Как мне представляется, к этой форме и ко всему пройденному пути применима формула, аналогичная знаменитой формуле Хайдеггера. Как мы помним, пересматривая историю классической европейской метафизики, Хайдеггер квалифицировал её как проходившийся европейской мыслью «путь забвения бытия». Взгляд на ту же историю в антропологическом аспекте позволяет ее квалифицировать как путь забвения человека: рассмотрение в онтологическом и в антропологическом измерениях порождает две параллельные рецепции одного и того же процесса. Из Хайдеггера рецепция в антропологическом измерении, безусловно, также могла бы быть вычитана. Здесь ничего нового нет, если угодно, это не более чем простая модуляция хайдеггеровского вúдения историко-философского процесса. Тем не менее, когда мы переходим в антропологическое измерение, непосредственный ход того, как совершалось это забвение, конечно, видится уже по-своему. Конкретные вехи на этом пути, конечно, уже другие, нежели те, которыми Хайдеггер размечает путь забвения бытия.
В аспекте антропологическом, путь классической метафизики протекал как путь накопления, аккумуляции — чего же? Как мы будем говорить, аккумулировались дефекты репрезентации человека в философском дискурсе. Классическая метафизика развивалась с необычайною продуктивностью и необычайною глубиной; однако же прогресс философии одновременно нес с собою регресс в антропологии. По мере блестящего философского развития, человеку внутри созидавшегося классического дискурса становилось всё хуже. Такова общая мораль, но, в дополнение к ней, наш бюджет времени позволяет, пожалуй, указать также и два-три предметных момента. Это полезно для дальнейшего: когда мы перейдем к Кьеркегору (с которого, как мы будем считать, начался уже обратный процесс восстановления антропологических позиций), нам нужно будет иметь в виду, какое наследие, какие именно дефекты антропологической репрезентации ему приходилось преодолевать. Эссенциализм Аристотеля был уже нами обозначен. Далее должны быть названы Декарт и Кант. Из целого ряда фундаментальных нововведений Декарта для нас важней всего следующее: им была резко и отчетливо задана определенная ориентация разума, определенная эпистемологическая установка. Эта установка означала диаметральное обращение, переворот в ориентации философского разума: с обращенности внутрь, на человека, которая была имманентно свойственна христианскому разуму, — к обращенности вовне, к мирозданию. Человек, безусловно, не забывал о себе, наоборот, с Декартом он и начал себя весьма эффективно понимать как Эго, и больше того, как эгоистическое Эго. Но он мыслил себя как эгоистическое Эго мироздания, Эго, конституируемое в обращенности к мирозданию. Данная обращенность весьма важна в связи с Кьеркегором: ибо фундаментальная перемена, вносимая Кьеркегором, может быть удобно охарактеризована как своего рода обратное обращение этой обращенности. Кьеркегор качнул философский маятник в противоположную сторону; он решительно обратил вектор ориентации философского разума с Декартовой обращенности вовне — снова к обращенности внутрь.
Последовавший далее кантовский этап был одновременно усовершенствованием картезианской антропологии и ее кардинальной ревизией. Кантова трансцендентальная систематика категорий, трансцендентальная когнитивная перспектива привели в стройный и завершенный вид классическую европейскую модель человека. Классический немецкий идеализм после Канта не был добавлением каких-либо новых краеугольных камней в эту модель; скорее, он был ее переводом в несколько отличный дискурс — радикалистский дискурс монистического спекулятивного философствования. Это — дискурс, который полностью и всецело полагается из некоторого верховного спекулятивного принципа. Абсолютное фихтеанское «Я», Абсолютный дух Гегеля дают нам примеры подобных принципов. У Канта еще такого не было.
Здесь нам пора уже указать те дефекты репрезентации человека, что накапливались в ходе этого развития. В целом, представленный процесс может видеться как путь де-антропологизации философии, всё большего её отхода от антропологической ориентации, прямой обращенности к феномену человека. Этапы этого пути я прослеживаю в критической ретроспективе европейской антропологии, которая мной пишется и публикуется в «Вопросах философии»; возможно, часть присутствующих знакома с этими публикациями. Занимающие нас дефекты я называю там проявлениями анти-антропологизма в классической метафизике. Опишем главные формы этого анти-антропологизма.
Начальная форма — это первичный анти-антропологизм, отчетливо присутствующий у Декарта и сохраняющийся в дальнейшем. Это простая неполнота антропологической дескрипции: определенные аспекты, определенные измерения феномена человека остаются за рамками базового философского описания. Какие же? Прежде всего, не вписывались в картезианский дискурс интегральные, или же холистические характеристики человека. К таким характеристикам принадлежит целый ряд важных видов антропологических категорий. Сюда входят экзистенциальные предикаты антропологической реальности (отчего переход Кьеркегора к экзистенциальному дискурсу и лежит уже вне классического русла, относится к поворотному движению). Религиозные характеристики сознания и существования человека также, безусловно, носят интегральный характер. И, что весьма существенно, в значительной части интегральную природу имеют интерсубъективные предикаты, характеризующие процессы общения. Все эти весьма существенные виды антропологических предикатов в классическом дискурсе оставались в небрежении. Нельзя сказать, чтобы они вообще целиком отсутствовали, но можно с чистой совестью утверждать, что все они были — удобно тут выразиться по-английски — underrepresented, либо misrepresented.
Затем возникает вторая форма, которую я называю структурный анти-антропологизм. Это де-антропологизация системы понятий, когда человек невосстановимо расчленялся и растворялся в философском дискурсе. Как сразу ясно, данная форма характеризует, прежде всего, кантианский этап и кантианскую проблематику. Делается невозможен ответ на вопрос: «Что такое человек?», — поскольку невозможным оказывается собрать обратно, реконструировать человека из философского дискурса, конкретно говоря — из трансцендентального дискурса Канта. Кант констатирует это сам, указывая достаточно четко, что для ответа на данный вопрос над всем зданием его «Критик» необходимо надстроить еще некоторый мета-дискурс, который был бы специально приспособлен для этой цели. Но, сделав это справедливое указание, он, тем не менее, не представил такого дискурса. Поэтому, начиная с Канта, человек был не просто underrepresented, но был невосстановимо расчленен. Уместно здесь вспомнить хайдеггеровскую рецепцию Канта. В книге «Кант и проблема метафизики» показывается и подчеркивается именно то, что мы сказали сейчас: трансцендентальный дискурс Канта таков, что адекватная реконструкция его антропологического содержания требует дополнения этого дискурса, дополнения «Критик», некоторым специальным построением, мета-дискурсом. Правда, Хайдеггер присовокупляет к этому еще скромное утверждение, что нужный мета-дискурс, отсутствовавший в истории мысли, теперь наконец-то создан: и это не что иное как его собственная фундаментальная онтология в «Бытии и времени». К этому утверждению мы уже не обязаны присоединяться; но в целом позиция Хайдеггера весомо подкрепляет наш тезис о наличии структурного анти-антропологизма. И в перспективе судьбы человека в дискурсе классической метафизики, структурный анти-антропологизм должен рассматриваться как серьезная антропологическая болезнь дискурса.
А далее появилась и третья форма. Ее название у меня не очень удачно, поскольку лучше уже отказываться от терминологии, восходящей к субьект-объектной оппозиции; однако пока эта форма именуется объективным анти-антропологизмом. Выражает же она тот факт, что в пост-Кантовом классическом идеализме, в его монистических системах, человек стал вторичным и производным по отношению к спекулятивному верховному принципу соответствующей системы. В силу этого, человек лишался философской автономии и несводимости. В самом законченном виде и ярком выражении, мы эту форму обнаруживаем, разумеется, у Гегеля. С появлением данной формы и с занятием ею первенствующих позиций в философском дискурсе, этот дискурс попросту не оставлял более места для антропологически фундированной и ориентированной мысли. Тем самым, развитие таковой мысли в рамках классического русла становилось невозможным. При сложившейся структурной организации, философия признает антропологию лишь исключительно прикладной сферой, которая строится не на собственных основаниях, а на базе тех или иных извне почерпаемых принципов. И в итоге, как видим, судьбы онтологии и судьбы антропологии в истории классической метафизики, действительно, оказываются в известной степени параллельны.
Конечно, великая Система Гегеля дала сильнейший импульс для всех видов философских построений; и, в частности, в 30-40-х гг. 19 в. в гегельянском русле активно развивается антропологизм, ярким представителем которого служит Фейербах. Но это не противоречит нашим основным выводам, ибо в логике нашего рассуждения, этот антропологизм был также ущербным, если угодно, «анти-антропологичным». В той или иной мере, все построения в этом русле неизбежно наследовали «объективный анти-антропологизм» Системы, и человек в них не мог не быть философски вторичным и подчиненным, какою бы ни была сопутствующая риторика. Антропология же сохраняла статус одной из частных, прикладных сфер в составе Системы. И потому верна наша основная констатация: в русле классической метафизики, какой она стала на этапе пост-Кантова идеализма, антропология больше не могла развиваться. Теперь развитие мысли о человеке, её актуальное продвижение, могло происходить лишь вне этого русла, лишь в споре с ним и в отталкивании от него: в установке антропологического протеста. На долгий следующий период европейской мысли, антропологическая установка в философии становится volens nolens протестной установкой. Опыты антропологически ориентированного философствования в этот период представляют собой опыты протестной антропологии: такой, которая не входит в русло классической метафизики и формируется в противостоянии ему, в полемике с ним. (Априори можно, конечно, вообразить и создание некой антропологии, не полемизирующей с классическим руслом, а полностью отделенной от него; однако в реальном историко-философском процессе это едва ли возможно.) Как мы знаем, в конечном итоге, классическая метафизика была-таки окончательно подорвана и оставлена. Это был пресловутый процесс преодоления метафизики, и в его развитии антропологический протест играл ведущую роль. Эта роль не была непосредственно очевидна, на поверхности более активными протестными установками служили другие, но, на поверку, именно антропологический протест был наиболее глубоким, кардинальным и непримиримым до конца — ибо он требовал иных оснований для всего дискурса.
***
Первым, необычайно ранним опытом протестной антропологии и была философия Кьеркегора. Она намного опередила становление всего протестного русла, но, тем не менее, она выражала антропологический протест прямо и откровенно. С первых же своих шагов она заявляет сугубо антропологическую ориентацию, и последовательно проводит эту ориентацию до конца. Притом Кьеркегор, как знает всякий его читатель, особо подчеркивает полемическую и критическую направленность своей мысли, адресуя полемику, прежде всего, против Гегеля. Отношения с Гегелем — важнейший момент в философии Кьеркегора, и они глубоко амбивалентны. Сильной зависимости от мощного концептуального аппарата Системы датский философ не мог никогда избыть, и тем резче была его полемика с Гегелем. Эта амбивалентность — один из основных мотивов, которые я прослеживаю в моей интерпретации Кьеркегора. Он небезуспешно вырабатывал альтернативный философский дискурс, экзистенциальный дискурс, — но делал это с огромным трудом, как можно бы сказать, варьируя Чехова, — по капле выдавливая из себя Гегеля.
Анти-гегелевскую заостренность усиливало еще и то, что антропологическая установка у Кьеркегора была резко субъективистской. На языке старых школьных определений, Гегель квалифицируется как объективный идеалист, а Кьеркегор, соответственно, как яркий образец субъективного идеалиста. Подобные квалификации — это, говоря по Пушкину, «нынче несколько смешно», но тем не менее что-то и они отражают. Нам полезно их вспомнить, потому что антропология Кьеркегора ориентировалась на построение собственных антропологических категорий и начал, но при этом, отнюдь не общих, а относящихся к отдельному человеку, который брался именно в его отдельности, в его частной индивидуальности, сингулярности. И это уже не просто антропологизм, а антропологизм единичного, сингулярного человека. Он составляет существеннейшую кьеркегоровскую черту; и к ней сразу же необходимо добавить: этого отдельного человека Кьеркегор всегда и всю жизнь, на всем протяжении своего творчества, писал с себя самого.
Поэтому наша интерпретация Кьеркегора начинается с констатации того, что материей его философской мысли оказывается, прежде всего и по преимуществу, его собственная жизнь, его биография. Такая констатация — обязательный элемент любых изложений философии Кьеркегора. Все они, как тривиальные, так и оригинальные, равно открываются непременным заявлением о том, что для этой философии критически важную роль сыграли события биографии мыслителя. И с этим не согласиться нельзя, кто бы, когда бы и какую бы ни развивал интерпретацию Кьеркегора. Поэтому, коль скоро материя мысли — жизнь мыслителя, нам просто необходимо припомнить жизненную канву… хотя я и вижу, что уже проговорил с полчаса… Без внешней канвы в объеме хотя бы трех минут нельзя обойтись.
Итак, родился мыслитель Кьеркегор в 1813 году, 5 мая. Затем в 1830 году, лет семнадцати, стало быть, он поступил на теологический факультет Копенгагенского университета и добрых лет десять вел там беспечную жизнь вечного студента, больше занятого «культурными развлечениями», чем лекциями и экзаменами. В его собственных категориях, это было то, чему он сам дал позднее название «эстетической стадии жизненного пути». Конец этой стадии — рубежная веха в его жизни, которую создали важные биографические события. События двоякого рода: связанные, во-первых, с личностью его отца, а во-вторых, с его собственной романтической жизнью, с личностью знаменитейшей в истории философии Регины Ольсен, затем Регины Шлегель, его невесты. Как помнится, в 1838 году, стало быть, в двадцать пять — двадцать шесть лет, ему становятся известны какие-то события в жизни его отца, носившие характер некоторого тяжкого грехопадения. Здесь мне пора напомнить, что Кьеркегор получил обычное в его среде лютеранское воспитание. В лютеранстве же, как известно, необычайно акцентированы мотивы греховности и вины человека, так что воспитание философа изначально закладывало базу для усиленного развития этих мотивов. А затем на эту подготовленную почву падали очень значимые для Кьеркегора события.
Во-первых, когда он узнал о каких-то тяжких грехах отца (с которым был очень близок), — события, происшедшие с отцом, были восприняты философом как события, прямо принадлежащие к его собственной истории, его собственному существованию, причем не только на интеллектуальном уровне, а и на уровне, как мы после Кьеркегора говорим, экзистенциальном. Вследствие этих событий, этих тяжких грехов, Кьеркегор решил, что весь их род проклят, и в частности лично он не переживет тридцати четырех лет. Это очень окрашивало следующий период его жизни. Внутренний мир его был проникнут атмосферой виновности и обреченности, сугубо религиозной, обусловленной грехом и переживавшейся гипертрофированно даже для лютеранского сознания. Грех не был совершен лично и персонально им, однако его сознанием как-то органично, едва ли не автоматически принималось, что совершенный отцом грех переходит на него. Парадигма или мифологема первородного греха в его сознании приняла предельно полновесную форму: все равно, отец ли совершил это, или я сам, — судьба одна, полнейшее экзистенциальное единство. Затем к этому добавилась знаменитейшая в мировой философии история с невестой: 10 сентября 1840 года между философом и Региной Ольсен была заключена помолвка, а 11 октября 1841 года по инициативе жениха между ними произошел разрыв. В течение многих последующих лет, особенности этого события претворялись в особенности кьеркегоровской философии. Здесь, действительно, материя жизни становится материей мысли прямейшим образом, но, к сожалению, описывать эти корреляции у нас нет никакой возможности.
Существенно, что все дальнейшее было процессом сугубо внутренним. Кьеркегор отлично понимал, что вся внешняя сторона происшедшего совершенно незначительна по понятиям общества, по меркам обыкновенной жизни обыкновенных людей. Но уже тогда он твердо понимал также то, что позднее в одной из книг выразил чеканным девизом: «Внутренняя история — единственная подлинная история». Жизнь ушла внутрь, она стала исполнением какого-то внутреннего задания. Но какого задания? Событие разрыва — то, что по его инициативе, больше того, с его великими усилиями, против воли Регины, которую он любил преданно и чувства к которой сохранял до конца дней своих, их союз был разорван, — в его сознании прямым своим содержанием, метафизическим и религиозным, имело грехопадение. Это было некоторое событие Падения, начиная с которого существование принимает характер и природу существования падшего человека. Тем самым, образуется прямое соответствие собственной индивидуальной истории с историей библейской, историей падшего человечества. Задание истории в христианском понимании состоит в том, чтобы преодолеть Падение. Падение было совершено Адамом, и к этому Первособытию Кьеркегор тоже будет многажды возвращаться в своем философствовании. Далее же, через событие Искупления, через весь исторический процесс, заданием истории является вновь воссоединиться с подлинным бытием.
Но все же в непосредственном своем содержании, падение, свершившееся в судьбе философа, было всего лишь разрывом помолвки. Поэтому первым теоретическим заданием, первым вызовом мысли Кьеркегора было доказать самому себе, что в этом сугубо личном, индивидуальном падении был, тем не менее, заключен во всей своей полноте исходный библейский смысл. С этим заданием он справился отлично и быстро. Как мы помним, его падение — событие разрыва, после которого он, как пишет в дневнике, «провел ночь, рыдая в постели», — произошло 11 октября 1841 года. А 17 мая 1843 года, приблизительно через полтора года, в дневнике следует очень важная запись, освещающая многие существенные черты жизни и мысли Кьеркегора. У нас нет времени разбирать ее содержание, и я процитирую лишь краткую фразу, которая приводится всеми, пишущими о Кьеркегоре. 17 мая им записано, в частности: «Если бы у меня была вера, я бы остался с Региной». Эта формула, действительно, задает религиозный ключ к жизненной ситуации и жизненной проблеме. Ключ определяет, в чем жизненное задание: оно в том, чтобы найти и проторить путь к вере. Почти сразу же появляется и другая эквивалентная формула задания: проторить путь к вере — в философском дискурсе, это то же самое что сделать себя открытым. Эквивалентность должна быть понятна нам: ибо вера означает актуальную встречу, актуальный контакт с Божественной реальностью и, стало быть, она также означает достижение открытости себя Богу, иному горизонту бытия, — достижение онтологической открытости.
Итак, задание сформулировано, и дальше должно развертываться его исполнение. Исполнение осуществляется в написании текстов; всё дальнейшее творчество Кьеркегора и есть исполнение жизненного, экзистенциального задания. Это и есть жизнь, ушедшая внутрь. Основу исполнения составляют шесть главных текстов. Кьеркегор писал очень много, это была его форма существования, но из всего написанного выделяется серия из шести главных книг, которую я называю «Датский сериал». К этой серии мы вернемся, и я очень надеюсь, что успею отдельно охарактеризовать каждый из опусов этого сериала. Но сначала надо сказать, что при взгляде на всю серию в целом, мы замечаем в ней многие странности. Прежде чем описывать каждый отдельный опыт, следует указать общие, бросающиеся в глаза особенности всего их комплекса. Самых крупных странностей две.
Во-первых, все тексты выпущены под разными псевдонимами, а с некоторыми текстами связываются даже два-три вымышленных лица. Один называется редактором, другой называется лицом, к кому случайно попали тексты, а третий собственно автором, кому все приписано. Иногда в качестве издателя или редактора он все же указывает самого себя, как на старинных картинах художник порою пишет себя где-нибудь в незаметном уголке. Подобные ситуации очень любит рассматривать сегодняшнее сознание, и в философии, где это называется играми идентичности, и в филологии, где говорят о формах авторского дискурса, об авторской личности. Кьеркегор же дает нам один из первых, и весьма впечатляющих образцов этих специфических — тут даже скажем не игр, а скорее игрищ идентичности. Он создает некоторое пестрое псевдоавторское сообщество; и это первая существенная особенность.
Другая особенность не менее существенна. Мы замечаем, что задание как будто исполнено и путь к открытости проложен уже в самом первом из текстов серии, знаменитом трактате «Или — или», который писался сразу после разрыва и был закончен еще в 1842 году. Казалось бы, уже там всё сделано, задание выполнено, но затем это же задание, пускай в других понятиях, в другой логике, опять исполняется во втором тексте, и так далее — во всех шести. Почему и зачем? Задание не меняется — найти путь к открытости, путь к самому себе, путь к вере. Но когда путь найден, сразу же начинает писаться другая книга, где вновь прокладывается путь к вере; хотя используются совсем другие понятия, другая логика, однако задание — в существенном, то же самое. Опять-таки и это — особенность характерная, важная, которую надо понять, прежде чем рассматривать отдельные опыты.
Однако прежде всего нам нужно описать до конца жизненную канву. Исполнение жизненного и творческого задания развертывается в непрерывном, интенсивном процессе с 1841 года и до 1850-го. В 1850 году выходит последнее из серии главных сочинений, «Упражнение в христианстве». И вслед за тем, в следующие годы у философа наконец происходит действительный перелом и прорыв к открытости, уже не только на письме, где он в каждой книге доказывал, что человек должен сделать себя открытым, а в самом существовании, в жизненной стратегии. После того как он написал эти шесть книг, он понемногу с великим трудом, с великой болью действительно становится открыт, и даром ему это не проходит. В его практической стратегии начинается трудный, мучительный выход в открытость, и он сразу же принимает форму конфликта, бунта. Против кого? Против церкви и духовенства, против институализованного христианства, которое он чем дальше, тем больше видел лишь фальшивым христианством, язычеством под внешностью христианства. Вскоре развертывается драматический или будет, наверно, правильнее сказать, трагический финал: кода жизненного пути, завершающая три стадии этого пути, им описанные и пройденные.
30 января 1854 года умирает предстоятель Датской церкви, епископ Мюнстер, с которым семья Кьеркегора была необычайно близка, который был духовным отцом отца Кьеркегора. Мюнстер бывал в их семействе, когда Кьеркегор был мальчиком, подростком. Отец его, как Кьеркегор выражался, воспитывал его на проповедях Мюнстера. 30 января этот человек умирает. На его погребении его преемник, епископ Мартенсен произносит речь, в которой, естественно, следует канонам пастырской риторики, приличествующей к событию, и, в частности, называет почившего «свидетелем истины». Кьеркегор, разумеется, присутствовал на этой траурной церемонии. Вернувшись домой, он садится и пишет за одну ночь длинную статью «Был ли епископ Мюнстер свидетелем истины?», где в прямых выражениях доказывает, что почившего нельзя было называть так, что никаким свидетелем истины он не был, а был лицемером и язычником, вовсе не христианином.
Этим и началась кода Кьеркегора. Он колебался и переживал весь 1854 год, однако все же решился. 18 декабря он публикует давно написанный текст — и с этого дня его внутренняя жизнь входит в теснейший и гибельный контакт с публичною жизнью. Текст резко нарушал все конвенции, не только правило «о мертвых или хорошо, или ничего». Помимо нарушения этого правила, весь Копенгаген знал, и чем был епископ Мюнстер в биографии Кьеркегора, и все сопутствующие обстоятельства. Копенгаген очень маленькая деревня даже и сегодня. И вслед за тем Кьеркегор начинает лихорадочную кампанию, он пишет десятки статей с самой острой критикой институционального христианства. Когда газета «Отечество» прекращает его печатать, он начинает выпускать за собственные средства листок со своими антицерковными речами. Выпустив десять номеров этого листка, он истратил практически все остававшиеся у него деньги. Он был зажиточным горожанином, получив от отца порядочное наследство, но он истратил его целиком, как и истратил самого себя целиком. 2 октября 1855 года он упал без сил на копенгагенской улице и 11 ноября 1855 года скончался. В предсмертные дни он был в полном сознании. К нему приходили, говорили, что, коль скоро он христианин — еще бы не христианин, всё это были внутрихристианские, как мы сегодня грубо скажем, разборки! — следует по-христиански подготовиться к исходу души, следует пред кончиной утвердить свое христианство. Но он сказал, что мог бы принять причастие никак не от священника, только от мирянина. Мирянин же, как мы понимаем, никак не мог подать причастие. Таково завершение жизненного пути, и, без сомнения, этот путь и есть главный субстрат мысли Кьеркегора.
Основу анализа этой мысли должно, очевидно, составлять последовательное изучение всех шести опытов «Датского сериала», шести версий философского пути к вере. Эти опыты — интереснейшие и необычайно разные философские тексты. Но, как мы уже говорили, прежде разбора отдельных текстов следует рассмотреть общие особенности философского дискурса Кьеркегора, зафиксировать его базовые структуры. Если мы их раскроем, то это, если не хватит времени, хотя бы отчасти заменит анализ текстов.
Главные наблюдения над философским мышлением Кьеркегора, будучи собраны воедино, резюмируются всего в две-три основные структурные особенности. Как человек, сочинивший синергийную антропологию, я ставлю из них на первое место, конечно, парадигму онтологического размыкания. Это — ведущая базовая структура философии Кьеркегора, и она видна, собственно, уже в самом задании этой философии: найти и проторить путь к вере. Вера есть соединенность (или воссоединенность, в свете Падения) верующего сознания с предметом веры, с Богом. Это состояние сознания, в котором сознание стремится к Богу и становится способным к этой встрече. Таким образом, сознание здесь — я отчасти повторяюсь, а также повторяю стандартные формулы синергийной антропологии — сознание здесь не остается замкнутым в себе, а неким образом себя размыкает навстречу Богу. Но Бог наделен иным онтологическим статусом, иным способом бытия, нежели человек. В силу этого, достигаемая здесь разомкнутость должна быть не просто в эмпирическом существовании, «не в сущем, а в бытии», говоря по Хайдеггеру; она должна быть разомкнутостью онтологической. Путь к вере несет онтологическое содержание, и философия этого пути должна быть онтологией. На философском языке, задание должно быть определено как онтологическое размыкание сознания и человека. Это — принципиальный вывод.
Далее, к нему непременно нужно добавить одну грань: это онтологическое размыкание является антропологически конститутивным. Выведение человеком себя в онтологическую открытость есть у Кьеркегора ключевой акт формирования личности и идентичности человека, его конституции. Уже в первом из серии главных текстов, где путь к открытости еще ограничивается этической открытостью, еще не раскрывается как путь к вере, — он уже характеризуется формулой «выбор себя», то есть обретение (создание, формирование) подлинного себя. Путь, который здесь необходимо пройти сознанию человека, — это путь к себе. В наше время это стало расхожим, в Москве, Питере и других городах «Путь к себе» — название магазинов дешевой эзотерики, но в этом Кьеркегор уже не повинен. Мы же констатируем: изначальная интуиция философской мысли Кьеркегора такова, что ведущей философской парадигмой является онтологическое размыкание, и онтологическое размыкание задает антропологическую конституцию. В этом размыкании формируются, «полагаются», по-гегелевски говоря, структуры личности и идентичности, структуры «себя», проходится путь к себе. Заметим, что этим выводом дается и обоснование названия нашей лекции: философия Кьеркегора теперь представилась как антропология размыкания, а конкретнее, как антропология онтологического размыкания.
Дальнейшую существенную черту этой философии доставляет уже отмечавшийся эффект «размножения» версий исполнения задания (мы будем называть эти версии сценариями). Почему Кьеркегору не хватило одной версии, а потребовались шесть? Еще раз констатирую: в каждой из своих главных книг Кьеркегор заново и с самого начала исполняет то же задание жизнетворчества. (Заметим, что термин «жизнетворчество» здесь возникает естественно и по праву: в истории мысли, истории культуры он издавна прилагается к романтическим, символистским, экзистенциальным моделям существования, и к Кьеркегору он применим целиком и полностью.) В каждом из шести сценариев заново прокладывается путь к вере. Только что решив поставленную задачу, прочертив путь, Кьеркегор тут же снова принимается её решать, ищет и строит новое решение, а получив его, немедля начинает искать еще новое, и так не раз, не два, а шесть раз. Что означает эта картина? — Прежде всего, очевидно, то, что Кьеркегор уклоняется признать окончательным каждое из своих решений, признать последним. «Признать окончательным» значит остановиться на нем и воплощать его в жизнь: вместо того, чтобы строить следующее решение, начинать жить вот по этому — ставить его в центр и делать практические выводы из него.
Вместе с тем, что значит воплощать в жизнь некоторое решение? Это значит признать окончательно сделанным некоторый фундаментальный выбор. Притом, нам нет нужды говорить неопределенно «некоторый». В философии Кьеркегора, в его сознании изначально, с «Или — или», присутствует вполне определенный фундаментальный выбор: выбор между замкнутостью себя и открытостью себя. Так же изначально, в том же первом сценарии, философ заявляет о своем выборе в пользу открытости. Но этот фундаментальный выбор оказывается неокончательным. Кьеркегор уклоняется признать, что открытость или вера, действительно, достижима на том пути, который он сам предложил и обосновал. Он уклоняется от необходимых следствий своего выбора, которые требуют сказать, что теперь противоположный полюс, замкнутость, полностью отброшен, и начинается практическая реализация (жизненная и/или философская) представленного пути. Вместо этого, философ оставляет построенное решение и переходит к другому, потом к третьему. Но, очевидно, тем самым, он не уходит от фундаментального выбора, а оставляет его при себе, он затягивает свое пребывание в моменте выбора, растягивает этот момент. Иначе говоря, он и его сознание как бы зависают в задержанном, искусственно остановленном моменте выбора. С одной стороны, выбор сделан, об этом демонстративно объявлено; с другой стороны, тут же начинается новое, иначе оркеструемое событие выбора. Это и есть состояние зависания в выборе. И возникает очень специфическая структура сознания: сознание в подвешенном состоянии, в специально затягиваемом моменте выбора. Причем, выбора онтологического, между двумя бытийными стратегиями — стратегии бытийной открытости и бытийной же замкнутости.
Продвинемся дальше в рассмотрении этой структуры. Она предполагает, что в сознании одновременно присутствуют оба взаимоисключающих и онтологически различных полюса, оба мира, между которыми надо сделать выбор, — и онтологическая замкнутость и онтологическая открытость. И это, если угодно, и есть глубинная базовая структура сознания Кьеркегора. Она определяет общий тип этого сознания, проявляясь многообразно и постоянно. В дневниках есть важный повторяющийся мотив: не раз говорится, что вот наконец достигнут перелом в сознании и существовании, что замкнутость побеждена, открытость обретена, она в самом деле налицо! Но через некоторое время тема закрытости, замкнутости возвращается вновь, и победа оказывается эфемерной. Этот повторяющийся мотив — яркий знак, вещественный след данного типа сознания, «сознания, зависшего в моменте выбора». В 1848-м году на Страстной Неделе в дневнике появляется совсем драматическая запись такого рода, которую часто сопоставляют со знаменитым амулетом Паскаля: «Все существо мое изменилось. Моя скрытность и замкнутость сломлены». Но, в отличие от Паскаля, через несколько дней следует запись: нет, моя замкнутость непреодолима, «по крайней мере сейчас». Последняя оговорка заверяет, что выбор — остается и продолжается. Сам философ отлично видел все это у себя. Идентифицируя у себя эту структуру сознания, он говорил, что его совершенно правильно прозвали «Или-или». Это прозвище отсылает к колоритному эпизоду: в 1846 г. Кьеркегор стал постоянной мишенью острот и карикатур в скандальном журнальчике «Корсар». Одна из карикатур изображала магистра Кьеркегора, прогуливающегося по городу, и за спиною у него двух горожан, один из которых показывал на него пальцем и говорил: Вон «Или-или» идет! И после этой карикатуры в самом деле случалось, что на копенгагенских улицах мальчишки бегали за Кьеркегором с криками: «Или-или идет!» Философ же в своем Дневнике признал верность прозвища.
Итак, «размножение решений» выступает как конкретный способ, каким у Кьеркегора создается и поддерживается базовая структура сознания, способ остановить мгновение. Будучи оставляемо в пользу следующего, каждое из решений приобретает аспект виртуальности и приобретает статус сценария (одного из возможных сценариев), вместо статуса полновесного решения, которое актуализуется в своем воплощении. Конечно, могут сказать, что философ отнюдь и не должен воплощать собственной эмпирической жизнью все философские решения своих книг. Однако, если он отменяет их или же подрывает тем, что в каждой очередной книге предлагает другое решение, мы с основанием связываем с его решениями аспект виртуальности и статус сценария. В старой метафизике, когда возникали подобные структуры, включающие противоположные полюсы, не связуемые, однако, никаким синтезом, — в таких ситуациях говорили об «антиномизме». Но этот термин уводит разговор в область либо формальной логики, либо Канта и кантианства, меж тем как и то и другое в данном случае сути дела не отвечает. У Кьеркегора речь идет даже не столько о некотором типе сознания, сколько о личностных стратегиях, об экзистенциальных и жизненных коллизиях. Причем, что существенно, коллизиях не универсальных, а частных, коллизиях его самого, сингулярного копенгагенского человека. То, что происходило с Кьеркегором, происходило по сингулярным кьеркегоровским причинам. С равным правом, можно также сказать, что подвешенность в затянутом моменте выбора определяет не структуру сознания, а модус существования; и этот философский язык глубже и адекватней.
Здесь к месту дискурс психологии и поэтики. Ситуацию затягивания фундаментального выбора (онтологического, экзистенциального и т. п.) естественно назвать пребыванием на пороге выбора. Термин «порог» тут приходит сам собой, и мы сразу замечаем, что он весьма продуктивен здесь. Мы вспомним, что в поэтике Бахтина введен был концепт порога, и он там играл очень существенную роль. Конечно, у Бахтина это был концепт поэтики, который применялся в поле литературоведческой проблематики — связывался с концепцией хронотопа и так далее. Но, в частности, он нес и те смыслы, что делают его применимым к (жизне)творчеству Кьеркегора; и потому, говоря о присутствии парадигмы порога у Кьеркегора, мы не притязаем на новизну. Парадигмой порога мы будем называть подвешенное, затягиваемое пребывание одновременно в обоих взаимоисключающих полюсах некоторой фундаментальной альтернативы. Человек сознает себя в ситуации жизненно решающего выбора, но миг выбора затягивается и затягивается. Выбор и порог могут быть онтологическими, но могут иметь также иную природу: возможен, например, этический выбор или какие-то другие личностные варианты. У Кьеркегора, как мы видели, порог именно онтологичен. Пребывание же на пороге обеспечивается у него путем «размножения сценариев». Поскольку каждый сценарий — это полноценная философия, этот путь достаточно уникален: он означает непрерывное продуцирование новых и новых философий. Неудивительно, что, кроме Кьеркегора, никто, кажется, больше не воспользовался таким способом. — Итак, в дополнение к парадигме онтологического размыкания, мы обнаруживаем у Кьеркегора специфическую структуру сознания и модус существования, которые мы будем называть «сознание на пороге» и «существование на пороге». Порог, в данном случае, — это порог онтологического выбора между стратегиями или мирами бытийной замкнутости и бытийной открытости.
Здесь мы вплотную приближаемся к теме «Кьеркегор и Достоевский». Ведь, когда Бахтин разрабатывает парадигму порога, он разрабатывает ее именно на материале Достоевского, он утверждает, что это ведущая парадигма сознания героя Достоевского. Мне случилось не так давно заняться исследованием «Братьев Карамазовых» под этим углом, и я, к своему удивлению, обнаружил, что, хотя общие заявления о пороговой структуре сознания «человека Достоевского» давно стали общим местом, однако подлинной и предметной реконструкции этой структуры, по сути, не было. Поэтому я проделал эту реконструкцию для «Братьев Карамазовых» на свой страх и риск. Парадигма порога идентифицируется там со всей несомненностью, прежде всего, в структуре сознания братьев Дмитрия и Ивана. В случае Дмитрия Карамазова, порог — экзистенциальный, и два полюса в сознании — это полюс страсти, с одной стороны, и покаяния — с другой. Митино «зависание на пороге» воплощено у Достоевского, в частности, в одной неожиданной детали. На всем протяжении действия, Митя — в лапах страсти, Митя совершает свои падения «вверх пятами», но при этом, как мы узнаём, у него почти до конца, до сцены в Мокром, на груди висит ладанка, где зашиты полторы тысячи рублей. Ему Катерина Ивановна доверила три тысячи, которые он, подлец, растратил, но растратил, на страсть пустил, он из них только полторы, а другие полторы зашил в ладанку, которую на шее всегда носил. И это равное разделение, полторы и полторы, — оно и есть наилучший образ порога с его двумя полюсами. Полторы тысячи пущены на страсть, а полторы — в ладанку, которая всегда на шее, которая — жгучее напоминание о грехе, которая — знак непрестанного покаяния. Итак, Митя нам представлен зависшим на пороге между страстью и покаянием. Парадигма порога здесь в чистом виде, но это не кьеркегоровский порог. Кьеркегоровский порог, разумеется, у Ивана. Пороговое сознание Ивана Карамазова — это именно онтологический порог, порог в совершенно кьеркегоровской реализации, ибо у него те же полюсы: вера и неверие, открытость и замкнутость. Базовые структуры сознания тождественны, и мы можем говорить о своеобразном «экзистенциальном тождестве концептуальных персонажей», придуманного Ивана и реального, но ничуть не менее фантастического датского философа. Отсюда, из этих начальных выводов, развертывается обширный пейзаж общности, обширные возможности компаративного рассмотрения Достоевского и Кьеркегора. К примеру, уже не в «Карамазовых», а в «Бесах», у Кириллова, мы находим идею самоубийства, необычайно близкую к той, которая развивается Кьеркегором в «Или — или». К сожалению, сейчас мы должны всю эту проблематику оставить в стороне.
Из странностей, за которыми стоят важные общие структуры кьеркегоровской мысли, мы указывали, помимо «размножения сценариев», еще и «размножение авторов», создание сообщества псевдонимов. Ясно, что для анализа этих, как мы выразились, игрищ идентичности снова полезны категории поэтики. Сообщество, возникающее в итоге размножения псевдонимов, авторских масок, — своеобразная симфоническая картина авторской личности, симфоническая или синтетическая конституция Кьеркегора-писателя. Приблизительно так на него смотрел и сам Кьеркегор. Каждый свой псевдоним он стремился представить как полноценного независимого субъекта, наделить его всеми необходимыми чертами для этого. Поэтому каждый псевдоним — не просто передатчик некоторых идей и даже не просто носитель определенной философской позиции. По замыслу, он должен иметь и определенные личные свойства, черты характера; в терминологии Кьеркегора, у каждой из его псевдонимных репрезентаций — своя экзистенция.
Для воплощения этого замысла весьма важен оригинальный литературный tour de force, устроенный философом в самом пространном своем сценарии, «Ненаучном послесловии». Одна из глав здесь носит очень кьеркегоровское название, «Истина как субъективность»; и к ней имеется приложение, озаглавленное «Об одном недавнем явлении в датской литературе». Поистине, это приложение — апофеоз субъективности! в нем автор — впрочем, под маской очередного псевдонима, Иоанна Климакуса — устраивает общую встречу, симпозиум всех своих псевдонимов, которых к тому времени уже набралось не меньше полдюжины. Климакус участвует в этой сходке в качестве, так сказать, модератора, он обсуждает, сопоставляет позиции и тексты собравшихся «авторов», выявляет личные качества этих авторов. С начала и до конца строго поддерживается видимость того, что в датской литературе появился целый отряд новых разных мыслителей; и их взгляды, их личности настоятельно требуют сравнения. Климакус проводит это сравнение, временами переходя на личности. Так, в адрес одной из масок, автора «Повторения» Константина Констанциуса, Климакус роняет: ну, и Констанциус! это интриганская голова, он ни от чего не отчаивается. В подобном же стиле и об остальных. Это могло бы быть литературной игрой в стиле романтиков; сегодня мы бы могли назвать это карнавалом (понятия Бахтина возникают естественно при анализе Кьеркегора); наконец, если бы это написала Татьяна Толстая или Михаил Шишкин, это был бы обычный современный прикол. Но у Кьеркегора это нечто другое, отличное от всех этих версий. Помимо его игр идентичности, философу важно, чтобы его различные концепции и позиции вошли в актуальное общение меж собой, и в этом общении взаимно проявляли и обогащали друг друга. Сообщество его масок — это и сообщество философских дискурсов, и своими приемами, будь они странны или нет, он демонстрирует, что члены этого сообщества находятся в определенных отношениях, в общении меж собой. И здесь мы вновь возвращаемся к Бахтину и к Достоевскому. Мы заключаем, что совокупный дискурс Кьеркегора есть полифонический дискурс в настоящем смысле понятия.
Полифонический дискурс, и при этом личностный, персоналистский. Многомерный, многосторонний диалог или, как иногда в литературоведении говорят, полилог. Это — добытое нами новое определение философского дискурса. Мы добавляем его к тому, что уже выяснили про пороговое сознание, и достигаем некоторого сводного определения философского способа Кьеркегора. Дискурс Кьеркегора в его общем типе мы можем характеризовать как философский и экзистенциальный полилог на пороге. Общая характеристика его может быть на этом закончена. Таковы общие структурные особенности, которыми и определяются все сценарии. Онтологическое размыкание — это задание жизнетворчества. А как исполняется задание? Оно исполняется как полилог на пороге.
Ну, и я думаю, что на этом… (Обращаясь к Д.К. Бурлаке) Как мы решим, описывать ли отдельные сценарии? Или лучше не приступать, поскольку это слишком опасно?
Д.К. Бурлака: Такой объем информации. Слушатели, наверное, хотят задать вопросы. Может, какой-то итог подвести, Сергей Сергеевич?
С.С. Хоружий: Мне кажется, с подведения итогов я наоборот начал. То, что у Кьеркегора ведущей философско-антропологической парадигмой является парадигма онтологического размыкания, — это, прежде всего, и завоевывает ему место в сегодняшнем антропологическом мышлении. Как мы убедились, антропологический контекст — действительно, адекватный контекст его мысли. Собственно же экзистенциальный дискурс, до которого я так и не дошел, — это скорее способы и детали исполнения. С тем же почти успехом сегодня можно было бы ухватиться за парадигму порога и говорить о «пороговом философствовании». Экзистенциальная интерпретация философски богаче, глубже пороговой, но и она — лишь одна из технических интерпретаций, которые касаются выбранных философом средств исполнения. Меж тем как общий тип философского задания, общий контекст — все это, несомненно, связано с появлением некоторой кардинально неклассической антропологии, которую адекватно называть антропологией размыкания. Строилась же она Кьеркегором, действительно, путем создания специального философского языка, который и был экзистенциальным языком.
Стоит сказать, что язык создавался очень трудно. В первых сценариях мы видим, что, в основном, у философа еще доминирует гегелевский жаргон. Он неустанно бранит Гегеля, но и бранить его он способен пока только на гегелевском жаргоне. Он твердо знает, что Гегель его в высочайшей степени не устраивает, но своего языка у него еще нет. И в первых книгах он с великим трудом, по зернышку, по кирпичику вылепливает один-два концепта, из которых постепенно накапливается альтернативный дискурс. Решающее продвижение — в «Ненаучном послесловии», где, в частности, наконец-то концептуализуется сакраментальная «экзистенция». Слово Eksistens, обыкновенное слово датского языка, у Кьеркегора фигурирует с самого начала. Но только в четвертой книге, невероятно плохо написанной и трудно читаемой, между десятками страниц, близких к графомании, философ отчетливо заявляет, что это слово обыденного языка необходимо понимать как особое понятие, и притом альтернативной природы. Так происходит философское событие: терминологизация экзистенции. Об этом сценарии, четвертом и самом объемистом, уже можно говорить, что здесь — не отдельные зерна экзистенциального способа философствования, а полноценный дискурс. По-своему интересна и структура сценария. Он из двух частей, «Философские крохи», где около 100 страниц, и послесловие к ним, где страниц 800. Очень типичные кьеркегоровские пропорции. Когда он разбирает понятие страха — это Третий сценарий — там рядом анализируются две формации, «страх перед злом» и «страх перед добром», демонический страх. Первому виду страха, основному и преобладающему у всех, посвящаются три страницы, необыкновенному и редкостному — сорок пять. Однако в итоге всего — экзистенциальный дискурс полноценно выстроен. За третьим сценарием следуют четвертый и пятый. В четвертом созданы основания дискурса, пятый же — краткий трактат «Болезнь к смерти», трактат об отчаянии, и он написан уже на новом языке, так что Гегель тут вкраплен лишь островками и остатками.
И, по поводу пятого же сценария, стоит упомянуть один момент, который связывает Кьеркегора с Православием. Связывает весьма специфично, по-кьеркегоровски. Напомню, что ряд текстов Кьеркегора, в том числе, и центральный, Четвертый сценарий, написан от лица псевдонима, который именуется Иоанн Климакус, т. е. Иоанн Лествичник. Как все мы знаем, преподобный Иоанн — Отец Восточной Церкви, и при этом подвижник, аскетический автор, написавший знаменитый трактат «Райская Лествица», где впервые систематизируется исихастская практика. Кьеркегор имел самые фантастические представления обо всем этом мире. Сценарий третий, трактат о понятии страха, он собирался выпустить под псевдонимом Омфалопсюхита, т. е. «Пуподушник» (потом был выбран другой псевдоним). «Пуподушник» — это ругательное прозвание, которое дали исихастам их противники, издевательски утверждая, будто бы суть исихастской аскезы в том, чтобы истово взирать на собственный пупок и от этого приходить в экстаз. В каких-то лютеранских учебниках при подготовке к богословскому экзамену Кьеркегор набрел на слово «Омфалопсюхита» и на имя «Иоанн Климакус». Имя ему невероятно понравилось, ему сразу представилась за ним фигура этакого торжествующего философа, который выстраивает свой интеллектуальный процесс как победное восхождение по лестнице. С подобной фигурой у него ассоциировался образ Гегеля; кто же такой подлинный Иоанн Лествичник, его, видимо, отнюдь не интересовало.
Так вот, когда от сценария к сценарию он всё глубже входил в христианскую религиозность, и путь его становился путем ко Христу, он решил, что сценарии, написанные от лица этого псевдо-Лествичника, слишком мало христианские, и им надо нечто противопоставить с истинно христианской точки зрения. Тогда он начал писать от имени анти-Климакуса, анти-Лествичника. Его Пятый сценарий, «Болезнь к смерти», — книга о том, какие препятствия человеку нужно преодолевать на пути к вере. Это — аскетическая тема, и книга, действительно, близка к аскетическому трактату. Именно здесь Кьеркегор ближе всего в своем творчестве подходит к миру православной аскезы, миру преподобного Иоанна Лествичника. И эту самую аскетическую из своих книг он надписывает именем анти-Лествичника. Это уже не игры идентичности, это курьезы невежества. Только оговорим: не столько личного невежества Кьеркегора, сколько того
невежества в знании друг друга, в котором пребывали тогда части христианского мира. На этом мы и закончим.
Спасибо.
Обсуждение
Д.К. Бурлака: Спасибо, совершенно превосходное выступление! Коллеги, постарайтесь, чтобы ваши вопросы к Сергею Сергеевичу не перерастали в получасовые прения.
Вопрос: (Девушка представляется, неразборчиво), Самарский университет. Сергей Сергеевич, если позволите вопрос такой. В чем сам Кьеркегор видел необходимость разрыва помолвки? И в чем же Кьеркегор видел онтологическую необходимость вот этого зависания на границе? Спасибо.
С.С. Хоружий: Понятно. Вопросы — из основных, просто мне некогда было самому проставить все точки над i. Что касается чисто биографического вопроса, то ответа на него нет. Биографы его не знают, истинная причина разрыва помолвки считается неизвестной, и каждый, как говорится, решает в меру собственной испорченности. Так, Лев Шестов утверждал, что дело, безусловно, в импотенции Кьеркегора, отчего я со слова «испорченность» и начал. Но это крайнее мнение, и в эту версию — как, впрочем, и во все другие — не всё укладывается в биографии Кьеркегора. Однако сказать я должен совсем другое: что по самой сути феномена Кьеркегора, ответа на этот вопрос и не может быть. Есть главный мотив, который даже слишком резко, слишком навязчиво доносится до нас с каждой страницы Кьеркегора. Это — невероятный акцент на обращенности внутрь, невероятный акцент на том, что только внутренняя жизнь, внутренняя реальность человека суть подлинная жизнь и подлинная реальность. Все выражения этого подлинного вовне так или иначе обречены быть ложными. Эта диалектика внутреннего и внешнего, диалектика невозможности истинного выражения внутренней реальности, принципиальна для Кьеркегора. И потому это главное из событий его внутренней реальности заведомо не имеет адекватного внешнего выражения. Пусть даже мы в точности знали бы биографию Кьеркегора в 1841 году, расписанную по дням, всё равно это была бы ложь.
Д.К. Бурлака: Игорь Иванович, пожалуйста.
И.И. Евлампиев: Сергей Сергеевич, у меня два вопроса, которые я хотел бы Вам задать. Первый касается Вашей оценки классической немецкой философии, Канта и Гегеля, в частности. Всё-таки, мне кажется, здесь есть некая чрезмерная однозначность. Как тогда Вы интерпретируете в рамках Вашего подхода известное суждение Канта о том, что он коперниканский переворот совершил, ведь человека в центр поместил…
С.С. Хоружий: Отнюдь нет! Разумеется, не человека, а субъекта.
И.И. Евлампиев: Ну, всё равно, коперниканский переворот.
С.С. Хоружий: Нет-нет-нет! Трижды «не всё равно».
И.И. Евлампиев: Ну, хорошо, я понял.
С.С. Хоружий: Ибо субъект — это уж точно не человек.
И.И. Евлампиев: Ну, а как тогда Вы относитесь…
С.С. Хоружий: Весь антропологический поворот, многотрудные усилия нескольких десятилетий, сводились, если угодно, к тому, чтобы похоронить субъекта — чтобы вслед за его кончиной смог ожить человек. Последнее и до сих пор еще не очень удалось.
И.И. Евлампиев: Ну, хорошо. А тогда как вот этот феномен неогегельянства…? Ведь тогда же Гегель тоже как-то не укладывается в такую однозначную модель.
С.С. Хоружий: Конечно, не укладывается. Всё, что я говорил о классическом немецком идеализме нужно понимать и не просто cum grano salis, а как великую вульгаризацию, которая справедлива только в узком, необходимом мне контексте.
И.И. Евлампиев: Хорошо, спасибо, да. Тогда уже по Кьеркегору, уже более важный вопрос. Вот то, что Вы говорили о Вашем понятии размыкания, очень напоминает понятие, собственно «экзистенции» Хайдеггера. Это ж тоже размыкание к бытию. Но тогда возникает вопрос: в чем тогда Вы видите разницу? Уж очень тут похоже и тогда важно понять принципиальное различие Вашего концепта размыкания и экзистенции Хайдеггера как некоего акта тоже выхода к бытию.
С.С. Хоружий: Вот здесь вопросы действительно важные и крупные — собственно, целая тема о концептах, так или иначе родственных размыканию. Но сформулированы они были слишком огульно и неточно. Если говорить об экзистенции, то она несомненно близка к размыканию. Но, во-первых, близость еще не совпадение, и в характере близости надо разбираться. Во-вторых, экзистенция есть уже и у Кьеркегора, а не только у Хайдеггера, и мне глубоко непонятно, почему Вы увидели сходство именно с Хайдеггером, хотя для начала следовало бы сближать с Кьеркегором. А третье, самое существенное, в том, что у Хайдеггера существует обширный и достаточно сложный дискурс размыкания, в котором концепт экзистенции — совсем не главная часть.
История размыкания у Хайдеггера, как я бы выразился, драматична. В Sein und Zeit это одно, в средний период — другое, а у позднего — еще третье. Все эти этапы я разбираю, равно как связь каждого из них с концепцией размыкания в синергийной антропологии. К сожалению, этот анализ пока еще не опубликован. Тем не менее, существует развернутый ответ, и он, в частности, говорит, что ни с одним этапом Хайдеггера полной близости у меня нет. Философская проблематика здесь довольно сложна, и я из нее, пожалуй, отмечу всего два момента. Во-первых, нужно различать размыкание в его интериоризирующих и экстериоризирующих предикатах. Размыкание я для простоты охарактеризовал как обращенность вовне, но оно реализуется и как обращенность на себя, как проработка собственной внутренней реальности, ее выведение из состояния сращенности, неразличенности ее содержаний. Во-вторых, необходимо напомнить, что в «Бытии и времени» размыкание фигурирует прямо и буквально, под собственным именем, Erschliessung, или Erschliessen. Это — едва ли не единственный случай в современной философии; как правило, и у Кьеркегора, и у других употребляются лишь те или иные близкие термины. Это сохранено в переводе В.В.Бибихина, там Erschliessung передается как «размыкание» или же «разомкнутость». И кстати, в «Бытии и времени» размыкание направлено как раз внутрь. Dasein размыкает самоё себя, не «себя навстречу чему-то», а именно себя, в экзистенциалах, прежде всего, понимания и расположенности (которая, как мы помним, у Хайдеггера означает настроение). Но это уже технические вопросы. Существенно же понимать, что размыкание направляется, вообще говоря, и вовне и внутрь, что оно передается многими терминами, и что в современной мысли существуют многоразличные аватары размыкания, находящиеся в достаточно сложных взаимоотношениях. Эти отношения я все честно разобрал, но текст еще не опубликован.
Н.В. Кофырин: Сергей Сергеевич, не кажется ли Вам, что эта непрекращающаяся философия в череде сценариев является своего рода страхом перед реальностью, некоторой неуверенностью в себе?
С.С. Хоружий: А что в открытые ворота ломиться? Самому Кьеркегору так безусловно и казалось, этими мотивами насыщены его отношения с собой…
Н.В. Кофырин: Его философия была замещением его реальной жизни.
С.С. Хоружий: Нет-нет. Для начала Вы сказали что-то абсолютно верное, чтобы потом быстро соскользнуть невесть куда. Что такое «реальная жизнь» — вот это уже, знаете, для Вас одно, а для Кьеркегора, чувствуется, абсолютно другое. Тут Вы с ним уже никак не совпадете. Что же касается страха, то Кьеркегор, как мы знаем, написал трактат о страхе. Он полагал, что страх — это из самых ценных достояний человека, одно из самых экзистенциально продуктивных состояний, расположений. Он говорил, что чем меньше духа, тем меньше страха. Интенсивность страха для него была верным показателем, одним из критериев не душевной, а духовной глубины. И так далее. И, конечно, сам он всю жизнь прожил в страхе, следя притом, чтобы страх его не покинул.
Р.Н. Дёмин: Сергей Сергеевич, я хотел поблагодарить Вас, прежде всего, за прекрасный доклад. И спросить следующее: когда и в каком контексте Вы познакомились с философией Кьеркегора? И когда Вы стали обращать внимание, что он, по Вашему выражению, является в известной степени предшественником синергийной антропологии? Когда это было?
С.С. Хоружий: Ну, это довольно личный, как говорится, вопрос. Разумеется, сначала я, как всякий обучающийся философии, должен был просто познакомиться с Кьеркегором как с частью ее истории. Впрочем, это знакомство происходило тогда, когда отношения наши с литературой имели техническую затрудненность благодаря партии и правительству. Поэтому я боюсь, что сначала я, как многие, прочел Пиаму Павловну Гайденко. Тогда, по молодости, ее книга мне показалась очень хорошей — да, наверное, она и была лучшим, что тогда, учитывая все обстоятельства, могло быть у нас о Кьеркегоре написано. Но тогда никаких личных философских отношений с Кьеркегором отнюдь не сложилось. Никаким фактором в моем философском становлении, высоко выражаясь, он не стал. А вот когда синергийная антропология уже существовала, и я реконструировал, глядя из неё, философский процесс, тогда я постепенно увидел, что в этом процессе Кьеркегор является фигурой, наиболее близкой к тому, что я делаю.
С. Попова: Светлана Попова, философский факультет СПбГУ. У меня возник такой вопрос. Здесь прозвучало «карнавал» в контексте четвертого произведения Кьеркегора. И возникает такой вопрос: можно ли в принципе считать это произведение началом вот этой самой полифонии, о которой пишет Бахтин? Вместе с тем, здесь прозвучала такая вещь как «модератор», как модератор именно этого произведения, т. е. автор выступает модератором. Вот здесь хотела спросить, в каком контексте выступает понятие «модератор»? Ведь модератор — это когда у нас собран круг из пяти человек, и кто-то в этой дискуссии выступает модератором. Или модератор — это автор, который описывает дискуссию этих пяти человек, и тогда мы говорим о полифонии? Ну, и второй вопрос: почему человек — это «трояко размыкающее»?
С.С. Хоружий: Последнее — это уже я, а не Кьеркегор. Так называется мой текст, один из основных моих текстов. Называется же он так потому, что, согласно синергийной антропологии, человек осуществляет три вида размыкания, которые для него конститутивны: онтологическое, онтическое и виртуальное. В лекции же шла речь только об онтологическом размыкании, поскольку у Кьеркегора фигурирует единственно лишь оно.
Теперь по поводу полифонии. В моем изложении, боюсь, наложились друг на друга две различные вещи. Есть обсуждавшийся нами эксцентрический текст на шестидесяти страницах в «Ненаучном послесловии», где Климакус устраивает собеседование, рассаживает всех персонажей и их друг с другом сравнивает и стравливает. Называть это полифонией? Нет, конечно. Это литературная игра, скажем так, экзистенциальная игра, эксцентрика. Полифонией является совсем другое. Полифонией является весь ансамбль из шести сценариев. Вот здесь, применительно к этому литературному целому, слово «полифония» может пониматься уже совершенно всерьез, и я, как говорится, положив Бахтина, с одной стороны, и Кьеркегора, с другой, вполне берусь доказать, что у Кьеркегора полифония имеет место. Но текст со встречею масок все же тоже имеет касательство к полифонии: в нем автор указывает, что разные его тексты — во взаимной связи, общении, перекличке. Можно считать его своего рода заявкой или намеком автора на полифоничность его дискурса.
С. Попова: Спасибо большое.
Вопрос: У меня очень простой вопрос. Что по-Вашему человек?
С.С. Хоружий: Это, как известно, предмет антропологического дискурса, который мы все в меру сил понемногу развиваем. Синергийная антропология — это один способ описания, который, как мне кажется, хотя бы отчасти применим к тому, как человек себя проявляет сегодня. Разумеется, он не претендует на исключительность. Тут уже вспоминали название одного моего текста, которое звучит как ответ на Ваш вопрос — «Человек, или сущее, трояко размыкающее себя». Можно считать эту формулу неким рабочим ответом с позиций синергийной антропологии — но только сугубо рабочим: указывающим лишь некую постановку темы о человеке.
Д.К. Бурлака: Коллеги, у нас тема Кьеркегор, так что давайте её придерживаться в вопросах.
Девушка из Самарского университета напоминает, что часть её вопроса осталась без ответа.
С.С. Хоружий: Кажется, да, была еще часть вопроса. Повторите ее, пожалуйста.
Вопрос: Спасибо. Я еще спрашивала о необходимости, об онтологической необходимости «стояния на пороге» для самого Кьеркегора. И вот сейчас мне еще пришло в голову, что с одной стороны, у Кьеркегора ведь мотив размыкания и открытости, а с другой стороны это стояние на пороге, не является ли наоборот закрытостью?
С.С. Хоружий: Возможно, я не четко произнес дефиницию, но ответ содержится прямо в ней. Пребывание на пороге, в пороговом типе сознания означает, что в сознании одновременно присутствуют и открытость и замкнутость, вопреки тому, что они друг друга полностью исключают. Это можно называть и катастрофическим типом сознания, или еще иначе. Два несовместимых, взаимно исключающих полюса одновременно присутствуют в сознании. Человек понимает, что между ними необходимо сделать выбор, он постоянно повторяет себе: да, нужно сделать выбор, я совершаю выбор… и так может продолжаться всю жизнь — или до коллапса сознания.
В. Комаров: Священник Владимир Комаров, студент РХГА. Когда Вы провели некоторую параллель между внутренним конфликтом Ивана Карамазова и Сёрена Кьеркегора, у меня возник вопрос…
С.С. Хоружий: Простите, я сразу же усилю. Я сильнее даже вижу их сходство, я говорю об экзистенциальном тождестве Ивана Карамазова и Кьеркегора по структуре сознания.
В. Комаров: Ну, если мы вспомним Достоевского, то видим, чем закончился, собственно говоря, для Ивана Карамазова его конфликт — он закончился для него беснованием. Собственно говоря, к нему приходит бес. Как Вы думаете…
С.С. Хоружий: Что значит закончился? Во-первых, надо вспомнить, что как нас Бахтин обучил, да и любой читатель согласится, у Достоевского ровно ничего не заканчивается, и это глубоко принципиально. Поэтому и судьба Ивана открыта.
В. Комаров: Нет, просто, понимаете, возникла такая мысль, наверное, ошибочная, что, собственно говоря, конфликт Кьеркегора не закончился ли, как ни странно, тем же самым банальным беснованием? Эксцентричные поступки, супер-внутренний конфликт, который не ведет ли… Если мы посмотрим как православные люди, попробуем оценивать его духовно. Не есть ли это то же самое?
С.С. Хоружий: Совершенно очевидно, что такая интерпретация возможна. Это стандартная ортодоксально-фундаменталистская интерпретация. Датская церковь Кьеркегора так никогда и не простила, с ее позиций его военный поход против нее приблизительно так и трактовался, как Вы говорите. В терминах же философского анализа, а не идеологических оценок, это — интерпретация с сугубо внешней позиции, не пытающаяся проникнуть внутрь, в ту самую внутреннюю реальность, где, по Кьеркегору, только и обитает истина.
Д.К. Бурлака: Датская Церковь лютеранская, да?
С.С. Хоружий: Да, конечно. Она как раз во времена Кьеркегора стала государственной церковью, что представляет собой, в известном смысле, предел институализации. Понятно, что это лишь увеличивало конфликтность в отношении Кьеркегора к своей церкви (хотя, впрочем, он до последних лет жизни думал о том, чтобы занять должность пастора). Только когда Кьеркегор в середине XX века сделался великой фигурой для протестантского теологического мышления, датской церкви ничего не осталось другого как почтить Кьеркегора, открыть музей Кьеркегора и так далее. Но конфликт, разумеется, остался. Однако в целом, тема здесь тонкая, существенны детали и оттенки, и, как говорится, в сапогах сюда лучше не заходить.
Д.К. Бурлака: Сергей Сергеевич, а можно ли сказать, что Иван Карамазов бесноватый? Ведь явился ему бес, бесы и подвижникам являлись.
С.С. Хоружий: Нет-нет, Вы смешиваете эпизоды, там всё есть. Беснование у Ивана произошло слегка позднее, не тогда, когда черт явился, а потом на заседании суда. В свое время припадок состоялся. А как у Достоевского без припадка?
В. Дробышев: Кьеркегор творил в русле западной традиции, которая в известной степени пантеистична…
С.С. Хоружий: Как Вы её обругали? Пантеистична? Нет, ну с какой радости такую шапку вдруг над западной мыслью воздвигать?
В. Дробышев: Я имею в виду Экхарта, Бёме, Гегеля и так далее. В этой связи для синергийной антропологии существенно то, что человек, приобщаясь к Божественной энергии, не приобщается к Божественной сущности? Вот в этой связи…
С.С. Хоружий: Нет-нет, простите. Не приобщается он Сущности. С Вашего позволения, согласно православному догматическому положению, Сущности даже Вы не приобщаетесь, должен Вас разочаровать.
В. Дробышев: В этой связи Кьеркегор с позиций синергийной антропологии не противоречит этому тезису?
С.С. Хоружий: Простите, Вас не расслышал: что чему противоречит? Точнее, Кьеркегор противоречит, но чему именно?
В. Дробышев: Я имел в виду, что западная традиция пантеистична, ну, Экхарт, Бёме…
С.С. Хоружий: Как Вы понимаете пантеизм, что Вы под пантеизмом понимаете?
В. Дробышев: Попытка приближения к Богу, слияние с сущностью Бога. В то время как синергийная антропология проповедует что…
С.С. Хоружий: Секуляризованная мысль продвигается, если уж надо какую-то шапку, к атеизму, а не к пантеизму.
В. Дробышев: Разница, на самом деле, не очень большая, если внимательно присмотреться.
С.С. Хоружий: Вообще для истории мысли разница здесь есть, и для интеллектуального процесса это разница весьма немалая.
В. Дробышев: Я собственно хотел спросить, Вы считаете, что Кьеркегор соответствует синергийной антропологии, т. е. он находится на такой позиции, что человек не может приобщиться сущности Бога? Но у Кьеркегора нет энергийного дискурса.
С.С. Хоружий: В этих терминах я о Кьеркегоре не говорил, но тем не менее говорить законно и можно. Дискурс у Кьеркегора, действительно, не энергийный. Но он и не эссенциалистский, что весьма важно. Я не входил сейчас в сами философские конструкции, как Вы помните, даже до экзистенции не добрался. Но, если бы я в них начал входить, то при описании первого же сценария подчеркнул, что из эссенциалистского философствования он выходит. С эссенциализмом у него нет особой явной полемики, такой как с Гегелем; но тем не менее позиция и здесь абсолютно определенная. В современных терминах, мы можем в некотором широком смысле сказать, что его позиции приближаются, тяготеют к энергийному дискурсу. Возможна такая обобщенная интерпретация, в которой экзистенциальный дискурс рассматривался бы, огрубленно выражаясь, как некая вариация на тему энергийного дискурса. Ибо это тоже попытка выхода из эссенциалистского дискурса — в сравнении с энергийным дискурсом, половинчатая, не столь радикальная, но направляющаяся в ту же сторону.
Д.К. Бурлака: Нет больше вопросов к Сергею Сергеевичу? Ну, коллеги, вопросы уже пошли по второму, по третьему кругу… Мы же в христианской академии, надо с состраданием к ближнему относиться. Сергей Сергеевич ведь говорил, что с раннего утра участвовал в семинаре. Я понимаю, набросились, увидели, просят побыть еще. Давайте поблагодарим Сергея Сергеевича.
С.С. Хоружий: Очень рад, спасибо!
Д.К. Бурлака: Всем спасибо, закрываем сегодняшнее заседание.
ФИЛОСОФИЯ ПОД АНТРОПОЛОГИЧЕСКИМ УГЛОМ ЗРЕНИЯ
Доклад на заседании Ученого совета ИФ РАН. Москва, 14 июня 2007
Почтеннейшие коллеги, благодарю за честь выступить в этом ученом собрании. Насколько я понимаю, замысел нашего цикла докладов в том, чтобы каждый из нас поведал, как в перспективе его собственного опыта, его идей представляется современная ситуация нашего общего дела – философии и философствования.
Уже немалое время опыт моей работы связан, в главном и основном, с созданием, а затем с развитием некоторого научного направления, которое сегодня называется синергийной антропологией. Таким образом, моя задача – раскрыть, как в призме синергийной антропологии ставится и решается проблематика оснований философии, и как в ней видится сегодняшняя философская ситуация. Но тут имеется дополнительная особенность: синергийная антропология – еще довольно новое направление, которое, по всей видимости, не слишком знакомо аудитории (хотя, между прочим, в стенах института, и даже именно в этом зале, уже два года как действует семинар по этой тематике). В силу этого, прежде чем перейти к самой теме, мне требуется дать хотя бы краткую характеристику синергийной антропологии.
Синергийная антропология – определенный общий подход к феномену человека, причем, в целом, подход не философский, а синтетический, полидискурсный, конкретнее же – трансдисциплинарный. В своей трансдисциплинарной природе, он родствен, например, подходу автопоэзиса, который активно развивается в нашем институте Владимиром Ивановичем Аршиновым. Но это родство – главным образом, типологическое и достаточно ограниченное. Конечно, у синергийной антропологии есть сеть родственных связей, однако в своей основе, как равно и в процессе создания, в генезисе, это направление полностью самостоятельно. Поэтому описывать его следует ab ovo, отправляясь от его базовых идей и структур. При этом, ясней всего наш подход выступает, если мы рассматриваем его в диахронии – по этапам развития, начиная с генезиса. Тогда сразу выявляется и логика его идей, и характерная для него проблематика. Поэтому для начала я кратко и поэтапно опишу, как складывался замысел синергийной антропологии и возникали ее основы.
Исходным этапом послужило фронтальное и опять-таки трансдисциплинарное исследование исихазма. Более точно, осуществлялись не исследования конкретных явлений в истории исихазма, но полномерная реконструкция исихазма как такового, как определенного духовного и антропологического феномена. Напомним, что исихазм (от греческого «исихия», что значит покой, безмолвие) – древняя духовная практика православия, которая развивается с IV века и по сей день и в своей основе имеет особое искусство непрерывной молитвы. Бесспорно, это – весьма специфическое явление и, на первый взгляд, крайне далекое от философии. Когда я им начинал заниматься (а было это еще в 70-х годах, в какой-то мере совместно с Владимиром Вениаминовичем Бибихиным), даже и само слово «исихазм» было очень мало кому знакомо в России. В эмигрантской мысли, в западной науке задачи всестороннего изучения, современной реконструкции исихазма тоже не ставились. Встает вопрос: откуда же и зачем взялась моя постановка задачи? В каком контексте, в какой логике идей возникает необходимость поставить в центр внимания исихазм как целое и заняться всесторонним осмыслением этого целого?
К исихастской тематике я был выведен логикой развития русской философской традиции и шире, восточно-христианского дискурса – собственного оригинального способа мышления, выработанного византийским православием. Эта логика подводила к тому, чтобы увидеть в исихазме духовное ядро восточно-христианского мироотношения и видения реальности; а отсюда, в силу историко-культурной трансляции, он оказывался ядром также и русского мироотношения и видения реальности. Долгое время это ядро пребывало подспудным, его роль недопонималась, и, в самом деле, весьма назрела необходимость выдвинуть его на подобающее место и продумать на современном уровне. Но эта логика, исходящая из проблем русской философии и восточно-христианского мышления, в дальнейшем оказалась скорее частной и не самой существенной. Главное значение и главная эвристическая ценность исихазма обнаружились в иных и более общих аспектах. И в итоге, когда все это было постепенно осознано, изучение исихазма вылилось в большую программу, которая, завершившись, затем продолжилась за пределы исихазма и пошла своим путем, к целям, которые ранее мною не предвиделись и лежали уже в сфере общей антропологии. Непрерывно развиваясь, этот путь и привел к формированию синергийной антропологии,
Можно считать, что реконструкция исихазма как целостного феномена служит первым структурным блоком синергийной антропологии, в известной мере, фундаментом всего ее комплекса. В исихазме мне удалось, пожалуй, опознать новый класс антропологических явлений, который прежде особо не выделялся, не был в науке идентифицирован, а тем не менее, имел принципиальное значение для антропологии как таковой, для понимания феномена Человека. Здесь была практика самореализации человека в бытии, практика, в которой главным было ее онтологическое измерение и которая занималась выстраиванием фундаментального онтологического отношения человек – Бог, человек и абсолютное бытие, или же обобщенно – человек и Иное человеку как таковому.
В привычной для нас новоевропейской традиции, это фундаментальное онтологическое отношение было исключительным предметом разума и философии. Оно ими разрабатывалось, культивировалось и составляло их прерогативу. Эта прерогатива философского разума всегда, как известно, оспаривалась религией, и на этой почве развертывалась извечная тяжба философского и религиозного разума, которая, по сути, и составляла главное содержание истории умозрения в течение многих веков. Эпохой секуляризации эта тяжба давно уже была решена в пользу философии. Но здесь, в исихазме, а также и вообще в духовных практиках, классическим образцом которых был исихазм, прерогатива вновь пересматривалась. Здесь выдвигался свой подход к этому же фундаментальному, конституирующему человека отношению. Подход этот, если внимательно взглянуть, оказывается отличен не только от философского, но также и от религиозного, каким тот обычно представляется в западной культуре. Специфическое отличие подхода духовных практик состояло в их преимущественной и пристальной сосредоточенности на антропологии. Здесь развивались определенные тщательно организованные и отрефлектированные антропологические практики, которые – что первостепенно важно! – были также наделены мета-антропологическим измерением. За счет последнего в них и осуществлялась конституция фундаментального онтологического отношения – причем данное отношение конституировалось как трансцендирование Человека. Разумеется, в новоевропейской традиции тематизация трансцендирования всегда представляла собой сугубо философский предмет; но здесь такая тематизация возникала в совершенно иной перспективе. Принималось, что проблематика трансцендирования – не предмет философской речи, а дело определенной антропологической и мета-антропологической практики.
Однако каким же образом духовные практики и, конкретно, исихазм, осуществляли столь дерзостное предприятие? В истории известно лишь самое малое число полностью развитых духовных практик, и в каждом случае создание подобной практики было многотрудной работой, занимавшей несколько столетий. Трансцендирование как антропологическое задание – вещь не только необычайная, но попросту невозможная для обыденного и рационального разума; и для преодоления этой невозможности необходимо было развить некоторые также необычайные, весьма специфические средства. Человеку требовалось достичь актуальной онтологической трансформации, претворения себя в иной образ бытия – что в восточнохристианской традиции именуется обожением. Путь к такой цели, отсутствующей в горизонте наличного бытия (т.е. представляющей собой транс-цель, цель-телос), заключался в выстраивании некой специфической антропологической и мета-антропологической практики, продуцировании особого рода антропологического опыта. Уже на первых этапах уяснилось, что для продвижения к инобытийному телосу необходимо иметь путевую инструкцию, антропокарту пути, и строго, точно следовать ей. Опыт духовного пути должен быть организован и методичен: как я показал, он должен иметь собственный органон, в аристотелевском смысле, т.е. полный канон своей организации, верификации и интерпретации. И лишь полноценный органон способен служить состоятельной путевой инструкцией трансцендирования как антропопрактики.
Создание органона и является той работой, которую в течение веков выполняет «духовная традиция», понимаемая как сообщество адептов определенной духовной практики. Научное же изучение данной практики должно реконструировать этот органон, причем для научного подхода задача сразу удваивается: мы должны восстановить точно тот органон, который создан духовной традицией и существует в ее сознании и на ее специфическом языке; но мы также должны дать и наш научный взгляд на него, что означает – дать его перевод и интерпретацию в рамках современного научного языка и методологии. В первом случае, по вводимой мною терминологии, мы получаем «внутренний органон» духовной практики, во втором случае – «внешний участный органон» (термин «участный» отражает установку участности, без которой для внешнего, в частности, научного сознания невозможно адекватное понимание опыта духовной практики).
Систематическое описание этих двух органонов для случая исихастской практики составляет основу «исихастского этапа» построения синергийной антропологии. Здесь въявь представлены и проанализированы все компоненты органона: аппарат постановки опыта, его организации, затем – аппарат проверки, критериология (в духовных практиках она важна чрезвычайно, ибо, ввиду инобытийности телоса, практике всегда грозит опасность сбиться с пути, или же «впасть в прелесть», приняв ложный опыт за истинный). Затем идет исихастская герменевтика, представляющая большой интерес необычностью, своеобразием своих принципов; и все здание завершается процедурами интеграции получаемого опыта в корпус совокупного опыта традиции. Оба возникших органона были достаточно новы для европейской эпистемологии. Это неизбежно было уже по новизне их предмета: они отвечали опыту холистической аутотрансформации человека, ориентированной к онтологическому трансцендированию. Как заранее ясно, органон подобного опыта кардинально отличался от наиболее знакомого европейской мысли позитивистского органона субъект-объектного познания. Отличался он и от другого известного органона, феноменологического органона интенционального опыта – но в этом случае, наряду с отличиями, обнаруживаются и весьма интересные, глубокие сближения, параллели, сходства, так что, в итоге, возникает отдельная содержательная тема «феноменология и исихазм», где, в частности, выявляется базисная роль парадигмы интенциональности в духовных практиках.
Но главная линия развития движется в ином направлении. При общем обозрении исихастского органона в нем обнаруживается целый ряд элементов, отражающих тот факт, что исихастская практика развивает собственный оригинальный взгляд на человека: в отличие от классической европейской антропологии, она не сопоставляет ему ни сущности, ни каких-либо восходящих к ней отвлеченных характеристик, но рассматривает его как энергийное образование, совокупность всевозможных и разнонаправленных энергий. Это неклассическое энергийное видение человека закодировано в содержании внутреннего органона: за специфическим дискурсом восточнохристианской религиозности, византийского или русского монашества, за сугубо рабочим, техническим языком аскетического делания скрываются очертания цельной энергийной антропологии, открываемой в школе исихастского опыта. Исихастский органон может рассматриваться как образец базы неклассического антропологического мышления. Среди его элементов рассеяны принципы, термины, установки, таящие в себе общеантропологический смысл. Такие элементы несут потенциал обобщения, обладают эвристической продуктивностью и подсказывают путь выхода в более общий антропогоризонт. Их следовало выявить – и превратить в концепты. Сейчас я укажу лишь важнейшие примеры конституируемых таким путем концептов неклассической антропологии.
Путь опыта духовной практики имеет ступенчатое строение, ему отвечает знаменитая парадигма «Райской лествицы» (по названию трактата 7 в., в котором впервые были представлены все ступени). Будем продвигаться от подножия лестницы в нашем обзоре концептов. Процесс онтологической (ауто)трансформации начинается с исходного события обращения и покаяния, наиболее адекватно выражаемого греческим термином метанойя, «перемена ума». Это – радикальное потрясение и всецелый переворот во внутреннем мире человека, в итоге которых человек избирает своей доминирующей стратегией восхождение к Инобытию. В этом событии достигается еще не открытость или разомкнутость человека к Инобытию, но готовность, стремление к такой открытости – что можно называть «предразмыканием» человека. Далее, продвигаясь к центральной части Лестницы, мы встречаем одно из ключевых понятий исихастской практики: трезвение, или непсис (греч.). Это – установка собранного, бдительного самоконтроля сознания, в которой сознание, преодолевая антиномию активности и пассивности, фокусируется на собственной энергийной конфигурации и охраняет ее от всех «помыслов», рассеивающих и деформирующих импульсов. Именно с трезвением, в первую очередь, связаны вышеупомянутые сближения между исихастским органоном и феноменологической парадигмой интенционального опыта. Как было мною прослежено, существует многоаспектная, далеко идущая параллель между трезвением и интенциональностью: оба понятия выступают как порождающие ядра концептуальных комплексов, которые характеризуют определенный модус сознания, отличаемый установкой нацеленного интеллектуального всматривания.
Подступы к высшим ступеням восходящего процесса – это подступы к встрече человека с Инобытием. Для исихастского и православного энергийного видения, такая встреча есть встреча их энергий – их взаимное сообразование, соработничество, которое в византийском богословии получило название синергии. Именно в этой византийской концепции оказался заложен наибольший эвристический потенциал. Она оказалась самой существенной для формирования новой антропологии, ибо событие синергии наделено максимальной онтологической и антропологической значимостью. В нем человек достигает соединения своих энергий с некими энергиями, которые опытно опознаются им как не принадлежащие ему, имеющие свой источник не в нем, и даже не где-либо в пределах горизонта его сознания и опыта, а за пределами этого горизонта; иначе говоря, - как принадлежащие некоторому внеположному истоку, являющиеся энергиями Инобытия, онтологического Иного. Но, коль скоро энергии человека достигают свидетельствуемого опытом контакта с энергиями Иного, это значит, что человек сумел сделать свои энергии открытыми для восприятий энергий Иного. Тем самым, он сумел сделать себя открытым навстречу Иному, сумел разомкнуть свой бытийный горизонт в его энергийных измерениях. Поэтому можно говорить, что синергия представляет собою не что иное как антропологическое размыкание. Очевидно, что в подобном трансцендирующем размыкании человек достигает полноты самореализации, достигает своего бытийного исполнения, – и это, в свою очередь, означает, что событие размыкания антропологически конститутивно.
Итак, в синергии (или антропологическом размыкании) мы обретаем уже не просто очередной элемент неклассической концепции человека, но сам конститутивный принцип такой концепции: неклассический принцип конституции человека. Именно по этой причине опыт неклассической антропологии. начинающий постепенно формироваться здесь, получает название синергийной антропологии. Парадигма синергии, размыкания человека, оказывается тем ключом, посредством которого возможно развить цельную антропологическую дескрипцию.
Однако на пути к цельной дескрипции, основанной на парадигме размыкания, лежит еще ряд необходимых этапов обобщения. Этап ближайший – распространение найденных концептов и парадигм на всю область духовных практик, то есть на все классические практики восточных духовных традиций, такие как классическая йога, буддийская тантра, дзэн, даосизм. Самым же близким соседом исихазма в мире духовных практик является исламский суфизм, которому был как раз посвящен вчерашний доклад в нашем семинаре по синергийной антропологии; докладчиком же был здесь присутствующий Ильшат Рашитович [Насыров]. Существенно, что развитый аппарат – и, прежде всего, исходная идея характеризации практики посредством двоякого органона – оказался эффективным для дескрипции и анализа не только общих элементов духовных практик, но также и их различий. В частности, получает отчетливую концептуализацию фундаментальная бифуркация в сообществе духовных практик, порождаемая существованием двух противоположных реализаций телоса, динамической (личное бытие-общение) и статической (Нирвана или Великая Пустота, превыше оппозиции бытия и небытия). Очевидно также, что наличие универсальных концептов, таких как органон практики, создает удобную базу для компаративных исследований, а неклассичность новых концептов делает их более приспособленными для дескрипции восточных практик с их крайне специфическим неаристотелианским дискурсом. Однако работа конкретной реконструкции органонов восточных практик сложна и почти необозримо обширна. Она остается существенной частью рабочей проблематики синергийной антропологии; ведутся, в частности, исследования концептуальных оснований суфизма, дзэна.
В плане дальнейшего продвижения, главным итогом исследования духовных практик служит развернутая дефиниция общей «парадигмы духовной практики», сводящая воедино важнейшие структурные черты всякой духовной практики как таковой. Шаг, следующий за этим, должен являться уже заключительным обобщением, переходом к общей антропологической концепции. Суть этого перехода составляет рефлексия конститутивной парадигмы размыкания человека, выясняющая возможность ее универсализации. Здесь обнаруживается, что синергийное размыкание, усмотренное нами в духовных практиках, не является единственным видом размыкания человека. Как показывает богатый антропологический опыт, человек может оказываться открытым, разомкнутым не только по отношению к Инобытию; его размыкание может быть и не онтологическим размыканием.
Известна обширная сфера антропологических феноменов, где также во внутренней реальности человека осуществляется контакт его – его энергий – с некоторыми энергиями, которые он опознает как не принадлежащие ему, и источник которых он не может локализовать нигде в горизонте своего сознания и опыта. Но в этих феноменах человек не ставит задачи трансцендирования, не идентифицирует себя с определенным образом бытия («здешним бытием»), стремящимся к претворению в Инобытие; а вместо этого, репрезентируется как сущее, наделенное сознанием, самосознающее. Соответственно, в данном случае возможно, что источник «иных» энергий является внеположным человеку и его опытному горизонту не онтологически, а только онтически. Являя собой, по самому своему смыслу, «Иное» человеку, он может при этом представлять не Инобытие, а всего лишь «Иносущее». Именно такой род внеположности имеет место для бессознательного: по самому определению, оно – за пределами горизонта сознания, горизонта человеческого опыта, но при этом ему не сопоставляется иной онтологический модус. Тем самым, в его лице перед нами – другая репрезентация Иного, отличная от онтологического Иного (Инобытия). С этой репрезентацией человек также завязывает отношения, и ясно, что механизм этих отношений вновь представляет собой именно антропологическое размыкание – осуществление энергийной открытости человека Иному. Существенно, что, хотя это размыкание уже не есть трансцендирование, не есть синергия, оно остается конституирующей парадигмой: как известно, процессы, индуцируемые энергиями бессознательного (неврозы, мании, фобии и проч.), индуцируют специфические топологии сознания, а отсюда и определенные (патологические) структуры личности и идентичности человека.
На этой стадии универсализации размыкания пора ввести и универсальную терминологию. «Энергии человека» – не вполне ясный, недоопределенный концепт; в силу глубоких причин, формирование корректного философского концепта «антропологической энергии» есть трудная и нерешенная проблема. Поэтому в синергийной антропологии в качестве базового термина избирается менее содержательный, но зато полностью корректный термин «антропологические проявления». Размыканию человека соответствует определенный класс таких проявлений, а именно «предельные проявления» – такие, в которых человек приближается к пределам горизонта своего существования и опыта, что выражается в начинающихся изменениях существенных характеристик, предикатов этого горизонта. В силу конститутивности размыкания, предельные проявления играют определяющую роль в конституции человека; или же, иными словами, человек в существенном определяется своими предельными проявлениями. Отсюда явствует необходимость ввести еще одно понятие: полную совокупность всех предельных проявлений человека мы называем антропологической границей. Как видно из нашего рассуждения, смысл данного понятия тот же, что у философского концепта границы: граница явления или предмета, ограничивая его, придает ему определенность и служит его определением. Определяя конституцию человека, антропологическая граница в известной мере служит заменой или аналогом классического концепта сущности человека. Что весьма важно, она не пространственна, не субстанциальна, но является сугубо энергийным образованием.
Как мы убедились выше, к антропологической границе принадлежат два разных вида предельных проявлений, которые отвечают размыканию человека, соответственно, к онтологическому Иному (Инобытию) и онтическому Иному (бессознательному). В силу очевидной дихотомии: Иное может быть репрезентировано либо онтологически, либо онтически, – Иное человеку не имеет других репрезентаций. Но, несмотря на это, у человека имеется еще один способ быть разомкнутым. Как нетрудно заметить, он оказывается разомкнут также и в виртуальных практиках, которые сегодня становятся все более массовыми. Согласно преобладающей трактовке виртуальности, обосновывавшейся, в частности, и в моих текстах, виртуальные феномены отличаются от актуальных ключевым свойством недоактуализованности, недовоплощенности, которое означает отсутствие какой-либо части определяющих предикатов. Конституция антропологических проявлений, отвечающих виртуальным практикам, недовершена, и потому эти проявления суть предельные проявления, лежащие на границе горизонта человеческого существования. Поскольку же проявления человека здесь недоактуализованы, недовершены, то, в этом смысле, человек в них открыт, разомкнут – хотя на сей раз, не навстречу энергиям Иного, а только навстречу потенциальному довершению своих проявлений. Такой род разомкнутости можно назвать также и «недозамкнутостью» (если рассматривать обычные, до конца актуализованные проявления как «замкнутые в себе»).
Размыкание в бытии, размыкание в сущем, виртуальное размыкание-«недозамыкание» – этими тремя видами, как ясно уже, исчерпывается размыкание человека. Антропологические проявления, соответствующие этим видам размыкания, исчерпывают антропологическую границу, образуя на ней три области, которые мы именуем, соответственно, Онтологической, Онтической и Виртуальной топиками границы. И, поскольку размыкание антропологически конститутивно, эти структуры размыкания задают основу цельной трактовки человека: человек может быть определен как сущее, трояко размыкающее себя.
Выделив полный репертуар способов размыкания человека, мы получаем основу, каркас синергийной антропологии как некоторого антропологического дискурса, способа описания-означивания антропологической реальности. Философ должен спросить: что это за дискурс, каковы его природа и статус? Ближайшим ответом будет: полученный дискурс есть некоторая антропологическая модель, т.е. концептуальная конструкция, предназначенная для описания определенной области антропологических явлений. Как нетрудно увидеть, все рассуждение, ведущее к появлению синергийной антропологии, развертывалось именно в логике моделирования: выделить определяющие черты некоторого класса явлений и воспроизвести их в нужном языке и дискурсе, нужной знаковой системе. Системно-модельное мышление – далеко не самый углубленный мыслительный способ; оно тяготеет скорей к естественно-научной, нежели гуманитарной методологии. Модель функциональна, от нее требуется лишь эффективная дескрипция заданной феноменальной сферы, и она не обязана удовлетворять каким-либо философским требованиям или эпистемологическим критериям. В свете этого, мы, разумеется, не можем признать «модель Человека» финальной и совершенной формой репрезентации знания о Человеке. Но не следует и спешить с оргвыводами, с проявлениями философского высокомерия. В сложившейся ситуации, модель человека, если она построена на принципах, отвечающих новой антропологической реальности, способна принести немалую пользу: она может дать адекватную дескрипцию тех важных и уже многочисленных феноменов, которые не поддаются пониманию на базе прежней, классической антропологии. Поэтому в развитии синергийной антропологии сначала следовал этап ее эксплуатации в качестве модели; и лишь затем, уже в последний период, настало время методологической рефлексии и переосмысления ее статуса: своеобразный сдвиг приоритетов от антропологической прагматики к антропологической эвристике.
Более тесное отношение к теме доклада имеют аспекты эвристики, и потому стадию прагматики я затрону лишь мельком. Очевидным свойством нашей модели является ее неклассичность: она не вводит базовых для классической антропологии концептов субъекта, сущности и субстанции, является бессубъектной и бессущностной. Именно это свойство и обеспечивает для нее большое поле весьма актуальных приложений. Как мы сказали, сегодня имеется уже целый круг новых антропофеноменов, которые не отвечают образу классического новоевропейского (Декарто-Кантова) человека и не укладываются в понятия классической антропологии. В качестве альтернативного, неклассического способа дескрипции, синергийная антропология применялась уже ко многим явлениям из этого круга: к виртуальным практикам, трансформативным телесным практикам, ориентированным к Постчеловеку, опытам новейшего «трансавангардного» искусства, феноменам религиозного экстремизма, стратегиям межконфессионального диалога и др. Надо сразу признать, что в большинстве таких применений новый способ дескрипции и новая трактовка явления лишь намечались в общих чертах, без основательной разработки, – но все же можно было удостовериться, что полученная модель валидна во всех этих областях и аппарат синергийной антропологии дает реальную возможность новой, неклассической интерпретации подобных явлений. Круг этих явлений широк, и применения такого рода продолжают развиваться; но, наряду с ними, все большее место начинает занимать разработка иных, более общих возможностей синергийной антропологии, лежащих в сфере методологии и эпистемологии гуманитарного знания.
***
Увидеть эти возможности нам поможет вопрос: какова природа нашей модели и каково ее место в сфере наук о человеке? Как ясно сразу, она не принадлежит целиком какой-либо одной из этих наук, ибо строилась на базе опытных данных и концептуального арсенала целого ряда дисциплин: философии, богословия, психологии и т.д. – Тогда это, по-видимому, междисциплинарная модель? Нет, и это неадекватная характеристика. Междисциплинарные направления и модели возникают опять-таки в рамках парадигм естественнонаучного мышления. Это – своего рода сборные конструкции, которые естественники строят для освоения новых предметных областей. Когда некоторая интересующая ученых область не умещается в предметную сферу какой-то одной науки – они берут блоки (данные, аппарат…) из разных наук, разных дисциплинарных дискурсов – и, соединяя их, стремятся достичь эффективного описания нужной области. Но синергийная антропология отнюдь не строится в данной парадигме. Во-первых, ее предметная область, человек, – никак не из новооткрытых и ранее наукой не замечавшихся. А во-вторых, и описание своей области она производит не путем соединения блоков из разных дисциплин, а совсем иначе.
Как мы видели, структурные основания синергийной антропологии целиком возникают, развертываются из определенного ядра, которым служит парадигма антропологического размыкания. При этом и ядро, и способ его развертывания мы ниоткуда не заимствовали, их можно считать «собственно антропологическими» и образующими первичный, автохтонный эпистемологический фонд нового направления. И это значит, что, вбирая в себя содержания из разных предметных сфер, синергийная антропология препарирует их собственным методом, выражает их в собственных понятиях и организует их в некоторое новое методологическое и концептуальное единство. Используя известную метафору Гумбольдта, можно сказать, что она действует как «плавильный тигель», способна переплавлять вбираемые предметные содержания, производить над ними некую свою «синантропологическую переплавку» – чего отнюдь не предполагает междисциплинарная парадигма. Будет корректным сказать, что синергийная антропология – трансдисциплинарное направление, поскольку приставка «транс» может, в частности, означать и переплавку указанного типа. Однако и эта формула, которую мы уже приводили в самом начале, выражает природу нового направления не полностью. Важно взглянуть на то, каков диапазон явлений, охватываемых этим направлением, какие предметные сферы оно затрагивает. Конечно, не в реальной своей практике, пока весьма скромной, а «в принципе», по своей природе, синергийная антропология вовлекает в свою орбиту не отдельные, избранные, а, вообще говоря, все восходящие к человеку дискурсы – все те, которые в текстах российских науковедов (В.С.Степина, В.И.Аршинова и др.) именуются «человекомерными». Этот термин, возможно, и неуклюжий, полезен нам: он объемлет не только гуманитарные дискурсы, но и все, что несут причастные антропологии содержания, – скажем, относятся к биологии человека и т.п. Само же подмеченное свойство, охватывать весь комплекс человекомерных дискурсов, – можно выразить еще одним термином: оно означает, что синергийная антропология пандисциплинарна по отношению к данному комплексу или сообществу дисциплинарных дискурсов.
Соединение же транс- и пан- дисциплинарности рождает некоторое новое качество. Такое соединение означает, что синергийная антропология – конечно, не в конкретных, уже проделанных разработках, а в своей конституции, по своему типу – обращается ко всем человекомерным дискурсам, и, обладая собственным методом, производит с ними некоторую переплавку. Тем самым, она доставляет, продуцирует некоторое единое основоустройство для всего сообщества человекомерных дискурсов – и, в частности, гуманитарных дискурсов, поскольку они заведомо человекомерны, уже в силу этимологии. А это, в свою очередь, означает, что синергийная антропология потенциально выступает как ядро определенной эпистемы для гуманитарного знания.
Полученный вывод важен, поскольку он определяет статус направления и открывает для него, хотя бы в потенции, новые перспективы и новые стратегии развития. Поэтому надо задать вопрос: что именно, какие сущностные черты синергийной антропологии порождают эту ее эпистемостроительную способность? Ответ поучителен: как нетрудно заметить, для вывода совсем не потребовались конкретные особенности нашего направления – концепт антропологической границы, ее топическое строение и даже базовая парадигма антропологического размыкания. Предикат трансдисциплинарности требует лишь наличия у модели собственного, «автохтонного» метода и концептуального аппарата, независимо от их конкретного характера. Что же касается пандисциплинарности, то она, безусловно, не является общим свойством антропологических моделей: такая модель может учитывать, вообще говоря, лишь некоторый скудный набор особенностей человека, но при этом удовлетворять критерию эффективности, успешно описывая определенный круг антропофеноменов. В нашем случае это свойство возникает, как легко проследить, за счет того, что рабочие понятия синергийной антропологии (предельные антропологические проявления и антропологическая граница) суть понятия конститутивные – задающие конституцию человеческого существа, его личности и идентичности. Синергийная антропология дает такую дескрипцию феномена Человека, которая включает в себя его конституцию: именно это – ключевая черта, обеспечивающая пандисциплинарность нашего направления, а за ней – и его эпистемостроительные способности. Совершенно аналогично, и всякая другая модель, способная конституировать Человека, будет так же способна служить ядром цельной эпистемы. Это вполне понятно: ведь, фигурально выражаясь, сам человек и является таким ядром! Он несет эту эпистемную способность в себе, поскольку является общим знаменателем, общим содержанием гуманитарных дискурсов. И в силу этого, любая теоретическая формация, которая содержит в себе основоустройство человека, содержит в себе, пусть имплицитно, также и основоустройство некоторой гуманитарной эпистемы.
Итак, синергийная антропология могла бы составить основу проекта новой эпистемы для гуманитарного знания, антропологической или антропологически фундированной. Но какое значение может иметь сегодня такой проект, является ли он актуальным в современной научной ситуации? Признано и очевидно, что эту ситуацию характеризует эпистемный вакуум – отсутствие единой методологической парадигмы, единого идейного и эвристического основоустройства для всего сообщества гуманитарных дискурсов. Наличие эпистемы не является обязательным условием научного развития, но, тем не менее, в ее отсутствие нет и определенного уровня организации и смыслового единства знания, определенного уровня его осмысления. Эпистема концентрирует и выражает в себе единство знания, притом не символически и не декларативно-постулативно, а конкретно-операционно. В ее отсутствие в научном познании создается известная эвристическая дезориентация, в частности, – раздробленность и разобщенность в отношениях между различными дисциплинарными дискурсами. Мы видим это наглядно в гуманитарной науке наших дней, где, скажем, философский, филологический, социологический секторы сегодня имеют весьма мало общего между собой. В научном сознании это ощущается как известная ущербность ситуации. Эпистемическая рефлексия и эпистемический поиск активизируются, и преодоление эпистемного вакуума все ясней выступает как одна из стратегических задач гуманитарной мысли.
Особый вопрос – о характере очередной эпистемы, приход которой заполнит вакуум. Каковы были предшествующие этапы? После того как с большою помощью Первой мировой войны позитивистская, кантианская, неокантианская парадигма научного познания утратила свое господство, настал период смены гуманитарной парадигмы. Тогда эпистемический поиск питали двоякие и разнонаправленные импульсы: стоявшие под знаком «Системы» или «Структуры» и стоявшие под знаком «Истории» или «Жизни». Последние были активнее и заметнее, являя собой наглядную антитезу старой парадигме и отводя почетное место прежде третируемым мыслью мирам искусства, человеческих чувств и межчеловеческих отношений. Беньямин выдвигал проект эпистемы, основанной на эстетическом начале, – отголосок «жизнестроительных синтезов» модернизма с верховной ролью искусства. Гадамер характеризовал существо периода как «поворот от мира науки к миру жизни». Свидетельствами поворота были не только прямолинейные попытки «философии жизни», но также и появление парадигм диалогизма, участности, и фундаментальная онтология Хайдеггера, и концепция «жизненного мира» Гуссерля… И, может быть, всю совокупность стоявших под этим знаком эпистемических усилий лучше всего было бы обозначить именно как «гуманитарную парадигму жизненного мира» – так и не сформировавшуюся до конца. Тренды другого рода, системно-структурные, успешнее достигали интегрального оформления (как то и положено по их сути), и мы с полным основанием говорим о «структуралистской эпистеме». Но она не имела монопольного господства, ибо всегда оставались и заметные, влиятельные элементы «парадигмы жизненного мира»; и конкуренция двух эпистемных принципов так и не успела достичь какого-либо итога, когда пришли постструктурализм и постмодернизм – как своеобразный негативный синтез, который отверг оба принципа, но отказался от задач позитивного эпистемостроительства, создания цельной эпистемы (хотя и представил ряд весьма дельных эвристических и методологических установок).
Какой же принцип сумеет стать основой, ядром для «эпистемы следующего поколения»? На этот вопрос еще не заявлено решительного ответа; и все же в наличной ситуации мы найдем множество свидетельств, которые все указывают в одном направлении – в направлении к человеку. В культурном сознании, в широком научном обиходе складывается антропологический поворот – усиленная антропологическая ориентация, обращенность к человеку, убеждение, что за многими ключевыми проблемами современности стоят антропологические факторы. Отсюда идут очевидные импликации и к эпистемной проблеме. Антропологический поворот влечет и вывод о том, что следует поставить человека в центр проблемного поля, признать решающую роль антропологических факторов, антропологических процессов во всей гуманитарной проблематике. И, применительно к эпистемной проблеме, это напрямик значит, что новая эпистема для гуманитарного знания может и должна быть – антропологической эпистемой. С ней не возникнет вновь старая оппозиция и конкуренция принципов типа «Структуры» и типа «Жизни»: в дискурсе интегрального человека эта оппозиция снята, ибо снят участняющий характер предметной основы принципа. Человек должен репрезентировать себя как эпистемопорождающий фокус – антропология же будет репрезентирована как «наука наук о человеке», то есть метадискурс или эпистема для данного сообщества наук.
Мы заключаем, что проблема формирования новой гуманитарной эпистемы на антропологической основе весьма актуальна, поставлена в порядок дня. И если так – главный вопрос в том, насколько реальны, практически осуществимы подмеченные нами эпистемостроительные возможности синергийной антропологии. Разумеется, формирование новой эпистемы – крупномасштабное предприятие, затрагивающее все гуманитарные дискурсы и требующее усилий целого сообщества. Но в нашем случае уже удалось, по крайней мере, проанализировать процедуру формирования в ее методологических аспектах и сформулировать детальную схему поэтапного выполнения этой процедуры. Суть процедуры состоит, очевидно, в том, чтобы, избрав произвольный гуманитарный дискурс, произвести его «синантропологическую переплавку» – новую концептуализацию, в итоге которой феноменальная сфера, изучаемая данным дискурсом, получит дескрипцию на базе синергийной антропологии, ее понятий и аппарата. Коль скоро синергийная антропология действительно имеет в наличии «плавильный тигель» – его необходимо продемонстрировать в работе.
Даже в общей схематической форме процедура преобразования, «модуляции» произвольного гуманитарного дискурса в дискурс синергийной антропологии и (син)антропологическую эпистему довольно сложна, и за ее изложением приходится отослать к опубликованным текстам
[1] . Здесь же мы лишь укажем ее основные этапы – к тому же, подчеркнув сразу, что для каждого дискурса ключевые моменты его трансформации зависят от его специфики и заведомо не могут быть полностью эксплицированы на универсальном уровне.
1) Этап антропологической расшифровки. Любой гуманитарный дискурс, в силу своей «человекомерности», описывает феномены, если не прямо принадлежащие, то восходящие к антропологической реальности; но язык описания, вообще говоря, не выражает въявь антропологического содержания этих феноменов. Рабочий язык синергийной антропологии – язык антропологических проявлений, и первый этап «переплавки» – перевод избранного дискурса на этот язык, или же идентификация соответствующей ему сферы антропологических проявлений.
2) Этап антропологической (топической) локализации. Сопоставив избранному дискурсу некоторую сферу антропологических проявлений, мы далее должны «определить местоположение этой сферы в синантропологических координатах». Синергийная антропология описывает антропологическую реальность в терминах предельных антропологических проявлений, принадлежащих трем топикам Антропологической Границы, Онтологической, Онтической и Виртуальной. Поэтому задача очередного этапа – установить связь заданной сферы проявлений с предельными проявлениями – тем самым, осуществив привязку этой сферы к топикам Границы, или же «топическую локализацию». Именно здесь – ключевое звено нашей «переплавки», где должно совершиться включение новой феноменальной сферы в орбиту синергийной антропологии. Оно же и наиболее сложное, требующее глубокого вхождения в конкретику данной сферы, ее внутреннюю жизнь. В силу конститутивности предельных проявлений человека, искомая связь, зависимость избранной сферы проявлений от проявлений предельных заведомо существует; однако нам требуется представить ее явно и конструктивно. Решая эту задачу, мы конкретно, предметно раскрываем особую природу и роль практик размыкания человека. Их уникальная специфика в том, что этот весьма узкий и вовсе не массовый, как правило, род практик обладает беспрецедентным воздействием и влиянием, «излучением», которое распространяется, вообще говоря, на весь массив антропологических практик. Мы вводим специальные понятия, описывающие это влияние: определяемые нами примыкающие, ассоциированные, участные практики – это виды практик, тем или иным образом зависящих от практик размыкания. Круг этих понятий служит вспомогательным аппаратом для решения задачи локализации.
3) Завершающий этап. Когда установлена связь избранной феноменальной сферы с топиками Антропологической Границы – гуманитарный дискурс, которому отвечает эта сфера, наделяется индуцированной концептуальной структурой и вводится в контекст синергийной антропологии. Это – не конец «переплавки», но скорее начало ее нового, продуктивного этапа. Произведя «модуляцию» дискурса, мы можем вернуться к его рабочей проблематике; и можно ожидать, что переосмысление этой проблематики на базе синергийной антропологии, давая новое освещение проблем, будет творчески плодотворным. Исполнена будет и эпистемическая задача. Феномены, изучаемые данным дискурсом, предстанут непосредственно как деяния главных реализаций существа Человек – деяния, соответственно, Онтологического, Онтического и Виртуального человека. Дискурс примет (син)антропологизированную форму – и если описанная процедура будет проведена если и не со всеми, то с большей частью гуманитарных дискурсов, можно будет говорить о формировании (син)антропологической эпистемы.
Как можно видеть, набросанная программа универсальна лишь в своем общем ходе и общих принципах. Ее реальное осуществление должно представлять собой ряд отдельных программ, масштабных и непростых, весьма различных между собой. Однако для некоторых дискурсов процедура их антропологизации уже в главных чертах намечена.
Прежде всего, весьма важно выяснение отношений с историческим дискурсом: здесь углубляются и сами основания синергийной антропологии, дополняясь историческим измерением. В данном случае, наша процедура имеет двоякий смысл: равным образом, она может трактоваться как антропологизация истории или как историзация антропологии, раскрытие историчности Человека. Существо же ее заключается в сопоставлении каждому историческому периоду (или моменту, срезу) определенной антропологической формации или, что то же, топики Антропологической Границы – а именно, той, соответствующие которой практики являются доминирующими в данный период. (Так, в социумах средневекового типа доминирующим способом размыкания человека является онтологическое размыкание, актуализация отношения к Инобытию; в новейшее время начинает доминировать виртуальное размыкание, и т.д.) История, в результате, репрезентируется как процесс смены взаимодействующих друг с другом антропологических формаций. Отсылая за описанием этого процесса к моим работам (в частности, к докладу в ссылке (1)), сделаем лишь два замечания. Во-первых, как выясняется при прослеживании исторического процесса, в нем реализуются не только формации, соответствующие топикам Границы; мы обнаруживаем и некоторые иные формации. Но это не противоречит конститутивности Границы. В ранние эпохи истории, антропологическое размыкание, будучи изначально конститутивным, осуществлялось, однако, не в развитых, артикулированных топических формах, а в слитных, сращенных прото-формах, где еще не были различены размыкания онтологическое и онтическое. (Типичным примером является шаманизм.) Эту архаическую формацию мы квалифицируем как До-топического Человека. А в секуляризованном социуме – как, например, в Европе, начиная с Ренессанса, – возникает формация с вытесняемым и отрицаемым отношением к Границе, которую мы обозначаем как Человека Безграничного и которая в дальнейшем сменяется доминантностью отношений с бессознательным, временем Человека Онтического, или же Безумного, по терминологии Лакана. Второе же замечание в том, что установка антропологизации истории активно и плодотворно, на богатейшем материале, воплощалась в исследованиях Фуко, в его знаменитых штудиях по истории сексуальности, истории безумия, истории наказаний. У Фуко эта установка не ставилась в связь с парадигмой размыкания и проводилась, разумеется, совсем иначе, нежели в синергийной антропологии; и потому его классические штудии служат для нас источником глубоких компаративных проблем.
Далее, из размышлений над современными художественными практиками возникли и определенные продвижения к (син)антропологизации эстетики. Вновь отсылая к опубликованным текстам
[2] , упомянем лишь некоторые основные выводы. Мы находим, что в отношении к идентичности человека, практики размыкания и художественные практики соотносятся как практики, конституирующие определенный тип идентичности и культивирующие уже заложенный тип, откуда вытекает примыкающий статус художественных практик; мы намечаем антропологизированную концепцию художественного (эстетического) акта, выделяя главные оси его структуры; и, опираясь на вышеописанную антропологизацию истории, мы прослеживаем эволюцию эстетической сферы в терминах антропологических формаций.
Разумеется, данная программа должна быть проведена также и по отношению к философскому дискурсу. Однако отношения антропологии – и, в частности, синергийной антропологии – с философией сложнее и многосторонней, чем отношения с другими дискурсами; здесь затрагиваются многие глубокие вопросы, тонкие грани. Вдобавок, и философия, не менее чем антропология, сегодня – в кризисе и процессе преодоления кризиса, в капитальном переосмыслении себя, в движении – и безуспешно сейчас пытаться подвести итоги, зафиксировать взаимное отношение двух движущихся, меняющихся, быть может, и перерождающихся дискурсивных миров. Мы приведем лишь некоторые предварительные соображения на эту тему, в основном, общие и очевидные.
Начнем с наиболее очевидного: синергийная антропология не принадлежит сфере философской антропологии, не является разновидностью последней. Это непосредственно ясно, если философскую антропологию понимать в точном, «цеховом» смысле, как определял ее Макс Шелер – как речь о «сущностной структуре человека», сугубо эссенциальный дискурс; но это ясно и в случае более общего и размытого ее понимания, которое широко бытует. Ясно потому что, если синергийная антропология рассматривается как эпистема, то человек в ней выступает, тем самым, как эпистемопорождающий принцип, как топос, где продуцируются дискурсы и где все они сходятся как в фокусе. В этом смысле, она – не наука о человеке, а скорее – наука человека: если первая рассматривает, препарирует человека (что делает, в частности, и философская антропология, будь то в узком или широком понимании), то вторая конституируется самим человеком, выступающим как творец гуманитарного универсума, как альфа и омега дискурса. Эта вторая позиция необходима, ибо выражает фундаментальный эпистемологический факт: все гуманитарные дискурсы не только «говорят о человеке», но и строятся человеком же, они суть эпифеномены антропологической реальности (и более того, той или иной антропологической формации). Однако она принципиально отсутствует в основоустройстве философской антропологии, отчего последнюю и следует расценить как слишком узкий, методологически редукционистский подход к феномену человека. Эта узость философской антропологии замечалась антропологической мыслью, и одним из первых на нее указал Хайдеггер, заявивший прямо (в известной дискуссии с Кассирером в Давосе в 1929 г.): «Весь проблемный узел «Бытия и времени», имея дело с существованием человека, не является философской антропологией. Она слишком узка и предварительна для этого». Итак, расходясь с философской антропологией, синергийная антропология преодолевает ее антропологический редукционизм, следуя в этом, если угодно, линии, заданной Хайдеггером.
Но далее обнаруживаются расхождения уже и с философией как таковой. Они не могли не обнаружиться: совершив круг, наше рассуждение возвращается к замеченной нами в самом начале «конкуренции» философии и духовных практик как двух в корне различных стратегий трансцендирования. Синергийная антропология вбирает в свой дискурс стратегию духовной практики как аутентично антропологическую, холистическую стратегию. Отправляясь от нее, она открывает универсальную парадигму антропологического размыкания и делает ее своей базовой парадигмой. Но это – отнюдь не философская парадигма! В онтологической топике она, как парадигма синергии, описывается в дискурсе богословско-антропологическом, в онтической топике – в психоаналитическом или топологическом дискурсе, в виртуальной топике – в смешанном дискурсе разнообразных антропопрактик. Отсюда наглядно выступает наличие дистанции между синергийной антропологией и философией, их коренная разноприродность; но содержательное раскрытие их отношения остается большой проблемой. Наша стратегия ее решения должна следовать, разумеется, общей эпистемостроительной методологии, описанной выше. В данном случае такое следование означает, что мы предполагаем философский дискурс (в силу его человекомерности) наделенным некоторой антропологической подосновой, антропологическими предпосылками, и ставим задачу выявления и раскрытия этих предпосылок посредством понятий и методов синергийной антропологии. По логике мысли, это отчасти напоминает задачу «вскрытия онтологических предпосылок гносеологии», с которой русские философы Серебряного Века подходили к современной им гипер-гносеологизированной – в первую очередь, неокантианской – западной философии. И уже беглый взгляд под этим углом приносит любопытные выводы.
«Большие формации» философского разума как такового, разума, открывающего и культивирующего специфически философский род трансцендирования
[3] , представлены античной философией и новоевропейской классической метафизикой. Опираясь на «историзацию антропологии», кратко описанную выше, мы можем прочесть антропологическое содержание этих формаций, осуществив их топическую локализацию. Онтологическое размыкание, синергия, в зрелой форме, как цельная стратегия конституции человека в размыкании к Личностному Инобытию, складывается лишь в христианстве (как то и утверждает известное положение:
личность – открытие христианства). Тем самым, при всей высоте античного умозрения, в антропологическом аспекте, оно принадлежит еще До-топическому Человеку. Что же до классической метафизики, то она существенно связана с секуляризованным сознанием Нового Времени, которому отвечает антропоформация Человека Безграничного, вытесняющего и отрицающего Антропологическую Границу. Если же обратиться, далее, к постклассической философии, мы найдем, что она антропологически локализуется как отвечающая топикам Онтического Человека и Виртуального Человека. И этот ряд соответствий заставляет заключить, что имеет место своего рода
антропологическая взаимодополнительность философских практик и духовных практик, философского и религиозного (т.е. холистического) способов трансцендирования. Они культивируются разными репрезентациями существа Человек, в разных ареалах антропологической реальности; и важно было бы проанализировать, насколько подобная взаимодополнительность отлична от полной несовместимости.
Это – лишь небольшой пример, показывающий, в каких линиях должна развиваться тематизация отношения (синергийная) антропология – философия. Как видим, в основной части, тематизирующей это отношение применительно к онтологической топике, перед нами, по сути, – все та же проблема отношений философии и религии, философского и религиозного опыта. Однако стариннейшая проблема предстает у нас в новом ракурсе. Уходя от дискурса «религиозного» с его аморфным, смешанным и зачастую идеологизированным содержанием, мы выделяем его квинтэссенцию, дискурс духовных практик, наделенный отчетливым онтологическим измерением, но в то же время принадлежащий антропологии. За счет этого, возникает новая конфигурация: отношение философии и религии переосмысливается как отношение философского опыта и религиозного опыта, которые оба рассматриваются в антропологическом горизонте, опосредуются им – и благодаря этому опосредованию, в тематизируемом отношении выявляются существенные новые грани. И нетрудно заметить, что, опосредуя отношение двух ключевых дискурсов гуманитарного универсума, синергийная антропология действует в согласии с нашим замыслом: как эпистемический принцип.
… Еще преждевременно предрешать, каким сложится облик философии с преодолением ею очередного – и на сей раз глубокого, системного – кризиса, и каковы будут ее отношения с антропологией, продвигающейся к трону «науки наук о человеке». Но, если мы хотим уловить тенденции тех движений, перемещений, превращений, что происходят ныне в сообществе гуманитарных дискурсов, – мне кажется, очень стоит вглядеться пристально в разработки последних лет творчества Мишеля Фуко. Этот его период отмечен был, как известно, и творческим, и личным сближением с Пьером Адо, который многие годы, на обширном предметном материале, развивал концепцию античной философии как «духовного упражнения» или, по его собственным словам, «как искусства жить, как стиля жизни, как образа жизни». Углубляя эти концепции, обобщая их до универсальной трактовки философствования как такового, Фуко вбирает их в свою знаменитую теорию «практик себя». Но ведь совершенно очевидно, что, под нашим углом зрения, эта теория, утверждающая понимание философии как «аскезы», включающая в основоустройство философского дискурса классические концепты духовной практики
metanoia,
anakhoresis и т.п., – есть явная антропологизация философии и, более конкретно, решительное сближение философии с парадигмой духовной практики! Констатируя это, мы далее замечаем, что нет причин считать такую позицию особенно новой, революционной: скорей, она лишь усиливает (хотя и довольно радикально) те установки и тенденции, что уже присутствуют в мысли Хайдеггера, Витгенштейна
[4] . Прочерчивается пунктир; наша антропология, продвигающаяся к претворению в эпистему, находит встречный содействующий импульс, «синергию» со стороны самой философии. Однако всё здесь не просто! Взаимное продвижение к сближению антропологии и философии непременно встретит предел, препятствующую грань. Философия заведомо не достигнет, не может достичь простого отождествления с духовной практикой…
Таковы те вопросы, над которыми предстоит думать, находя выход из кризиса философии, выстраивая новую конфигурацию гуманитарного знания. Я надеюсь, из сказанного ясно, что синергийная антропология способна сыграть в этом процессе конструктивную роль. На ее языке, в ее эпистемологической перспективе возможно ставить ключевые вопросы и размышлять над ними.
Гусейнов А.А. – Спасибо большое. Пожалуйста, какие есть вопросы в связи с этим? Нет вопросов?
ХРИСТИАНСТВО И ДРУГИЕ МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Раздел коллективной монографии: «Мировые религии в контексте современной культуры: новые перспективы диалога и взаимопонимания». Спб., 2011.
Глава 1. В поисках новых перспектив диалога и взаимопонимания
На грани XVIII и XIX веков немецкий поэт и философ-мистик Новалис написал знаменитое эссе «Христианство, или Европа». Уже его название утверждало тождество этих двух явлений; и хотя Новалис описывал, как Европа постепенно утрачивала «прекрасные черты истинно христианских времен», исходное тождество, по его убеждению, не могло быть утрачено. Европа, Западный мир, могли быть христианством лучше или хуже, но ничем другим они в своей сути быть не могли, ибо иного «вечного смысла» в их историческом бытии нет и не может быть. «Вечный смысл не может быть уничтожен, он может быть только замутнен, ослаблен, вытеснен другими смыслами»
[1]. И можно полагать, что с теми или иными оговорками, эта позиция тогда разделялась большинством просвещенных европейцев, была голосом европейского самосознания. Минуло два века, и на грани XX и XXI столетий европейское самосознание выразило диаметрально противоположную позицию: после основательных обсуждений, весьма представительное собрание с участниками из всех стран континента отказалось включать в конституцию Европейского Союза всякое упоминание не только о «вечном смысле», но и о фактических христианских истоках европейской культуры. В известной мере, этот отказ — символическое событие, знаменующее собой пик секуляризации, разрыва с христианским сознанием, когда высокое собрание, по существу, согласилось заменить формулу Новалиса на противоположную ей: Постхристианство, или Европа. Этот разительный сдвиг — плод истории ХХ в., предельно драматичной для христианства.
Усиление и убыстрение процессов секуляризации общества, вхождение в фазу постхристианства в странах христианского мира питались множеством факторов. Опыт мировых войн и тоталитаризма показал хрупкость, а отчасти и мнимость христианских устоев сознания и общества, обнаружил глубокий кризис христианской этики, которая не смогла удержать христианские народы, ни в православной России, ни в лютеранской Германии, от массовой поддержки бесчеловечных тоталитарных режимов. Затем наступило бурное развитие техногенной цивилизации, которую массовое сознание восприняло как «высший этап развития», делающий религиозное сознание устарелым, неадекватным новой реальности, новым возможностям человека и его разума. И наконец, с приходом глобализации усиленное смешивание этносов и культур, сообществ с разной религией повлекло окончательное размывание традиционного уклада монорелигиозных обществ и вытеснение этого типа социума. Практически нигде уже христианские общины не образуют монолитного «христианского общества», они оказываются в предельно гетерогенной среде, в теснейшем соседстве с представителями иных религий и секулярного, безрелигиозного сознания. Здесь, на этом этапе и получает популярность представление о том, что современность — это уже «постхристианство». Это понятие никогда не имело четкого определения, употребляясь обычно в соответствии с буквальным смыслом: как обозначение некой новой формации общества и сознания, для которой христианство уже необратимо позади, в прошлом. Но вот что важно: не успела еще идея постхристианства вполне оформиться и достичь полного господства, как она уже начала потесняться и сменяться иной идеей, иным видением современной ситуации.
Новой идеей, которая приобретает сегодня все большее влияние, стала идея или парадигма постсекуляризма, выдвинутая впервые Ю.Хабермасом вскоре после террористического акта 11 сентября 2001 г. (хотя сам термин мелькал и раньше, не оформляясь в концепцию). Идея утверждает, что в настоящее время секулярное (вне- или безрелигиозное) и религиозное сознание формируют новый тип отношений между собой, существенно отличный от их отношений в эпоху секуляризации. Определяющая черта этого типа — отказ от ведущей стратегии секуляризации, которая была направлена на вытеснение и устранение религии из социальной и культурной жизни и предполагала, что уже в близком будущем подобное устранение станет полным или почти полным. (Как видно отсюда, идею постхристианства можно рассматривать как некое забегание вперед, когда считают полную секуляризацию уже состоявшимся фактом.) Место этой стратегии занимают две основные установки. Во-первых, религиозное сознание признается уже не в качестве отсталой и отживающей формации — своего рода «уходящей натуры» — но в качестве непреходящего, имманентного слагаемого человеческого существования. И во- вторых, что не менее важно, принимается, что сознание секулярное и религиозное должны быть не в изоляции и конфронтации меж собой, но должны развивать деятельный контакт и взаиморасположенное общение, выстраивать диалог, стремящийся ко взаимному пониманию. В настоящий период эти идеи обсуждаются самым активным образом и, в целом, находят поддержку как в секулярной, так и в религиозной среде. Как своеобразный старт, символическую личную встречу двух сторон постсекулярного диалога можно рассматривать встречу и дискуссию Ю.Хабермаса и кардинала Й. Ратцингера, будущего папы Бенедикта XVI-го, которые состоялись в Мюнхене 19 января 2004 г. Конечно, старые установки конфронтации не уходят легко. Долгое время радикальная секуляризация была непременной частью позиций западного либерализма, а осуждение безрелигиозного сознания, непримиримость к нему, были прочной принадлежностью ортодоксально религиозных (даже не только фундаменталистских) взглядов. Как ярко показывают текущие события в России и всем христианском мире, конфликты между сторонниками этих противоположных воззрений еще происходят на всех уровнях и остаются типичной чертой современной жизни. И все же есть основания считать, что начало перехода к постсекулярной формации положено. Постепенно ее развитие становится одним из ведущих трендов социальной и антропологической реальности.
Отношения христианства и общества (секулярного) суть, несомненно, главный фактор, главная составляющая ситуации христианства в современном мире. Имеются, однако, и еще две важные составляющие этой ситуации — это внутренние, межконфессиональные отношения в христианстве и отношения христианства с другими религиями. Длительный период истории взаимоотношения разных частей христианского мира, разных его конфессий и течений играли ведущую роль на исторической сцене.
Типичным образом, эти взаимоотношения бывали отмечены взаимной предубежденностью, противостояниями и конфликтами, частым применением насилия.
Борьба с ересями в первые века христианства и в Средневековье, конфликты между католиками и протестантами в эпоху Реформации, история инквизиции на Западе, история раскола и сектантства в России оставили множество примеров кровопролитных войн и жестоких репрессий. Затем Новое Время приносит известное смягчение, гуманизацию нравов, проявления открытого насилия и жестокости снижаются (хотя исследования современных историков, М.Фуко и др., показывают, что такие проявления вполне сохраняются и в «просвещенных обществах» по отношению к различным маргинальным меньшинствам — душевнобольным, гомосексуалистам, заключенным тюрем). На смену им, однако, приходят умеренные формы враждебности — напряженность и отчужденность, взаимное недоверие и осуждение, тяжкий груз накопившихся взаимных обвинений, предубеждений и предрассудков. Отношение к инославному Другому в христианском сознании продолжало отличаться неприятием и нетерпимостью, пускай они и не выражались уже в прямой агрессии.
Вместе с тем, христианское сознание не могло забывать, что в сами основания Благой Вести Христа входит призыв к единству и братской любви между всеми христианами. Усилия, направленные к этому единству, не прекращались во все эпохи истории, облекаясь в разные формы. Первоначально это бывали попытки формальной унии, объединения сверху, в сфере церковного управления, продиктованные теми или иными внешними, внедуховными мотивами или обстоятельствами и, как правило, не приводившие к действительному духовному единству. Но постепенно в сфере межконфессиональных контактов христиан стали возникать и другие начинания, другие модели. В первой половине ХХ в. основным руслом таких контактов стало Экуменическое Движение, родившееся в кругах американского протестантизма и культивировавшее различные формы сближения и единения, главным образом, между протестантами и православными (Католическая церковь изначально отвергла участие в этом движении).
Его деятельность не была бесплодной во многих отношениях. Оно оказало ценную поддержку многим церковным и культурным предприятиям бедствовавшей русской эмиграции (достаточно напомнить хотя бы, какой вклад в духовную культуру России внесли Православный Богословский Институт преп. Сергия Радонежского, журнал «Путь» и издательство ИМКА-Пресс в Париже в 20-е — 30-е гг.). Оно также выработало целый ряд механизмов и институтов для осуществления межконфессиональных контактов, придания им регулярных форм. Главный из таких институтов, Всемирный Совет Церквей, созданный в 1948 г., сумел стать не только организационным, но и идейным, интеллектуальным очагом христианского единства, за счет участия в его работе крупных религиозных мыслителей, таких как православный богослов о. Георгий Флоровский и протестанты Карл Барт, Эмиль Бруннер, Андерс Нюгрен. Деятельность Экуменического Движения, довольно активное включение в межконфессиональные контакты Русской Православной Церкви, обновления и перемены в Католической Церкви после Второго Ватиканского Собора 1962-65 гг. имели своими следствиями заметное усиление межхристианского общения, смягчение многовековой непримиримости и неприязни. В 1965 г. произошло снятие взаимных анафематствований между Католической Церковью и Константинопольским (Вселенским) Патриархатом Православной Церкви. «Одно из характерных явлений современного христианства — ослабление конфессиональной розни», — писал С.С.Аверинцев
[2]. В немалой мере, это ослабление розни есть следствие развивающегося межконфессионального диалога. Не исключено, что накопленный богатый опыт этого диалога христиан в той или иной мере может быть с пользою перенесен в область диалога между религиями.
2.
Отношения с другими религиями — последний остающийся фактор в ситуации христианства. Для нашей темы он имеет особое значение, и мы рассмотрим его более систематично. Какие общие принципы определяют отношение христианства к другим религиям? Разумеется, все краеугольные камни, на которых строится это отношение, находятся уже в Евангелии. Христос есть Путь, Истина и Жизнь: Истина, личностно воплощенная во всей своей полноте; и вне Христа, без приобщения к Нему, нет «спасения» человека, т. е. достижения им полноты своей самореализации, своего бытийного назначения. Но эта безусловнейшая установка христианства еще не диктует однозначно отношения к другим религиям; она оставляет возможность двух противоположных позиций, которые именуются обычно принцип эксклюзивности и принцип инклюзивности. Не входя еще в содержание других религий и вер, мы видим, что априори они могут находиться в двояком отношении к христианству (в котором для нас заключена полнота Истины): их основания, их кредо могут не иметь ничего общего с христианскими основаниями, быть целиком чуждыми и противоположными им; либо напротив, они могут нести в себе некие первичные и зачаточные формы, смутные предвосхищения, частичные отражения и элементы Истины христианства. Во втором случае возможно считать, что духовная суть этих других религий в известной мере вобрана, включена в христианство, так что она находит в нем свое дополнение и исполнение, актуализацию своих потенций. Данный взгляд на другие религии и есть установка инклюзивности; тогда как противоположный взгляд, отказывающий всем другим религиям в какой-либо доле истинности и общности с христианством, есть установка эксклюзивности. В своей реальной истории христианство не делало категорического выбора между этими установками, ни та, ни другая в принципе не отбрасывались. Даже в эпоху Первохристианства, когда новые христиане с особой силой воспринимали уникальность свершившегося воплощенья Бога в «зраке раба», переживали небывалую новизну реальности, открывающейся с этим событием, — Сам Христос говорил им, что пришел не нарушить Закон, но исполнить, а по отношению к религии эллинов, апостол Павел говорит мужам Афинского Ареопага, что их почитание «неведомого бога» неведомо для них самих относилось ко Христу. Иными словами, даже когда установка эксклюзивности была бы всего естественней и понятней, — учители христианства указывают и на присутствие инклюзивности в новой вере. В дальнейшем, обе установки прошли сложный путь. Весьма упрощая его, можно сказать, что вплоть до Нового Времени намного более заметною и преобладающей была установка эксклюзивности, резко отделявшая христианство от всего универсума мировых религий и верований. Она была и гораздо ближе массовому христианскому сознанию, тогда как инклюзивность проявлялась скорее как тенденция в учениях не столь многих мыслителей, склонных к обобщающему и рационалистическому видению реальности (к примеру, у Николая Кузанского). Однако в Новейшее Время позиция инклюзивности получает все большее распространение. В научно-богословской мысли этому содействовало развитие школ исторической критики и сравнительного религиоведения, а в широком сознании — активные процессы этнокультурных миграций и смешений. В современном западном богословии возникли авторитетные учения, утверждающие принцип инклюзивности, — в первую очередь, учения К.Ранера (1904–1984) и Й.Ратцингера, ныне — папы Бенедикта XVI-го. Современную концепцию инклюзивности Ратцингер резюмирует так: если по Ранеру, «все религии, не подозревая об этом, движутся к христианству», то сам Ратцингер раскрывает содержание этого движения: «Через все культуры красной нитью проходит понимание устремленности человека к Богу… осознание греха, покаяния и прощения, осознание общности с Богом… и наконец, принятие основных нравственных установлений, как они оформлены в Десятисловии», так что, в итоге, «инклюзивность отражает суть истории культур и религий человечества
[3]. Вместе с тем, как замечает и Ратцингер, инклюзивность в своих крайних выражениях, усиленно акцентирующих общность и сходство всех религий с христианством, скатывается уже в плюрализм — позицию, близкую восточной мистике, согласно которой все религиозные учения, при разнообразии внешних форм, несут, на поверку, одну и ту же духовную суть. Это тяготение к плюрализму, питаемое также идеологией мультикультурализма, — одно из направлений современного размывания границ христианства — процесса, достаточно заметного в протестантизме. И в свете того, что «плюрализм и инклюзивность временами едва ли не переходят друг в друга»
[4], принцип инклюзивности должен приниматься лишь в известных пределах. С другой стороны, и принцип эксклюзивности не может быть целиком вытеснен и отброшен. В своих эмоционально-экзистенциальных аспектах, христианская религиозность (хотя в разной мере, в православии сильней чем в протестантизме) неотделима от чувства «узкого пути», от интенсивного переживания общения со Христом как Единого на потребу, как единственной спасительной нити, которой, по самому определению, нет нигде кроме христианства. Профессора могут находить в христианстве сколь угодно общего с массою иных вер, но я всем существом знаю, что мой путь устремления ко Христу и соединения с Ним — узок, единствен, и никакие иные, какими бы ни казались близкими-соседними, к Нему не ведут. В итоге, современную позицию христианской религиозности по отношению к другим религиям можно охарактеризовать как признание существенной инклюзивности христианства в идейном и историко-культурном плане, сочетаемое с элементами эксклюзивности на уровне «религиозного чувства», в личностных, эмоционально- экзистенциальных аспектах веры. Здесь время сказать, что понятия инклюзивности и эксклюзивности, на первый взгляд кажущиеся отвлеченно-теоретическими, в действительности, напрямик связаны с практикой межрелигиозных отношений. Очевидно, что установка инклюзивности предполагает скорей открытое и благорасположенное отношение к другим религиям, коль скоро они хоть в какой-то мере «чреваты христианством» — несут в себе зачатки, потенции истины, в полноте данной и явленной в христианстве. Как пример, можно вспомнить явно инклюзивную концепцию «потенциального православия», выдвигавшуюся в евразийских кругах русской эмиграции: ее сторонники ратовали за сближение с адептами нехристианских религий, утверждая, что эти религии, не знавшие христианской проповеди, «потенциально» близки к православию — в отличие, скажем, от католиков, сознательно себя отделивших от православия. Позиция инклюзивности подталкивает к диалогу религий, в котором исходной базой для обсуждений могли бы стать тезисы о тех или иных конкретных «зернах христианства» в других религиях. Такой диалог требует, однако, максимума тактичности с христианской стороны, ибо представление другой религии лишь начаточной формой христианства, не до конца воплотившей свои потенции, естественно может вызвать у партнеров по диалогу возражения и отторжение. Напротив, установка эксклюзивности толкает, на первый взгляд, к отчуждению и изоляционизму по отношению к другим религиям; но, на поверку, это далеко не совсем так. К самой сути христианства принадлежит его общечеловеческий, универсальный характер, тяга к устроению, где «нет ни иудея, ни эллина». Афонское монашество — бесспорно, яркий пример самой ревностной, самой «эксклюзивной» религиозности. Но старец Силуан, великий афонский подвижник ХХ в., сделал центром своей духовной практики «молитву за всех», за христиан и не-христиан, и его духовность названа была «мистикой любви к брату»: не только к брату-христианину, но и к каждому собрату- человеку. И как в древности подвижничество монахов-пустынников, так сегодня служение преп. Силуана оказывает влияние на весь православный мир, призывая его расширять круг христианской любви на всех, за пределы христианства. Далее, с универсальностью христианства связана и еще одна важная сфера, выводящая христианство — в том числе, и при установке эксклюзивности — к контактам с другими религиями. Эта сфера — миссия, проповедь христианства во всем мире, уже в Новом Завете утверждаемая как долг христиан. Судьба ее в наши дни не проста. Издавна практиковались очень разные формы, методы миссионерской работы, включая и грубо прямолинейные, сочетаемые с давлением светской власти, по древнему принципу cujus regio, ejus religio. При покорении колоний, завоевании новых земель и племен подобные методы были правилом. Сегодня они уже практически исчезли, но оставили стойкую историческую память, создав во многих кругах и странах отношение к миссионерству как к экспансии и давлению со стороны христианства. Есть и новые явления в этой области — такие как навязчивая и примитивная пропаганда некоторых недавно возникших протестантских сект, редуцирующих до предела христианское учение; и вклад подобных явлений в межрелигиозные контакты едва ли можно счесть положительным. Однако миссия — неотменимое служение христиан, и это значит, что сегодня она должна отыскать новые формы, адекватные складывающимся межрелигиозным отношениям. Новые — и вместе древние, возвращающие к чистому исходному смыслу христианской миссии. Она должна открывать людям истину христианства; и коль скоро мы веруем, что Христос есть истина, то мы ведь просто должны помогать ближнему в открытии истины! Дело миссионера сближается, если угодно, с Сократовым искусством майевтики. Так пишет современный православный проповедник с большим опытом: миссионер должен «помочь своему слушателю выдвинуть за пределы души плевелы и сохранить пшеницу… Теплота, приязнь, расположение к людям… это самое важное для миссионера качество»
[5].
Сегодняшняя картина межрелигиозных отношений в мире сложна и неоднозначна, насыщена противоречивыми тенденциями и факторами. С одной стороны, аналогично ослаблению межконфессиональных распрей внутри христианства, возникает и осознание общности интересов самых разных религиозных групп, равно захватываемых мощной волной секуляризации и глобализации, которая несет оттеснение, маргинализацию религии как таковой, религиозного сознания в любых его воплощениях. Почти все религии сталкиваются сегодня с аналогичными трудностями существования в глубоко секуляризованном обществе и государстве — но тем не менее, сплачивающий эффект общей секулярной угрозы пока относительно невелик. В заметно большей степени, современная ситуация характеризуется обострением всевозможных конфликтов на религиозной почве. Все традиционные очаги межрелигиозных напряжений (равно как и межэтнических) находятся в высокой активности. Как мы уже замечали, процессы глобализации порождают крупные и непрекращающиеся миграции, и к прежним ареалам тесных межрелигиозных контактов, смешений добавляются новые и новые. Практически для всех религиозных сообществ активные межрелигиозные контакты становятся неизбежностью. В этих условиях, насущной необходимостью является выработка эффективных стратегий разрешения межрелигиозных конфликтов, поиск путей и методов снижения напряженности в межрелигиозных отношениях и создание стабильных режимов гармонического сосуществования различных религий в едином пространстве. Без всякой альтернативы, главным и ключевым элементом подобных стратегий и методов может являться лишь диалог религий. В заключение мы рассмотрим, как понимается этот диалог в христианстве и обсудим перспективы его развития в современных условиях.
3.
Как понятие и проблема, диалог религий впервые систематически изучается в трудах крупного протестантского теолога Пауля Тиллиха (1886–1965). Обобщая свой большой опыт наблюдения межрелигиозных контактов, он выпускает в 1962 г. первую современную монографию по данной проблеме: «Христианство и встреча мировых религий». Здесь сформулирован свод принципов межрелигиозного диалога, ставший известным и влиятельным под именем «платформы Тиллиха». Приведем эти принципы.
«Диалог между представителями разных религий основывается на ряде допущений. Во- первых, предполагается, что оба участника признают ценность религиозных основ другой стороны… так что оба они признают важность диалога. Во-вторых, предполагается, что каждый из участников способен уверенно отстаивать собственные религиозные позиции, так что диалог представляет собой серьезное противопоставление мнений. В-третьих, предполагается наличие общей основы, которая делает возможным как диалог, так и столкновение. В-четвертых, предполагается открытость обеих сторон для критики собственных религиозных основ. Если все эти условия соблюдаются… такая встреча двух или нескольких религий может быть очень плодотворной, и если диалог продолжится, он даже способен привести к историческим последствиям»
[6]. В последние десятилетия диалог религий вырос в обширную сферу жизни мирового сообщества. Удалось выстроить работающие механизмы и институты — такие как, например, Совет Парламента мировых религий — которые создают для диалога регулярные рамки и придают ему постоянный характер. С их помощью было осуществлено немало крупных встреч, которые в ряде случаев весьма реально содействовали разрешению или предотвращению религиозных конфликтов. Эти конкретные институты, конкретные события будут детально рассмотрены в следующих частях этой монографии. Мы же должны сказать, что сегодня в сфере межрелигиозного диалога еще достаточно принципиальных трудностей и проблем, причем современная ситуация добавляет к прежде существовавшим новые. Можно заметить одну черту, показывающую ограниченность тех успехов, которых пока достигает диалог. Как правило, эти успехи заключались в тех или иных соглашениях на официальном уровне, которые воплощались в действиях тех или иных официальных организаций. Иными словами, диалог был всецело регламентирован и формализован, и он оставался диалогом структур, институтов, лидеров. Поэтому, вопреки успехам, он очень мало изменял или вовсе не изменял общую атмосферу межрелигиозных отношений, ситуацию и настроения внизу, на уровне grass roots, в гуще самих религиозных сообществ.
Ему крайне недоставало личностных измерений, живого человеческого общения, в ходе которого и изменяются взаимные чувства, взаимная настроенность людей и сообществ. И можно уже с уверенностью сказать: будущее диалога религий зависит от того, сумеем ли мы дополнить его этими измерениями.
Позволю себе напомнить схему двух моделей религиозного диалога, которые были описаны мной в работе «Диалог религий: исторический опыт и принципиальные основания», выполненной в рамках предшествующего проекта нашей кафедры. Согласно этой схеме, формализованный и регламентированный диалог может направляться лишь к выявлению «общего знаменателя», суммы всех положений, разделяемых всеми сторонами диалога. Подобное выявление почвы всеобщего согласия способно содействовать примирению в случае конфликта, но оно принципиально исключает из пространства диалога все своеобразие, все характерные отличия его участников — тем самым, и всю индивидуальную глубину их миров, стихию их подлинной религиозной жизни. Плоды такого диалога не проникают до уровня grass roots и не оставляют глубоких следов. Но, наряду с этой моделью религиозного диалога, существует и другая, основанная на ином типе коммуникации. В институционализированном диалоге практикуется формализованная коммуникация структур, или, в компьютерной лексике, «общение протоколов». Альтернативная же модель основывается на личном общении, у которого коммуникационные свойства радикально иные: здесь, в частности, пространство диалога намного шире, в него включаются и все индивидуальные особенности сторон, так что последние могут выразить себя гораздо полней. Поэтому привлечение такой модели могло бы дать ценные результаты, однако ее практическая осуществимость не очевидна: разумеется, диалог религий не есть диалог отдельных лиц. Но данная трудность оказывается преодолимой. Можно указать, по меньшей мере, два пути, на которых межрелигиозный диалог может привлечь в свою сферу мощные ресурсы личного человеческого общения.
Один из этих путей хорошо известен и активно используется в экуменических, межконфессиональных контактах христиан. Речь идет о разнообразных видах неформального коллективного общения — общения самых разных групп, возникающих чаще всего снизу, спонтанно и по собственной инициативе входящих в межконфессиональные контакты опять-таки неформального характера. За счет ключевого условия неформальности, общение в таких контактах, хотя они и коллективны, в существенном может оставаться личным общением, не преобразуясь в «общение протоколов». Подобные контакты питаются, прежде всего, живым интересом к личному опыту и облику другой стороны; и в последние годы они достигли уже таких масштабов, что зримо сказываются на общей ситуации, общей атмосфере в межконфессиональных отношениях. Достаточно указать здесь единственный пример встреч в Тэзе (Франция), ежегодно собирающих многие тысячи христиан всех конфессий и номинаций, но при этом сохраняющих характер личных встреч, прямых обменов личным духовным опытом. Является очевидная мысль: разве же этот путь диалога не может быть применен также в контактах между религиями? Вполне понятно, отчего он не получил до сих пор распространения в этой сфере: взаимная удаленность сторон здесь гораздо больше, и потому гораздо реже, трудней возникает здесь необходимая предпосылка встречи: доверие к подлинности духовного опыта Другого. Но риски современной ситуации, угрозы нарастания конфликтности и вражды слишком велики, чтобы пренебрегать столь ценной, хотя и нелегкой возможностью. Надо пытаться! Другой путь нам подсказывает глубинная структура христианского и конкретнее, православного опыта. Как показано в моих работах
[7], ядро, квинтэссенция этого опыта формируется и хранится в лоне определенной духовной традиции, которая возникает на базе духовной практики — аскетической практики устремления и восхождения к Богу.
Аналогичным образом, свои духовные традиции возникают и в других мировых религиях, где их опыт также играет ключевую, квинтэссенциальную роль. За счет своей связи с духовной практикой, духовная традиция обретает особые свойства: она осуществляет хранение и трансляцию личного, а не социального и институционального опыта, и поэтому контакты между духовными традициями могут иметь природу личного общения.
Здесь и открывается еще один путь к развитию межрелигиозного диалога на базе личного общения: этот путь лежит через осуществление диалога духовных традиций. Диалог духовных традиций, хранящих в себе мистические основания духовного опыта, — самый сокровенный и смыслонасыщенный вид религиозного диалога. Но это и самый трудный вид. Духовные традиции возлагают на себя ответственность за чистоту и полноту опыта соответствующих религий, за его охрану от искажений, и потому для них труднее всего сочувственное принятие другого опыта, открытость к встрече и общению с ним. Но именно их диалог и сулит, в случае успеха, наиболее глубокие, прочные и ценные результаты, оказывающие влияние на всех уровнях и во всех аспектах религиозной ситуации. Поэтому в рамках каждой из мировых религий желательно находить ресурсы и прилагать усилия к достижению такого диалога.
В христианстве подобные ресурсы богаты. Категория личного общения вводится здесь в природу самого Божественного бытия, которое характеризуется современными богословами как «личное бытие-общение». В духовной традиции христианства, личное общение — духовная ценность, и общение с Богом необходимо предполагает открытость к общению, диалогу с ближним. Далее, как Богообщение, так и общение с ближним теснейше неотделимы от любви, в них реализуются заповеди Христа о любви к Богу и ближнему. При этом, и общение и любовь понимаются как бытийные принципы и силы, размыкающие все границы, переходящие все барьеры, которые создают люди и общества.
Общение и любовь Христова — космические начала, объемлющие все бытие человека и все сотворенное бытие. Этот мотив проходит ярко и сильно во всей духовной традиции православия, от св. Исаака Сирина до преп. Силуана Афонского; но в сути своей он является общехристианским, и у современного протестантского теолога мы тоже прочтем: «Любовь в Нем [во Христе] охватывает космос, включая и религиозное, и секулярное»
[8]. И границы между религиями также снимаются, не существуют для этих сил. Итак, с позиций христианства, диалог между духовными традициями и между религиями может и должен развиваться, апеллируя к началам личного общения и любви и опираясь на них. Богатейший опыт общения и всеохватная, не знающая границ любовь: вот тот ценный вклад христианства, который, как мы надеемся, способен открыть новые перспективы диалога и взаимопонимания между религиями.
Рекомендуемая литература
• П.Тиллих. Христианство и встреча мировых религий // Он же. Теология культуры.
• М., 1995 Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер. Вера — истина — толерантность. Христианство и мировые религии. М., 2007.
• Религиозный диалог. Лицом к лицу. М., 1995.
ЧЕЛОВЕК: СУЩЕЕ, ТРОЯКО РАЗМЫКАЮЩЕЕ СЕБЯ
Und wir: Zuschauer, immer,
dem allen zugewandt und nie hinaus!
Uns überfüllt’s. Wir ordnen’s. Es zerfällt.
Wir ordnen’s wieder und zerfallen selbst.
R.M.Rilke. VIIIte Elegie.
Современная ситуация мира и человечества несет кризисные и катастрофические черты. Сегодня с этим никто не спорит: подобный взгляд не только утверждается в оценках экспертов, но и успел прочно закрепиться в массовом сознании. К примеру, по данным социологических опросов, в России в 1999 г. 59% граждан считали обстановку в стране и мире «катастрофической», 32% – «кризисной», и только 8% – «нормальной». Разумеется, такая ситуация требует анализа и осмысления на многих уровнях. Для философского и религиозного сознания на первом месте стоит вопрос о природе и истоках ситуации: на каком уровне реальности, в какой сфере явлений лежат ее корни, ее порождающие факторы? Задавшись этим вопросом, философ вскоре обнаруживает существенную новую особенность. Как всегда привычно считалось, глобальные кризисные и катастрофические явления, потрясения, катаклизмы по своим истокам носят двоякий характер: эти истоки могут лежать в окружающей среде (как в случае стихийных бедствий, эпидемий и т.п.) или же в обществе, в сфере социума (как в случае войн, крушений царств, народных смут). В корнях сегодняшнего кризиса также, несомненно, присутствуют и природные факторы (экологические и прочие), и социальные (цивилизационные напряжения, этнические и конфессиональные конфликты), однако они уже не являются главными и определяющими. Взглянем, к примеру, на визитную карточку наших дней, самоубийственный терроризм: это – определенный вид самоубийства, суицидальная антропологическая практика; и по его существу, этот феномен нельзя отнести ни к природным, ни к социальным, он – прежде всего антропологичен. Это же можно сказать обо всех практиках трансгрессии, широко распространенных сегодня, и о многих других кризисных явлениях новейшей эпохи. Глобальный кризис обретает новую природу – антропологическую, и его истоки надо искать на антропологическом уровне, в процессах, происходящих с человеком. Эти процессы ныне приобретают решающую роль в глобальных явлениях, в мировой ситуации и динамике – ибо они приняли характер резких и радикальных перемен и уже не могут считаться вторичными следствиями социальных, либо исторических процессов.
В опыте новой эпохи, эпохи рубежа тысячелетий, обнаружилась предельная – или скорей уже, беспредельная – изменчивость, подвижность, пластичность не каких-то отдельных атрибутов и акциденций, но самой природы, натуры человека. Знаменитая строка Т.С. Элиота: The centre does not hold, которую применяли к самым разным аспектам современности, получает последний и наиболее глубокий смысл, прилагаясь к человеку: именно его центр сегодня оказывается распавшимся и отсутствующим. Из массы свидетельств этого отметим одно, философское: перемещение фокуса философской мысли с Я (Эго, субъекта...) на Другого. Как легко видеть, в этом перемещении отражается именно исчезновение твердого центра Человека: глядя в себя самого, я больше не вижу, перестал видеть, кто я и что я; и в поисках себя я теперь обращаюсь за пределы себя, к Другому. Из опыта современности проступает некоторый новый облик человека, новая антропологическая реальность, лишенная неизменяемого сущностного ядра. Этот облик в корне расходится с традиционными европейскими представлениями о человеке. Человека рубежа тысячелетий, времени психоанализа и интернета, недавнего тоталитарного опыта, радикальных психотехнических, психоделических, виртуальных практик, гендерных революций – этого человека нельзя считать прежним классическим субъектом европейской антропологии и метафизики. И если старые концепции не объясняют современных антропологических процессов – стало быть, существует назревшая нужда в новых принципах для антропологии, новом подходе к феномену человека и в создании новой антропологической модели.
В этом антропологическом поиске может по-прежнему быть полезной топологическая интуиция «центра человека», навеянная поэзией. Классическая европейская антропология, идущая от Аристотеля, есть эссенциалистская метафизика, рассматривающая человека как сущность и систему разнообразных сущностей и стремящаяся выделить из них некие основополагающие начала или же базовые элементы человеческой природы – своего рода неизменное порождающее ядро, которое определяет собой сложное многообразие человеческого существа во всех его проявлениях. Такой подход к человеку естественно соотносится с интуицией центра, он предполагает наличие некоего сущностного ядра, центра человеческого существа и ориентирован на его отыскание и изучение. Как мы видели, опыт современности ставит под сомнение, если не прямо отрицает это наличие неизменного сущностного центра – и проблема человека не может более ставиться как проблема отыскания и изучения такого центра. Однако интуиция «центра человека» сразу же подсказывает и альтернативу себе. Если человека нельзя более характеризовать «центром» – его остается характеризовать «периферией», а точнее – границей. Такая характеристика уже не может отсутствовать и, кроме того, она заведомо является не менее определяющей, нежели «центр». По классической философской логике, общий способ определения предмета состоит в указании его Иного, того, что отлично от него и тем самым, конституирует его предел, границу; определить предмет равносильно тому, чтобы описать его границу, ибо «лишь благодаря своей границе нечто есть то что оно есть» (Гегель). Соответственно, антропология может развиваться как описание «антропологической границы» – границы сферы всех проявлений и возможностей человека, границы горизонта человеческого существования.
Подобная переориентация антропологии, от сущностного центра, который оказался фикцией, – к Границе Человека, – есть не просто возможность, допускаемая общей логикой; она настойчиво диктуется современным опытом. В современной мысли нет никакой общей концепции «Границы Человека», такого понятия покуда не существует – и тем не менее, слова «граница», «предел» возникают навязчиво и постоянно, когда идет речь о ведущих тенденциях и характернейших проявлениях современного человека. По праву можно сказать, что упорное, непреодолимое влечение Человека к своей Границе – определяющая черта сегодняшней антропологической ситуации. И в свете этого, мы можем уточнить предыдущий вывод: заданием и потребностью времени сегодня является не просто новая антропология, но именно – «антропология Границы», в отличие от прежней «антропологии Центра».
***
Продвижение к антропологии Границы должно опираться на некоторое исходное понимание Границы – хотя бы интуитивное, для начала. При этом, мы не должны связывать это понимание со старыми дискредитированными представлениями о человеке и принципами его описания. Признавая несостоятельность старой эссенциалистской антропологии, строящей описание человека в терминах сущностей, принципов, составляющих субстанциальных элементов, мы не должны мыслить Границу Человека как сущностную концепцию или конструкцию. Начинать следует с начала, ab ovo, на чистом месте, вводя на каждом этапе лишь минимум заведомо необходимых понятий.
По обычным представлениям, Граница есть нечто, сопоставляемое предмету и отделяющее его от всего окружающего, внешнего, «иного» этому предмету. Тем самым, в своей семантической структуре, Граница есть некое «Третье», по отношению к Предмету и его Иному, которое служит для этой диады промежуточным, посредствующим, разделяющим. Говоря об Антропологической Границе, следует обобщить эти представления. Прежде всего, нежелательно с самого начала характеризовать Человека, философские очертания и философский статус которого нам еще долго предстоит выяснять, старым метафизическим понятием предмета; речь о Человеке, развиваемая как речь о Предмете, рискует оказаться неоправданным сужением антропологического дискурса. Кроме того, предметный дискурс тяготеет к статичности и потому плохо пригоден для передачи современной антропологической реальности, главные особенности которой – резкая динамика, радикальные изменения. Современный антропологический опыт фиксирует многообразные проявления человека и ставит на первый план, как наиболее важный и характерный, определенный род этих проявлений, которые называются обычно «предельными проявлениями», «феноменами Границы», «феноменами трансгрессии» и т.п. Основания и критерии, по которым выделяются эти проявления, точно не формулируются, они, как правило, довольно размыты, полуинтуитивны – и тем не менее, в них есть своя последовательность и обязательность: как нетрудно увидеть, «предельность», «принадлежность Границе» проявлений человека всегда понимается как выход за рамки горизонта «обычного», «нормального» эмпирического человеческого существования – к таким проявлениям, в которых исчезают или меняются те или иные определяющие признаки, предикаты этого существования.
Эти опытные ориентиры ценны для нас. Они говорят, что в диаде «Человек и его Иное» человек может выступать не как «предмет», но как «горизонт существования», характеризуемый определенным набором основных признаков, предикатов (как, скажем, обладание сознанием, конечность, смертность...); Иное же, в свою очередь, определяется по отношению к этому набору. Граница Человека – «Третье», «промежуточное и разделяющее» для этой диады – тогда будет пониматься в терминах проявлений человека, складываясь из тех самых «предельных проявлений», о которых говорит современный опыт, и из подобных им, т.е. из таких проявлений Человека, в которых исчезают или меняются определяющие признаки и предикаты человеческого существования, и которые поэтому могут уже рассматриваться как проявления не только Человека как такового, но и его Иного. Так возникает предварительное рабочее понятие Границы Человека: Граница Человека (Антропологическая Граница) есть полная совокупность его предельных проявлений.
Ясно, что в таком понимании Антропологическая Граница трактуется не эссенциально (и тем более, не субстанциально-вещественно), не отвлеченно-метафизически; ее составляют определенные человеческие проявления. Соответственно, именно «человеческие проявления» оказываются исходным понятием для развития антропологии Границы. Чтобы избежать всех редукций, произвольных постулатов, ограничений старой антропологии, это должно быть максимально общее и широкое понятие. Мы нисколько не предопределяем, какой облик Человека должен возникнуть из наших рассмотрений, но мы заведомо знаем, что человек сложен, многомерен, полифоничен, и его проявления – необычайно разнообразная, богатая и подвижная стихия. Мы знаем, в частности, что для антропологической реальности характерны тонкие эффекты типа «взмаха крыла бабочки» в синергетике, когда самые незначительные, неуловимые проявления могут приводить к важнейшим последствиям, в том числе, и к феноменам Границы. И это значит, что к «человеческим проявлениям» следует относить не только законченные, выполненные акты и действия человека, но также и всевозможные зачаточные явления – побуждения, помыслы, внутренние движения, которые представляют собой всего лишь зарождения, начатки, «ростки» актов, возможно, так и не вызревающие до актов в полном смысле. Если старое метафизическое понимание человека в терминах субстанций и сущностей попросту неверно, то понимание его в терминах актов недостаточно, грубо. Нельзя понять человека, рассматривая одни его акты; необходимо уметь видеть и анализировать «пред-акты», ту тонкую, сокровенную стихию, в которой акты зарождаются и становятся.
Внимание к таким тонким проявлениям человека с древности культивируют мистико-аскетические (духовные) практики; они утверждают их важность для антропологической реальности и развивают изощренную технику их наблюдения и управления ими. Поэтому антропология Границы в своем подходе к человеку обнаруживает общность с духовными практиками, и как далее мы увидим, эта общность является глубокой и далеко идущей. Духовные, или мистико-аскетические практики – древнейшая и богатейшая практическая антропология, и мы видим, что в сегодняшней ситуации антропологического кризиса и поиска, наряду со свидетельствами современного опыта, наиболее ценными и актуальными оказываются именно их свидетельства: современность и древние практики сближаются между собой как две области, развивающие неклассическое видение человека, для которого критически важны тонкие и предельные проявления. (Далее мы, однако, обнаружим и глубокие различия между ними.) Можно также отметить и другое сближение: антропологический подход, отправляющийся от «человеческих проявлений», в известной мере аналогичен деятельностному подходу, полагающему в основу описания реальности деятельность человека, его разнообразную практику. В различных формах такой подход неоднократно выдвигался в ХХ в. – в психологии (бихевиоризм и другие течения), в разных направлениях социальной философии и неомарксизма (в частности, группа журнала «Праксис» в Югославии 50-х – 70-х гг.) и др. Но данное сближение не столь значительно: как только что мы видели, категории акта и деятельности характеризуют человека более грубо и поверхностно, чем те произвольные «человеческие проявления», на которых базируются духовные практики и наша антропология Границы. В сравнении с прагматистскими, бихевиористскими, деятельностными течениями европейской мысли, подход, базирующийся на общей концепции «человеческого проявления» и развивающий анализ «пред-актов», может рассматриваться как своего рода микроанализ антропологической реальности.
Концептуализация сферы «человеческих проявлений» – первая необходимая задача антропологии Границы. Здесь снова служит ориентиром опыт духовных практик, причем особую, выделенную роль играет практика Восточно-христианской аскезы, или же исихазм. Дальневосточные практики, такие как йога, тантрический буддизм и др., используют специфические дискурсы восточной мысли, где все базовые понятия, их связи, принципы рассуждения и вывода кардинально отличны от европейской традиции. В исихазме же мы имеем уникальный пример, когда «микроаналитическая» антропология, развиваемая в духовных практиках, выражается в европейском дискурсе. В частности, для всех разнообразных проявлений человека в исихазме изначально укоренился общий собирательный термин: все они именуются «энергиями» человека. Более точно, энергией именуется любое из простейших, элементарных проявлений, или же «выступлений» человека, так что произвольное проявление складывается, вообще говоря, из многих различных энергий и представляет собой их сочетание, «энергийную конфигурацию». За счет этого базового термина, дискурс человеческих проявлений сразу же связывается с языком европейской философии; однако эта связь носит первоначально лишь нестрогий, интуитивно-наводящий характер, поскольку в аскетике энергии – отнюдь не философский концепт, но сугубо рабочее, операциональное понятие. Поэтому, используя для человеческих проявлений язык энергий, необходимо препарировать этот язык, устанавливая связь эмпирического аскетического словоупотребления с философской трактовкой энергии и претворяя таким путем опытную речь о проявлениях человека в дискурс философской антропологии.
Принятие языка энергий для описания Человека, в том числе, и для его предельных проявлений, образующих Антропологическую Границу, влечет многие следствия. Прежде всего, если феномены Границы, как мы говорили, могут рассматриваться как проявления не только Человека, но также и Иного, то энергийный язык должен переноситься и на эти проявления Иного; и отношение Человека и Иного должно описываться в энергийном дискурсе
[1] . В итоге, феномены Границы представляются как явления особого рода, в которых принадлежащие человеку энергии встречаются и взаимодействуют с некоторыми другими энергиями, «энергиями Иного». Определяющее свойство последних в том, что их источник не может быть идентифицирован нигде в пределах горизонта человеческого существования. В свою очередь, при подобном описании феноменов Границы возникает явная параллель антропологии Границы с теорией физических открытых систем. Для таких систем главную роль в их поведении играет взаимодействие их внутренних энергий с внешними, которые могут проходить через данную систему в силу ее открытости. Принимая – на основании свидетельств того или другого опыта, религиозно-мистического, либо современного предельного, – что Человек может кардинально меняться, не обладая никакою неизменной природой, мы, там самым, полагаем Человека «открытой системой», антропологическую реальность – открытой реальностью. Для физических открытых систем существуют различные механизмы взаимодействия их энергий с внешней энергией, принадлежащей некоторому внеположному источнику, и среди таких механизмов играет особую роль синергетический механизм, или синергетическая парадигма. Вот упрощенная суть этой парадигмы: если система специальным образом подготовлена, а именно, выведена предельно далеко из области своих обычных, стабильных режимов – в состояние, удаленное от равновесия (что называется «раскачкой» системы), то поток внешней энергии через эту систему может оказывать не разрушительное, а структурирующее воздействие; в системе начинаются цепные процессы самоорганизации, выстраивания иерархической последовательности усложняющихся динамических структур, и эта структурная перестройка способна переводить систему в качественно и радикально новое состояние. Понятно, что при анализе феноменов Границы первостепенно важно выявить и понять механизмы и парадигмы изменений, происходящих с Человеком в этих феноменах; и для этой цели системно-физическая параллель имеет немалую эвристическую ценность. Как далее мы увидим, синергетическая парадигма имеет глубокие соответствия в духовной практике и, в частности (терминологическая близость тут отнюдь не случайна!), в парадигме синергии, выработанной византийским богословием на базе исихастского опыта. Вместе с тем, необходимо учитывать и ограниченность параллели, дабы не впасть в физикалистский редукционизм: язык описания физических систем заведомо лишь в небольшой мере применим к антропологической и, в особенности, духовной реальности.
Горизонт человеческого существования – разнородная, многомерная, многоаспектная реальность. Поэтому Иное Человека также многообразно; по отношению к различным определяющим предикатам и признакам горизонта человеческого существования конституируются различные роды Иного. Так, по самому определению, Бессознательное есть Иное сознания; и если обладание сознанием мы (как это твердо принято) включаем в круг определяющих предикатов Человека, то Бессознательное есть и Иное Человека – определенный род Иного, не исчерпывающий собою его многообразия. Отсюда явствует, что Антропологическая Граница, как Третье, разделяющее-соединяющее по отношению к диаде Человек—Иное, есть сложное образование: каждый род Иного Человеку конституирует и определенный род Границы или точней – чтобы сохранять понятие Границы в топологическом дискурсе – определенный участок, ареал Границы. Граница же в целом обладает, таким образом, некоторым строением, некоторой топикой; и первая большая задача антропологии Границы заключается в полном описании, реконструкции этой топики.
Как следует из сказанного, один из ареалов Границы Человека порождается Бессознательным: это – те проявления Человека, в которых обнаруживается воздействие Бессознательного и энергии человека взаимодействуют с энергией Бессознательного; иными словами, данный ареал составляют антропологические процессы или паттерны, которые индуцированы присутствием Бессознательного, его энергиями. Но сразу же очевидно и наличие, по меньшей мере, еще одного ареала, который более важен для философского понимания Человека, ибо прямо связан с его онтологическим статусом. В онтологическом подходе к феномену человека, Человек рассматривается как определенный род или горизонт бытия. Классический современный пример – философия Хайдеггера, где Человек представляется как «бытие-присутствие», Dasein; классический древний пример – христианская мысль, для которой Человек как «микрокосм» есть «тварь», бытие, сотворенное из Ничто. Ясно, что в таком случае Иное Человека – иной образ или горизонт бытия, Инобытие (Sein – у Хайдеггера, Бог как Пресвятая Троица – в христианстве). Граница же Человека, определяемая как энергийное Третье, промежуточное для этой диады, есть совокупность таких проявлений Человека, в которых совершается его претворение в Инобытие – онтологическое трансцендирование, означающее актуальное изменение, преодоление, трансформацию именно онтологических характеристик Человека, то есть, прежде всего, фундаментальных предикатов конечности и смертности. (Так, в Православии назначение Человека определяется как обожение, энергийное соединение с Богом, достигаемое на вершине пути духовного восхождения; и мы можем сказать, что с позиций антропологии Границы, Православие утверждает в качестве Антропологической Границы онтологическое трансцендирование, тематизируя его в формах аскетической практики и богословия обожения). Данный ареал Границы принципиально отличен от ареала, определяемого Бессознательным («топики Бессознательного»). За Бессознательным не утверждается статуса Инобытия, и граница Человека, конституируемая им, проходит в том же онтологическом горизонте, что и эмпирическое человеческое существование. Обычно этот горизонт называют горизонтом наличного бытия или же сферой сущего; и, следуя хайдеггеровскому различению категорий сущего и бытия как, соответственно, онтических и онтологических категорий, мы будем называть топику Бессознательного онтической Антропологической Границей. Граница же, конституируемая Инобытием, есть, очевидно, онтологическая Антропологическая Граница. Как мы ниже увидим, каноническая диада онтологическое—онтическое должна быть дополнена: существует – и притом, очень важен для современного опыта – такой вид реальности, который нельзя отождествить ни с бытием, ни с сущим; это – виртуальная реальность, представляющая собой недовоплощенное, не полностью актуализовавшееся сущее. Существует и обширный класс человеческих проявлений, в которых осуществляются выходы в виртуальную реальность; по отношению к горизонту человеческого существования, они представляют собой предельные проявления – и поэтому виртуальная реальность также порождает определенный ареал Границы, или же топику виртуальности. Мы также убедимся, на основании энергийной интерпретации Границы, что Граница Человека исчерпывается этими тремя ареалами.
Структура всего из трех ареалов не кажется на первый взгляд особо разнообразной и сложной. Но это – лишь на самый поверхностный взгляд. В действительности, возникающая модель описывает Человека как предельно полифоническое существо, способное меняться в поразительном диапазоне, быть совершенно разным во всех мыслимых отношениях. Надо учитывать, что прежние антропологические концепции, когда они занимались Границей Человека, практически всегда предполагали в ней лишь какую-либо одну топику. Различия же между топиками радикальны. Именно отношения с Границей конституируют (само)идентичность человека, и поэтому каждая топика порождает свой тип, свою модель идентичности
[2] . Анализ этих типов идентичности, их способов конституции – наиболее систематичный путь поиска альтернативы давно критикуемой декартовой концепции субъекта, путь к ответу на остро стоящий в современной мысли вопрос:
Кто приходит после субъекта? [3] . Подобно идентичности, многие базовые предикаты существования человека также глубоко различны в разных топиках. В каждой из них свой тип темпоральности: как следует ожидать, топике духовных практик должна соответствовать стрела времени, топике бессознательного – время циклическое, а виртуальной топике – «недо-время», недоформировавшаяся темпоральность, не имеющая некоторых конститутивных элементов непрерывной длительности. В каждой топике также и своя икономия смерти: в топике духовных практик, как мы ниже увидим, развертывается «первоимпульс неприятия смерти»; для топики бессознательного, напротив, характерно влечение к смерти (согласно Фрейду), а в топике виртуальности – как показано в нашем цикле «Шесть интенций», также вошедшем в эту книгу, – возникает икономия эвтанасии, имплицитного согласия на приятную смерть со скрытым от сознания ее приближением. Уже из этих примеров возникает изумленный вопрос: как единое существо способно объять все эти модусы существования? какое единство оно может при этом сохранять? Требуется долгое рассмотрение, чтобы отчетливо увидеть, что же за облик Человека рисуется в намечаемой
энергийной предельной антропологии.
Конституция онтологической Границы
Анализ Границы Человека, безусловно, следует начинать с онтологической Границы, которою определяется ориентация Человека в бытии. Уже само ее существование есть проблема: что такое «трансцендирование» Человека? не есть ли это лишь фикция, фантом языка, эпифеномен метафизического дискурса?
Тема онтологической трансформации, стремления к премене горизонта бытия, онтологического статуса возникает из самого «основоустройства» (Grundverfassung) человеческого существования: она коренится в смертности человека, в изначальной природе его отношений со смертью. Эти отношения образуют обширную, разветвленную икономию, ядро которой – первичная негативная реакция сознания и организма, всего существа человека на собственное уничтожение: глубинный, органический и непроизвольный импульс отталкивания, неприятия смерти как собственного абсолютного небытия, конца-уничтожения, тотальной аннигиляции субъектного мира. Этот изначальный импульс человеческой природы, Первоимпульс неприятия смерти, как мы его будем называть, развертывается во множестве проявлений и форм (включая и превращенные, принявшие вид влечения к смерти, в котором, однако, всегда можно распознать инверсию первичного отталкивания); и очевидно из самого определения, что тем, к чему он направлен, – его искомым, предметом и исполнением его стремления – служит избавление от описанной перспективы, или же "преодоление смерти". Но это "искомое" не может обрести в сознании облик определенного, до конца очерченного "предмета сознания", поскольку оно заведомо не принадлежит к числу опытных содержаний субъектного мира: как справедливо указывалось, уже и сама "моя" смерть не может быть содержанием "моего", субъектного опыта. Помимо этого принципиального "предела разрешения" оптики сознания, сознание в обычном повседневном существовании вообще отнюдь не стремится максимально эксплицировать Первоимпульс, вывести в ясность и отчетливость его искомое и его истоки: ибо не раз прослежено и установлено (и глубже всего – в экзистенциальной аналитике Хайдеггера), что обыденному сознанию, подчиненному рутинным структурам повседневности, свойственно уклоняться, отворачиваться от опыта смерти, подвергать этот опыт вытеснению, маргинализации. В результате, в рамках обычных стереотипных режимов существования человека и деятельности сознания, и "преодоление смерти", и сам к нему стремящийся Первоимпульс остаются имеющими достаточно смутные очертания.
Можно заметить, тем не менее, что в конституции Первоимпульса неприятия смерти, в характере тех процессов, в которых он реализуется, существуют определенные общие элементы со свойствами "влечений" (Triebe), как они описываются в классической психоаналитической теории. По этой теории, как известно, "объект" влечения или желания оказывается недоступен
[4] . Эта принципиальная недоступность объекта соотносится с прямою связью Между влечением и Бессознательным; и, в свою очередь, она служит главной предпосылкой формирования обширного репертуара специфических структур сознания (неврозов, комплексов и т.д.), которые выявляет и описывает психоанализ как наука и которые старается подчинить и преобразовать психоанализ как практика. Что же до Первоимпульса, то в его конституции мы также можем зафиксировать фундаментальный факт "недоступности объекта". При любых критериях достоверности опыта, будь то позитивистские или феноменологические, мы констатируем, что в рамках наличного человеческого существования никакого актуально-событийного и доказуемо неиллюзорного, удостоверяемого "преодоления смерти" не происходит. Тем самым, судьба Первоимпульса оказывается вполне подобной судьбе влечений: как и они, он реализуется в процессах, носящих характер циклического повторения некоторого динамического стереотипа, паттерна (повторение, Wiederholen – одно из "четырех фундаментальных понятий психоанализа", по Лакану, напомним, отличаемое от "воспроизведения", Reproduzieren). Но в данном случае эта психоаналитическая парадигма, символически представляемая Лаканом как циклическое движение вокруг пустоты отсутствующего в горизонте опыта, недостижимого Объекта, отнюдь не исчерпывает собой всех явлений и процессов, инициируемых Первоимпульсом.
Повторяющееся не-достижение исполнения, "удовлетворения" Первоимпульса порождает не только те эффекты (типа фрустраций), что фиксирует психоанализ на примерах влечений. Достаточно очевидно – и сотни раз раскрывалось, подчеркивалось в философии, психологии, искусстве – что опыт смерти – единственный заведомо данный, неизбежный для каждого род опыта, онтологически значимого, сталкивающего с самим человеческим бытием как цельностью. Как демонстрирует экзистенциальная аналитика, феномен смерти и опыт смерти занимают уникальное место в ситуации человека, будучи прямо связаны с самим его бытийным, онтологическим статусом: в них – главное, основополагающее выражение и проявление фундаментального предиката конечности, которым определяется горизонт наличного бытия. Сознание – его разумные, высшие активности – фиксирует эту уникальную роль, и потому в нем, наряду с тенденциями к вытеснению опыта смерти, образуются и тенденции противоположного рода, к углубленной, осмысливающей проработке этого опыта. Но важно сразу заметить, что эти тенденции могут находить и находят свое выражение в двух разных руслах.
На одном пути, сознание ставит в центр осмысливающей работы самое смертность, неотвратимую смерть как смыслоносительный и смыслонаделяющий граничный феномен человеческого существования – и ставит задачу осмысливания существования человека в свете и на основе этого феномена: задачу
обретения смысла жизни через смысл смерти. Это древний путь, зародившийся уже в архаических культах, отчетливо выразившийся у орфиков, философски отграненный Платоном и вновь потом многократно утверждавшийся философией, от стоиков до Хайдеггера. Девиз его – знаменитая максима из "Федона": "Философствовать значит упражняться в умирании" (Phed 67e). Здесь, т.о., отношение к смерти делается предметом особого "упражнения" (которое оказывается совпадающим с занятием философией); и, следуя П.Адо, можно считать, что сознание развертывается здесь в стратегии или парадигме "духовных упражнений", суть которой – «созерцание времени и бытия в их цельности ... возвышение мысли до уровня универсального»
[5] . – Однако какая участь предлагается на этом пути для Первоимпульса неприятия смерти? Как легко видеть, парадигма "духовных упражнений" предполагает его нейтрализацию или деконструкцию: путем "возвышения мысли" мне надлежит обуздать, "окультурить" мое изначальное органическое неприятие смерти – и преобразовать, перевести его в "философическое приятие"
[6] . По сути, перед нами – умственный трюк, попытка убедить и уговорить, "заговорить"; и понятно, что "заговорить" и изменить на противоположное коренной и аутентичный импульс самой человеческой природы удается лишь для немногих избранных, особо философских натур. Поэтому, вопреки всей поддержке высокой философии, парадигма духовных упражнений никогда не стала широкою антропологической стратегией.
Напротив, на другом пути сознание ставит в центр и принимается отыскивать смысл – не смерти, а неприятия смерти. Оно выстраивает здесь иную логику, которая, пожалуй, более зорко прочитывает ситуацию человека. Смерть сама по себе – очевидна, естественна, природна: земля еси и в землю отыдеши – это более чем понятно! – но острый вопрос вызывает вот это живущее, гнездящееся во мне неприятие смерти. Философствующая парадигма духовных упражнений третирует его, в ней неприятие смерти само подвергается неприятию: оно – из сферы неразумного, "дикого" в человеке, и человеку надлежит отбросить, либо выдрессировать его. Но это философское решение оказывается, на поверку, слишком поспешным, оно упускает из вида одну существенную альтернативу. Когда сознание решает – решается, дерзает, рискует! – принять собственное неприятие смерти всерьез, концептуальная картина делается уже не двойственной: Человек – и его Смерть, но тройственной, треугольной: Человек – его (неотвратимая) Смерть – его (неискоренимое) Неприятие смерти. Узел проблемы смерти (смертности) человека перемещается: сознание видит его не столько в самой смерти как таковой, сколько в собственном неприятии смерти. Оно исходит из конфликтной, фрустрирующей ситуации сочетания имманентного и неискоренимого Первоимпульса – с фактом не-достигания объекта и цели, неудовлетворения этого Первоимпульса; и данная ситуация толкает его поставить сам Первоимпульс в фокус и под вопрос. Раз Первоимпульс не исполняется – зачем тогда он во мне и откуда он? вправду ли он коренится лишь в неразумном, в "дикой части нашего существа" (Платон)? и по своей сути он – только изначально обреченная безуспешность, имманентно заложенная в моей природе – моя неудача? может ли он хотя бы вообще, "в принципе" исполниться? – Все эти вопросы означают, что сознание осуществляет интенцию (интенциональное отношение) на Первоимпульс, делает Первоимпульс интенциональным предметом. Разумеется, это – специфичный, существенно недоочерченный, неполно данный предмет, как мы уже замечали; и такая интенция не может стать законченным интенциональным актом в гуссерлианском смысле. Но она и не остается бесплодной.
Прежде всего, ставя Первоимпульс в фокус сознания, сознание может продвинуться – хотя и не до полноты, как указывалось, – в конституции его объекта и цели. Уясняется, что исполнение Первоимпульса, или "преодоление смерти", не может отождествляться с простым устранением, отсутствием смерти, т.е. бесконечным удлинением биологического существования, неопределенно тянущимся продолжением его в тех же наличных формах. То, что заведомо входит в искомое, требуемое Первоимпульсом, есть не столько отсутствие смерти, сколько изменение природы смерти, преодоление конца-уничтожения, аннигиляции личности; и это изменение общим образом представляется как некоторый конец-превращение, конец-трансформация. Мы заведомо не можем полностью эксплицировать содержание подобной трансформации – уже по одному тому что такая задача предполагает решение весьма кардинальных проблем определения самоидентичности личности и критериев сохранения самоидентичности – проблем, которые поныне остаются смутными, равно для философии и для психологии. Однако род трансформации, ее бытийная сущность очевидны и несомненны: "изменение природы смерти" есть не что иное как изменение самих фундаментальных предикатов горизонта наличного бытия, подлинная онтологическая трансформация. Отсюда с необходимостью следует дальнейший вывод: актуальное исполнение Первоимульса возможно и достижимо лишь в том случае, если сам Первоимпульс не подчинен этим предикатам, если он является не просто спонтанным, независимым от воли и разума моего сознания, но происходит "извне", имеет исток свой вне горизонта сознания, мира субъектного опыта: является импульсом некоего Внеположного Истока, "иной природы". Если это действительно так – тогда следование импульсу такого истока, такой природы, устремление к ним и соединение с ними априори способны привести к актуальному изменению моей природы, "изменению природы смерти".
Возникает, т.о., новый важный концепт, и следует охарактеризовать его с возможной отчетливостью. Нельзя говорить, что мы достигаем усмотрения Внеположного Истока в интенциональном акте, либо полагаем Внеположный Исток логическим заключением. По самому определению, "внеположное" горизонту сознания и опыта нельзя ни "положить", ни "усмотреть". В итоге моей "интенции на Первоимпульс" я усматриваю отнюдь не сам Внеположный Исток, но лишь следующие относящиеся к нему положения: (a) я не могу усмотреть, локализовать, идентифицировать исток Первоимпульса нигде в горизонте моего сознания, и в этом смысле, он есть "внеположный исток"; (b) исполнение Первоимпульса возможно лишь в единственном случае, если его исток обладает актуальной онтологической внеположностью: ибо, чтобы "изменить природу смерти", необходимо "изменить природу жизни", точнее, достичь онтологической трансформации; и для этого, в свою очередь, необходимо действие онтологически иной, принадлежащей онтологически внеположному истоку энергии; (c) я не могу ни усмотреть, ни доказать, что внеположность истока Первоимпульса есть, действительно, онтологическая внеположность; но не могу ни усмотреть, ни доказать также и обратного.
Чтобы понять, какие выводы делает мое сознание из этих данных, нужно сначала зафиксировать еще один важный результат, приносимый интенцией на Первоимпульс. Мы можем увидеть, какова вообще роль сознания в исполнении Первоимпульса, вне зависимости от статуса истока последнего. Первоимпульс действует в моем сознании (сфера которого объемлет психику, волю, разум); стало быть, исполнение его может осуществляться лишь через посредство сознания. Сознание – единственный непосредственный агентПервоимпульса. Но исполнение Первоимпульса – онтологическая трансформация; стало быть, оно означает, что сознание становится агентом онтологической трансформации, глобальной трансформации наличного бытия как такового: будучи движимо, питаемо Первоимпульсом, оно должно трансформироваться само и проводить, осуществлять стратегию этой глобальной трансформации, что заведомо является также глобальной, всепоглощающею активностью. Иными словами, исполнение Первоимпульса каконтологическаятрансформациямыслимо лишьпри всецелой ориентации сознания на Первоимпульс и всецелой отдаче сознанияего исполнению.
Ясно отсюда, что в обычном эмпирическом существовании, без принятия сознанием этой весьма особой глобальной стратегии, исполнение Первоимпульса заведомо невозможно; однако в случае ее принятия утверждать такую невозможность уже нельзя. И ясен также ответ на исходный вопрос: какую позицию занять сознанию по отношению к Внеположному Истоку. В любом случае, условием исполнения Первоимпульса является всецелая отдача сознания этому исполнению; и если еще одним условием исполнения служит онтологическая внеположность истока Первоимпульса – значит, "всецелая отдача" предполагает еще и отношение к Первоимпульсу как импульсу онтологически внеположного истока: вся развертываемая сознанием стратегия должна принимать, что исток Первоимпульса – онтологически внеположный исток.
Из прочих выводов, что может доставить интенция на Первоимпульс, отметим еще всего один. Импульс, направляющийся к онтологической трансформации, должен различать, идентифицировать фундаментальные предикаты наличного бытия и проявления их; и это означает, что он должен действовать, прежде всего, на высшие активности сознания, на разум. Тем самым, он должен являться артикулированным: внятным разуму, говорящим ему; и это можно передать заключением, что Первоимпульс должен носить характер зова, или призыва Внеположного Истока. Подобная терминология общения оказывается не просто удобной, но внутренне адекватной рассматриваемым явлениям.
Итак, Первоимпульс неприятия смерти должен быть зовом Внеположного Истока. Это – его необходимое свойство, но, разумеется, оно еще нисколько не обеспечивает исполнения Первоимпульса. Продвижение к исполнению может происходить лишь тогда, если зов услышан, воспринят – и вызвал согласный отклик – и стало совершаться то, к чему призывает зов. Но Зов призывает даже не просто к необычному, но к абсолютно исключительному: к "онтологической трансформации". Если сознание услышало и приняло Зов – как зов Внеположного (онтологически!) Истока, такой призыв – уже не бессмыслица, не абсурдная невозможность; но даже с этим условием следование призыву зова – особая, единственная в своем роде задача. Прежде всего, такое следование должно быть глобальным, всецелым не только для сознания: воспринимаясь, в первую очередь, разумом человека, Зов обращен, однако, к человеку как таковому, во всей цельности его природы и существа. Соответственно, и следование Зову касается всего человеческого существа. Это существо иерархически структурировано, включает многие уровни активности, организации и состава – и каждый из этих уровней имеет, вообще говоря, претвориться в иное, пройти некое свое изменение – так что задача оказывается включающей множество задач. Поэтому следование Зову, в свою очередь, структурируется, представляется как некоторый процесс, вовлекающий всего человека – иначе говоря, как некоторая всеохватная холистическая стратегия существования. Направляясь к трансформации наличного образа бытия, такая стратегия несовместима с обычным, "природным" порядком существования человека, в котором воспроизводится этот образ бытия, а Первоимпульс не идентифицируется и не принимается как зов Внеположного Истока. Всецелое следование Зову – альтернатива, "контрпрограмма" природному порядку существования, строимая, как на краеугольном камне, на Первоимпульсе неприятия смерти
[7] .
В итоге, начав с интенции на Первоимпульс, с поставления его в центр сознания, мы, вопреки парадигме духовных упражнений, отнюдь не приходим к выводу о его "диких", антиразумных корнях и об априорной недостижимости его исполнения. Но, равным образом, мы не приходим и к выводу о достижимости исполнения. Наши усмотрения – иного рода: мы открываем возможность некой специальной стратегии или парадигмы человеческого существования, которая радикально отлична от "обычной" (т.е. не принимающей Первоимпульс неприятия смерти как зов Внеположного Истока) парадигмы существования и которая выстраивается, продвигаясь "в направлении" исполнения Первоимпульса. Нельзя утверждать, что в этой стратегии исполнение недостижимо – и нельзя утверждать, что оно в ней будет достигнуто: иначе говоря, это есть антропологическая стратегия с принципиально открытым исходом.
Суммарный вывод мы можем выразить так: в репертуаре человеческих проявлений существуют определенные проявления, которые коренятся в отношениях человека со смертью и представляют собой холистическую антропологическую стратегию, ориентированную к онтологической Границе Человека. Назовем эту стратегию – стратегией или же парадигмой Духовной Практики. Из этого определения не видно сразу, что оно относится к тем же человеческим проявлениям, которые традиционно известны под именем духовных практик; но в этом возможно убедиться. Компаративный анализ основных мировых школ духовной практики, проделанный в нашей книге «О старом и новом» (С.-Петербург, 2000), позволил сформулировать общее описание-определение духовной практики и, сопоставляя это эмпирическое определение с данным выше определением философским, мы можем заключить, что оба они выделяют один и тот же антропологический феномен. Таким образом, значение духовных практик для антропологии Границы окончательно уясняется: именно духовные практики составляют важнейший ареал Границы Человека, его онтологическую Границу. Характеризуя эту Границу в разных аспектах, два определения дополняют друг друга: философское определение раскрывает генезис духовных практик, связывая их с Первоимпульсом неприятия смерти, тогда как эмпирическое определение описывает их структуру, давая более детальную картину Границы.
Мы обнаруживаем, что стратегии человека, направленные к онтологической Границе, обладают в высокой степени универсальным строением. Любая такая стратегия есть холистическая «практика себя», имеющая ступенчатый характер: множество всех энергий человека здесь последовательно преобразуется, проходя ряд ступеней, своего рода лестницу, поднимающуюся к Границе. В строении этой лестницы всегда присутствуют три основные стадии. Начальная стадия – становление и формирование практики как альтернативной, «мета-антропологической» антропологической стратегии, цель (телос) которой – не в пределах горизонта человеческого существования, но в Инобытии. Главная задача этой стадии – с максимальной силой выразить разрыв со всем обычным, «мирским» порядком существования человека, всеми стратегиями обыденной жизни. Как правило, ее осуществляют те или иные методики холистического приуготовляющего очищения; в случае исихастской практики основу начальной стадии составляет покаяние, в котором установка отталкивания от «мирской стихии» выражена особенно наглядно и радикально.
Следующая, центральная стадия – ядро практики, где формируется ее уникальная динамика – своего рода «онтологический движитель», обеспечивающий восхождение к онтологической Границе. Выше уже подчеркивалось, что движущей силой восхождения к мета-антропологическому телосу может быть лишь энергия Внеположного Истока. Опыт же практик дополняет, что восхождение осуществимо действием не одной лишь этой энергии, «внешней» по своему источнику, но также и энергий «внутренних», источник которых – в пределах управляющего контроля сознания. При этом, внутренние энергии должны стремиться к сообразованию, согласию, соработничеству с «внешней» энергией; и полнота такого согласия, или «когерентности» двух разноисточных и разноприродных энергий выражается вышеупомянутым византийским понятием «синергии». Можно сказать, таким образом, что задача центральной стадии – создание условий синергии. Опытно найденное решение задачи заключается в сочетании двух активностей: одна из них – прямой отклик на Зов, напряженная диалогическая обращенность к Призывающему Телосу практики, принимающая форму некоторой методики медитации и (или) молитвы; другая же – защита, «стража» обращенности к Телосу от всех нарушений и отвлечений, осуществляемая особыми техниками концентрации внимания. За счет сочетания этих двух элементов (выражаемого в исихазме ключевой формулой «Молитва—Внимание», своего рода девизом Умного Делания), процесс приобретает накопительный, кумулятивный характер и, неуклонно интенсифицируясь, осуществляет возведение человека к Границе. Наконец, если динамика восхождения создана, практика входит в свою заключительную фазу. Антропологический процесс приближается к Границе и начинает обнаруживать явственные знаки этого приближения, то есть актуальной трансформации человеческого существа. Опытные свидетельства разных практик согласно говорят, что ареной трансформации оказывается, прежде всего, сфера перцептивных модальностей, способностей восприятия человека. Этот факт вполне согласуется с интерпретацией духовных практик как антропологических стратегий, ориентированных к Инобытию: очевидно, что в таких стратегиях должно достигаться, в первую очередь, именно переустройство способностей восприятия – поскольку радикально меняется то, что человек стремится воспринимать. На высших ступенях духовных практик начинает формироваться новая, мета-антропологическая перцептивная модальность. В античных практиках, а затем и в исихазме эта модальность носит название «умных чувств» ().
Описанная структура духовной практики позволяет заметить ее сходство с процессами, следующими синергетической парадигме. Лестница ступеней практики может рассматриваться как иерархия динамических структур самоорганизации, возникающих под воздействием внешней энергии – действующей в человеческом существе энергии Внеположного Истока. При этом, ступенчатая динамика антропологического возведения-восхождения, которая сопоставима с иерархией структур синергетического процесса, имеет в своей основе парадигму синергии; и мы видим, что, как выше и говорилось, современная синергетическая парадигма родственна этой древней богословской парадигме не только по названию, но и по существу. Систематический анализ этого родства, включая и выяснение его границ, – существенная задача для будущего; пока же только отметим, что начальная стадия практики представляет явную параллель начальной фазе синергетической парадигмы – «раскачке» системы, выводящей ее в состояние, удаленное от равновесия.
Конституция онтической Границы
Пока мы лишь констатировали существование данного ареала Границы, приняв существование бессознательного как научно установленную принадлежность феномена Человека. Бессознательное – онтическое Иное сознанию и горизонту человеческого существования, и диаде сознание—бессознательное должен отвечать некий род «предельных проявлений» человека: такие проявления, которые порождены существованием бессознательного и в которых как-то сказывается его присутствие. Сейчас нам следует идентифицировать, указать конкретно эти проявления, дав их характеристику и описание. При этом, в отличие от описания онтологической Границы, нет нужды в онтологическом рассмотрении, которое связывало бы эти феномены с фундаментальными предикатами образа бытия Человека, с основоустройством его бытийной ситуации. Изучение онтической Границы ограничено сферой сущего, и наше рассмотрение может следовать в обычном дискурсе феноменологической науки (не философской феноменологии!), построенном на анализе и обобщении данных опыта.
Опытные свидетельства, относящиеся к онтической Границе, преизобилуют. Явления, порождаемые бессознательным, – область психоанализа, который стал в ХХ в. самым популярным и доминирующим из всех дискурсов, сложивших современное представление о человеке. Давно выделены и детально изучены основные виды этих явлений – к ним причисляют комплексы, перверсии, неврозы, психозы, мании, фобии... Иногда для этих явлений используют и другой общий собирательный термин: их именуют «феноменами безумия», придавая последнему понятию – как это делал, скажем, Лакан – широкий и обобщенный смысл. У нас, однако, «человек психоанализа» не рассматривается как цельный образ Человека. Топика бессознательного – лишь часть Антропологической Границы, и феномены бессознательного (или безумия) вводятся в более широкий контекст антропологии Границы, что заставляет взглянуть на них под новым углом.
Трактуя феномены бессознательного как феномены Границы Человека, мы должны, прежде всего, увидеть заложенный в них механизм «выхода на Границу» – механизм их возникновения и формирования. Как сразу же обнаруживается, этот механизм несет сильнейшую печать своего источника, бессознательного: именно «бессознательность» – его главная черта. Феномены бессознательного обладают многими специфическими отличиями, определенной характерной структурой (именно, это суть, большей частью, разнообразные циклические паттерны сознания и поведения), но, несмотря на это, они возникают незаметно, непреднамеренно, не по воле самого человека и без осознания сути происходящего его разумом. В топику бессознательного попадают бессознательно – и в этом феномены бессознательного диаметрально противоположны духовной практике, начало которой в высшей степени сознательно – им служит особый волевой и разумный акт, усилие и событие обращения. Эта же печать бессознательности, как правило, сохраняется и на всем течении процесса: хотя феномены безумия, как и духовные практики, холистичны, и разум и сознание участвуют в них, неся определенные функции, но это участие не становится ни управлением процессом, ни пониманием его существа. Поэтому, в отличие от духовных практик, эти феномены нельзя рассматривать как стратегии человека: это лишь «паттерны», «фигуры» («фигуры бессознательного» – термин К.Г.Юнга), «режимы» сознания, поведения и деятельности человека.
Эта ключевая особенность топики бессознательного передается посредством естественной метафоры
вертикальной иерархии уровней сознания. В описаниях деятельности сознания принимается обычно, что сознание иерархически организовано по вертикали: в нем выделяются «верхние» и «нижние» уровни, причем к верхним относят активности и режимы сознания, наделяемые ценностным приоритетом – более сложные и совершенные, высокоорганизованные и т.п., тогда как к нижним – более примитивные или ущербные. Каковы конкретные критерии и признаки, разделяющие активности «высших» и «низших» уровней, – особый и непростой вопрос. Ясно, однако, что «высшие» уровни должны отвечать максимальной включенности, актуализованности всех способностей сознания, каким бы ни мыслился набор этих способностей. И отсюда вытекает уже, что духовная практика, граница с Инобытием, включает, прежде всего, активности высших уровней – то есть, в терминах вертикальной метафоры, Инобытие проявляется в феноменах Границы как активизация высших уровней сознания, и через них – всего человека. Это наглядно видно из вышеописанной конституции онтологической Границы: в зачине духовной практики Первоимпульс неприятия смерти претворяется в зов Внеположного Истока, воспринимаемый и осмысливаемый разумом; и далее, как отклик на этот зов, рождается всецелое устремление человеческого существа, холистическая антропологическая стратегия. Строит эту стратегию опять-таки ум человека, действующий как единый координирующий и управляющий центр, – и ясно, что для этой цели он должен мобилизовать все способности сознания. Это в точности отвечает исихастской парадигме «ума—епископа», которую св. Григорий Палама кратко сформулировал так: «Чрез ум, как чрез владыку—епископа, мы полагаем законы каждой способности души и каждому из членов тела... Кто [этого достигнет], тот стяжет и узрит в себе благодать»
[8] (то есть, наличие ума—епископа утверждается как свойство Богопричастности, онтологической Границы). Можно сказать, в итоге, что в духовной практике Инобытие проявляется как «воздействие свыше», полагающее ума—епископа, и Внеположный Исток есть, таким образом, «Исток, действующий свыше», или же «Супра-Исток». Мы видим, что метафора вертикальной структуры сознания согласуется с традиционной вертикальной метафорой религиозного дискурса (Бог – «Всевышний»).
Напротив, паттерны онтической Границы обнаруживают специфическую связь с низшими уровнями сознания. Как мы аргументируем в книге «О старом и новом», определяющим признаком этих уровней надо считать не какую-то бедность и простоту (малую информационную и коммуникационную емкость), либо неразвитость артикуляции, дискурсивности, но, в первую очередь, – нарушенность или недостигнутость единства и связности сознания. (Тогда как определяющие свойства высших уровней – цельность и глобальная связность, координация, взаимная «когерентность» всех сфер сознания: именно эти свойства лежат в основе понятия «высших психических функций», используемого в психологии – напр., у Пиаже, Выготского и др.). В режимах, отвечающих низшим уровням, разные области сознания действуют рассогласованно, между ними как бы есть средостения, преграды. В визуальном дискурсе это свойство сознания можно передать как
непрозрачность; наиболее же адекватной является топологическая характеристика: в режимах низших уровней сознание является
несвязным многообразием в энергийном измерении. И именно это свойство, в самых разнообразных проявлениях, составляет специфическое отличие феноменов бессознательного. Так описывает Лакан сферу психоаналитической теории: это – «теория, поле которой ... включает в себя известное количество человеческих реалий, главным образом, психопатологических, субнормальных феноменов, т. е. тех, какими обычная психология не занимается: снов, ляпсусов, осечек, нарушающих так называемые высшие функции»
[9] . Данное описание подтверждает оба наши тезиса: поле психоанализа, то есть поле феноменов бессознательного, здесь характеризуется именно топологическими эффектами нарушенной связности сознания (ибо «ляпсусы и осечки» сознания явно имеют топологическую природу, это суть разнообразные обрывы связей, зазоры, сбои, несовпадения, рассогласования); а эти топологические эффекты, в свою очередь, характеризуются с помощью вертикальной метафоры как «субнормальные», т.е. присущие нижним уровням сознания. Чистым выражением нарушенной связности сознания – и значит, активности его низших уровней – служит и такой типичный вид психоаналитических явлений как выстраивание изолированных «миров безумия»: эти миры могут быть сложны, богаты, очень логичны в своем внутреннем устройстве (например, при паранойе), но в чем-то они радикально расходятся с эмпирическим миром, и специальные механизмы блокируют активности высших уровней сознания, стремящиеся разрушить изоляцию, соотнеся «мир безумия» с окружающею реальностью. Часто такие «миры безумия» выстраиваются
влечениями и служат поддержанию, воспроизводству циклического процесса, в котором влечение реализует себя. Питающий источник всех этих явлений, бессознательное, выступает, в итоге, как Внеположный Исток многообразных человеческих проявлений, в которых активизируются нижние уровни сознания. Иными словами, это Внеположный Исток, «действующий снизу», или же Внеположный Суб-Исток. Тот факт, что в конституцию его феноменов типично входят нарушения или отключения различных функций и уровней сознания, отражается в тесной, имманентной связи феноменов бессознательного с болезнью, аномалией. Психоанализ изначально заявлял для себя двоякую природу и цель: он строился одновременно и как наука, изучающая эти феномены, и как терапия, занятая их устранением. Как мы увидим ниже, с другой мотивацией и в другой постановке, задача устранения феноменов бессознательного возникает в религиозной жизни и, в частности, в духовной практике.
Наличие Внеположного Истока, индуцирующего выстраивание определенных динамических структур, как и в случае духовных практик, создает предпосылки для сопоставления с синергетической парадигмой. Но в данном случае перед нами уже не столько наглядная параллель, сколько набор открытых вопросов. В феноменах бессознательного внешнее энергийное воздействие выстраивает не столько самоорганизующуюся генерацию иерархии динамических структур, сколько циклический процесс, подобный обращению по орбите в поле силового центра. Неясно априори и то, насколько способность влечений накапливать энергию может быть сближена с синергетическими механизмами аккумуляции энергии. Далее, в аскетике и духовной практике давно были открыты и такие процессы, которые, с одной стороны, носят характер спонтанного и ступенчатого развития, но, с другой стороны, заведомо не принадлежат к структурам восхождения. Это так называемые страсти, ступени развития которых (прилог, сосложение и т.д.) были детально описаны еще Филофеем Синаитом в Византии и Нилом Сорским в России. Как ниже мы увидим, страсти принадлежат к паттернам бессознательного, и возможность их синергетической интерпретации – еще один встающий вопрос. В итоге, синергетические соответствия топики бессознательного требуют пристального и основательного анализа.
Конституция виртуальной Границы
Философская и, в особенности, онтологическая трактовка виртуальных явлений до сих пор остается почти не развитой. Какой-либо общепринятый, канонический фундамент философского понимания виртуальности покуда практически отсутствует и, ставя вопрос о связи этих явлений с Антропологической Границей, мы будем опираться на нашу собственную концепцию виртуальности, представленную в книге «О старом и новом». Анализируя важнейшие примеры виртуальной реальности – прежде всего, исторически старейшие концепции виртуальности в классической и квантовой физике, но также с учетом и психологической виртуальной реальности – мы строим здесь общие понятия виртуального события и виртуальной реальности. Как мы находим, главнейший признак виртуального явления – его привативность по отношению к «реальному» эмпирическому явлению: оно характеризуется недостатком, отсутствием тех или иных определяющих черт (каких-то измерений, структурных элементов, базовых предикатов) явлений обычной эмпирической реальности, так что ему присуще своего рода частичное, недовоплощенное (в световой метафоре – «мерцающее») существование. При этом, у любого эмпирического явления можно априори представить недо-актуализованными, недостроенными любые его измерения, снятыми, отсутствующими – любые связи, ограничения, законы; и это означает, что любое явление, как и всю целокупную реальность, следует считать окруженным «виртуальной оболочкой» – бесконечным множеством своих привативных осуществлений, «виртуализаций». (Понятие «виртуальной оболочки» явления прямо обобщает вводимое в квантовой физике понятие «облака виртуальных частиц», окружающего любую реальную частицу). Мы также показываем, что, определяясь не какими-либо самостоятельными предикатами, а лишь привативно, как недовоплощенное, не полностью актуализованное сущее, «виртуальная реальность не выступает как автономный род бытия, онтологический горизонт... Она ... не род, но недо-род бытия»
[10] . В ней нет собственных аутентичных форм и не может происходить их творчества.
Эти выводы имеют прямые следствия для конституции виртуальной Антропологической Границы. Прежде всего, мы видим, что те проявления человека, которые представляют собой выходы в виртуальную реальность, виртуальные явления, должны рассматриваться как предельные проявления по отношению к горизонту человеческого существования: ибо данный горизонт принадлежит сфере наличного бытия, сущего, тогда как любое виртуальное явление лишено некоторых определяющих черт явлений из этой сферы. Это значит, что выходы человека в виртуальную реальность, или же «антропологические виртуальные явления» в самом деле принадлежат Антропологической Границе, и их совокупность образует некоторый ареал этой границы, «виртуальную Границу». Далее, нетрудно увидеть, что этот новый ареал обладает принципиально иной конституцией и природой, чем ранее описанные ареалы онтологической и онтической Границы. Поскольку виртуальная реальность не есть автономный род бытия, она не может квалифицироваться как онтологически Иное по отношению к наличному бытию (ибо Иное определенному роду бытия есть также некоторый род бытия). Она не может рассматриваться и как некоторая сфера сущего, т.е. наличного бытия, поскольку представляет собой недо-наличествующее, «недо-сущее». Отсюда следует, что антропологическая виртуальная реальность не есть ни онтологически, ни онтически Иное горизонту человеческого существования, и для феноменов виртуальной Границы становится неверна данная выше характеристика предельных проявлений Человека как таких, которые служат проявлениями не только Человека, но и его Иного. По самому своему определению, Иное предмету самостоятельно, автономно по отношению к этому предмету; однако «виртуальная оболочка» явления – само же это явление, взятое в своей недо-актуализованности, – вторична, зависима от него и не есть поэтому его Иное (а есть опять-таки лишь «Недо-Иное»). Это замечание не просто уточняет термины, из него уясняется важное отличие виртуальной Границы. Все наше рассуждение – в дискурсе энергии, бытия-действия и, как уже можно было видеть, в этом дискурсе Иное горизонту человеческого существования выступает своими проявлениями, воздействиями – как энергийный Внеположный Исток, конституирующий феномены Границы. Но с виртуальной Границей не ассоциируется никакого Иного – и, стало быть, также и никакого Внеположного Истока. Тем самым, ее конституция не представляет параллели с синергетической парадигмой формостроительного воздействия внешней энергии, и ее феномены не имеют особого энергетического источника. Вследствие этого, в них, в отличие от феноменов онтологической и онтической Границы, не происходит создания принципиально новых типов антропологических динамических структур, какими являются паттерны бессознательного и ступени духовных практик. Феномены виртуальной Границы принадлежат «виртуальной оболочке» обычных, не-предельных человеческих проявлений и потому представляют собой лишь неполные актуализации тех или иных явлений обычной эмпирической реальности.
Вместе с тем, снятие ограничений и законов, присущих этим явлениям, способно изменять их облик и ход сколь угодно разительно и глубоко. Поэтому явления антропологической виртуальной реальности, виртуальные практики на вид представляются человеку не менее подлинной и радикальной альтернативой обычному, обыденному порядку существования, чем феномены онтологической и онтической Границы, и присущее человеку устремление к Границе может направлять его и к виртуальному ареалу. Для множества адептов Интернета, Сеть – не что иное как «царство свободы». Однако, входя в виртуальные практики, человек неизбежно открывает неполноту осуществляемой в них альтернативы наличной реальности, их зависимость и вторичность по отношению к ней. Это открытие вносит элементы фрустрации в психологию «виртуального человека», его эмоциональный мир. Находя в виртуальной реальности – хотя и недостроенными, разбросанными, расчлененными – лишь те же формы, что в наличной реальности, человек осознает, что его выход, его освобождение из последней лишь относительны и условны, и поэтому его тяга к Границе не получает полноты удовлетворения, не насыщается. Ввиду большого разнообразия виртуальных практик, последствия этого могут быть очень различны – но ясно, что по существу, реакция человека может быть лишь двух главных типов: неприятие и приятие. В случае неприятия, отношение виртуальной реальности к наличной складывается в парадигме «бунта угнетенных». Наличная реальность воспринимается как господствующая, давящая, и неустранимая зависимость от нее рождает протест, жажду бунта. Поскольку же в виртуальном мире нет творчества новых форм, эти протест и бунт могут быть исключительно разрушительными импульсами. Это – еще одна причина того, что самые популярные виртуальные практики принадлежат к «виртуальной оболочке» разрушительных, патологических, криминальных проявлений. (Другая, более очевидная причина – в том, что эти практики дают безопасный выход подспудным негативным наклонностям человека). Виртуальный бунт против наличной реальности, виртуальное разрушение всех ее форм и норм – едва ли не главное содержание всей сферы коллективных ритуалов и действ сегодняшней масскультуры; и символ, эмблема этой установки виртуального бунта – экстатический жест рок-певца, вздымающего и разбивающего свою гитару. Реакция же принятия зависимости выражается, в основном, в парадигме карнавала. В ней человек примиряется с условностью своего освобождения от наличной реальности, универсализуя условность, представляя ее глобальным качеством реальности и ситуации человека; он утверждает весь мир – миром тотальной условности, «миром понарошку». Подобно тому как идеология психоанализа (не только раннего, но и современного) редуцирует Антропологическую Границу к одному ее онтическому ареалу, сводя человека к «человеку психоанализа», так же точно в виртуальной топике рождается карнавальная установка тотальной виртуализации, сводящая всю Границу к виртуальному ареалу. Понятно, что в качестве глобального тезиса о ситуации человека, эта карнавальная посылка ложна – ибо, помимо виртуального, заведомо существуют другие ареалы Границы Человека.
В целом же, область виртуальной Границы, т.е. антропологической виртуальной реальности, пока весьма плохо обозрима. Никакой общей дескрипции ее нет, как нет и отчетливых рабочих критериев, которые позволяли бы с несомненностью идентифицировать ее явления. Ясно лишь, что эти явления характеризуются огромнейшим разнообразием: они включают в себя виртуальное общение в Сети и многие другие формы обитания в киберпространствах (в том числе, жизнь в многотысячных кибергородах), действа и ритуалы масскультуры, многочисленные виды моделируемой психологической виртуальной реальности, феномены киберкультуры, среди которых сегодня можно найти виртуализации всех видов культурной деятельности... Неудивительно поэтому, что в обсуждениях виртуальной реальности имеется стойкая тенденция чрезмерно расширять ее сферу, необоснованно относя к ней все проявления модельного и проектного, игрового, сценарного подхода к действительности, все измененные состояния сознания и т.п. В итоге, для современного сознания очертания виртуальной Границы совершенно размыты и теряются в необозримой дали. Отыскание принципов и критериев, которые отделяли бы ее от других ареалов Антропологической Границы, от многих родственных и смежных явлений, остается актуальной задачей.
Граница в целом: отношения ареалов и гибридные топики
Три описанных нами ареала исчерпывают Антропологическую Границу. Это явствует из анализа энергийных принципов: феномены Границы могут конституироваться либо энергией Внеположного Истока, делающей продвижение к Границе возможным, – либо, напротив, отсутствием, недостачей энергии актуализации, необходимой для явлений наличной реальности. В свою очередь, Внеположный Исток может характеризоваться онтологической, либо онтической внеположностью. Перечисленные ситуации точно соответствуют ареалам онтологической, онтической и виртуальной Границы, и очевидно, что каких-либо иных ареалов не может существовать.
Однако описание трех взятых по отдельности ареалов – не более чем начальный шаг к восстановлению цельного облика Человека, построению полноценной антропологической модели. Можно провести параллель с достигнутым недавно прочтением генома Человека: в обоих случаях мы лишь выяснили набор составляющих элементов – и знание этого набора еще очень далеко от знания и понимания реального процесса существования живого существа. Следующие шаги должны выяснить, каковы отношения этих элементов, их взаимосвязи, взаимодействия, – с тем чтобы на финальном этапе мы могли описать целое в его динамике: увидеть энергийного Человека во всей полноте его подвижных, меняющихся отношений с Границей, раскрыв, как и почему Человек оказывается в том или другом ареале, какие факторы обеспечивают преобладание данного ареала или же порождают смену ареалов.
Одна из характернейших черт антропологической реальности – ее смешанность: соединение в любом из ее явлений различных побуждений, действующих сил, вовлеченных уровней... Даже старая эссенциальная антропология не могла игнорировать этой черты: она характеризовала человека как существо смешанного состава, corpus permixtum. В деятельностном, энергийном измерении черта выступает еще ярче, и в феноменах Границы она также не могла не найти своего отражения. В опыте человека мы легко обнаружим смешанные предельные проявления, в которых сочетаются свойства различных ареалов Границы. Так, в суфизме есть известные направления, в которых, при сохранении общих целей и установок парадигмы Духовной Практики, стимулируются и используются механизмы, связанные с бессознательным и осуществляющие активизацию низших уровней сознания при отключении высших (гипнотические воздействия, подпороговое кодирование, физические и нейрофизиологические средства введения в транс и т.п.). Это значит, что ареалы Границы могут частично налагаться друг на друга, образуя области перекрытия. Априори три ареала могут иметь три такие области, в которых сочетаются, соответственно, элементы:
(1) духовных практик и паттернов безумия,
духовных практик и виртуальных практик,
паттернов безумия и виртуальных практик.
Апостериори мы находим, что все эти области, действительно, присутствуют в опыте человека. Мы будем называть их гибридными топиками.
Чтобы понять происхождение и природу гибридных топик, надо заметить, что между ареалами Границы по типу их энергетики имеется очевидный иерархический порядок. Духовные практики, которые конституируются устремлением к Инобытию и направляются к трансцендированию Человека, характеризуются энергетикой с высшей, максимальной формотворческой и преображающей способностью. Затем идут паттерны бессознательного, также питаемые внешними энергиями, хотя и иного рода, с меньшим формотворческим потенциалом. Оба эти режима деятельности Человека, благодаря присутствию внешних энергий, представляют собой высшие типы энергетики по отношению к обычным, неграничным стратегиям. Наконец, виртуальные практики характеризуются «энергетическим дефектом», их формотворческий потенциал ниже, чем в обычных стратегиях – и они реализуют, там самым, низший возможный тип энергетики.
Вспомнив еще, что в деятельности Человека важную роль играют неудача и ошибка, мы будем готовы увидеть генезис гибридных топик. Очень нередки ситуации, когда человек избирает стратегию духовной практики, однако ее осуществление не удается. Неудачи бывают очень различны (их анализом детальнейше занимается аскетика); типичен, в частности, случай, когда те или иные элементы, паттерны духовной практики подменяются паттернами другого ареала, с низшим типом энергетики, и поэтому телос духовной практики не может быть достигнут. В свою очередь, в этой ситуации подмены можно выделить ряд ее разновидностей. Если подменяющие паттерны принадлежат виртуальному ареалу, то возникают феномены Второй гибридной топики, где смешиваются духовная практика и виртуальная практика. Поскольку различия паттернов этих практик кардинальны, человек здесь не может полагать, что он поистине находится в парадигме Духовной практики, – и, стало быть, он осознает, что осуществляет лишь некое ее подобие. Находясь в виртуальной топике, человек делает с духовной практикой то же, что и с явлениями наличной реальности: он «совершает путешествие» в духовную практику, имитирует ее в воображении, разыгрывает, инсценирует ее... – все это характерные стереотипы психики «виртуального человека». Но, в отличие от виртуальной имитации наличной реальности, виртуализации духовной практики требуют особых средств. Обыкновенно они осуществляются с помощью наркотиков, психоделиков и т.п. – и потому Вторая гибридная топика может быть названа психоделической или кислотной топикой.
Если же паттерны, подменяющие элементы духовной практики, – из разряда паттернов бессознательного (что отвечает Первой гибридной топике), то за счет присутствия в них некоторых внешних энергий, отличия возникающего гибридного процесса от подлинной духовной практики могут быть внешне не столь выражены, хотя, тем не менее, процесс уже заведомо не будет соответствовать парадигме Духовной Практики и продвигаться к мета-антропологическому телосу (мы покажем это ниже, в конце данного раздела). В известных пределах, эти отличия могут оставаться незамеченными и неосознанными: человек полагает, будто он следует определенной духовной практике и продвигается к ее телосу. Иными словами, он питает ложную иллюзию пребывания и продвижения в духовной практике. По исихастской терминологии, он находится в состоянии «прельщения», или «прелести» () – и соответственно, Первая гибридная топика может быть названа топикой прелести. В явлениях этой топики отчетливо различаются две разновидности, очень несходные по психологической окраске. Отклонения от традиционной и подлинной стратегии духовной практики могут быть неумышленными, вкрасться незаметно и остаться неведомыми для человека. Такие явления невольной прелести весьма распространены в практике подвижничества (ибо для паттернов бессознательного вообще типично быть незамеченными и неосознаваемыми, о чем см. ниже), и мистико-аскетическая литература разных традиций много говорит об их распознании и преодолении. Но есть и иные явления, когда человек своей волей вносит изменения в традиционную дисциплину духовной практики, полагая, что при этом будет по-прежнему (или еще успешней) осуществляться восходящий процесс практики и достигаться ее телос. Подобные явления, своеобразные импровизации на почве духовной практики, получили особое распространение в наше время. Типичным образом, здесь стремятся найти гарантированные, автоматические способы достижения тех радикальных трансформаций сознания и человека, которые сопутствуют высшим ступеням практики и к которым каноническая дисциплина ведет трудно, длительно и заведомо без гарантий. Предлагаемые способы иногда действительно развязывают энергетические механизмы, вызывающие какие-либо спонтанные трансформации; однако они всегда опираются на низшие уровни сознания, при подавлении тех или иных высших функций, и достигаемые трансформации заведомо индуцируются энергиями бессознательного. К таким явлениям вольной, или умышленной прелести принадлежат многие современные психотехники, как, в частности, методики Грофа или Кастанеды.
Что же до Третьей гибридной топики, то к ней, очевидным образом, принадлежат сновидения. Теснейшая и насыщенная связь содержания сновидений с паттернами бессознательного – одна из основных тем психоанализа; с другой стороны, сравнительно с наличной реальностью, реальность сна с полным основанием может рассматриваться как недовоплощенная, недоактуализованная – если угодно, здесь перед нами один из самых наглядных, чистых примеров виртуальной реальности. Помимо того, как видно из нашего описания Второй гибридной топики, существует целый набор стратегий или стереотипов виртуализации, которые оказываются приложимы не только к явлениям наличной реальности, но и к духовным практикам. Нетрудно увидеть, что эти имитационные или миметические стереотипы «путешествия», «примерки», разыгрывания, инсценирования вполне приложимы также и к феноменам безумия, и в реальности наших дней мы найдем множество таких приложений. «Недовоплощенное безумие» включает в себя спектр явлений, различающихся по степени отрефлектированности, эмоционально-психологической окраске и т.п.: здесь слабоумие, «придуривание» (синоним «разыгрываемого безумия»), стратегии с элементами юродства и скоморошества... Весь этот спектр неплохо охватывается термином «идиотия», понятым обобщенно-собирательно; и данная топика может быть названа
топикой идиотии. Дополнительное оправдание термина – в том, что он уже широко принят в современной арт-критике и трансавангардном искусстве (ср.: «Идиотизм... традиционен в современной культуре, являясь в ней своеобразным Гольфстримом»
[11] ). Отметим тут тонкую характеристику феномена как
теплого течения: виртуальное безумие, свободное от опасностей и страданий подлинного, может быть поистине притягательно, и это уже показал блестяще фон Триер в своих «Идиотах». Сегодня Гольфстрим идиотии все шире разливается в искусстве и жизни, и у каждого читателя тут найдутся свои примеры.
Наконец, некоторые дополнительные особенности отношений между ареалами Границы порождаются специфической природой феноменов бессознательного. Как мы отмечали, эти феномены не являются «стратегиями» человека, ибо сознание не управляет их выстраиванием и протеканием. Сознание также не управляет и самим их зарождением, появлением: они возникают не по воле человека и без его ведома, и могут долго оставаться незамеченными, неосознаваемыми. Это неконтролируемое присутствие паттернов бессознательного может сказываться на репертуаре возможных стратегий человека – ибо априори нельзя, конечно, считать, что любые стратегии совместимы с данными паттернами; оно также может сказываться и на строении каких-то стратегий. Конкретно же, мы обнаруживаем, что паттерны бессознательного совместимы с виртуальными практиками (невротики и маньяки вполне способны быть и адептами Интернета: иллюстрация примитивная, но убедительная). Можно сказать поэтому, что, помимо феноменов топики идиотии, где паттерны бессознательного подвергаются виртуализации, возможны и такие режимы активности человека, в которых эти паттерны существуют в своей обычной форме, параллельно той или иной виртуальной практике.
Однако отношение между паттернами бессознательного и духовной практикой оказывается прямо противоположным: оно носит характер полной несовместимости. Убедиться в этом можно по-разному, но наиболее общим является рассуждение в онтологическом дискурсе. Духовная практика – антропологическая практика, осуществляемая в горизонте человеческого существования, и при этом имеющая своим телосом – онтологическое трансцендирование, т.е. актуальное превращение определенного онтологического горизонта, горизонта наличного бытия. Ясно, что эта практика может достигнуть своего телоса лишь в том случае, если горизонт человеческого существования есть полноценный онтологический горизонт или, иными словами, если человеческое существование является «онтологически представительным», способным представлять сущее-в-целом. Но, с другой стороны, паттерны бессознательного – онтическая Граница горизонта человеческого существования, граница в сущем; это – сфера сущего, недоступная для сознания, ergo, для горизонта человеческого существования. Отсюда имеем искомый вывод: при наличии феноменов онтической Границы, горизонт человеческого существования не есть онтологический горизонт, человек не является онтологически представительным и телос духовной практики, онтологическое трансцендирование, заведомо недостижим. Иначе говоря, необходимое условие осуществимости парадигмы Духовной Практики и онтологического трансцендирования – отсутствие или устранение онтической Границы человека, паттернов бессознательного.
Наш вывод, достигнутый философским путем, формулирует один из фундаментальных фактов религиозной жизни, который открывали на опыте во всех религиях и духовных традициях. В аскетической практике феномены бессознательного, как нетрудно убедиться, суть именно те феномены, которые носят здесь имя страстей: хотя аскетический дискурс необычайно далек от психоаналитического, однако в обоих случаях можно зафиксировать один и тот же набор определяющих структурных признаков, таких как непроизвольный характер зарождения, устойчивый и циклический характер и проч. С учетом этого, наш вывод на языке аскезы означает не что иное как краеугольное положение о необходимости преодоления страстей, знаменитой Невидимой Брани, для духовного восхождения. Но взгляд на аскетический дискурс в свете топики Границы ведет дальше и глубже. Если феномены бессознательного соответствуют страстям в аскетике, то становится понятно, что, как в аналитике Границы (и психоанализе) эти феномены вызывают вопрос о стоящем за ними Внеположном Истоке, так и в аскетике (и шире, в религиозной жизни) феномен страстей законно рождает тот же вопрос. Ответ на него строится, однако, уже иначе, по законам соответствующего дискурса. Описывая онтологическую Границу, мы видели, что отношения человека с конституирующим эту Границу Внеположным Супра-Истоком тематизируются в личностной и диалогической парадигме. Эта парадигма естественна и притягательна для христианского разума, и неизбежно возникает тенденция тематизировать в этой же парадигме и отношения с Суб-Истоком: страсти, «фигуры бессознательного», предстают действительно как фигурки, бесы, а за этими фигурами прозревается Фигура, «Отец Страстей» – и это тем более естественно, что Суб-Исток, как мы видели, действительно противостоит (личностно представляемому) Супра-Истоку, преграждая и исключая приобщение к Нему. – Так бессознательное и его паттерны доставляют исходные предпосылки для рождения сатаны и бесов; и мифологическое сознание довершает работу. При этом довершении конституции сатаны часто отодвигаются, вытесняются свидетельства опыта, как аскетического, так и научного, о том, что Суб-Исток – не Инобытие, а только онтически Иное, что это – динамическое образование, не допускающее гипостазирования и существующее лишь в своих паттернах, так что устранение последних – вполне, хотя и не без труда, возможное, согласно и психоанализу, и аскетике, – означает и его устранение.
Заключение: сценарии эволюции Границы
Разумеется, Антропологическая Граница требует описания и анализа как в синхронии, так и в диахронии: не только в своей логике и структуре, но и в своей истории. Диахронический взгляд выводит к обширной проблематике философии истории, которая в русле нашего подхода ставится совсем по-новому. Совершается антропологизация исторического дискурса: история рассматривается как, в первую очередь, история отношений Человека со своей Границей и выступает, там самым, как аспект антропологии.
Проследим, как совершается такая антропологизация на примере понятия границы. В истории мы говорим о границах и рубежах эпох, понимая эти рубежи и границы топологически: как нарушения (сингулярности, разрывы) гладкости (связности, непрерывности) исторической ткани; а сами эпохи – как относительно гладкие отрезы этой ткани. Гладкость же и нарушения ее определяются по некоторой совокупности характеристик исторической ткани, включающей как внешние, эмпирические характеристики (события, факты), так и их интерпретации в терминах тех или иных внутренних, структурных или ноуменальных характеристик. При этом, в любой исторической концепции выбор всех элементов совокупности, как фактов, так и интерпретаций, – а отсюда, и само структурирование истории, решение считать «границами», «рубежами» такие-то места ткани – заведомо не свободны от конвенциональности и произвола. В нашем подходе, в указанной совокупности ведущую роль должны играть антропологические характеристики, описывающие отношения Человека с его Границей. «Эпохами» тогда будут отрезы ткани, отвечающие относительной стабильности в этих отношениях; «рубежами» – места ткани, отвечающие резким переменам в них. Сейчас мы не станем ни развивать данный взгляд, ни пытаться показать его плодотворность на материале давней истории. Ограничимся лишь беглым сценарием современности, проследив единственную характеристику: какова доминирующая топика Границы?
На всем протяжении культурной истории эта характеристика не испытывала никакой динамики, оставаясь стабильной и постоянной: очевидным образом, в существовании Человека играли главную роль его отношения с Инобытием, онтологическою Границей. Их формы чрезвычайно менялись, но их доминантность была вне сомнения, причем во многих аспектах они доминировали не только над другими топиками Границы, но и над не-предельными стратегиями обыденного существования, осуществляя роль интегрирующего и центрирующего принципа по отношению ко всему горизонту человеческого существования. Первые изменения в этой ситуации принес в Новое Время процесс секуляризации христианского социума. Под нашим углом зрения, его содержание составляла автономизация «обычных», не-предельных стратегий: они вышли из подчинения стратегиям онтологической Границы, и эти стратегии утратили свою интегрирующую и центрирующую роль. Следующие изменения относятся уже к нашему времени: топика Духовной Практики начала терять свою доминирующую роль и по отношению к другим ареалам Границы. Как мы подчеркивали во вступлении, отношения с Границей для современного человека не только не теряют важности, но, напротив, становятся все существенней и необычайно активизируются (что само по себе – симптом рубежности исторического периода). Но это своеобразное «выдвижение Границы в центр» опыта современного человека сопровождается кардинальными переменами в характере опыта Границы, в его структуре; и одним из главных факторов этих перемен стала именно смена доминирующей топики. Если вспомнить иерархическую упорядоченность ареалов Границы по типу их энергетики, то подобная смена означает, что Человек начал скользить по своей Границе вниз.
Факт смены нагляден и очевиден: репертуар предельных проявлений сегодня разнообразен как никогда, в нем множество новых, неведомых ранее феноменов, и духовные практики заведомо не занимают в нем господствующего положения (хотя интерес к ним также очень возрос, но преобладают гибридные стратегии их модификации и подмены). Что же господствует, однако? Фрейд сказал: «невроз заменяет в наше время монастырь»; и мы согласимся, что роль феноменов бессознательного выросла сильнейшим образом. В этом возрастании виден целый ряд факторов. Прежде всего, массовая популярность психоанализа – не только свидетельство, но отчасти и одна из причин широкого распространения «феноменов безумия». Его практика, по сути, амбивалентна: она может одновременно являться и терапией этих феноменов, и их провокацией, либо даже культивацией. Прежде чем устранять паттерны бессознательного, аналитик стремится вывести их на поверхность, доказать человеку их наличие – и эти его действия вполне могут быть, на поверку, их насаждением, прививкой, внушением человеку их наличия; как много писали, само существование мощного профессионального сообщества аналитиков обеспечивает, в известной мере, воспроизводство «больных». Далее, не новой, но необычайно расширившейся ныне сферой феноменов безумия служат
практики трансгрессии. Их питает тяга к предельному опыту, когда она принимает форму максималистского порыва, одержимости, острой жажды, требующей немедленного удовлетворения... Подобные импульсы созвучны эстетике модернизма, и в модернистском искусстве безумие и трансгрессия – привычные спутники художественной практики; перечень знаменитых имен, от Ван Гога, Врубеля, Ницше до Антонена Арто, мог бы здесь занять не одну страницу. Разновидностью этой одержимости Границей является стремление испытать все виды, формы предельного опыта, своего рода «зуд Границы». Так писал Делез: «Нам следует... быть немного алкоголиком, немного сумасшедшим, немного самоубийцей, немного партизаном-террористом»
[12] . Как доказывает финал его биографии, этот его призыв – не только вывод философского рассуждения, но и плод подлинного переживания ситуации человека.
Но со времени Фрейда успел появиться еще один, новый круг явлений Границы – и именно этот круг, бурно развиваясь, сегодня завоевывает господство. Победное шествие виртуальных практик уже рисует нам перспективу тотальной виртуализации человеческого существования: доминирования этих практик не только над остальными ареалами Границы, но и над сферой обычных, не-предельных человеческих проявлений. «В наши дни виртуальное решительно берет верх над актуальным»
[13] , – пишет авторитетный специалист по виртуалистике; и это его свидетельство тем авторитетней, что оно само виртуально, ибо плагиатно: Н.А.Носов переписывает без кавычек появившийся как раз тогда перевод Бодрийяра: «В наши дни виртуальное решительно берет верх над актуальным»
[14] . Для этих триумфальных успехов виртуализации есть много веских причин. Удовлетворяя стремление человека к Границе, виртуальные практики в то же время максимально доступны: они не требуют предельных внутренних усилий и строгой школы, как духовные практики, не имеют рискованной, тревожащей связи с болезнью и опасностью, как паттерны безумия. Они обладают инерцией, затягивающей силой: сравнительно с ними, режимы актуальной реальности более резки и напряженны, и виртуальный человек стремится затянуть пребывание в виртуальной реальности, возвращаясь в актуальное неохотно. Как и для феноменов безумия, можно отметить связь и близость феноменов виртуальной топики с определенным типом художественных практик: если топика безумия сближалась с творческой и жизненной практикой модернизма, то виртуальная топика имеет подобное же избирательное родство с постмодерном и трансавангардом.
Итак, мы действительно обнаруживаем эволюцию Границы Человека, отвечающую смене доминирующей топики – от онтологической Границы к онтической, а затем к виртуальной; иначе говоря, мы констатируем скольжение Человека по своей Границе вниз. Завершающая фаза скольжения – виртуализация человеческого существования, с полным приматом виртуальных практик и над другими топиками Границы, и над наличной реальностью. Нетрудно увидеть, что неограниченное углубление такого процесса есть сценарий
эвтанасии человечества. В самом деле, Человек будет совершать возврат из виртуальной реальности в актуальную все с большим трудом, что с неизбежностью будет приводить к дегенерации актуальной реальности. Дегенерация будет приближением актуальной реальности к виртуальной – убыванием формотворческой и жизнестроительной энергии, исчезанием связей и постепенным преобладанием распадных процессов
[15] . По свойствам виртуальных режимов сознания, это захирение и угасание Человека будет мягким и неосознаваемым, ибо в этих режимах сняты способности самоконтроля, самонаблюдения и различения между актуальной реальностью и ее имитацией. «Поэтому конец света будет абсолютно безопасен – ибо исчезает тот, кому опасность могла бы угрожать. Конец света будет просто телепередачей»
[16] .
Добавить к этому нужно только одно: в скольжении Человека нет никакой предопределенности, и беспредельная, вплоть до эвтанасии, виртуализация Человека – всего лишь сценарий, один из множества. Обнаружив процесс скольжения, мы выявили положение вещей; но мы отнюдь не открыли какого-либо закона, который делал бы процесс обязательным и необратимым. Такого закона заведомо не может быть. За Человеком остается всегда его неотчуждаемая свобода – и характер его отношений с его Границей способен вновь измениться. В любой миг.
ЭВОЛЮЦИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ФОРМ РУССКОГО СОЗНАНИЯ
Лекция, прочитанная на факультете психологии МГУ, в рамках курса «Духовная и культурная традиции в России»
19 декабря 2008 г.
Братусь Б.С.: Сегодня у нас выступает Сергей Сергеевич Хоружий. Тему вы знаете. Тема называется «Эволюция культурно-исторических форм русского сознания». Слово «постчеловек», это я уже добавил. Потому что я знаю, что Сергей Сергеевич употребляет этот термин. Ну что же, предоставим слово Сергею Сергеевичу.
Хоружий С.С.: Спасибо, Борис Сергеевич. Коллеги, очень рад вновь быть в этом зале. Как говорится, тут некогда читал и я. Но сегодняшняя лекция - весьма экспериментальное предприятие. Элемент эксперимента состоит в том, что наша лекция, как уже от части намекнул Борис Сергеевич, двоякого назначения. Для наших хозяев, психологов, для большей части аудитории, это отдельная лекция, где я должен представить определенную концепцию, как обозначено в названии. Это концепция эволюции культурно–
исторических форм русского сознания. Согласно данной концепции, эволюция эта формируется в совокупности базовых традиций, которые слагают культурно – цивилизационный организм России. Эволюция определяется, как я нахожу и аргументирую, в изменяющемся соотношении и взаимодействии двух ведущих традиций: духовной и культурной.
Когда с этой концепцией ознакомился Федор Ефимович Василюк, он мне сразу заметил, что здесь есть определенная родственность с культурно–историческим подходом Л.С. Выготского. Я вполне с ним согласился, добавив однако, что отличия все–таки здесь имеются. Культурно–исторический подход налицо, однако этот культурно–исторический подход здесь уже как бы перенесен в следующее поколение гуманитарного мышления. Мы развиваем более обобщенные видения, отправляющиеся уже не от психологии (да простят меня психологи в этих стенах), как в случае Выготского, а отправляющиеся от антропологии. А вот что это значит — развивать подход к структурам русского сознания и социума, отправляясь от антропологии — мы и должны будем раскрыть. Это общая концепция. Концепция в начале формулирует свои понятия, теоретические основы, а затем реализуется, производя структурный анализ последовательных эпох, наивно, прямолинейно рассматривая русскую культурную историю от ее генезиса, от крещения Руси и до наших дней. Это история от Владимира Святого до Владимира Путина, если их тоже считать формациями.
Но, тут есть и другая часть аудитории, для которых это заключительная лекция уже прослушанного ими курса. Извиняюсь за несколько корявую преамбулу, она необходима, потому что аудитория неоднородная. Для части аудитории данная лекция - это последняя лекция уже прослушанного ими курса. Курса, в котором я уже изложил и концепцию, и
приложение к историческому процессу. И осталось к данной последней лекции рассмотреть только заключительный период. А именно - период советский и постсоветский от крушения империи. И соответственно мне нужно как–то исполнить это двойное назначение. И компромиссная концепция такова - я попробую вкратце изложить основные понятия и принципы концепции. Затем пунктиром, назывным образом обозначу эпохи приложений. А затем следует подробнее рассмотреть приложения к современному периоду.
Казалось бы, программа удовлетворительная. И волки сыты и овцы целы. Но, тут еще дело в том, что современный период очень плохо подходит для иллюстрации концепции. История здесь начинает плохо следовать моей модели и не следовать вообще никаким известным моделям. В последний период исторический и антропологический процесс в нашей концепции, как я уже упомянул, связаны неразрывно. Здесь история у нас будет возникать как субспеция антропология. Так вот, оба процесса перестают быть эволюцией, определяемой взаимодействием духовной традиции и культурной традиции. И советский тоталитаризм, и постсоветский период - это уже не столько классическая эволюция, формируемая ансамблем базовых традиций, сколько периоды исключительные с какой–то новой динамикой, для которой общих теорий не построено, ни мной, ни, насколько я знаю, вообще в науке. Вместо эволюции тут перед нами серия некоторых метаморфоз, фазовых переходов, если употребить физические термины. Или «репетиция смерти», если употребить термин еще из другого дискурса. И тому подобное. Современность - эпоха антропологических перемен, требующая кардинальной смены моделей и парадигм. Поэтому я изложу тут некую концепцию. А доказать, что она действительно работает, я едва ли сумею. Ну, что поделаешь.
Переходя к делу, я должен ввести базовые понятия. Описывать мы желаем эволюцию культурно-исторических форм, эволюцию культурно–исторического, культурно-цивилизационного организма. Здесь мы в качестве главного отправного концепта изберем концепт трансляции какого угодно содержания. Что не транслирует себя, то и не существует. Воспроизведение существования может обозначаться этим самым общим словом «трансляция». Однако на трансляциях можно строить описание физических, естественно–научных систем. И оно оказывается уже достаточно содержательным и продуктивным. В социо-культурном пространстве понятие трансляции как таковое еще слишком малосодержательно. Оно является слишком общим. Мы выделяем некоторый класс трансляций, наделяя его дополнительными характеристиками. Так вот, этот класс трансляций, это и будет традиция. Это центральный концепт того способа описания культурно-цивилизационного организма, который я предлагаю.
Что такое традиция? Во-первых, мы формулируем основные предикаты, которыми выделяются такие трансляции. Что можно назвать традициями? Это несколько менее широкий и всеохватный термин, нежели трансляция. Те предикаты, которыми мы наделяем традицию, это в первую очередь предикат памяти. В процессе трансляций сохраняется, если не идентичность транслируемого содержания, то, во всяком случае, некоторые определенные свойства транслируемых содержаний. И вот такая совокупность трансляций, наделенная памятью, это тоже еще не вполне традиция. Мы полагаем, что традиция должна быть наделена еще и некоторым ценностным аспектом. Во–первых, само собой, очевидно, что поскольку мы в социо-культурном пространстве, то традиция есть некий социальный феномен. Есть некоторое сообщество участников. Ценностный аспект существует в сознании участников. За транслируемым, за передаваемым содержанием они должны признавать некоторую ценностную нагрузку, ценностный аспект.
Память и ценностность – это, пожалуй, рабочий минимум. Но в каждом случае, вводя каждый предикат, мы можем понимать, какой объект у нас получается по размежеванию. Когда мы вводим требования памяти, то понятно, что мы этим исключаем хаотические трансляции, которые происходят во множестве в любых системах, в том числе и в социо–
культурном пространстве. Это трансляции, лишенные связности, ненаделенные никакой связностью, хаотические. Мы их не рассматриваем. Когда мы вводим условия ценностного содержания, опять понятно, что при этом мы оставляем в стороне, не называем традицией. Довольно устойчиво транслируется масса вещей. Например, транслируются слухи. А могут они транслироваться с завидной прочностью памяти. Транслируются пережитки. Пережитки - это вещи разного рода: разные, глубоко сидящие поведенческие паттерны. Они, пожалуй, уже разделяются. Они могут наделяться ценностным содержанием, а могут и не наделяться. Участники трансляций осознают, что они такие, запоминают и передают, репродуцируют определенные паттерны. Но при этом они могут признавать, что ценностного аспекта в этих транслируемых содержаниях, может, и нет. Так принято. Так до нас делали. Это мы тоже оставим за граню традиций, в области психологических стереотипов. Но часто такие социальные пережитки ассоциируются с ценностными переживаниями.
Тут как всегда мы отнюдь не в области математической аксиоматики. Все концепты, которые я предлагаю, достаточно размыты. Требуем мы от них другого, не аксиоматической строгости, аксеоматировать культурно–цивилизационный организм - это безумная задача, и я ее никак не собираюсь исполнять. А требуется совсем другое, требуется функциональность. Желательно, чтобы мы с помощью этих понятий сумели описать процесс с определенными объяснительными свойствами и потенциями. Вот такая функциональная способность дескрипций - тот минимум, который я в моей концептуализации требую. Разумеется, это не аксиоматика. И набор традиций обладает этими же свойствами размытости.
Традиции многочисленны и разноприродны. Мы описываем существование культурно– цивилизационного организма, как формируемое некоторой совокупностью базовых традиций, основных. Основной набор понятий в рамках этого описания соответствует главным видам традиций. Прежде всего, особую выделенную роль для нас играет духовная традиция. Как я уже сказал, основное отличие, специфика концепции - тесная связь с антропологией. Я подчеркнул, что традиция - это социальный феномен. Дескрипция в терминах традиций могла бы быть в социальной философии. Такие способы есть. Но наше отличие в том, что в сообществе традиций мы выделяем одну, которая обладает прямой связью с антропологическим уровнем реальности. Вот это духовная традиция и будет. Она в центре всей концепции.
Что мы называем духовной традицией? Сам по себе термин, как часто бывает в философской работе, принадлежит к обыденному словарю. Это звучит и в обычном историческом анализе и в публичной риторике. Предполагается, что это нечто вполне понятное. Термином «духовная традиция» оперируют все и полагают, что тут никакой неясности нет. Вот от этого обыденного употребления мы дистанцируемся. Мы терминологизируем духовную традицию. Мы изымаем ее из обыденного семантического гнезда и строим гнездо новое и свое. Духовной традицией мы называем сообщество участников духовной практики. Приходит новый концепт – «духовная практика». Он тоже для нас базовый. И он уже принадлежит сфере антропологии, если угодно, и сфере религиозных практик, сфере религиозного сознания.
Здесь сказывается то, что вся моя концепция принадлежит тому более широкому концептуальному целому, которое я развиваю и которое называется синергийной антропологией. Духовная практика - это одно из главных понятий синергийной антропологии. И я боюсь, что в рамках моего бюджета времени о синергийной антропологии у меня нет никакой возможности говорить. Я поэтому самым кратким и нестрогим образом попытаюсь сказать, как тут понимается духовная практика. Сейчас здесь мне это немного легче объяснять, потому что русская научная аудитория за последнее время ознакомилась с концепциями Мишеля Фуко и с поздними его теориями, где он развивал концепцию практик себя. Эта концепция очень подробно изложена в
книге которая вышла года два назад и называется «Герменевтика субъекта», это курс его лекций. В оригинале он опубликован не так давно, к сожалению, и во Франции это вышло лишь в 2001 году. Так вот, концепция Фуко с которой уже бегло научное сознание знакомо, развивает антропологическую дескрипцию в терминах антропологических практик, отходя от классической антропологии, которая отправлялась от понятий сущностного ряда, природы и сущности человека. От этого классического русла, когда антропология строилась в рамках классической метафизики, Фуко отходит. И синергийная антропология точно так же отходит. Антропологическая дескрипция строится в терминах практик человека.
Мы достигнем такой же полноты описания как и в классической антропологии, в сущностном подходе. В качестве такой базовой практики у Фуко выбирается одно, а в синергийной антропологии существенно другое. В синергийной антропологии выбираются духовные практики. Понятно, чего мы должны требовать от базового класса практик. Мы должны от них требовать конститутивности, чтобы в терминах данных практик можно было описать конституцию человека, конституцию личности и идентичности. И со всем концептуальным гнездом - топосом мы должны описать всю икономию личности и идентичности. Если мы сумели выделить такой класс практик, в которых человек действительно конституируется в своих структурах личности и идентичности, тогда мы действительно получили, как говорится, «Архимедов рычаг», мы можем строить альтернативную антропологию, что мы и пытаемся делать. Фуко это делает на основе практик себя, синергийная антропология - на основе духовных практик.
Я очень упрощаю, не только духовные практики тут важны, но сейчас об этом нет возможности говорить. Базовый класс все равно составляют духовные практики. Определение их таково: духовные практики - это такие антропологические практики, которые, во-первых, в смысле Фуко являются практиками себя, то есть практиками аутотрансформации, практиками самопреобразования человека.
При этом они необходимо наделены своей телеологией. Это самопреобразование самого себя, которое человек осуществляет, целенаправленно их выстраивая. Стало быть, тут уже ясно, что речь идет и об антропологических стратегиях. Каждая практика есть и стратегия, и эта стратегия направляется к достижению некоторого финального состояния, в которое человек хочет себя привести. Направляется, как чаще всего в таких теориях говорят, к выстраиванию некоторого истинного себя. Практика выстраивает путь от себя к себе. От некоего эмпирического себя к истинному себе.
Понятно, что и начало пути, и конец пути могут концептуализоваться необычайно по-разному. Вокруг словечка «себя» развивается целая теория субъектности, касающаяся большого различия между «себя» и «я». Концепция «эго» и концепция «себя» - это существенно разные подходы к субъектности, разные модусы субъектности. Отсюда возникают лексические трудности, когда я говорю, что такое «истинное себя», это звучит, конечно, косноязычно. Но я не могу сказать, что это «истинное эго», «истинное я». Я перейду на совершенно другую почву. Мне некогда этим заниматься, но это очень важные сюжеты. Дискурс «Эго» - это дискурс классической декартовой субъектности. И это то именно, что провалилось в европейской интеллектуальной истории, закончило свою историю, и чему мы подыскиваем альтернативы. «Язык себя», язык субъектности понимаемый как притяжательное местоимение, но не как не личное местоимение - это язык другой субъектности. Это существенно. И как Фуко, так и я в этом дискурсе субъектности. И духовная практика направляется к некоторой инстанции истинного себя, выстраивает путь, выстраивает стратегию аутотрансформаций.
Отличием духовных практик от всех прочих практик себя является онтологический их характер. Что имеется в виду? Финальная инстанция финальных самопреобразований принадлежит и локализуется в ином онтологическом горизонте. Путь к истинному себе -
это путь актуальной онтологической трансформации. Этого в практиках себя у Фуко уже не предполагается. А в духовных практиках предполагается. Это путь к инобытию.
Но мы будем говорить о России. Я боюсь, что уклонился в слишком общие горизонты. В российском случае, разумеется, будет иметься в виду христианская, еще точнее Восточно–христианская духовная практика. Точнее исихастская практика. И здесь эта инстанция «истинного себя» есть попросту ипостась Христа. И путь к истинному себе -это путь христоцентрического богообщения, который развертывается в способе личного общения. Вот этот личностный характер и есть главное специфическое отличие той духовной практики, которая для нас будет базовой.
Мы выделяем в антропологическом горизонте эту базовую, духовную практику. И мы говорим, что с каждой такой практикой ассоциировано сообщество ее участников, адептов, ее хранителей. Но прежде чем стать хранителями, члены этого сообщества должны быть ее создателями. Она не берется откуда–то. Сначала человек должен создать, выработать эту практику, ее достаточно сложное внутреннее устройство. В синергийной антропологии оно достаточно развернутым образом концептуализуется. Оказывается, для того, чтобы практика себя была действительно онтологической практикой (это второе отличие, которое лежит в методологическом горизонте), эта практика должна обладать полным методом. Иначе онтологической цели она не достигнет. Та практика себя, которая направляется к какому–то истинному «себе», лежащему еще вполне в здешнем же бытии, в здешнем плане существования, она может мало ли как выстраиваться. Разными способами она может выстраиваться. Мы не можем утверждать, что здесь необходим строгий канон и полный метод. Но для онтологической практики это оказывается первейшим и необходимым условием, она должна выстроить свой полный и строгий метод, она должна иметь путевую инструкцию. Иначе она не сможем проходить свой путь. Вот это такие базовые свойства духовной практики.
Так вот, сообщество участников оно и должно прежде всего создать, выработать полный метод и аппарат этой практики, полный канон правил выстраивания особенного опыта, который продуцирует эта практика. Правил, которые регламентируют организацию этого опыта, его постановку, говоря в терминах научного эксперимента. Возникает всегда обоснованное сомнение, соответствует ли полученный опыт действительному пути? Как говорит Исаак Сирин: «На каждом шаге ты должен проверять, не сбился ли ты с пути». С проверкой такого опыта связана своя достаточно сложная духовная критериология. И, наконец, далее интерпретация опыта и интеграция его в некоторое опытное целое, в совокупный опыт духовной практики и духовной традиции. Выработкой всего этого антуража занимается сообщество участников духовной практики. Духовная традиция - это такое особенное сообщество.
По сложности понятно, что это достаточно узкое избранное сообщество. Требуется полнота погружения. Это из первейших правил духовной практики. Оказывается, что она является холистической практикой. Для своего действительного осуществления она должна затрагивать все уровни человеческого существа. Для нее не достаточно быть чисто интеллектуальной практикой. Вот здесь находится грань с известнейшим и обширнейшим полем европейской культуры, наиболее знакомым и проработанным — с полем западной мистики, интеллектуальной, визионерской, экстатической и других видов. Общее у них то, что это интеллектуалиская мистика. Духовная практика категорически к этому роду опыта не относится. Она должна быть интегральной антропологией. Она должна быть холистической практикой. И это требует полнейшего погружения.
Соответственно, духовная традиция - это узкое сообщество прежде всего. Для его участников необходимо дистанцироваться от всех эмпирических занятий, от всех стратегий и практик обыденного существования. Необходим, как это всегда на аскетическом языке говорится, исход из мира. Здесь возникает свое особое понятие мира. Эта установка именно практическая, нужно заниматься так, чтобы ничто не отвлекало.
Совсем не обязательно, но и это может помогать делу, если вдобавок вырабатывается некоторая осудительная установка по отношению к тому, от чего тебе, хочешь ты или не хочешь, нужно отказаться. Но по существу в духовной практике это не заложено. Никакой идеологии мироосудителства тут нет. Но просто, если хочешь осуществлять такую практику, то ничего другого ты осуществлять уже не можешь. Не получится. Таким образом, мир здесь понимается энергийным образом как совокупность стратегий, которые мешают, которые нужно отставить в строну, от которых нужно дистанцироваться. И соответственно, то, что требуется, это опять совокупность стратегий некоего другого рода. И здесь возникает такой вот практически энергийный взгляд на человека.
Мы принципиально не рассуждаем о том, что у человека за сущность, какие отвлеченные начала его складывают, и складывают ли вообще? Дело не в этом. Нам нужен некоторый род опыта, и мы смотрим, как нам его осуществлять. Таким путем возникают, если угодно, маргинальные, если угодно, асоциальные сообщества, которые я называю «духовными традициями». И уже видно, что это не особо расходится и с обычным словоупотреблением. Я никак не революционизирую его, а, если угодно, уточняю, вглядываюсь, что в глубине этого понятия должно лежать. Должна лежать связь с духовной практикой.
Нас интересуют культурно–исторические формы русского сознания. Духовная традиция, как мы сейчас ее характеризовали - нечто выделяющее себя, дистанцирующее от исторического процесса, от социального процесса. С какой стати она может быть в этом процессе чем–то существенным? А, тем не менее, она оказывается ведущим фактором. Получается это за счет весьма многих обстоятельств. Но, прежде всего, за счет того, что, продуцируя особо чистый опыт, с которым в широком сознании связывается высокая ценностная нагрузка. Продуцируя такой чистый опыт, традиция оказывается влиятельной. Она обособленна, дистанцированна от широкого общества, но она на него оказывает существенное воздействие и влияние. Она обладает высокой способностью излучения. И вот это излучение реальным образом сказывается в том, что вокруг этого узкого сообщества возникает примыкающий слой. Это слой тех, на которых содержимое традиций, ее особый способ существования оказывает особое влияние, действенное влияние. Эти люди в той или иной мере начинают изменять свои собственные стратегии существования под воздействием духовной традиции. Они не избирают полной и безраздельной к ней принадлежности, это, как говорится в Евангелии, узкий путь, или это «слишком круто», как говорится нынче. А вот включать в свое существование хотя бы ориентацию на такие традиции - это могут многие. И складывается такое отношение примыкания. Прямо я не вхожу — по разным причинам: у одного одни, у другого другие причины, — но я в доступной мне мере примыкаю к этому.
Примыкание может выражаться в массе элементов. Это сугубо индивидуально. Одни усваивают себе интеллектуальные установки. Другие усваивают стратегии поведения. Некоторые, наиболее близко примыкающие, смотрят на самое ядро духовной традиции, то есть на духовную практику и пытаются посильно ее осуществлять. Одним словом, возникает обширный и разнообразный примыкающий слой. Каков этот слой конкретно? Это определяется великой массой конкретных обстоятельств.
Это не единственный способ, через который узкое сообщество оказывается значимым для более широкого сообщества. Но уже одного этого механизма достаточно. В определенные периоды этот примыкающий слой может достигать весьма значительной широты. Широты, сравнимой даже с социумом в целом. Разумеется, такие ситуации нечасты. Они зависят от стечения массы обстоятельств, и духовных, и исторических, и политических, если угодно. Но когда такая констелляция совершается, такие конкретные периоды в жизни Восточно–христианской традиции называются исихастскими возрождениями. Классический пример - это исихастское возрождение Византии XIV-го столетия. Все, хотя бы поверхностно знакомые с историей Византии, знают, что XIV век,
середина его, была вот таким совершенно необычным периодом, когда проблемы касающиеся аскетической практики, и даже очень узких ее вопросов, оказались центральными вопросами жизни византийского социума. Выделяется эпоха исихастских споров, когда предметом и придворных конфликтов, и целых войн, и социальных конфликтов, одним словом, главным предметом всего исторического существования Византии оказалась проблематика высших ступеней исихастской практики. Здесь византийский социум являл собой примыкающий слой к камерному аскетическому сообществу.
Другое исихастское возрождение было в России. И происходило это с конца XVIII столетия, условно говоря, и вплоть до большевистского переворота. Протекало оно уже совсем иначе, в других формах. Классической дескрипцией того, что это было, является роман «Братья Карамазовы». Практика старца Зосимы в романе и есть зарисовка из жизни русского исихастского возрождения. Главным его отличием был феномен русского старчества, которого Византия не знала и которое было творчеством русского исихазма. А в нашей интерпретации эффектом этого исторического периода как раз и была невероятная экспансия, разрастание, расширение примыкающего слоя духовной традиции. Главы в «Братьях Карамазовых», посвященные служению старца Зосимы, описывают очень живо, какой необъятности достигал этот примыкающий слой в России второй половины XIX века. Но это духовная традиция. Духовная традиция ключевой концепт. В нем специфика моего подхода. И объяснить ее нужно.
Культурно–историческую фактуру социума формируют, наряду с духовной традицией, еще и другие традиции, уже гораздо более знакомые, которые я никаким своим особым образом не определяю и не концептуализирую. Понятно, что духовная традиция входит как часть в состав религиозной традиции. Ясно, духовная практика - это религиозная практика. В чем это сказывается? В том, что в своих целях и принципах прохождения пути духовная практика принимает базовые положения некоторой религии. В случае Византии и России это православие. Не требует пояснений и то, что существует такое явление как религиозная традиция, в которую духовная традиция входит как часть, как одно из слагаемых. Религиозная традиция, в отличии от духовной традиции, не есть что– то единое, целое, а это целый конгломерат разнообразных традиций. Прослеживание конкретного историко–культурного существования Росси и эволюции структур русского сознания требует разбраться с составом религиозной традиции конкретно и детально. Я соответственно произвожу ее структурирование.
В составе религиозной традиции удобно выделять три основные блока или компонента. Духовная традиция - один из них, выделенный из всех. Я еще раз подчеркиваю: если говорить в наших терминах, то традиция это то, что транслирует нечто. И тут мы определили духовную традицию, исходя из духовной практики. Это достаточно понятное определение. Но общий подход к традициям немножко иначе их характеризует. Каждая традиция, будучи видом трансляций, обязательно характеризуется двумя вещами. Тем, что она транслирует, и тем как она транслирует, то есть способом, механизмом трансляции. Так вот, духовная традиция осуществляет связь социально–исторического и антропологического уровня реальностей. За счет чего? За счет того, что она, будучи сообществом, есть социальный и социально–исторический феномен. Но транслируемое ею содержание существенно не социально, а аутентично антропологично и личностно. Поэтому она существует на социальном уровне, а действует как нечто антропологическое. В этом ее уникальность. Поэтому она является ключевым моментом в моей концепции, которая позволяет достичь антропрологизации исторической дескрипции, позволяет понять историю как антропологию. Лев Семенович Выготский сумел понять историю как психологию. А в нашем случае, понимание истории как антропологии возникает именно через концепт духовной традиции. Это я еще раз подчеркиваю специфику духовной традиции.
Сейчас мы описываем следующую традицию - религиозную. И расчленим ее следующим образом. Наряду с духовной традицией мы, разумеется, должны выделить в составе религиозной традиции институциональный аспект: религиозная традиция сопряжена с институтом. В случае христианства это институт Церкви, прежде всего. Институциональный аспект имеет сложное строение, это целый конгломерат. Туда входит масса всего, начиная от каменных зданий, материальных вещей, которые транслируют себя сами своим вещественным существованием. Но что такое институциональный уровень, всем понятно, не будем на это тратить время.
Наряду с этим, следует выделить еще и уровень интеллектуальный, если угодно. В составе религиозной традиции важен и играет самостоятельную роль такой компонент, как вероучение, доктрина, догма, богословие. Эти три компонента для грубого, беглого описания уже достаточны. У нас постепенно вырабатывается аппарат, позволяющий прослеживать процессуальность, процесс развития. Мы выделили в составе религиозной традиции три слагаемых, и у каждого из них есть какая-то своя жизнь во времени. Духовная традиция в один период может из этих компонентов стоять на первом месте, а в другие периоды она может оказаться на последнем. Институции в раннем христианстве, как мы знаем, практически вообще отсутствовали. А одно из главных обвинений секулярного мирского сознании в адрес позднего христианства заключалось в том, что в христианстве кроме институции ничего и не осталось. Таким образом, каждый из этих основных слагаемых имеет свою историю и, прослеживая, как меняется их соотношение между собой, мы уже не так мало можем сказать о процессе. Еще больше мы начнем понимать, если мы введем еще другие традиции.
Уже в названии доклада присутствует культурная традиция. Не требует доказательства тот объект, который мы собираемся описывать и который называется историко– культурный организм. Здесь, разумеется, культурная традиция принадлежит к ведущим традициям. И опять–таки понятно, что, как и религиозная, культурная традиция представляет собой в еще большей степени конгломерат самых разных традиций: когнитивных, обучающих, научных. Каких только субкультурных традиций не существует. Все легко выстроят длинный список. И опять-таки понятно, что это помогает описывать процессуальность. Каждая субтрадиция имеет собственную историю, собственную динамику. А наложения разных эволюций и разных динамик формируют совокупную динамику культурно–цивилизационного организма.
Дальше я назывным образом упомяну, какие еще традиции входят в этот базовый набор. Конечно, социальная традиция, это уже совсем обширнейший конгломерат. Если угодно, это просто шапка для всех традиций какие бывают. Даже духовная традиция, как я уже упоминал, предельно удаленная от социальности по своей внутренней природе, тем не менее, в своих внешних аспектах тоже может рассматриваться как социальная традиция. И так далее. Понятно, что наряду с культурной традицией и всеми ее субтрадициями существует обширный набор социальных, которые все–таки культурными не являются. Традиции в хозяйственной сфере, хозяйственно-экономической, в практической, эмпирической жизни социума. Какие важные, а какие нет, это определяется конкретикой того организма, который мы решили рассматривать.
В случае русского культурно–цивилизационного организма зачастую заметную роль играют народные традиции. Что понимается под народными традициями? Тут мы выходим в область этнической антропологии. С народной стихией связывается понятие «низовой культуры» и так называемых «пережитков», которые я уже упоминал. Это сидящие на разных горизонтах глубинного сознания и глубинной памяти устойчиво транслируемые паттерны. В частности, в христианстве эти паттерны относятся к дохристианскому языческому сознанию. Нам некогда будет говорить о конкретных эпохах и, в частности, о Киевской Руси. Характернейшей чертой существования и структур сознания Киевской Руси всегда называют двоеверие. Вот двоеверие это и есть
феномен, когда народные традиции вышли на авансцену, удерживались на авансцене. Было осуществлено крещение Руси. Происходило интенсивнейшее внедрение и духовной, и культурной традиций, отвечающих христианству. Но в это же время продолжалось устойчивое существование народной традиции, в которой транслировались дохристианские содержания. Собственно это в структурных терминах и называлось двоеверием. Бывали периоды, когда эти глубинные пласты становились существенными, но это уже историческая конкретика. Вот такой базовый набор.
Конечно, для прослеживания процессуальности нужно нам еще концептуализовать, какие отношения складываются между традициями. Понятно, что все эти традиции не являются независимыми, а, наоборот, вступают в разнообразнейшие отношения. Здесь можно рассуждать на уровне математической логики. Здесь могут быть отношения взаимного исключения. Скажем, в массе случаев мы можем сказать, что если в данном социуме наличествует некая традиция, то целого ряда других заведомо быть не может. Есть отношения исключения. И наоборот, реализуются отношения включения, когда из существования данной традиции можно заключить о непременном существовании и других традиций. Наиболее существенным для нас являются уже упомянутые отношения примыкания, когда некоторая традиция усваивает определенные свойства, предикаты от другой традиции. Реализует себя как примыкающую, ассоциированную с какой-то другой традицией. Опять-таки заимствовать можно самые разные элементы: ценностные, поведенческие, психологические, чисто культурные и так далее. Тогда та традиция, от которой нечто заимствуют другие традиции, может именоваться «ведущей», а другие примыкающими или ассоциированными с ней.
Иногда бывает удобно для тех традиций, которые примыкают к духовной традиции, ввести особый термин. Духовная традиция уникальна тем, что она транслирует личный опыт, аутентично-антропологический опыт. Значит, что-то заимствовать существенное у духовной традиции, это значит разделять или по крайней мере пассивно пытаться разделить этот специфический личный опыт. Установки разделения опыта описывались в современной философии. Вокруг этого представления развивается диалогическая философия, и, в частности, прямо об этом толкует концепция участности Михаила Михайловича Бахтина. Когда осуществляется установка сочувственной заинтересованности, соучастия в другом сознании, в другой традиции, это называется концепцией «участности». Здесь как раз, не раздувая ее значения, как одно время делалось, а совершенно конкретно можно говорить, что те традиции, которые себя осознают как примыкающие к духовной, могут характеризоваться как участные по отношению к ней. А духовная традиция оказывается ведущей.
Далее, что для нас существенно, можно перейти к описанию процесса. Введены термины, аппарат, тот минимум понятий, которым можно ограничиться. На базе этого аппарата можно сформулировать два основных тезиса. Во-первых, определяющий фактор процесса развития культурно–цивилизационного организма заключается в отношении и взаимодействии духовной традиции и культурной традиции. Они оказываются ключевыми, и какое между ними сложится отношение, как это отношение будет развиваться - это и является (в моем способе дескрипции) определяющим фактором. То есть ядро метода теперь обозначилось отчетливо. Мы смотрим в каждом данном историческом срезе или в эпохе, идентифицируем состояние духовной традиции. Описываем состояние культурной традиции. Смотрим, каково между ними взаимодействие, и какие в этом взаимодействии заложены тренды. Так у нас и возникают определенные способы описания процессуальности. Разумеется, я не могу подробно описывать, почему это так. Из того, что я говорил, приблизительно ясно, что культурная традиция является ведущей для культурного организма, это можно не доказывать. А то, что и духовная традиция при всей ее узости и избранности тоже является ведущей, это ясно из всей моей идеологии. Поскольку происходящее в антропологическом пласте реальности определяет глобальную динамику, то это принимается в качестве исходных
позиций современного гуманитарного мышления. Понятно, что духовная традиция оказывается ведущей. И то, как у нее складываются отношения с культурной традицией, и является определяющим фактором, пружиной процесса.
Дальше мы можем переходить к прослеживанию русской истории. Но есть еще одно очень важное промежуточное понятие. Мы говорили о важности трансляций. Мы говорили, что культурно–цивилизационный организм России формируется традициями. А откуда берутся сами традиции? Существует генезис и он, конечно, очень существенен. Генезис представляет собой трансляцию на Русь фонда определенного культурно– цивилизационного, духовного содержания, которое я выражаю (это последнее специальное понятие) понятием Восточно–христианский дискурс. Это понятие постепенно начинает достаточно широко звучать. Тем не менее, пока оно все–таки мало распространено, и о нем надо сказать. Что имеется в виду? Это определенный дискурс в точном смысле семиотического процесса, способа означивания реальности. Это дискурс, который содержит духовный, концептуальный, эпистемологический фонд для формирования Восточно–христианского менталитета и культурно–цивилизационного организма. В этой модели все время возникает двойственность, связанная с тем, что дескрипцию мы строим одновременно. Мы говорим о русском сознании. Что это за сознание? Здесь всегда имеется в виду некое раздвоение. Мы можем говорить о валидности нашей дескрипции для индивидуального сознания и для культурно– цивилизационного организма. На самом общем уровне это проходит. В описании конкретных проблем нас могут взять за руку и сказать, что эти пласты надо различать - на уровне цивилизационного организма нечто справедливо, а на уровне индивидуального сознания, может, и нет. Или наоборот. Но это конкретика. Гуманитарный дискурс вещь крайне размытая и необязательная. На общем уровне пока никому не захотелось педантично возразить. Можно считать, что дескрипция развивается и для собственно сознания в обычном смысле, и для сознания нации, культурно–цивилизационного организма, пока мы сами не захотели сузиться и не оговорились, что это годится для одного из указанных пластов.
Так вот, Восточно–христианский дискурс содержит фонд для формирования и на том, и на другом уровне: и для формирования менталитета, и для формирования культурно– цивилизационного организма. У этого дискурса есть главное отличие, которое работает по-своему в каждой из эпох, всегда и постоянно. В этом фонде, главным ключевым элементом является опыт аутентично–христианского характера, опыт устремления ко Христу и соединения с ним. Это опыт аутентично–христианского сознания. Вокруг него выстраивается все остальное содержание Восточно–христианского дискурса как вокруг стержня, и в этом его специфика. Западно-христианский дискурс так не устроен. Установки на примат опыта там нет. И отсюда вытекает множество важных особенностей православной истории, которые мы, к сожалению, не имеем возможности проследить и упомянуть.
Запуск процесса, «triggering» — как говорят в психологии, происходит в результате трансляции Владимиром Святым, условно говоря, Восточно–христианского дискурса из Византии на Русь. Содержание этой трансляции — внедрение Восточно–христианского дискурса в новом ареале — и составляет содержание киевского этапа истории в нашем описании. Уже на этом этапе проявляется ряд ключевых особенностей. Формируется специфически русский культурно-цивилизационный организм, а отнюдь не клон византийского. Обстоятельство, что был протранслирован византийский фонд, а в результате трансляции возник специфический русский культурно–цивилизационный организм, я выражаю упрощенно формулой «парадокс Пушкина». У Пушкина в письме есть известная фраза о том, что греческая вера дает нам всем особенный национальный характер. Эта простенькая фраза парадоксальна по своему смыслу. Веру принесли греческую а она каким–то образом ухитряется давать нам наш особенный русский характер. Не подражание греческой вере, а наш особый характер. Как это возможно?
Разрешение парадокса оказывается простым. В терминах общей культурологии его можно довольно скучно проинтерпретировать. Трансляция воспринимается неким субстратом в определенных условиях и при наличии определенных способностей этого субстрата, и тогда транслируемый фонд оказывается новой возможностью. Транслируемое содержание работает как поле возможностей для самораскрытия, а не как образец для подражания. Для русского сознания и в нем — благодаря этому фонду — возникают новые измерения, которых оно не имело. И в этих измерениях русское сознание развертывается уже по-своему. Вот такой простой ответ. При трансляции возможны, конечно, и другие варианты. Транслируемый фонд может быть использован как образец для подражания. Такое в культуре бывало сколько угодно. Пример — Россия XVIII века, когда происходила вестернизация русской культуры, что привело к становлению невероятно лоскутного, нетворческого и подражательного характера этой культуры.
В Киевской Руси было иначе. В качестве простейших иллюстраций я приведу пример первой канонизации святых, которая произошла на Руси. В 988 году (я говорю, конечно, очень схематично, упрощенно), совершилось крещение Руси. В 1015 году, через 27 лет после крещения, произошло убиение князей Бориса и Глеба. А уже в 1020 году совершился первый акт канонизации. Но вновь образованная епископия Константинопольской Церкви подняла вопрос и добилась с большим своим настоянием канонизации убиенных Бориса и Глеба, которые отнюдь не соответствовали имевшимся византийским представлениям о святости. С канонизации Бориса и Глеба был образован новый чин святых, новый чин святости — святых страстотерпцев. Борис и Глеб, как мы помним, не были мучениками за веру. Причисление их к лику святых для византийского сознания не было абсолютной очевидностью. Тем не менее, для русского сознания, только что ставшим христианским, за этим была некоторая духовная настоятельная очевидность. И Константинополь убедили в необходимости их канонизации. В их кончине был явлен-таки определенный род христианской святости. Святость эта выражалась в смиренном принятии кончины, дабы не приумножалась рознь, не приумножалось насилие. Это, если угодно, тоже способ соучастия в жизни и смерти Христа. Это соучастие в его способе смерти, и потому это было осуществление христианской святости. Разумеется, никаких богословских спиралей русское сознание в ту пору не выстраивало, но для него это было определенной духовной очевидностью, которая настоятельно требовала духовного события. И духовное событие состоялось. Это и есть парадокс Пушкина в действии. Протранслированный фонд выступил как реальная возможность самораскрытия культурно-цивилизационного организма.
В качестве других, следующих эпох я, естественно, выделяю Московскую Русь. Этот период является необычайно амбивалентным. Относительно него сталкиваются самые конфронтирующиеся мнения, причем это авторитетные мнения в науке, а в журнальных баталиях. В науке существует линия восхваления, превознесения Москвы и линия шельмования Москвы — как «православного ханства» и т.п. вещей. Обе эти линии имеют под собой очень серьезные основания. Дальше — период имперской России. В этом выделении эпох я хочу прежде всего подчеркнуть, что наша концепция работает, что отношение духовной и культурной традиций действительно есть определяющий фактор.
Второй тезис общий я так и не огласил, а он состоит в том, что для русской культурной истории типично конфликтное отношение духовной и культурной традиций. И эта конфликтность в эпоху Московской Руси начинает проявляться в полной мере. Это очень важная вещь, также характеризующая русскую специфику. В содержании Восточно– христианского дискурса главную роль, конечно, играет духовная традиция. Но в него входит еще один компонент, отличающийся от духовной традиции. Византийский культурно-эпистемологический духовный фонд включал в себя наследие римской языческой, дохристианской религиозности, которая оказалась весьма востребованной, когда христианство стало государственной религией в имперском Риме. В Древнем Риме официальная римская религия выполняла функцию религиозной сакральной легитимации
императорской власти. И когда роль официальной религии заняло христианство, волей-неволей императоры стали нагружать его функцией сакральной легитимации самих себя, своей власти. Христианство, как мы знаем, согласилось с этой функцией и ее выполняло. Но отправлять такую функцию аутентичный христианский опыт никак не помогал. Никакой легитимации императора нельзя найти в Новом Завете ни под каким микроскопом. Максимально, что можно там найти, это «кесарю – кесарево», что очень далеко по смыслу от сакрализации власти. Византийское же сознание согласилось с функцией легитимизации власти и начало активно дополнять Восточно-христианский дискурс соответствующим содержанием. Это содержание я и называю «парадигма сакрализации».
Сакрализация — это обозначение характерного элемента дохристианской имперсональной языческой религиозности. Такие содержания, насколько позволяла христианизированная форма сознания, в Восточно–христианский дискурс были вобраны и протранслированы на Русь. Возникает еще одна линия исторической драматичности. Сам Восточно-христианский дискурс оказывается также фундаментально двойственным в своем содержании. В нем есть личностные, аутентичные, христианские содержания, связанные с духовной традицией, а есть привносимые из Древнего Рима. Но как всегда в таких случаях, привнесенный элемнт стремится утвердить себя в доминирующей роли, что он-то главным и является. Как говорится, «лучшая защита – это нападение». Взаимоотношение этих двух элементов в составе Восточно-христианского дискурса я называю сочетанием духовной традиции или «линии обожения» (высшее состояние, к которому направляется христианская духовная практика и есть обожение) с «линией сакрализации». Между ними также выстраивалась своя историческая драма.
В каждый период соотношение линии обожения и линии сакрализации могло быть разным. Их соотношение также играет ключевую роль в выстраивании русской истории. Московская Русь в этом плане является критически важным периодом. В начале этого периода, в XIV-XV столетиях, в век преп. Сергея Радонежского и преп. Андрея Рублева имел место расцвет духовной традиции и никакого особого засилья сакрализации не было. В конце Московского периода, к концу XVII века, духовная традиция была вытеснена до крайней маргинальности и почти до несуществования. В это время почти все содержание московской религиозности занимает парадигма сакрализации. У нее кроме функции легитимации власти была еще одна сфера приложения, а именно: сфера религиозного символизма. Собственно линия обожения предполагала связь с иным горизонтом бытия, заключающуюся в личном опыте богообщения. Сакрализация предполагала другую связь с божественным — такую связь, которая может заключаться в неличностных элементах, через предметы, обряды. Сакрализация обряда, это вторая сфера действия в рамках парадигмы сакрализации.
В России получили распространение оба направления сакрализации. С развитием централизованной государственности все более востребованной стала сакрализация как легитимация, обожествление власти. Вместе с тем, необычайно быстро развивалось символическое религиозное сознание. Личностное богообщение все более заслонялось религиозным символизмом. Возникло то, что позже называли феноменом «обрядоверия». К концу Московской Руси сакрализация полностью господствует, духовная традиция неизвестно где, и с этим вытеснением духовной традиции исчезают и возможности развития культурной традиции в рамках Восточно–христианского дискурса. В рамках сакрализованного сознания просто не предполагалось наличие культурной традиции. Культурной динамики тут нет, и ей неоткуда взяться. Между тем культурно– цивилизационный организм без культурной традиции существовать не может. Для развития культурной традиции в России оставалось единственное русло — русло вестернизации, то есть заимствования культуры с Запада. И в XVII веке эта бинарная оппозиция развития России уже обозначилась и определяла фактуру существования. Это была оппозиция ведущих традиций, ведущих линий — сакрализации и вестернизации. Это
была предельно нездоровая фактура. Как полюс сакрализации, так и полюс вестернизации ничего хорошего в себе не несли, они оба были неорганичны. И в соответствии с этой неорганичностью и того, и другого, Россия начала выпадать из истории, утрачивать историческую динамику.
Здесь необходима была такая фигура, как Петр I. Начинается период имперской России. Петр успешнейшим образом вернул России динамизм исторического существования. Он потеснил парадигму сакрализации, оставив от нее минимально необходимое, то, что требовалось для сакрализации лично его, императора, и власти. На обрядоверие ему было в высшей степени наплевать, оно существовало, но было заметно потеснено. В религиозной сфере был раскол, феномен раскола как раз и был вызван торжеством обрядоверения в русской религиозности. Но, ясно, что исторический организм, созданный Петром, нес в себе очень большие риски, хотя Петр и вернул историческую динамику России. Вернул он ее путем резкого наращивания вестернизации при очень тщательно подобранном контенте, то есть таким образом, чтобы проводимые реформы были технологическими реформами, направленными прежде всего на достижение эффективности машины власти, машины управления. Но, одновременно, здесь закладывались очень большие опасности и риски. Во-первых, духовная традиция продолжала быть в упадке. А, во-вторых, в области культурной традиции шла безбрежная политика заимствования, в результате которой культурная традиция, как я выражаюсь, стала «лоскутной», представляла собой ряд совершенно раздробленных, разрозненных и несвязанных кусков, включавших в себя какие–то обрывки французской галантной культуры, немецких практик управления, голландских и английских технологий, каких-то третьеразрядных мистиков, найденных там и сям. Одним словом, все это несло в себе очень большой исторический риск.
Наконец мы переходим к заключительному периоду. Здесь творческие потенции культурно-цивилизационного организма России проявились наилучшим образом. Риски, оставленные петровской реформой, были преодолены. И эту работу претворения я называю «русским синтезом». Общеизвестна формула Герцена о том, что «на вызов Петра Россия ответила явлением Пушкина». Так вот, явление Пушкина и есть синтез культурной традиции. Лоскутная культура была претворена в русскую классическую культуру, в культуру периода, который заслуженно называется «золотым веком» русской культуры. Русский синтез положил начало феномену русской культуры начала XIX столетия. Параллельно происходило возрождение духовной традиции. Так что и эта опасность была преодолена. Но преодоление конфликтности духовной и культурной традиций не состоялось. Эта конфликтность не принимала резких форм, но между двумя традициями не было никакой сообщительности. Как русский культурный синтез символизируется фигурой Пушкина, так возрождение духовной традиции символизируется фигурой преподобного Серафима Саровского. Но и Пушкин, и Серафим Саровский, будучи современниками, по всей вероятности, не знали о существовании друг друга. Но они, по крайней мере, не враждовали. Духовная традиция и культурная традиция были разделены, но не были враждебны друг к другу.
Дальнейший период — это классическая русская культура XIX века. Во-первых, это развитие русского синтеза, который породил классическую русскую культуру мировой значимости. Все мы знаем, как все это происходило. Русская проза XIX столетия уже несла в себе определенные потенции соединения с духовной традицией. Есть лежащие на поверхности факты этого сближения, заключающиеся в тяготении определенного культурного слоя к Оптиной Пустыни, к аскетической культуре, есть проза Достоевского, непосредственно связанная с аскетическими мотивами. Но в этот период можно заметить и более существенный и глубже лежащий фактор. Феномен классической русской прозы XIX столетия основан на глубинной проработке феномена личного общения. Дух и атмосфера русской классики — это проработка личного общения. Все вырастает, развивается в этой стихии. Русское общение вырисовывается, выступает в качестве
особой культурной и духовной ценности, о чем говорит и что прорабатывает также и духовная традиция.
Но параллельно с этим творческим руслом развивался и разрушительный тренд. Конфликтность русского развития выражается в том, что в каждый период развития можно отыскать острые оппозиции, поляризации в составе культурно–цивилизационного организма. Исторически первой из оппозиций, которые потом и вызвали коллапс развития культурно-цивилизационного организма России, я бы, пожалуй, назвал спор иосифлян и нестяжателей в начале XVI столетия — ключевого столетия в русской истории. Затем была оппозиция XVII-го столетия — «сакрализации-вестернизации». И, наконец, в век великой русской культуры, в XIX век, происходит также и эскалация поляризации. Эта поляризация организма, как метастаза его разъедающая, выражается уже в целом наборе различных оппозиций. Возникает, наряду с существующим творческим руслом, устойчивый разрушительный тренд.
В этом разрушительном тренде развивается феномен кружков, который проходит целый ряд стадий: от кружков нигилистов к кружкам народников, и от народников, как мы знаем, к развитому революционному движению. И в этих рамках возникает русская интеллигенция как специфический феномен — возникает на стыке, на совмещении творческого и разрушительного трендов, и в частности, несомненно, как фермент разрушения. И далее, когда оба тренда развились, они уже не могли существовать независимо, параллельно. Они сближались, перекрывались и, наконец, совместись. И когда они, два противоположных, конфронтационных тренда, совместились в одном сознании, то — как психологи скажут — произошел коллапс сознания. Это крушение империи. Коллапс принял форму, которую я описываю в психологических терминах, характеризую коллапс, крушение имперской России и, соответственно, культурно– цивилизационного процесса как макроэпилептический припадок. У меня нет возможности доказывать, аргументировать, сейчас я могу только огласить это.
Начальной фазой припадка является специфический момент, который Достоевский (действительный пророк русской революции и носитель этого сознания) из личного опыта описывает как момент ауры — состояние сознание, непосредственно предшествующее припадку, который является формирующим. Момент ауры — это некоторое состояние, когда на миг вдруг достигается особое всеохватное видение мирового и культурного целого. Это напоминает мистические ведения, в частности, знаменитое видение святого Бенедикта Нурсийского, когда он из окошка увидел всю вселенную в одном луче. Момент ауры — это нечто такого типа, но в эпилептическом контексте. В этом состоянии возникает на миг всеохватное видение мирового целого и вширь, и вглубь, специфическое видение целого в его полноте, его смысла и красоты. На уровне индивидуального сознания подобные яркие описания мы можем найти у Достоевского. Это два описания: в «Дневнике писателя», где Достоевский описывает состояние перед приведением смертного приговора в исполнении; и второе — когда в романе «Идиот» князь Мышкин описывает свое состояние перед припадком. Но это в дискурсе индивидуального сознания. На макроуровне, как я это интерпретирую, состоянием ауры русского культурно–цивилизационного организма явилась культура Серебряного века. Это ее макро-психологическая характеристика, характеристика природы этой специфической культуры.
Как раз вокруг этого тезиса у меня есть довольно основательная аргументация, связанная с концептами синергийной антропологии и с тем, что по своему типу культура Серебряного века — это классическая культура модернизма. То есть культура модернизма, конечно, как раз совсем «неклассическая», но это в другом смысле. Модернистская культура в терминах современной науки и синергийной антропологии — это культура, развиваемая в топике бессознательного, в топике безумия. Так что, в
частности, и с этой стороны возникает обоснование тезиса, что момент культуры Серебряного века, это момент ауры.
А дальше приходит сам припадок. Период революций и гражданской войны — это и есть макро-эпилептический припадок. На общем уровне такую гипотезу высказывали многие. Никаких откровений тут нет, но я полагаю, что это можно оформить в качестве самостоятельной научной интерпретации. Довольно близка к этой интерпретации теория Питирима Сорокина. Он не развил подробной теории революции, но развил некий ее набросок, каркас. А, как мы понимаем, Питирим Сорокин — это автор, которому мы можем в этом отношении предельно доверять. Этот человек был не только великим социологом, но и активнейшим участником тех событий, наблюдавшим их в период русского припадка из самых разных позиций, как и требуется в научном наблюдении, в хорошо поставленном научном опыте. Опыт Питирима Сорокина развертывался и в Зимнем дворце, (как мы помним, он был секретарем Керенского), разыгрывался и в подполье, где он скрывался в русских деревнях в годы гражданской войны. Одним словом, компетенция здесь была предельная. И на основании этих компетенций Сорокин выдвинул поведенческую, как он сам ее называл, интерпретацию революции. В реальной же развертке он говорил именно о состоянии припадка. Здесь аргументацию можно развертывать достаточно основательную, но, как говорится, все это можно достроить, на что сейчас времени у нас решительно нет.
И дальше идет период советского тоталитаризма. Тут мы вступаем в область, когда валидность моей концепции исчерпывается. Для психологов понятно, что после припадка возможно не вернуться в исходное состояние и не вернуться, как говорится, по-крупному. Можно вернуться в какого-то уже совершенно другого себя, принципиально другого себя, с другим структурированием. И не в том дело, что имевшееся ранее компоненты традиции станут другими. Возможно, что сама структура станет абсолютно другой, что произойдет метаморфоза, или псевдоморфоза, или репетиция смерти и так далее. Так вот, в пределах своих компетенций я заключаю, что перерождение действительно имело место. Для последующих периодов существования культурно-цивилизационного организма дескрипция в терминах формирующих сообщество традиций мало адекватна. Можно пробовать ее использовать, но в качестве базового инструмента это уже мало адекватно. Соответственно, по поводу дальнейших периодов я высказываю некоторые наблюдения и гипотезы.
Что касается периода тоталитаризма. Во-первых, это действительно перерождение. В качестве главного элемента нашей дескрипции мы выдвигали духовную традицию, как более широкое целое — религиозную традицию. Как мы знаем, при большевистском режиме не только духовная, но и куда более широкая религиозна традиция были просто насильственно элиминированы. Если нет духовной традиции по декрету, то как мы будем пользоваться нашим способом дескрипции? Вместо этого я выделяю три эффекта тоталитарного сознания. Феномен тоталитаризма я характеризую следующими тремя эффектами. В начале я их назову, потом их кратко раскрою. Первый — это личностная редукция. Второй – архаизация. Третий – насильственная синергия. В двух словах, под личностной редукцией я понимаю создание антропологической формации, которую Алексей Лосев назвал «человек редуцированный». Мой покойный друг Вениамин Бибихин как-то сказал: «Мы ж люди редуцированные. - Что это такое? - переспросил он сам себя, — А это вот как гласные на концах слова редуцируются». За Лосева я здесь договорю. Возникают редуцированные типы структур личности и идентичности. Человек в духовной практике конституируется Инобытием, а в данном случае человек конституируется редуцированным Иным. Возникают урезанные идентичности — групповая, партийная, советская идентичности, скажем так. Про редукцию достаточно, это совсем просто, и об этом мы много говорили. Как раз этот эффект хорошо описан.
Следующий эффект архаизации, о нем мы говорили, но недостаточно. Происходит скатывание в архаические антропологические формации, в глубоко дохристианские, в действительную антропологическую архаику. Это выражается очень во многом. В случае нацизма это проявилось ярче всего. Тут это лежит просто на поверхности. Нацистское сознание нашло для себя прямой способ архаической религиозности, в достаточной степени мнимой, сконструированной. Но по всей своей фактуре она архаическая, что нацистское сознание и не скрывало. Здесь этот тренд в духовную архаику был сознательным и выраженным. Это, кстати, воспроизводится в современных движениях так называемого традиционализма дугинского или подобного толка. Тренд в архаику, являющийся одной из составляющих тоталитарного феномена и имеющий под собой почву, вполне может рассчитывать на успех. В случае советского тоталитаризма подобная архаизация не была на поверхности. Она не входила в публичную риторику режима, но она, несомненно, была. В некоторых своих текстах я свидетельства на эту тему подобрал. В любом случае эффект архаизации следует включить в антропологию тоталитаризма.
И, наконец, третий эффект тоталитаризма я бы считал самым существенным. Мне не случалось слышать, чтобы о нем кто-то говорил. Это то, что я называю «насильственной синергией». Когда человек достигает самореализации в духовной практике, то ключевым элементом такой самореализации является синергия. Человек реализует себя как открытую систему, достигает своего размыкания навстречу иным энергиям, энергиям инобытия, которым он предоставляет действовать на своей территории. И свои собственные энергии он устремляет и выстраивает для действия сообразного действию этих иных энергий, энергий иного. Это феномен синергии. Это то, что ведет к обожению. В случае тоталитарного сознания осуществляется похожий эффект. С одной стороны, структурно-похожий, но, с другой стороны, — прямо противоположного рода. Здесь мы вступаем на почву, где синергийная антропология прямо граничит с синергетикой. Теория открытых систем, протекания через них потоков энергии и специфической процессуальности, специфической динамики, которая при этом генерируется — это классический сюжет синергетики. Классический механизм самоорганизации. Так вот, что здесь происходит в тоталитаризме? Я это выражу очень примитивной картинкой. Человек в синергии превращается в открытую систему. Но не путем обоюдного устремления, а путем насильственного вскрытия сознания. Вскрытие это проделывается просто и эффективно. Человеку транслируется следующий внятный текст: первое – если ты не будешь думать правильно, тебя ждет мучительная смерть, пытки, расстрел, лагерь и подобные удовольствия. Второе – думать правильно, это думать вот так-то и вот то-то. Третье – думать правильно, это думать верные вещи, это быть в истине, быть со всеми, это хорошо и замечательно, это счастье, бодрость и энергия. Четвертое – если ты не будешь думать правильно, тебя ждет мучительная смерть – пытки, расстрел, лагерь. Как мне представляется, этот текст и транслировался. Это текст не просто высокой, а повышенной доходчивости. Он невероятно доходчив. Он доходит и совершает вскрытие сознания, начинает действовать в сознании. И каким бы путем вскрытие ни было бы совершено, в открытом сознании начинаются синергетические самоорганизующиеся эффекты. Сознание начинает структурироваться, организовываться, сообразно с действующей в нем внешней энергией тоталитарного текста. Человек начинает понимать, что думать правильно — это хорошо и замечательно. Последняя фраза романа Оруэлла: «Он уже любил старшего брата». Более или менее этого достаточно.
Дальше наступает постсоветский период. Про него я более-менее систематически что-то написал. После ухода тоталитаризма в силу его высокой специфики его уход, каким бы способом он ни произошел, это опять не эволюция, а о некая метаморфоза, и природа его бог весть какая. Возможны перерождения и радикальное переструктурирование. Чтобы решить, что нам выбрать относительно такой глобальной характеристики, сначала надо каким–то образом взглянуть и квалифицировать природу самого перехода или ухода. Что такое был уход тоталитаризма? Здесь я никак не посягаю на политологический анализ. Я здесь, стараясь оставаться в рамках концепции культурно-исторических форм, гипотетически характеризую этот переход примерно таким образом: происшедшее — это острый кризис власти, разрешившийся, однако, не революцией, не переворотом и не крушением власти, а всего лишь частичной ротацией правящего слоя, частичной сменой политической модели, существенной сменой экономической модели и единственным полным уходом тоталитарной модели идеологического террора. Но эта модель уже и в поздний советский период была гнилой, работала весьма плохо и неохотно. Важно подчеркнуть, что свершившейся переход не отвечает классической революционной формуле. Новые силы сбросили старый режим и взяли власть. Поскольку никаких новых сил в России не появилось, ни в политической, ни в экономической, ни в культурной сфере, единственным заметным новым действующим агентом на сцене оказался бандитский слой. Но и он не сумел стать устойчивым и длительным игроком, участником процесса развития.
В качестве упрощенной резюмирующей фразы суть перехода я бы выразил так: номенклатура успешно осуществила «спланирование» из социализма в капитализм. Спланирование - это термин из политических процессов30-х годов, о котором говорит в своих книжках Надежда Яковлевна Мандельштам. Когда представители тех или иных сфер номенклатуры находили некоторую сферу деятельности рискованной, опасной или мало выгодной, они осуществляли переход в другую сферу деятельности, который назывался «спланированием». Надежда Яковлевна описывал как чекисты «планировали» в литературу. Так вот, формирование ельцинской России, на мой взгляд, и есть самая масштабная и самая успешная операция номенклатурного спланирования. К чему это привело? Каковы структуры постсоветского сознания и социума?
Прежде всего, на мой взгляд, изменения в плане общественного сознания, его стереотипов, структур в этом переходе были наиболее радикальные. Более радикальные, чем в других планах, поскольку в тоталитарном государстве все эти стереотипы, структуры сознания определяла обязательная идеология. И вот она не просто перестала быть обязательной, она, во-первых, подверглась сокрушительным обвинениям, радикальной переоценке с плюса на минус, и хотя не ушла совсем, но осталась лишь в маргинальной роли. Поэтому появилась одна из абсолютно верных популярных формул постсоветского периода: в общественном сознании создались вакуум и дезориентация. А вскоре к этому добавилось еще некоторое отягчающее обстоятельство. В поздний советский период оппозиция и критика режима обычно рисовали такую картину, что со снятием идеологических оков, с уходом тоталитаризма первым делом сразу же произойдет возвращение ко всему лучшему и высшему, что было в досоветском обществе, в досоветской культуре, и именно на этой почве сложится новое общественное сознание, начнется расцвет свободного творчества. И, как известно, эти прогнозы и ожидания потерпели провал. Это еще больше усилило дезориентацию, вызвало фрустрацию и послужило усилению цинизма, который и так был значителен. Этим подготавливались установки безразличия, установки согласия на принятие того, что хотя бы полезно в жизни, чего хотят сильные, чего хочет власть. В свою очередь это толкало к победе стереотипов косности и потребительства. К типу общества потребления вели и глобальные тренды. влияние усилившихся связей с глобальной потребительской культурой и сознанием.
Таковы предпосылки того, что складывалось. А теперь я кратко описал бы по пунктам, каким в итоге сложилось, а может быть еще и не сложилось, а только продолжает складываться тип постсоветского сознания. Это будет еще не портрет, а только расстановка основных вех. Я просто по списку укажу те признаки, которые присутствуют в ситуации. Прежде всего, нужно констатировать, что победившие импульсы и тренды -это тренды возвращения — возвращения к некоторым началам и формации доприпадочной дореволюционной России. Но к каким же именно элементам происходит возвращение? О возращении говорили и розовые ожидания, что да, будет возвращение ко
всему лучшему, творческому, высшему. Пессимисты, как всегда, предполагали, что будет возвращение ко всему худшему. И тоже находили свою аргументацию. В действительности, как мне видится, по преимуществу и охотнее всего русское сознание возвращается не к лучшему и не к худшему, а оно возвращается к самому привычному и легко доступному, к освоенному, к наезженному, к нетребующему нового усилия, к тому, что потакает инерции и косности. Это очень понятно. Из всех испытаний, из всего предшествующего жуткого столетия, разумеется, общественное сознание и культурно-цивилизационное организм выходят, мягко говоря, в некотором истощении. Поэтому тяга к инертности, к косности, к позиции где можно не двигаться, а отлежаться, понятна. В недавнем обзоре социопсихологической ситуации я прямо увидел тезис. Я цитирую: «Готовность двигаться предельно мала». Такое сознание настроено отвергать неизвестное и чужое, требующее высокой активности и перемен. В отечественной истории для возвращения наиболее подходящим ориентиром служит царствование Александра III — «героя нашего времени», и отчасти Николая I, хотя в меньшей степени, поскольку тут элементы активизма были более очевидны, эта эпоха была более требовательная.
Таким образом, происходит возвращение. Это возвращение, которое можно передать бессмертной формулой возвращения во всесильное черномырдинское: «А получилось как всегда». Понятно, что в сфере социального устройства сознание, которое ориентировано на восприятие костного и наезженного, приходит неизбежно к господству бюрократии и чиновника. В аспектах социального устройства это практически безальтернативный эффект. Воспроизводство бюрократии оказалось не просто расширенным, оно оказалось гипертрофированным. Засилье чиновника, я полагаю, сегодня превосходит и эпоху Александра III, и прочие эпохи. Забюрократизированная система развивает классический набор дефектов, который общеизвестен. Главный из дефектов - это гиперкоррупция и негативный отбор. Масштабы этих явлений сегодня также превзошли и имперские, и советские показатели. Это вторая черта, если угодно.
Третья черта, доминирующий тренд — это черномырдинское «как всегда», тренд инертности, косности, — он определяет формирование и национальной идентичности, и системы ценностей. Вдобавок очень активно осуществляется манипулирование массовым сознанием. Направляемое активно работающими системами манипулирования, да и само тяготеющее к привычному, постсоветское сознание пытается найти и осмыслить себя, обрести идентичность в системе установок, в сетке координат, ориентированной на инертный порядок, образца императора Александра III, с некоторыми сюда добавляемыми подкреплениями. Скажем, эффективно используются некоторые элементы доктрин николаевского времени и, прежде всего, знаменитый трехчлен графа Уварова: «православие – самодержавие- народность». Сознание, прибывающее в такой истощенной фазе, пытается обеспечить поддержку своего духа с помощью антуража имперских мифологем, идиологем и просто фантазий. Но что за этим стоит? На проверку оно приближается не столько к позднему имперскому консерватизму, сколько к другой промежуточной более поздней вариации — к постсоветскому застою. Не к Александру III, а к Брежневу. Это опять-таки сформулировал мудрец Черномырдин в другом афоризме: «Какую партию ни строй, а все равно получается КПСС», — а император Александр III остается при всех его качествах на недосягаемой высоте.
Далее. Этот поздний имперский антураж заведомо не способен обеспечить полной ориентации в современном мире. Он не может заполнить всех измерений мира личностей, пусть это даже приемлется, проглатывается, работает, но полноты ориентации, полномерности измерения этот антураж обеспечить не может, вакуум и дезориентация во многом еще сохраняется. И, пожалуй, главным локусом дезориентации остается сфера этики, исчезновение базовой этической модели. Сегодня здесь уже накопилась весьма тяжелая и опасная предыстория, целая история деэтицизации российского сознания. Сначала, как мы помним, взамен христианско–православной этики пришли и насильственно внедрялись коммунистические эксперименты в сфере этики — бездарные,
но поддерживаемые (для внедрения их в сознание) императивом террора. В качестве реакции они порождали недоверие и цинизм в отношении к этике как таковой. Затем коммунистическая этика, в которой во всех ее вариантах были отдельные зерна «революционного аскетизма», альтруизма, но и она в некий момент резко исчезла. И по принципу противоположности в пору «ельцинщины» на том месте, где у общества бывает этика, разверзлась выгребная яма – беспредел, когда в списке самых интересных и стоящих на высоких местах занятий человека утвердились занятия киллера, бандита и проститутки. Любопытно, что при этом продолжал работать большой зал консерватории, этому сознанию интересны были декабрьские вечера в музее изящных искусств и т.д. И когда в ту пору я в одном интервью довольно сдержанно отметил наличие этого беспредела, то в следующем номере журнала была опубликована статья, где утверждалось, что этика в нашем обществе есть и что Хоружий здесь явно преувеличивает. На мой взгляд, если говорить в объективных, нейтральных терминах, в терминах диагноза и симптомов, это свидетельствует об очень определенной вещи: что сознание характеризуется, по крайней мере в этих его измерениях, абсолютной разорванностью и невменяемостью. Сегодня этот беспредел как бы отвергнут. Но что дальше появится на том месте, где бывает этика, и когда сознание вновь станет этически вменяемым, я предсказать не берусь. Это четвертая черточка.
И самое последнее, что я бы отметил. Как имперские игры, так и этические лакуны располагаются в верхних пластах сознания — в тех, которые так или иначе освещаются рефлексией. А как психологам известно, глубже этих слоев лежит еще очень многое, что не обсудишь и за полторы лекции. Из глубже залегающих содержаний упомяну только один единственный, но, как я полагаю, важный фактор. Глубже в сознании лежит пласт пережитков, понимаемых в том смысле, который этот термин (пережиток) имеет как концепт этической антропологии. Это опыт прошлого и особенно травматического прошлого. Есть разные виды и пути формирования пережитков, но одно существенно — это опыт травматического прошлого, отложившийся в коллективной памяти в форме смутных, мифологизированных мистифицированных, трансвестированных содержаний, где не только нельзя отличить истину от лжи, но где и само это различение не действует. Как известно, этот глубинный коллективный опыт очень стоек и влиятелен. Он может проявляться во всем, что характерно для глубинных проявлений. Мы не можем сказать, где пережитки способны проявиться, а где нет. В любых структурах поведения и сознания они могут вылезти на свет. А это значит, что поскольку постсоветское сознание живет в пережитках тоталитаризма, то каждый из нас каждый день независимо от своих желаний и убеждений, платит дань партии, ее ленинскому ЦК и товарищу Сталину лично. Что делать? Пережитки, прежде всего, требуют идентификации, они требуют оценки, требуют очищающей проработки, иначе они над нами сохраняют власть и могут привести к любым следствиям, из которых сегодня самое невинное — это признание Сталина величайшим лицом России. Будущее весьма зависит от судьбы этого пласта пережитков.
И, пожалуй, эти пять особенностей нам как-то нечто очерчивают. Существенно еще сказать, что сегодня в стратегию власти входит блокирование именно работы по идентификации и оценке пережитков. Осмысление тоталитарного опыта, разумеется, не запрещается, однако эффективно блокируется всеми средствами обработки сознания. Делается так, чтобы эта работа предстала для самого сознания неправильной линией, ненужной, вредной. Вместо этого, внедряются установки виртуализации истории, что происходило бы и без сознательных стратегий власти. Мы находимся в поле глобальных процессов, а глобальный антропологический процесс как раз и заключается в том, что я называю вхождением в виртуальную топику. Но виртуализацию можно в конкретной обстановке повернуть на службу по блокированию прорабатывающей и очищающей работы сознания. Вот также я нашел цитату-формулу механизма происходящей блокировки: «Следует создать у граждан счастливое забвение прошлого», — это цитата. Однако известно, что утрата сознанием качества историчности, утрата самосознания себя
в истории ведет к утрате ответственности, исторической ответственности, а затем и не только исторической. А в свою очередь утрата ответственности ведет к утрате способности самосоотнесения, к утрате идентичности. И мы снова оказываемся на скользком пути к перерождению. Новые эксперименты с уже изуродованной до невероятия российской идентичностью — это уже действительно постчеловеческие тренды. Те, кто сегодня манипулируют нашим сознанием, плохо себе представляют на какой стадии утраты всего мы уже находимся, и с чем они играют. Так выстраивается российская реальность глобального тренда виртуализации. А кроме того, этот тренд включает в себя и действительный постчеловеческий сценарий, сценарий утраты видовой идентичности, осуществления видовой эвтаназии, и так далее. На этом беглую характеристику постсоветского сознания можно закончить.
В качестве общего резюме произнесу два слова. В качестве главного вывода, суммирующего все вышесказанное, напрашивается одна гипотеза — гипотеза об иссякании жизненного и творческого ресурса культурно–цивилизационного организма. Действительно, если под этим углом взглянуть на содержание лекции, то оказывается, что об этом мы и говорили. Глобальный взгляд на нашу дескрипцию эволюции говорит, что если до революционного припадка ход эволюцией рисовался амбивалентным сочетанием обретений и утрат, творческих трендов и разрушительных трендов, то после припадка этот ход рисуется более однозначно. Как проживание, а лучше сказать «проматывание», накопленного капитала, постепенное вырабатывание ресурса, убывание формостроительной энергетики. Если посмотреть на постсоветскую эпоху под этим углом зрения, то можно увидеть три особенности. Во-первых, произошло достаточно неожиданное банкротство альтернативных сил, не советских сил, не сил советской природы. Таких сил, какими были революционные силы по отношению к силам имперским порядка, не оказалось — то есть инородных сил по отношению к советскому порядку. До ухода советского режима твердо предполагалось, и я об этом говорил, что эти силы есть, и они значительны, что в случае приходы свободы они будут создавать основы постсоветской России. Но на поверку их не оказалось вовсе. Они ничего не создали. В итоге сегодня мы имеем однополярную Россию. Альтернативы нет. Нет двухстороннего партнерства власти и общества. Оно может быть конфронтационным, но не обязательно, может таковым не быть, но оно должно быть полноценным партнерством. Вместо этого единственным действующим лицом сейчас является власть. А другого полноценного полюса нет. Есть власть и ее челядь, власть и ее дворня. Причем чем далее, тем власть становится все более знакомого постсоветского типа, хотя она может презентовать себя как власть образца Александра III.
Далее. Как уже было сказано, стратегия, которую мы взялись осуществлять, носит характер возвращения. То есть она носит вторичный, нетворческий характер. Она не столько строится в осмысленном выборе социо-культурного организма, сколько нащупывается этим организмом, складывается инстинктивно, по принципу исторической косности. Так исторически истощенный, больной организм, инстинктивно нащупывает самое инертное и самое спокойное положение.
И, наконец, третье. В течение всего постсоветского периода (и это очевидно, лежит на поверхности) существование культурно–цивилизационного организма не выдвинуло, не породило никаких масштабных фигур, которые были бы вровень со стоящими историческими процессами и задачами, на их уровне. Причем я бы сказал, таких фигур явно нет. И даже если они были бы, то это не те, которые называются великими фигурами. Великие фигуры это не те, кто стоит вровень, а те, кто выше текущих процессов и задач. О таких фигурах и говорить не приходится, нет тех, которые вровень. Исторический момент, ситуация исторического перепутья, ситуация исторического выбора для России безусловно создает запрос на такие фигуры. Но запрос не удовлетворяется. И вот уже два десятилетия, что является значительным периодом, фантастически длинным периодом для
переломных моментов истории, историко–культурный организм попросту не производит, не порождает таких фигур.
Вот из всех этих особенностей, а их легко продолжить, возникает наша гипотеза. Историко–культурный субъект России перестает быть порождающей стихией, порождающим лоном, наступает иссякание ресурса исторического творчества.
И можно просто кратко в заключение напомнить: то, что мы описываем, такой механизм, это не есть что-то новое и экзотическое. Это механизм, который в истории хорошо известен. Процессы, которые можно характеризовать в нашем антропологическом ключе и которые нас больше всего интересуют, называются антропологическое измельчание. Я в своих текстах называю это «пигмеизацией». Можно заметить, что, во-первых, такому измельчанию содействует целый ряд факторов и на глобальном уровне. Пресловутая виртуализация, она не только в России, но и во всем мире работает на «пигмеизацию» в мировом масштабе. Во внутрироссийском масштабе на эту «пигмеизацию» работает известная стратегия, которую сегодня в СМИ часто называют «дебилизацией национального сознания». В частности, одна из основных линий этой «дебилизации» — выработка такого отношения к истории, которое можно охарактеризовать как счастливое забвение прошлого, отъятие истории. Подобные процессы в истории уже возникали и были очень хорошо описаны. Можно провести исторические параллели между судьбой российского организма и судьбой классических культур прошлого. Никакой особой доказательности в таких параллелях не может быть, здесь начинается достаточно безответственный разговор. Но в порядке чистой иллюстративности и материала для размышления можно вспомнить общеизвестные сопоставления Древней Греции и современной Греции, Древнего Рима и современной Италии. И можно задаться вопросом, нельзя ли поставить в этот ряд Россию XIX века и Россию XXI века? Нельзя ли считать, что во всех этих случаях происходит эволюция с утратой определенного качества исторического бытия, с утратой импульса исторического творчества и лидерства? Если что–то наподобие такого механизма существует, и если об этом можно говорить корректно, то мы можем тогда сказать, что современная Греция — это своего рода пост-Греция, а формирующаяся Россия XXI века — это пост-Россия. В рамках такой гипотезы и «новые русские» — это первые пост-русские, первые образчики пигмеизированного русского человека. Но это уже следует понимать как вольную фантазию.
В завершении необходимо сказать, что если подобная тенденция действительно существует, то по самой природе духовных процессов (а в этих процессах не устранимо духовное измерение) заведомо возможным остается и преодоление этой тенденции. Такой сценарий закрытым принципиально быть не может. И в нашем случае пример, прообраз сходного преодоления в отечественной истории налицо. Это и есть русский синтез, когда из лоскутной культуры XVIII века русский синтез притворил ее в культуру Золотого века России. В этом смысле можно сказать, что конструктивная задача есть и в этих условиях, и такой задачей снова является русский синтез. Хотя, сегодня он более проблематичен. На этом я бы закончил.
Б.С. Братусь: Спасибо, Сергей Сергеевич. Мне остается констатировать произошедшее событие. Я веду семинары разного масштаба, не знаю сколько уже лет, 15 или 20 лет. Но впервые вижу, чтобы человек — как Сергей Сергеевич — с тихим голосом удерживал 5 академических часов аудиторию, в которой есть студенты. Это некое особое выдающееся событие, мистические корни которого мы, наверное, должны искать.
notes
1
Этот текст, ранее не публиковавшийся по-русски, написан в конце 1995 г., когда руководители Российско-Французского Общества имени Владимира Соловьева решили собрать и опубликовать для западных читателей ряд откликов православных России на выпущенные недавно тогда энциклики папы Иоанна Павла II-го «Orientale Lumen» и «Ut Unum Sint». Небольшой сборник «L’Unité» (Eds. Universitaires Fribourg, Suisse, 1996) включал написанные специально для него и переведенные на французский язык статьи С.С.Аверинцева, В.В. Бибихина, С.С. Хоружего, О.А. Седаковой, Вл. Зелинского, а также, с католической стороны, проф. П. де Лобье и о. Бернарда Дюпира. В 2001 г. этот сборник, в переводе на итальянский язык, был опубликован также в Италии. Русские тексты статей В.В. Бибихина и О.А. Седаковой были опубликованы ими в альманахе «Наше положение» (М., 2000).
1
V.L.Wimbush, R.Valantasis. Introduction. // Asceticism. Oxford University Press.1995.P.XXXI.
2
См., в основном, предыдущую статью, "Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности".
3
С.С.Хоружий. К феноменологии аскезы. М.1998.
4
"Йога-сутры" Патанджали. Сутра I.35 // Классическая йога. М.1992.С.103. Формулировки комментаторов: Е.П.Островская, В.И.Рудой. Реконструкция системы. Цит.изд.С.25.
5
Сутра III.3. Цит.изд.С.147-148.
6
Сутра III.36. Там же. С.169.
7
Сутра III.38. Там же.С.170.
8
Е.П.Островская, В.И.Рудой. Цит.соч.С.60.
9
Там же. Отметим попутно, что упомянутое здесь соотнесение (гомология) системы перцептивных модальностей человека с устроением космоса – частый мотив и в духовных практиках и, еще более, в эзотерических и оккультных учениях, в русской мысли находимый, в частности, у Флоренского.
10
Venerable Vappo Thera. The Mahabodhi // The Journal of the Mahabodhi Society of India. 1979, vol.87, No 1-3, p.5.
11
Б.Д.Дандарон. Мысли буддиста. Черная тетрадь. СПб.1997.С.131.
12
Там же.
13
Там же. С.132,134.
14
А.Г.Фесюн. Психологические аспекты учения Кукая // Психологические аспекты буддизма. Новосибирск.1991.С.85.
15
H. von Guenther. Buddhist Philosophy in Theory and Practice. Penguin Books. 1972.P.153.
16
Хридая-сутра. Пер.С.Ю.Лепехова // Психологические аспекты буддизма. Новосибирск.1991.С.98-99.
17
Алмазная праджня-парамита сутра. Пер.Е.А.Торчинова // Психологические аспекты буддизма.С.113.
18
Сэкида Кацуки. Практика Дзэна // Дзэн-буддизм. Бишкек.1993.С.638. Здесь выражена крайняя позиция, и Судзуки, еще более авторитетный учитель, несколько корректирует ее: "Люди, не понимающие всей глубины учения Будды, принимают его за некую этическую культуру, и ничего более. Они считают, что буддизм - это философия позитивизма... Но такие представления не совсем соответствуют учению Будды" (Д.Т.Судзуки. Основы Дзэн-буддизма // Дзэн-буддизм.С.107.). Тем не менее, и Судзуки пишет: "Дзэн появляется только тогда, когда умствование Махаяна буддизма сводится к реальным фактам жизни и становится непосредственным выражением внутренней жизни человека"(Там же.С.112.). Поправка, в итоге, мало принципиальна.
19
Д.Т.Судзуки. Цит.соч.С.166.
20
Сэкида Кацуки. Цит.соч.С.521.
21
Там же.С.631.
22
Там же.С.645, 665.
23
В.В.Малявин. Совершенный человек в даосской традиции // Совершенный человек. Теология и философия образа. М.1997.С.157.
24
Чжуан-цзы. Ле-цзы. Пер.В.В.Малявина. М.1995.С.74-75.
25
Там же.С.80.
26
Там же.С.300.(Курсив наш: мы отметили четкое указание на антропологическую границу).
27
В.В.Малявин. Цит.соч.С.155.
28
См. С.С.Хоружий. К феноменологии аскезы. М.1998.
29
Сутра III.3. Цит.изд.С.147-148.
30
Дж.Нурбахш. Психология суфизма. М.1996.С.136. (Автор, д-р Джавад Нурбахш - профессор психиатрии и глава суфийского ордена Ниматуллахи.)
31
См. "Аналитический словарь исихастской антропологии" в кн. С.С.Хоружий. К феноменологии аскезы. М.1998.
32
Дж.Нурбахш. Цит. соч. С.118.
33
Там же.С.118-119.
34
Фахр-ад-Дин Али б.Хусайн Кашифи Ваиз. Капли из источника вечной жизни. Цит.по: А.А.Хисматулин. Суфийская ритуальная практика. СПб.1996.С.66.
35
Дж.Нурбахш. Цит.соч.С.112.
36
Там же.С.135.
37
Там же.С.112.
38
Ал-Кушайри. Азбука мистического пути. Пер.А.Д.Кныша //Ступени (Санкт-Петербург).1992.Вып.2(5).С.131.
39
А.Д.Кныш. Примечания. Там же.С.137.
40
Дж.Нурбахш. Цит.соч.С.139.
41
А.Д.Кныш. Фана // Ислам. Энциклопедический словарь.М.1991.С.252.
42
Kак мы увидим, в исихастском опыте красноватый свет ассоциируется с явлениями ложного опыта - наваждения, прелести.
43
Дж.Нурбахш. Цит.соч.С.132-133.
44
Встречаются и более детальные подразделения, как напр., схема "четырех путешествий": "Суфии различают четыре путешествия. Первым из них является достижение состояния, называемого "фана", что иногда переводят как "уничтожение"... Достигнув состояния "фана", суфий начинает Второе Путешествие... Это стадия "бака" (постоянство). Сейчас он уже учитель ... Во время Третьего Путешествия такой учитель становится духовным руководителем каждого из людей... Он работает на многих уровнях... Во время Четвертого и последнего Путешествия Совершенный Человек руководит перемещением других на состояние, которое обычно считается физической смертью, на следующую стадию развития, невидимую для обычного человека" (Идрис Шах. Суфизм.М.1994.С.339.). Тут, впрочем, стоит оговорить, что тексты данного автора, как общепризнано, содержат крупную долю субъективных фантазий.
45
Ал-Кушайри. Цит.соч.С.131-132.
46
О.Ф.Акимушкин. Зикр // Ислам. Энциклопедический словарь.С.77.
47
Там же.
48
См. С.С.Хоружий. К феноменологии аскезы. М.1998.
49
А.А.Хисматулин. Суфийская ритуальная практика.С.75.
50
К этому пункту можно сделать два замечания. Во-первых, термин "тренинг" не вполне адекватен, ибо по своей семантике обозначает скорей подготовительную, служебно-техническую деятельность: тренинг не самоценен, но совершается ради применения его результатов в некой иной деятельности, которая есть истинная самореализация человека. Разумеется, этой служебности нет и не может быть в "онтологическом аутотренинге", и в свете сказанного, само сочетание "онтологический тренинг" есть, строго говоря, contradictio in adjecto. Тем не менее, мы прибегли к этому термину как хорошо передающему необходимые в "практике" моменты навыка и метода. - Во-вторых, можно провести структурную параллель с процессом в токамаке, осуществлением управляемой термоядерной реакции в камере с магнитными стенками. В обоих случаях налицо те же две компоненты процесса: искомое - "трансцендирование", достигаемое путем кумулятивного фокусирования энергии; необходимое условие искомого - создание и энергийное (а не вещественно-эссенциальное) хранение-ограждение особого процессуального пространства: "магнитные стенки" в токамаке, стража внимания - в "практике", Параллель, конечно, чисто формальна и не должна выводиться за пределы общих элементов структуры.
51
Ср.напр., об Элевсиниях: "Мисты не оставались безучастными зрителями того, что совершали жрецы... Они издавали стоны, представляя этим Димитру, горюющую о потере своей дочери ... пляской представляли, как Димитра искала свою дочь, etc.etc." (Н.И.Новосадский. Елевсинские мистерии.СПб.1887.С.129.)
52
V.D.Marchioro. From Orpheus to Paul. A History of Orphism. Lnd.1930.P.132.
53
Ямвлих. О египетских мистериях. Пер.Л.Ю.Лукомского. М.1995.С.90-91. (Курсив наш). Заметим, что тут все же есть наводящее указание: духовные чувства как-то ставят физические себе на службу. Точно то же соответствие найдем позднее у Паламы (см.ниже).
54
Новосадский Н.И.. Цит. соч. С.97.
55
Там же. С.99.
56
Там же. С.97.
57
Там же. С.128.
58
Св.Григорий Богослов. Слово 4 (Слово Первое обличительное на царя Юлиана). // Творения.Т.1. СПб.Б.г.С.85.
59
См.V.D.Marchioro. Loc.cit.P.58.
60
Ф.Ф.Зелинский. Древнегреческая религия. СПб.1918.С.62.
61
V.D.Marchioro. Loc.cit.P.132.
62
Ямвлих. Цит.соч.С.189.
63
Нити орфических влияний многочисленны и запутаны, но на одно из первых мест ставят всегда связь с христианством: "Развитие орфизма представляется с древнейшей поры водосклоном, по которому все потоки бегут во вселенское вместилище христианства" (Вяч.Иванов. Дионис и прадионисийство. Баку.1923.С.181). Стоит поэтому уточнить, что мы затронули здесь иную нить, ведущую в противоположном направлении: говоря очень упрощенно, христианству были созвучны у орфиков темы бессмертия и пакирождения, преодоления здешнего бытия; тогда как неоплатонизм, наряду с этим, воспринял и заострил другой мотив, утверждение чисто спиритуалистического пути этого преодоления.
64
Плотин. Эннеады. VI.9,3. СПб.1995.С.279.
65
Там же. VI.7,36.C.236.
66
Там же. I.1,7.C.586. Как видно отсюда, у Плотина, в отличие от нашего современника Фуко, отрицание единой "природы человека" не становится антиантропологизмом.
67
Как и относился Плотин, по заверениям Пьера Адо, - хотя знаменитая фраза "Плотин стыдился, что у него есть тело", открывающая "Жизнь Плотина" Порфирия, как и другие биографические свидетельства, содержат все же слышимую ноту гнушения.
68
Заметим в этой связи, что установку чисто платонического дискурса, затем проходящую во многих учениях европейской философии, можно, вслед за П. Адо, полагать соответствующей парадигме "духовных упражнений" (см. P.Hadot. Exercices spirituels et philosophie antique. Paris 1981.). Данную парадигму следует отличать от нашей парадигмы "духовной практики", и соотношение их разбирается нами в другом тексте.
69
Плотин. Эннеады. III.2,16. Цит.изд.С.579.
70
Там же. I.1,7.C.586.
71
Заметим, что Ямвлих, цитированный выше, погрешает против чистоты Плотинова интеллектуализма, допуская в созерцаниях "помощь телесных чувств".
72
Там же. VI.7,7. C.198.
73
Там же. V.5,7. C.105-106.
74
Там же. С.106.
75
Там же. VI.9,11.C.291.
76
Там же. VI.9,10. C.291.
77
Эннеады. V.5,8. Цит.по: П.Адо. Плотин, или простота взгляда. М.1991.С.66.
78
См.напр.: F.M.Schroeder. Form and Transformation. A Study in the Philosophy of Plotinus. McGill-Queen's University Press.1992.
79
Плотин. Эннеады.V.5,8. Цит.изд.C.124.
80
Наш термин отсылает к известной световой конструкции (см.напр.V.8,9) умопостигаемой реальности как "прозрачного шара" или "светового шара", представляя который надо, однако, "уничтожить его массу, отбросить пространственные определения и представления о материи".
81
Там же. VI.9,9.C.290. Предикат прозрачности - глубокий, существенный аспект "высшего духовного состояния", и его обретение - сквозная тема парадигмы духовной практики. В разных традициях и дискурсах прозрачность (или ее коррелаты) возникает как одна из ключевых характеристик совершенной встречи, соединения без слияния: "В прозрачном как приемнике (receptacle) не уничтожается радикальное различие двух сущностей" (A. Vasiliu. Du diaphane. Image, milieu, lumi\`ere dans la pens\'ee antique et m\'edi\'evale. Paris 1997.P.106.). О родстве данного понятия с идеей перихорисиса и других близких нашей теме свойствах см. в этом же исследовании А.Василиу.
82
Там же. VI.9,11.C.292. (С изменениями, использующими пер.А.Ф.Лосева, см.: История античной эстетики. Поздний эллинизм. М.1980.С.554.)
83
См.напр.: F.M.Schroeder. Form and Transformation. A Study in the Philosophy of Plotinus. McGill-Queen's University Press.1992.
84
Термин, впрочем, имеет и другие, не связанные со светосферой значения - напр., в I.1,9 он обозначает осознание чувственных ощущений рассудком.
85
Там же. V.3,13.C.87.
86
П.Адо. Плотин, или простота взгляда. М.1991.С.67.
87
Плотин. Эннеады. V.4,2. Цит.изд.C.95.
88
Там же. VI.8,15.C.266.
89
Хотя термин "общение" нередок в рус.переводах Плотиновых текстов о "высшем духовном состоянии", в оригинале всегда - лишь термины из обсуждавшегося семантического гнезда, утверждающие соприсутствие и т.п., но никогда -действительное взаимное общение. Так, в VI.9,9 Г.В.Малеванский передает через "общение", но более искушенный А.Ф.Лосев избегает последнего (см.цит.изд., с.290,472).
90
Там же. VI.8,16.C.268.
91
Преп.Феофан Затворник // Умное делание о молитве Иисусовой. Сборник поучений св.Отцов и опытных ее делателей. Составил игумен Валаамского монастыря Харитон. Изд.3.М.1992.С.132.
92
Плотин. Эннеады.VI.9,9. Цит.изд.С.290.
93
Добротолюбие. Т.2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра.1992.С.207. Новый перевод трактата см.: Творения аввы Евагрия. Пер., вступит. ст., комм. А.И. Сидорова.М.1994. Для наших целей мы предпочитаем, однако, использовать прежний перевод, принадлежащий св. Феофану Затворнику, крупнейшему из учителей русского исихазма.
94
Понятно, что такие закономерности весьма интересны и важны для искусства, и в нашем веке их глубоко изучал Эйзенштейн, который называл работу внутреннего восприятия чувственным мышлением. Их также изучал Дж.Джойс, используя в своей прозе их особенности и взаимосвязи; эту эксплуатацию внутренних чувств в искусстве прозы мы анализируем в книге: С.С.Хоружий. "Улисс" в русском зеркале.М.1994.
95
Духовные беседы 28,5. // Св.Макарий Египетский. Духовные беседы, послание и слова. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1904.С.223.
96
Св.Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих. Пер. В.Вениаминова [В.В.Бибихина].М.1995.
97
Плотин. Эннеады. VI.9,11. Цит.изд.C.292. Отсутствие взаимного противоречия двух сторон обеспечивается эссенциально-энергийным характером Плотиновой онтологии. Пребывание души в самой себе, ее обращение в "нечто, столь же высшее, как и Бог", по Плотину, непостоянны. Душа, ум ниспадают из светосферы и вновь достигают ее - т.е. их соединение с нею носит энергийный характер. Но в неоплатонизме энергия равносильна сущности, и энергийная божественность ума - полная и истинная божественность. Сопоставление этой эссенциально-энергийной концепции с православным энергийным, но не эссенциальным обожением - сложный, еще мало изученный богословский вопрос.
98
Св.Григорий Палама. Цит.соч. I.3,37.C.99. (Палама здесь, в свою очередь, цитирует св. Максима Исповедника).
99
Архимандрит Софроний (Сахаров). О молитве. СПб.1994.С.101.
100
Духовные беседы 18,10. Цит.изд.С.162.
101
Св.Григорий Палама. Цит.соч. I.3,21.C.23.
102
Преп. Симеон Новый Богослов. Божественные гимны. Сергиев Посад.1917.С.162.
103
Слово о чувственном и о духовном видении духов. // Еп. Игнатий Брянчанинов. Слово о смерти.М.1991.С.23.
104
Слово о молитве, гл.73. Цит.изд.С.216.
105
Евагрий Монах. Наставления о деятельной жизни. Добротолюбие.Т.1.С.630.
106
Хоружий С.С. К феноменологии аскезы. М.1998.
107
Евагрий Понтийский. Слово о молитве. Цит.изд.С.229. Заметим, что данный текст заодно отлично показывает существо "проблемы Евагрия" в православной аскетике. Здесь первая часть - явный оригенизм и неоплатонизм, но в то же время, ядро текста - глубокий и ценный образ, что вполне чужд неоплатонизму и привлечен нами именно для размежевания с ним.
108
Св.Макарий Великий. Наставления о христианской жизни. Добротолюбие. Т.1.С.274.
1
Кулик Олег Борисович. Современный художник. Родился в Киеве в 1961 году. Живет и работает в Москве. Работы — в коллекции Государственного музея-заповедника Царицыно (Москва), коллекции Европейского торгового банка (Москва). Является стипендиатом Берлинского Сената (1996). Представлял свое творчество на "Манифеста I" в Роттердаме, Голландия (1996), Венецианских биеннале (1997, 2001), на биеннале в Стамбуле, Турция (1997), Цетинье, Монтенегро (1997), Сан-Паулу, Бразилия (1998) и в Валенсии, Испания (2001); в Modern Museum, Стокгольм ("После стены", 1999), the Tate Modern (2000), the Lehmbruck Museum, Дуйсбург (2002) и в Freud Museum London ("Русский пациент", 2002). Его персональные выставки и мероприятия проходили на главных площадках современного искусства в Москве (Галерея М. Гельмана, Галерея XL, TV Галерея, "Риджина"), Deitch Projects, Нью-Йорк ("Я кусаю Америку, а Америка кусает меня"), Galerie Rabouan-Moussion, Париж (1998), Zamek Ujazdowski, Варшава (2000), и в S.M.A.K., Gent ("Вглубь России", 2001). Автор многих экспозиционных проектов, художественных акций и перформансов.
2
Сосланд Александр Иосифович, кандидат психологических наук, доцент Московского психолого-педагогического университета, психотерапевт.
3
Колесников Иван Владимирович. Современный художник. Родился в 1954 году в Ростове-на-Дону. С 1977 года живет и работает в Москве. Работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, собрании Министерства культуры Российской Федерации. Участник многих выставок в Москве, Гамбурге (1989, "Kunst und kosmos"), Девентере, Голландия (1990, "Ganze-art-90"), Мадриде (1990, "Madrid-90"), Буэнос-Айресе (1990, "Perestroika"), Милане (1991, "Пройденные пути"), Палм-Спрингсе, США (1993, "Четверо из России"), Оклахоме Сити, США (1994, "New Russian art") и др. Представлял свои работы на персональных выставках в Москве.
4
Мартынова Алёна. Родилась в Бессарабии в 1966. С 1988 живет и работает в Москве. Работала в театрах в Кишиневе и Ярославле, на студии мультипликационных фильмов. Участник выставок в Москве, Лондоне и др. Несколько персональных выставок в Москве и на Украине. С 1994 — член Международной ассоциации молодых художников и искусствоведов. Работы — в картинной галерее в Измаиле (Украина) в Ярославском художественном фонде (Ярославль, Россия) а также в ряде частных коллекций в Англии, Германии, Франции, Португалии, Канаде, Югославии, Швейцарии, Америке и России.
5
Осмоловский Анатолий Феликсович. Современный художник, куратор. Родился в Москве в 1969. Работы — в коллекции Государственного музея-заповедника Царицыно (Москва), Krings-Ernst Galerie (Кельн, Германия). Участник многих выставок в Москве, в Риме («Multiplicity Culture», 1992), Стамбуле (4th International Biennial, 1992), Милане (Territoria Italiano, 1992), в Туре, Франция ("Trio acoustico", 1993), Венеции ("Aperto`93". XLV Veniece Biennale, 1993), Аахане, Германия ("Fluchtpunkt Moskau", 1994), Нидерландах ("Exchange II/Datsja", 1994), Кельне, Германия (International Art Fair Regina Gallery, 1994), Копенгагене ("No Man`s Land", 1995), Мюнхене ("Konjugation", 1995), в Пескаре, Италия ("Caravanseray of contemporary art", 1995), Киеве, Украина ("Kyiv Art Meeting", 1995) и др. Ряд персональных выставок в Москве. Участник акций и перформансов, куратор ряда художественных проектов в Москве и Минске (Беларуссия).
6
Петровская Елена Владимировна, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук (сектор аналитической антропологии).
7
Аронсон Олег Владимирович, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета.
8
Гутов Дмитрий Геннадьевич. Современный художник. Родился в Москве в 1960. Работы — в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), в коллекции Государственного музея заповедника Царицыно (Москва). Ряд персональных выставок в художественных галереях Москвы. Участник многих выставок в Москве, в Стамбуле, (3rd International Istanbul Biennale, 1992), во Франции ("Trio acoustico" (Osmolovski, Gutoff, Lejderman). Centre de Creation Cont., 1993), в Бангоре (Великобритания) ("Displacement and Change", 1994), в Цетине (Cetinjski Bienale II, Черногория, 1994), участник нескольких выставок в Германии (1995), в Венеции ("XLVI La Biennale di Venezia", 1995), в Риге (Латвия) ("Monument", 1995), в Стокгольме ("Интерпол", 1996), в Роттердаме (Pan European Art Manifestation "Manifesta", 1996) и др.
9
Литичевский Георгий Семенович. Современный художник. Родился в Днепропетровске в 1956. С 1993 — член редакционного совета журнала "Художественная жизнь", член Московского союза художников. Работы находятся в коллекции Государственного музея-заповедника Царицыно (Москва) и в частных коллекциях России, Бельгии, Швейцарии, Италии, Франции, Германии. Ряд персональных выставок в России, Германии, Нидерландах. Участник многих выставок в Москве, в Эйндховене, Нидерланды ("Hermitage in Holland", 1988), Берне, Швейцария ("Ich lebe — ich sehe", 1988), во Франции ("Dialogue", 1988), Риме, Италия ("Mosca — Terza Roma", 1988), Великобритании ("Transformation: The Legacy of Authority", Миддлбург, Лондон и др. 1988); 1989-94 "Картины для неба" (выставка воздушных змеев) в Осаке, Париже, Москве, Берлине, Риме, Лондоне, Монреале, Сиднее, Касселе, в Штутгаpте ("Aufbruch". 1990), в Анжере, Франция ("Moscou-Leningrad-Tbilisi", 1991), Сан-Фpанциско, США "Пеpесекая гpаницы", 1991), в Милане ("Milano-poesia", 1991), в Риме ("Многообpазные культуpы", 1992), Стамбуле (III Междунаpодная биеннале совpеменного искусства, 1992), в Болонье ("a Mosca… a Mosca…", 1992), Хельстнки ("Идентичность", 1993), Мюнхене ("Европа-94", 1994), в Нидерландах ("Exchange II/Datsja", 1994), в Бахчисарае, Крым ("Сухая вода", 1995), Ереване, Армения ("Москва-Ереван. Вопрос ковчега", 1995), в Мюнхене ("Рисунки московской сцены", 1995), в Оклахоме Сити ("New Russian Art: Paintings from the Christian Keesee Collection", 1995), в Тбилиси, Грузия ("Кто я?", 1966), Цетине, Черногория (Третья биеннале современного искусства, 1997) и др. Участник художественных акций в Москве, Сан-Франциско, Милане, Тбилиси.
10
Шумов Александр Анатольевич. Историк искусств, критик, художник (живопись, графика, фотография). Родился в Москве в 1960. Живет в Цюрихе и России. Публикует статьи в различных изданиях в России и за рубежом. Автор статей в каталогах групповых и персональных выставок московских художников. Сфера профессиональных интересов — мифология и практика современного искусства. С 1991 года издает газету "Супремус". Выставки — в ряде городов Украины, в Москве, Копенгагене, Леердаме (Нидерланды), Цюрихе, Германии, Гиоре (Венгрия).
11
Штейнер Евгений Семенович, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Института синергийной антропологии, Адъюнкт-профессор Нью-Йоркского университета.
12
Калима Алексей. Современный художник. Родился в Грозном в 1969. С 2001 — куратор галереи "Франция". Живет и работает в Москве. Персональные выставки и проекты — в Грозном, Москве, во Франции (2002, 2004), Нью-Йорке (2006). Участник выставок в Ростове-на Дону (Россия), Венеции (Венецианская биеннале, 1995), нескольких выставок в Москве и других городах России, в Варшаве, Вене (2002), Загребе (2004), Брюсселе (2005), Нью-Йорке (2006).
13
Шабуров Александр. Современный художник. Родился в пос. Березовский, Свердловского р-на в 1965. Живет и работает в Екатеринбурге и Москве. Персональные выставки — в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Киеве (Украина), Лондоне (2003), Праге (2004) и др. Участник выставок в России (Москва, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и др.), Варшаве (Польша, 2002), Лондоне, Венеции, Париже — 2003, Хельсинки, Баден-Бадене, Осло — 2004 и др.
1
Анализ концепта энергии, каким он выступает в Восточнохристианском дискурсе и в синергийной антропологии, дан нами в работе «Род или недород?», вошедшей в книгу: С.С.Хоружий. О старом и новом. СПб., 2000.
2
Чаще всего эта конструкция возникала, начиная с Декарта, при анализе механизмов зрения; обзор этой оптической ее истории дается в недавней книге: М.Ямпольский. О близком (Очерки немиметического зрения). М., 2001 (Гл.2). В нашем, однако, случае «маленький человек» полномерней, ему делегируется отнюдь не только визуальная модальность, а, вообще говоря, весь репертуар человеческих реакций; он не зритель только, а восприниматель эстетического события во всех его измерениях. Несколько ближе чем «человечки» европейской эпистемологии, к этой фигуре виртуального адресата художественного акта подходит «сторож-наблюдатель», он же «евнух души» в прозе Платонова. (Он был весьма замечен и критикой, и философией – см., напр.: В.Подорога. Евнух души. Позиции чтения и мир Платонова // Параллели. М., 1991. Вып.2. С.33-81). Однако и здесь – кардинальное отличие: платоновский «сторож» наделен полнотой восприятия и фиксирования, но при этом у него принципиально отсутствуют активности оценки, отклика и общения – именно те, ради которых сооружается виртуальный восприниматель художественного акта.
3
См.: С.С.Хоружий. «Улисс» в русском зеркале. М., 1994.Эп.7.
4
См.: С.С.Хоружий. К феноменологии аскезы. М., 1998. С.108-109.
5
Жак Рансьер. Эстетическое бессознательное. СПб., 2004. С.11.
1
Рецензия на книгу А.А. Баранович-Поливановой «Оглядываясь назад». Томск: изд-во «Водолей». 2001. Воспоминания Анастасии Александровны Баранович-Поливановой посвящены памяти ее матери, Марины Казимировны Баранович, друга Б.Л.Пастернака, печатавшей рукопись романа „Доктор Живаго“.
1
Более полное изложение концепции соборности Хомякова см. в нашей работе: Алексей Хомяков и его дело // С.С.Хоружий. Опыты из русской духовной традиции. М. 2004.
2
А.С.Хомяков. О возможности русской художественной школы // Он же. Полн. собр. соч. Изд. 3. Т.1. М. 1900. С.94.
3
И.В.Киреевский. О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России // Он же. Полн. собр. соч. под ред М.О.Гершензона. Т.1. М.1911. С.205.
4
Хомяков полагал, что перевод Третьего признака прилагательным «соборный» принадлежит самим Мефодию и Кириллу, апостолам славян; однако в реальности этот перевод внедрялся лишь с XIV â., òîãäà êàê äðåâíèì ïåðåâîäîì áûëà êàëüêà «êàôîëè÷åñêèé».
5
А.С.Хомяков. Церковь одна // Он же. Полн. собр. соч. Т.2. Прага 1867. С.7.
6
Здесь можно в скобках заметить, что верность хомяковских концепций отнюдь не зависит от справедливости или несправедливости его оценок инославия, ибо образы инославия у него всего лишь конструкты, требуемые логикой рассуждения: фигуры методологических оппонентов.
7
А.С.Хомяков. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу одного послания Парижского архиепископа // Он же. Соч. в 2-х тт. Т.2. М. 1994. С.66.
8
Он же. Еще несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры. Цит. изд. С.209.
9
Там же. С.208.
10
Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Изд.3. Париж 1983. С.277.
11
Ср.: «Кровь же Церкви – взаимная молитва». Церковь одна. С.21.
12
А.С.Хомяков. Церковь одна. С.19.
13
Он же. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу одного послания Парижского архиепископа // Он же. Полн. собр. соч. Т.2. Прага 1867. С.110.
14
F.Rouleau, S.J. Ivan Kireievski et la naissance du slavophilisme. Namur 1990.Pp.245-246.
15
См.: А.С.Хомяков. Еще несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры // Он же. Полн. ñîáð. ñî÷. Ò.2. Ïðàãà 1867. Ñ.191–197.
16
V. Lossky. La notion théologique de la personne humaine // Id. A l’image et à la ressemblance de Dieu. Paris 1967. P.112.
17
Jean Zizioulas. L’être ecclésial. Ed. Labor et Fides. 1981. P.32-33. (Êóðñèâ àâòîðà).
18
Ib. P.35.
19
Ib. P.36.
20
Ib. P.38.
21
Ib. P.37.
22
Св. Григорий Палама. 150 ãëàâ. Ãëàâà 112. Crit. ed. by R.E.Sinkewicz. Toronto 1988. P.210.
23
M.Stavrou. Linéaments d’une théologie orthodoxe de la conciliarité. Communication, présentée au 11e colloque international de spiritualité orthodoxe (Bose, Italie, 14–20 septembre 2003). Supplement au SOP No 282, novembre 2003. P.6.
1
Доклад и дискуссия в рамках конференции «Антропологические матрицы ХХ века. Л.С. Выготский – П.А. Флоренский: Несостоявшийся диалог», Москва, ноябрь 2002 г.
2
Священник Павел Флоренский. Воспоминания прошлых дней // Он же. Детям моим. М., 1990. С. 66.
3
Л.С. Выготский. Мышление и речь // Собр. соч. в 6 тт. Т. 2. М., 1982. С. 115.
4
Он же. Проблема развития в структурной психологии (критическое исследование) // Цит. изд. Т. 1. С. 282.
5
Напомним, какую огромную важность придавал этому различению Хайдеггер: он утверждал, что его утрата, вызванная латинским переводом как actus, есть главный порок западной метафизики, сделавший недоступным для нее античное видение реальности.
6
С.С.Хоружий. Космос – человек – смертность. Флоренский и орфики // П.А.Флоренский: Философия, наука, техника. Л., 1989. С.12-17.
7
Мы не описываем здесь этой исихастской и паламитской парадигмы, отсылая к нашей книге «К феноменологии аскезы» (М., 1998; см. особенно с.118-120).
8
Л.С.Выготский. История развития высших психических функций // Цит. изд. Т. 3. С.118.
9
Он же. О психологических системах // Цит. изд. Т. 1. С.131.
1
См.: С.С.Хоружий. К феноменологии аскезы. М., 1998.
2
В.В.Зеньковский. Зарождение РСХД в эмиграции (Из истории русских религиозных течений в эмиграции) // Вестник РХД (Париж), № 168. 1993. С.24.
3
См. в русской литературе труды М.М.Бахтина и, в первую очередь, «К философии поступка» (издания многочисленны); в западной литературе, в качестве основных штудий можно указать: B.Casper. Das dialogische Denken. Freiburg e.a., 1967. M.Theunissen. Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart. Berlin, 1965.
1
Доклад в Научной программе Всемирной Выставки ЭКСПО-2000 (Ганновер, Германия, июнь 2000).
2
Меж тем машинный мир
желает восхвалений.
Зри, вот машина!
Как ярится, мчась,
Как нас уродует, ничтожит ее власть.
Однако и на то у ней от нас есть сила,
Чтоб, мирно двигаясь, послушно нам служила.
Р.М.Рильке. Сонеты к Орфею. I, XVIII. (Пер. наш – С.Х.)
3
Григорий Нисский. Об устроении человека. СПб.,1996.С.50
4
Э.Ласло. Век бифуркации. Постижение меняющегося мира // Путь (Москва) 1995,№ 7.С.97.
5
См. С.С.Хоружий. К антропологической модели Третьего Тысячелетия // Вестник РГНФ. 1999, №3.
6
См. Хоружий С.С. К антропологической модели третьего тысячелетия.
7
Х.Бек. Сущность техники //Философия техники в ФРГ . М.1989.С.180.
8
Х.Закссе. Антропология техники. Цит. изд. С.424.
9
См.: С.С.Хоружий. К феноменологии аскезы. М.1998.
10
С.С.Хоружий. О старом и новом. СПб., 2000.
11
Стоит заметить, что здесь идеи глобальной динамики обожения в известной мере перекликаются с антропологическими и космическими утопиями русского авангарда 20-х годов. Сходная перекличка происходила уже тогда, в позднем творчестве Флоренского, в котором намечалась христианская глобальная модель (модель “пневматосферы”), строившаяся им, однако, не в парадигме обожения, а в парадигме освящения, сакрализации. Об отношении этих двух парадигм православной религиозности см. в книге Хоружий С.С. К феноменологии аскезы. М., 1998.
12
См., например, Хоружий С.С. К феноменологии аскезы.
1
З.Г.Самодурова. Школы и образование . // Культура Византии Т. 2. М.1989. С.366,381.
1
Тезисы доклада на пленарном заседании православно-католической консультации по теме «Антропологические и этические основания церковного учения об общественном устройстве, правах человека и достоинстве личности» (14-15 июня 2007 г., Москва)
1
Доклад на конференции «Русская философия сегодня» (Мюльхайм, Германия, март 1995 г.)
2
Поскольку данная область имеет и собственные, внутренние установки и правила своего истолкования, то возникает особая проблематика их совместимости и соотнесения с философским подходом. Но в силу наличия общей исходной почвы, почвы определенных опытных реальностей, вопросы здесь выливаются не в конфронтацию двух догматик, а в соотношение двух феноменологий, религиозной и философской, оказываясь конструктивны и плодотворны (см.нашу книгу «К феноменологии аскезы»).
3
Гадамер Г.-Г. Введение к «Истоку художественного творения»// М.Хайдеггер. Работы и размышления разных лет. Пер. А.В. Михайлова. М.1993. С.118.
4
Розанов В.В. Среди художников. М.1994. С.187
5
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.1994. С.362.
6
Там же.
7
Бальтазар Х.У. фон. О простоте христиан // Символ 1993, вып.29. С.63.
8
Более основательный, не столь формальный анализ строения триады см.ниже в статье «Род или недород?».
9
Шелер М. Философское мировоззрение.// Избр.произв. М.1994 С.11.
10
Heidegger M. Sein und Zeit. Max Nimeyer Verl. Tubingen 1967. S.257.
11
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат.// Философские работы. Ч.I. М.1994. С.38.
12
Важно заметить, что речь здесь идет о преодолении не границы как таковой, имманентной икономии бытия как такового, и хайдеггеровского Sеin, и христианского ипостасного бытия, но именно границы – смерти, которая конституирует о-граничиваемое как конечное: тогда как, скажем, межипостасные отношения в Личном Трехипостасном бытии, передаваемые теологемой перихорисиса, будучи явно феноменами границы, вместе с тем, не конституируют конечности.: это суть именно энергии неприятия, деятельного и активного устремления прочь от конечности и смерти.
13
Хайдеггер М. Время и бытие. М.1993. С.436.
14
Шелер М. Положение человека в космосе. // Шелер М. Цит.изд.С.163
1
Доклад на конференции «С.Н.Булгаков: религиозный и философский путь». Москва, март 2001 г.
2
См. С.М.Половинкин. Хроника Афонского дела. // Начала, № 1-4, 1995. С.7-42.
3
Эта независимость, впрочем, требует оговорки. Хотя три автора и не обсуждали между собой своих построений, однако Флоренскому все же следует отвести ведущую роль: он раньше всех приступил к анализу имяславия, и его идеи явно оказали влияние на формирование позиций и Лосева, и Булгакова.
4
С.Н.Булгаков. Философия имени // С.Н.Булгаков. Первообраз и образ. Соч. в 2-х тт. Т.2. М.,1999. С.171.
5
А.Ф.Лосев. Спор об именах в IV веке и его отношение к имяславию // Начала, 1995, № 1-4. С.230.
6
Андрей Белый. Почему я стал символистом // Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М.,1994. С.471.
7
Пер. А.Ф.Лосева, данный в кн.: А.Ф.Лосев. Очерки античного символизма и мифологии. Изд.2. М., 1992. С.896.
8
Отзыв Халкинской Богословской Школы об учении имяславцев // Начала, 1998, № 1-4. С. 272.
9
С.Н.Булгаков. Ипостась и ипостасность // Философско-литературные штудии, вып. 2. Минск, 1992. С.239.
10
Отзыв Халкинской Богословской Школы об учении имяславцев. С.270.
11
М.И.Шапир. О звукосимволизме раннего Хлебникова // Мир Велимира Хлебникова. М., 2000. С.351.
12
Л.С.Выготский. Мышление и речь. М., 1996. С. 313, 312.
13
Эта идейная логика, по которой имяславское сознание естественно приходит к утрате понимания сути и смысла Умного Делания, отчетливо выступает в опыте о. Сергия Булгакова. В одном из его писем парижского периода мы читаем: «... надо бы добавить об умном делании, о молитве Иисусовой. Насколько оно связано с нигилистическим аскетизмом [понятие Вл.Соловьева, выражающее его социоцентристскую критику аскезы - С.Х.], оно отпадает само собой, потому что теперь для нас могло бы сказаться духовным сластолюбием и эгоизмом. О достижениях этой молитвы, в частности, о сведении ума в сердце и о самодвижной молитве, не могу судить за отсутствием опыта ... Однако не уверен, нужно ли за этим гнаться, потому что все-таки и это есть лишь частный случай, а не единый универсальный путь, и затем не знаешь, сколько здесь духовного и сколько оккультного». Письмо к Ю.Н. (монахине Иоанне) Рейтлингер от 14 (27).04.1930. Вестник РХД. 2001, №182. С.71-72. Едва ли возможно более убедительное разоблачение всех попыток представить имяславие органической принадлежностью исихастского русла. Укажем, в частности, что суждение о. Сергия в последней фразе прямо противоположно действительной природе православного исихазма – ср. напр.: «Является принципиальным, что исихазм представляет собою универсальный путь». Kallistos Ware, bishop of Diokleia. The Hesychasts: Gregory of Sinai, Gregory Palamas, Nicolas Cabasilas // The Study of Spirituality. Ed. Ch.Jones. G.Wainwright, E.Yarnold. Cambridge,1986. P.255.
14
См. книгу руководителей этого движения: Alfonse et Rachel Goettmann. Prière de Jésus, prière du coeur. Paris, éd. Albin Michel, 1994.
1
Архимандрит Палладий. Новооткрытые сказания о преп. Макарии Великом. По коптскому сборнику. Казань 1898.С.29.
2
John Meyendorff. Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes.Mowbrays. 1974. P.213.
3
Г.В.Флоровский. Византийские Отцы V-VIII вв. Gregg Int.Publ. 1972.P.141,140.
4
Акты Константинопольского Собора 1351 г. Пер. А.Ф. Лосева //А.Ф. Лосев. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С.896-897.
5
В.Н.Криволапов. Оптина пустынь: ее герои и тысячелетние традиции // Писатель и время. М.1991.С.390.
6
Там же. С.391.
7
Там же.С.392.
8
Киево-Печерский патерик // Памятники литературы Древней Руси. XII век. М.1980.С.500.
9
Текст памятника см. в: Н.К. Никольский. Материалы для истории древнерусской духовной письменности. СПб.1907.С.141-144; основные сведения о нем: Г. Подскальски. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988-1237 гг.). СПб.1996.С.328-329.
10
Г.В.Флоровский. Пути русского богословия. Изд.3. Париж 1983.С.20-21.
11
Здесь стоит в очередной раз напомнить о православном смысле термина: речь идет не об искушенности заволжских старцев в теологических текстах и построениях (она, когда надо, всегда приходит, как доказывает история Традиции), а о том, что само Умное делание на Руси не успело созреть, подняться до тех высот поздневизантийского исихазма, когда аскетический дискурс необходимо и органично включает богословие – то богословие, что является вершинной ступенью подвига.
12
Прим.1999 г. Cогласно новейшим исследованиям, специфика явившегося в России учения весьма значительна, однако в части сакральной трактовки государства идентичность налицо. См.: Н.В. Синицына. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVII вв.). М.1998.
13
Г.В. Флоровский. Цит.соч.С.22.
14
В.Н. Криволапов. Цит.соч.С.404.
15
Там же.
16
Заметим, впрочем, что концепция псевдоморфозы, сегодня весьма подвергаемая критике и сомнению, самим ее автором Флоровским утверждалась отнюдь не глобально, а лишь применительно к конкретным явлениям: откровенно латинизированной «киевской учености» XVII столетия и не менее откровенно протестантствующей церковной реформе Петра. Дурно ли, хорошо ли это, однако, за вычетом редчайших эпох, гетерогенность, обоюдоострое соседство полярностей всегда были более свойственны России...
17
В.Н.Криволапов. Цит.соч.С.416.
18
В.И. Экземплярский. Старчество // Дар ученичества. Сборник. Ред.-сост. П.Г. Проценко. М.,1993.С.220.
19
Там же.С.221.
20
А.С.Хомяков. О старом и новом. Соч. в 2-х тт.Т.1. М.1994.С.461.
21
Вяч. Иванов. Живое предание. // Собр.соч.Т.III. Брюссель 1979.С.347.
22
Св.Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих, II 1,8. M.1995.C.122.
23
Там же.С.123.
24
Н.А.Струве. Старец в миру // Отец Алексей Мечев. Воспоминания. Проповеди. Письма. Париж 1989. С.10.
25
О.Сергий Мечев. Проповеди // Надежда. Душеполезное чтение. Вып.17. Базель – Москва 1993. С.163-164.
26
Из жития святого Григория Паламы. Добротолюбие. Изд.Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 1992. Т.5.С.478.
27
Там же. С.480,481.
28
Дескрипция исихастского сознания представлена подробнее в наших книгах «Диптих безмолвия», М.1991, и «К феноменологии аскезы», М.1998.
29
Еп.Феофан Затворник // Умное делание о молитве Иисусовой. Сборник поучений святых отцов и опытных ее делателей. Составил игумен Валаамского монастыря Харитон. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 1992. С.69,87. (Далее как «Умное делание»).
30
Cв. Исихий Синайский. О трезвении и молитве. Добротолюбие. Т.2.С.177. (В данном издании св. Исихий, по старым и ошибочным сведениям, поименован «пресвитером Иерусалимским».)
31
Небесполезно здесь сделать замечание компаративистского характера. В других традициях духовной практики иногда также фиксируется присутствие явлений закрепления и спонтанного поддержания духовных состояний, так что осуществление практики оказывается совместимым с обычными условиями и активностями человеческого существования. В качестве примера можно привести дзэн. Вот как описывается Седьмая из 10 ступеней «лестницы Дзэна», имеющая название «Бык пропал, а остался человек»: «Вы не обращаете внимания на дыхание, позу и тому подобное. Вы можете вступить в самадхи даже лежа в постели. На плане нормальной деятельности сознания, работая, разговаривая, даже во время езды в трясущемся автобусе, вы не теряете своего положительного самадхи. Прежде вы и самадхи были двумя отдельными явлениями, и самадхи достигалось с усилием, так что вы работали по двойственной системе. Теперь же дело обстоит иначе. Господствует человек, сфера ума поставлена под его управление». (Сэкида Кацуки. Практика Дзэна // Дзэн-буддизм. Бишкек 1993. С.655.)
32
Впрочем, в свете некоторой аналогии между устремлением к Богу и доминантой страстного состояния (см.выше), можно с известным правом говорить, что подчинение доминанте и здесь остается корнем устойчивости.
33
Еп. Феофан Затворник // Умное делание. С.126.
34
Там же. С.125.
35
Там же. С.126.
36
Там же. С.111.
37
Там же. С.113.
38
Учение валаамских старцев о молитве. Схимонах Агапий. Там же. С.257.
39
Еп. Феофан Затворник. Там же. С.114.
40
Учение валаамских старцев о молитве. Схимонах Агапий. Там же. С.257.
41
Еп. Игнатий Брянчанинов. Там же. С.124.
42
Учение валаамских старцев о молитве. Схимонах Агапий. Там же. С.256.
43
Св. Григорий Палама. О священнобезмолвствующих. Добротолюбие. Т.5. С.291.
44
Там же. С.292.
45
Он же. Триады в защиту священнобезмолвствующих, I 3,2. Цит.изд.С.58.
1
Статьи для Энциклопедии философских наук
1
Доклад на Российско-Австрийской богословской конференции «Жизнь человека перед лицом смерти» (Москва, окт. 2003г.).
2
Прот. Иоанн Мейендорф. Церковь, общество, культура в православном церковном предании // Православие в современном мире. Нью-Йорк 1981. С.226.
3
Преп. Симеон Новый Богослов. Слова. Пер. еп. Феофана. Вып. 1. М., 1992. Сс.44,56.
4
Еп. Игнатий Брянчанинов. Сочинения. Изд. 3. Т. 3. СПб., 1905. С.183.
5
См. С.М. Зарин. Аскетизм по православно-христианскому учению. Изд.2. М., 1996. С.672.
6
Св. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих, I.3.37. М., 1993. С.99. Св. Григорий здесь, в свою очередь, цитирует «Главы богословские и икономические» св. максима Исповедника.
7
Авва Исаак Сириянин. Слова подвижнические. М., 1993. С.159,160.
8
Преп. Симеон Новый Богослов. Цит. изд. С.48.
9
Иеромонах Софроний. Старец Силуан. М., 1991. С.419.
10
Там же. С.448,447.
11
Dumitru Staniloae. Orthodox spirituality. St Tikhon’s Seminary Press, South Canaan, Pennsilvania 2002. P.24.
12
Св. Афанасий Великий. Слово о воплощении Бога Слова, 27. Творения, в 4-х ч. Ч.1. С.225.
13
Dumitru Staniloae. Op. cit. Pp.24-25.
14
Евагрий Понтийский. Слово о духовном делании, или монах. Творения аввы Евагрия. Пер., комм. А.И.Сидорова. М. 1994. С.105.
15
Св. Иоанн Лествичник. Лествица. Сергиев Посад 1894. С.93.
16
Там же. С.90-91.
17
Архим. Софроний (Сахаров). Видеть Бога как Он есть. Эссекс 1985. С.9-10.
18
Там же. С. 10.
19
Там же. С.14-15.
20
Fr. Nicholas Sakharov. I love, therefore I am. The theological legacy of Archimandrite Sophrony. St Vladimir’s Seminary Press. 2002. P.234.
21
Архим. Софроний. Цит. соч. С.15.
22
Fr. Alexander Schmemann. Current spirituality. Orthodoxy // The Study of Spirituality. Ed. by C. Jones, G. Wainwright, E. Yarnold. Cambridge 1986. P.522.
23
Иеромонах Софроний. Цит. соч. С.98.
1
Г.Г.Шпет. Мудрость или разум? // Мысль и слово. I. М., 1917, с.48.
2
Он же. Работа по философии (1914-15 гг.) // Начала (Москва), 1992, № 1, с.35.
3
Он же. Мудрость или разум? С.57.
4
Он же. Письмо к Э.Гуссерлю от 14.XII.1913 // Логос, 1996, № 7, с.125.
5
Он же. Мудрость или разум? С.46.
6
Преп. Иоанн Лествичник. Лествица 2,1; 27,46. Сергиев Посад, 1894. С.28, 238.
7
Можно заметить, что понятие интенциональности имеет связи и с западной монашеской традицией. Еще в Монастырском Уставе св. Бенедикта (6 в.), монаху вменяется установка intentio, концентрации внимания на читаемом тексте. Отсюда, в «Лестнице монахов» Гвиго Второго Картузианца (12 в.), западном аналоге «Лестницы» Иоанна Синаита, intentio выступает как принадлежность первой ступени, lectio, лестницы духовного восхождения, имеющей вид: Lectio – Meditatio – Oratio – Contemplatio.
8
Подчеркнем, что все предметы памятования – внутри горизонта, определенного «аскетической редукцией», они суть прямые содержания аскетического опыта.
9
Из нашего описания видно, что есть определенное соответствие между ступенями исихастской практики и этапами истории исихастской традиции: ранние этапы истории соответствуют (т.е. преимущественно посвящены) низшим ступеням практики, средние – средним, поздние и зрелые – высшим. Процессы исторический и антропологический оказываются параллельны, соотносимы, что подтверждает проводимую мною аналогию: диада «духовная традиция (т.е. сообщество адептов некоторой духовной практики) – духовная практика (т.е. проходимый индивидуально процесс)» есть аналог биосистемы «вид – особь». В рамках этой аналогии, найденное соответствие есть аналог биогенетического закона: онтогенез повторяет филогенез.
1
Доклад на Рабочей встрече «Субъект и сообщество в европейской философии и теологии: Взгляд с Востока и Запада», Центр Роберта Шумана и Европейский Университет, Флоренция, Май 2006.
2
См. сборник: Who comes after the Subject? Ed. by E.Cadava, P.Connor, J.-L.Nancy. N.-Y., 1991.
3
Описание и обсуждение гибридных топик Антропологической Границы дается нами в статье «Человек и его три дальних удела: Новая антропология на базе древнего опыта» (Вопросы философии, 2003, №1), а также в книге «Очерки синергийной антропологии» (М., 2005).
4
G.Deleuze. Foucault. Paris, Ed. de Minuit, 1986. P. 139.
1
Доклад на международной конференции «Дать душу Европе. Миссия и ответственность Церквей». 3-5 мая 2006 г., Вена.
2
Опыт такого построения уже был проделан в нашей работе «Глобалистика и антропология», вошедшей в книгу: С.С.Хоружий. Очерки синергийной антропологии. М., 2005.
1
Тезисы доклада на Симпозиуме по психологическим проблемам феномена молчания, Рига (Латвия), апрель 2005 г.
1
Доклад на Международном Юбилейном Конгрессе памяти Владимира Соловьева. Москва, август 2000 г.
2
С.Л.Франк. Духовное наследие Владимира Соловьева // Вестник РХД. 1977, №121. С.173-181.
3
А.Блок. Рыцарь-монах // Сборник первый. О Владимире Соловьеве. М., 1911. С.97, 96. (Курсив автора).
4
Он же. Владимир Соловьев и наши дни. // Собр. соч. в 8 тт. Т.6. М.–Л., 1962. С. 155.
5
С.М.Соловьев. Биографический очерк // Вл. Соловьев. Стихотворения. Изд. 7. Пг., 1921. С.48.
6
С.Л.Франк. Цит. соч. С.176.
7
Е.Н.Трубецкой. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. Т.1. М., б.г. С.357.
8
См.: С.М.Лукьянов. О Вл.С.Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. Кн.2. Изд. 2. М., 1990. С.309. (1-я публ. воспоминаний В.А.Пыпиной-Ляцкой – 1914 г.).
9
С.М.Соловьев. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель 1977. С.358.
10
Вл.С.Соловьев. Письмо к С.А.Толстой от 27 апреля 1877 г. // Письма Вл.С.Соловьева. Т.2. СПб., 1909. С.200.
11
Одним из первых это отчетливо и резко выразил Флоровский, еще до своего священства и «Путей русского богословия»: «Церковной Софии Соловьев вовсе не знал: он знал Софию по Бему и бемистам, по Валентину и Каббале. И эта софиология – еретическая и отреченная... у Соловьева всё лишнее, а с тем вместе главного нет вовсе» (Письмо к о. Сергию Булгакову от 22 июля (4 августа) 1926 г. // Символ (Париж). 1993, №29. С.205-206. Курсив автора).
12
Вл.С.Соловьев. Три характеристики // Собр. соч. в 8 тт. СПб., б.г. Т.8. С.418.
13
Он же. Письмо к Н.Н.Страхову от 8 декабря 1888 г. // Письма Вл.С.Соловьева. Под ред. Э.Л.Радлова Т.1. СПб., 1908. С.56.
14
H. Dahm. Grundzüge russischen Denkens. München, 1979. S.33.
15
Е.И.Боратынская. См.: С.М.Лукьянов. Цит. соч. Кн.3. Вып. 2. М., 1990. С.25, 27.
16
См.: С.М.Лукьянов. Цит. соч. С.65.
17
Вл.С.Соловьев. Скромное пророчество // Он же. Стихотворения. Изд. 7. М., 1921. С.105.
18
Он же. Письмо к Е. Тавернье, май-июнь 1896 г. // Вл. Соловьев. Письма. Под ред. Э.Л.Радлова. Пб., 1923. С.221-222.
19
Можно заметить, что в этот набор сближений Соловьев не включил католиков Сузо и Баадера – т.е. именно ту ветвь софийной мистики, которая развивалась в пределах католичества. Напомним и собственное его свидетельство – Лопатину он сказал однажды: «Меня считают католиком, а между тем я гораздо более протестант, чем католик». (Л.М.Лопатин. Памяти Вл.С.Соловьева. Вопросы философии и психологии. 1910, № 5, кн. 105. С.635. Цит. по: А.Ф. Лосев. Владимир Соловьев и его время. М., 1990. С.398).
20
Событие перехода Соловьева в католичество по сей день остается смутным во многих существенных деталях, начиная от совершенного при переходе обряда. Обычный акт перехода включает произнесение переходящим текста с осуждением своей прежней веры и отречением от нее; и если Соловьев прошел именно данный акт, нет никаких оснований говорить о сохранении им прежней принадлежности к православию. Однако, по ряду сообщений, обычный обряд был в данном случае изменен, причем по одним свидетельствам (М.Гаврилов, на основании текстов еп. д’Эрбиньи и кард. Рамполлы), исполненный чин был составлен лично папой Львом XIII-м, а по другим (рассказ Л.В.Ивановой о принятии католичества Вяч. Ивановым) имелось и “заявление”, написанное самим Соловьевым. Согласно сообщению М.Гаврилова, после прочтения Тридентского символа веры Соловьев заявил: “Я принадлежу к истинной Православной Церкви, ибо именно для того, чтобы в неповрежденности исповедовать истинное Православие, я, не будучи латинянином, признаю Рим центром вселенского христианства”. Неизвестно, есть ли данная фраза то самое заявление Соловьева, что желал повторить при своем переходе в католичество Вяч. Иванов. Но так или иначе, оба философа все же прошли, видимо, идентичный обряд, и различие лишь в том, что Соловьев его скрыл. В результате обряда Иванов стал католиком в обычном и полном смысле, оставшись при этом православным в неком субъективном смысле, в собственном мнении. Логика вещей говорит, что в том же положении оказался и Соловьев – но заключить это с достоверностью без дополнительных сведений невозможно. Как сообщает М.Гаврилов, “дело о присоединении Соловьева к католичеству хранится в архивах Ватикана”. Несомненно, это – важнейший из известных неопубликованных материалов, связанных с Соловьевым, и надо надеяться, что «дело» будет наконец обнародовано. (См.: М.Н.Гаврилов, О.И. В.С.Соловьев и католичество // Вл.Соловьев. Русская идея. Изд. “Жизнь с Богом”, Брюссель 1964. Л.Иванова. Воспоминания. Книга об отце. М.1992. С.196.)
21
Вл.С.Соловьев. Письмо к В.Л.Величко от 20 апреля 1895 г. // Письма Вл.С.Соловьева. Т.1. С.223-224.
22
Он же. Письмо к Е.Г.Волконской (декабрь 1896 или январь 1897 г.). См.: М.Н.Гаврилов, О.И. Был ли Вл.Соловьев католиком или православным? // Символ (Париж). 1999, №41. С.315.
23
Ср. свидетельство современного историка: «В 1890-х гг. в Петербурге из кружка последователей философа В.С.Соловьева... начала возникать община русских католиков восточного обряда». (М.Шкаровский. Русские католики в Санкт-Петербурге (Ленинграде) // Символ (Париж). 1997, №38. С.83).
24
П.М.Волконский. Краткий очерк организации русской католической церкви в России. Львов, 1930. Цит. по: // Символ (Париж). 1997, №38. С.146.
25
М.Н.Мартынов, О.И. Цит. соч. С.2.
26
В.В.Зеньковский. История русской философии. Т.2. Париж, 1950. С.18.
27
А.Ф.Лосев. Цит. соч. С.391.
28
Вл.С.Соловьев. Оправдание добра // Собр. соч. в 8 тт. Т.7. С. 85-87.
29
Э.Левинас. Время и другой. СПб., 1998. С.76.
30
Вл.С.Соловьев. Оправдание добра. Цит. изд. С.78.
31
С.Л.Франк. Цит. соч. С.179.
32
А.Блок. Владимир Соловьев и наши дни. С.159.
1
Протопресвитер Александр Шмеман. Церковь, мир, миссия. М., 1996. С.18.
2
Преп. Филофей Синайский. Сорок глав о трезвении, гл.27 // Добротолюбие. Т.3. М., 1900. С.414.
3
Стоит, впрочем, упомянуть, что в своем Блоке Телоса восточные практики имеют ряд особенностей, не согласующихся, на первый взгляд, с процессами «разравнивания» и «опустошения» внутренней реальности: так, с этими практиками тесно связаны боевые искусства, в них развиваются паранормальные способности (отчасти родственные «умным чувствам» исихазма, но и довольно отличные от них). Вопрос о том, каким образом подобные особенности все же отвечают общей имперсональной парадигме деструктурирования, нуждается в пристальном анализе; как беглое предварительное соображение выскажем лишь, что их приобретению содействует входящий в имперсональную парадигму отказ от установки овладения природными стихиями – в пользу установки слияния, единства с ними.
1
Доклад, представленный на Конференции в честь 100-летия со дня рождения о. Георгия Флоровского. Энн Арбор, США, октябрь 1993 г.
2
Georges Florovsky.Russian Intellectual and Orthodox Churchman. Ed. by А. В1аnе. St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, N. Y., 1993.
3
Мюллер Э. И. В. Киреевский и немецкая философия // Вопросы Философии, 1998, № б. С. 128.
4
Там же.
5
Жильсон Э. Разум и Откровение в Средние Века // Богословие в культуре Средневековья. Киев, 1992. С.16.
6
Ср. оценку Л. П. Карсавина: «Все, действительно сделанное русскими философами-специалистами, должно быть по справедливости включенным в историю европейской, и преимущественно, немецкой, мысли». Философия и ВКП // Евразия, № 20 (6.1У.1929).
7
См. Хоружий С. С. Хомяков и принцип соборности // Пути русской философии. СПб., 1994.
8
Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж, 1983. С. 513 (курсив автора).
9
Бибихин В.В. Дело Хайдеггера // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 6.
10
Тут выступает важная общая черта: и Хайдеггер, и Флоровский — мыслители ярко выраженного «архического», или «археологического» типа, утверждающие принцип постоянной поверки мысли неким Началом или Истоком. Анализируя этот тип мысли, Поль Рикёр отмечает его внутреннюю связь с типом, казалось бы, противоположным, телеологическим, Когда явление осмысливается не чрез , а чрез . Им обнаруживается «диалектика археологии и телеологии», в силу которой первый принцип влечет за собой второй (см. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995. С. 250, 270 слл.). Было бы небезынтересно, следуя этой нити, попытаться вскрыть телеологизм в мысли Флоровского или Хайдеггера, ибо он вовсе не считается характерным для них.
11
Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Цит. изд. С. 200.
12
Он же. Поворот // Цит. изд. С. 256.
13
Он же. Гегель и греки // Цит. изд. С. 387.
14
Florovsky G. V. St. Gregory Palamas and the Tradition of the Fathers // Coll. Works, vol. 1, Belmont, MA, 1972. P. 107.
15
Williams G. H. The neo-patristic synthesis of Georges Florovsky // Georges Florovsky. Russian Intellectual and Orthodox Churchman. P. 292.
16
Florovsky G. V. Ibid. P. 119.
17
Расширивший, если не заменивший свои истоки за счет древне-греческой мысли.
18
Флоровский Г. В. Тварь и тварность // Православная мысль (Париж). 1928. Т» 1. С. 178.
19
Попытка философской разработки этого принципа была впервые Предпринята в работе: Хоружий С.С. «Диптих безмолвия» (1978; опубл. М., 1991).
1
Интервью редакции альманаха “Res cogitans”, Саратов, 11 октября 2004 г.
1
Анализ их дан, в частности. в нашей книге “О старом и новом” (СПб., 2000).
2
Ф.Ницше. Сумерки идолов. Соч. в 2-х тт., т. 2. М.,1990. С.584. (Далее ссылки на произведения Ницше – без указания автора).
3
Так говорил Заратустра. Цит. изд. С.118.
4
По ту сторону добра и зла. Цит. изд. С.257.
5
Там же. С.352.
6
Сумерки идолов. С.585.
7
Так говорил Заратустра. С.118, 83.
8
Сумерки идолов. С.583.
9
Антихрист. Цит. изд. С.683.
10
Сумерки идолов. С.582.
11
Антихрист. С.636.
12
Сумерки идолов. С.587.
13
Там же. С.586.
14
По ту сторону добра и зла. С.253.
15
К генеалогии морали. Цит. изд. С.490.
16
Там же. С.431.
17
Ж.Делез. Фуко. М., 1998. С.168.
18
Он же. Различие и повторение. СПб., 1998. С.24.
19
Вл.С. Соловьев. Теоретическая философия. Собр.соч. в 8 тт.Т.8. СПб., б.г. С.168.
20
Там же. С.183,171.
21
Там же. С.213.
22
По ту сторону добра и зла. С.251-252.
23
В.С. Соловьев. Цит.соч. С.212.
24
Человеческое, слишком человеческое. Цит.изд., т.1. М., 1990. С.321.
25
G.G.Harpham. The Ascetic Imperative in Culture and Criticism. The Univ. of Chicago Press, 1987. P.235.
26
С.С.Хоружий. Диптих безмолвия. М.1991. Он же. К феноменологии аскезы. М.1998. Он же. О старом и новом. СПб., 2000.
27
П. де Ман. Аллегории чтения. Екатеринбург, 1999. С.110.
28
G.G.Harpham. Loc. cit. P.211.
29
По ту сторону добра и зла. С.346.
30
Так говорил Заратустра. С.66.
31
Сумерки идолов. С.622.
32
Там же.
33
Так говорил Заратустра. С.207.
34
Там же. С.108.
35
Ж.Делез. Различие и повторение. С.296.
36
Там же. С.298.
37
По ту сторону добра и зла. С.289.
38
Воля к власти. Полн. собр. соч. Т.9. М.,1910. Сс.223,222,89.
39
По ту сторону добра и зла. С.386.
40
Антихрист. С.686.
41
Сумерки идолов. С. 614.
42
Там же. С.611.
43
Антихрист. С.633.
44
По ту сторону добра и зла. С.381.
45
Там же. С.318.
46
Там же. С.379.
47
Ж.Делез. Различие и повторение. С.61.
48
М.Хайдеггер. Европейский нигилизм // М,Хайдеггер. Время и бытие. М.,1993. С.139.
49
По ту сторону добра и зла. С.270.
50
Ж.Делез. Различие и повторение. С.23.
51
Он же. Фуко. С.169.
52
G. Deleuze. Foucault. Paris, Les ed. de Minuit, 1986. P.98 (курс.автора. Мы цитируем оригинал книги. ибо рус.пер. здесь неточен).
53
Вл.С. Соловьев. Идея сверхчеловека. Цит. изд. С.318.
54
Там же. С.315.
55
Св. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих. I.3, 37; I.3, 31. М.,1993. Сс.99,93.
56
Там же. I.3, 21. С.83.
57
Вл.С. Соловьев. Письмо к Л.Н.Толстому от 28.07 – 2.08.1894. // Письма Вл. С. Соловьева. Т. III. СПб., 1911. С.39.
58
Антихрист. С.667, 666.
59
Сумерки идолов. С.629.
1
Можно ли, однако, рассматривать виртуальную антропологическую реальность как полноценное «Иное» актуальной антропологической реальности? «Иное», в частности, должно обладать способностью конституировать идентичность – обладает ли такою способностью недовоплощенная, привативно определяемая виртуальная реальность? Вопрос этот требует более тщательного анализа.
1
Предисловие к русскому переводу книги Папы Бенедикта XVI (И.Ратцингера) «Вера, истина, толерантность».
2
Предмет истинной веры есть то, во что веруют всегда, всюду и все (quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est).
3
Йозеф Ратцингер. Введение в христианство. Брюссель, 1988. С.95.
4
Вяч. Иванов. Дионис и прадионисийство. Баку, 1923. С.181.
5
Ср., напр.: «По мере секуляризации, высшие принципы неотчуждаемых прав человека превратились в понятие о правах индивида вне его связи с Богом… Для христианского правосознания идея свободы и прав человека неразрывно связана с идеей служения». Социальная концепция Русской Православной Церкви. М., 2003. С.38.
1
Доклад на Международном семинаре «К общеевропейской науке? Интердисциплинарность в контексте философского диалога между Францией и Россией» (3–5 сентября 2012 г., Бордо, Франция)
1
В логике наших идей, исключением представляются еврейские погромы в России, где явно присутствовал немалый элемент религиозной ненависти; и существенно знать, есть ли это лишь исключение, подтверждающее правило. Однако достаточно важные вопросы: Какую роль играло в погромах Православие? и что это о Православии говорит? – никогда не ставились даже православною мыслью, хотя не подлежит сомнению, что для судеб Православия отворачиваться от подобных вопросов куда опаснее, чем их обсуждать.
1
В эпоху ранней Церкви известны, в частности, слова и поучения на Преображение Господне свв. Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Анастасия Синаита и др.; каноны на Преображение сочинены были свв. Иоанном Дамаскиным и Космой Маюмским в 8 в.
2
Ср.: «Внезапное и радикальное преобразование человека, внутреннее и духовное по характеру, но захватывающее всего человека в целом, называется пр. Симеоном разными именами – духовным рождением, мистическим воскресением, крещением Духом, обожением…» (Архиеп. Василий (Кривошеин). Преподобный Симеон Новый Богослов (949-1022). Париж, 1980. С.348). Ясно, что описываемое «преобразование» отвечает и понятию преображения, однако в этом ряду «имен» данного понятия нет.
3
Полный Православный Богословский Энциклопедический Словарь. Спб., б.г. Т.2. Кол.1898.
4
В.Н.Лосский. Мистическое богословие Восточной Церкви // Богословские труды, 1972. Т.8. С.116.
5
Св. Григорий Палама. Омилия 34 // Беседы (омилии) Святителя Григория Паламы. Ч.2. М., 1993. С.90, 88-89.
6
К тому же, письменная его речь безграмотна до предела, по-детски, он в самом деле едва выучился писать, как то показывают точные тексты его записей, приведенные в публикации: А.Л.Гуревич. Блаженный старец архимандрит Софроний (Сахаров) и его работа над книгой «Старец Силуан» // Преподобный Силуан и его ученик архимандрит Софроний. По материалам «Силуановских чтений» Клин, 2001. С.131-132.
7
См.: Kallistos Ware. ”Kenosis” e umiltà “a somiglianza di Cristo” in San Silvano // Silvano dell’Athos. Atti del Colloquio internazionale “Tieni il tuo spirito agli inferi e non disperare!” Silvano dell’Athos : Vita e spiritualità. Bose, 3-4 ottobre 1998. A cura di Adalberto Mainardi. Edizioni Qiqajon, 1999. P.63.
8
Иером. Софроний. Старец Силуан. Жизнь и поучения. М., 1991. С.322.
9
Там же. С.36.
10
Ср.: «Старец Силуан… тоже разделял [исихастскую] жизнь на деятельную и созерцательную, но и ту и другую рассматривал именно как хранение заповедей». Иером. Софроний. Цит. соч. С.125.
11
Иером. Софроний. Цит. соч. С. 273.
12
См.: С.С.Хоружий. К феноменологии аскезы. М., 1998. С.71-72.
13
Иером. Софроний. Цит. соч. С. 274.
14
Там же. С.261.
15
Там же. С.276.
16
Там же. С.368.
17
Там же. С.158-159.
18
Там же. С.27.
19
Там же. С.407-409.
20
Там же. С.328.
21
Там же. С.334.
22
Там же. С.334, 313.
23
Там же. С.25.
24
Там же. С.33.
25
Там же. С.312.
26
Там же. С.302.
27
Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. Сост. архим. Серафим (Чичагов). Спб., 1903. Т.1. С.56-57.
28
Иером. Софроний. Цит. соч. С. 302.
29
Там же. С.27.
30
Там же. С.334.
31
Там же. С.386.
32
Там же. С.369.
33
Там же. С.41-42.
34
Там же. С.382.
35
Там же. С.319.
36
Там же. С.46.
37
Там же. С.47.
38
Там же. С.93.
39
Там же. С.334.
40
Ф.М.Достоевский. Братья Карамазовы. М., 1959. Т.1. С.376, 375.
41
Иером. Софроний. Цит. соч. С. 382. (Прописные буквы – Старца Силуана).
42
Там же. С.215.
43
Там же. С.336.
44
Там же. С.212.
45
Там же. С.332.
46
Там же. С.343.
47
Там же. С.438.
48
Там же. С.302.
49
Часы пасхальные // Православный молитвослов. М., 1970.С.134.
50
Тропарь Великой Субботы // Православный молитвослов. М., 1970.С.124.
51
Ioannis Zizioulas. La teologia di San Silvano dell’Athos // Silvano dell’Athos. Atti del Colloquio internazionale “Tieni il tuo spirito agli inferi e non disperare!” Silvano dell’Athos : Vita e spiritualità. Bose, 3-4 ottobre 1998. A cura di Adalberto Mainardi. Edizioni Qiqajon, 1999. P.124.
52
Ibid.
1
Прот. Иоанн Мейендорф. Св. Григорий Палама. Его место в Предании Церкви и современном богословии // Он же. Православие в современном мире. Нью-Йорк, 1981. С.163.
2
Более обстоятельный анализ этой рецепции дан в нашей работе «Исихазм: эволюция рецепции // Исихазм. Аннотированная библиография. Под общей и научной ред С.С.Хоружего. М., 2004.
1
Дмитрий Владимирович Бавильский – в 1997 году – доцент, преподаватель Челябинского педагогического университета, руководитель джойсовского семинара “Ulysses: step by step”.
1
Еп. Феофан Затворник. Путь ко спасению. (Краткий очерк аскетики). Изд. 7. М.,1894. С.221 (курсив наш).
2
Св. Филофией Синайский. Сорок глав о трезвении. Добротолюбие. Т.3. Св.-Сергиева Троицкая Лавра, 1992. С.414.
1
Прот. Иоанн Мейендорф. Православие в современном мире. Нью-Йорк, 1981, с.175.
2
Ср. особенно наш анализ феномена страстей в книге “К феноменологии аскезы” (М.,1998).
1
Наряду с исихастской традицией, аналогичная структура начального этапа практики прослеживается и в суфизме, где “Вратам” соответствует “тауба” (обычный перевод – покаяние), первая из десяти стоянок, “макамов”, образующих Путь суфия.
2
См. P. Hadot. Exercices spirituels et philosophie antique. Paris, 1981.
3
Об этих концепциях, играющих заглавную роль в нашей реконструкции генезиса исихастской практики, см. С.С.Хоружий. О старом и новом. Санкт-Петербург, 2000.
4
Компаративистский анализ неоплатонической и исихастской (паламитской) трактовок Обращения подробно проделан в нашей работе: S. Khoruji. Synergie hésychaste et conversion philosophique. // Annick Charles-Saget (éd.). Retour, repentir et constitution de soi. Paris, J. Vrin, 1998.
5
О понятии Антропологической Границы также см. книгу “О старом и новом”.
6
Ради краткости мы не даем здесь конкретных описаний эмпирического материала; они в изобилии приведены в статьях “Покаяние” и “Подвиг” нашего “Аналитического словаря исихастской антропологии” (см. С.С.Хоружий. К феноменологии аскезы. М., 1998, часть 1).
7
Здесь стоит отметить, что в католической традиции утвердилась узкая трактовка покаяния как раскаяния в определенных частных поступках, которое не предполагает глобальной перемены бытийной ориентации, не онтологично – а потому и не влечет таких крайних проявлений как сокрушение и плач. Поэтому в западных исследованиях православной аскезы сокрушение обычно отделяют от покаяния, считая его более радикальной установкой. Ср.: “Сокрушение идет гораздо далее, нежели покаяние” (Thomas Spidlik, S.I. La spiritualité de l’Orient Chrétien. Manuel systématique. Roma, 1978, p.194); “Сокрушение имеет целью не только получить божественное прощение, как простое покаяние (), но стремится стереть все следы, все шрамы греха” (Ib., vol. II. La Prière. Roma, 1988, p.273). Этот разрыв двух понятий – казалось бы, мелкая деталь – влечет глубокие следствия. Лишь истинный духовный переворот инициирует альтернативную антропологическую динамику, ведущую к обожению; и если такой переворот связывается лишь с сокрушением исихаста, но не с покаянием, составляющим долг всякого христианина, – стало быть, и эта динамика, и самое обожение теряют универсальный характер, переходя из общецерковной антропологии – в антропологию частной аскетической школы. Именно так и стремится их рассматривать католичество.
8
В первую очередь, такие явления спонтанности фиксируются в практике молитвы, которая на завершающей стадии Духовных Врат уже достигает довольно развитых форм; однако достоверная идентификация их, устанавливающая безусловное отличие от “естественного” процесса, – особая и непростая проблема. Возникающие здесь вопросы критериологии и герменевтики Духовной Практики рассматриваются нами в книге “К феноменологии аскезы”, часть 2.
1
Orientale Lumen. Окружное Послание Папы Иоанна Павла II. Ч.I, п.16.
2
Г.В.Флоровский. Пути русского богословия. Изд. 3. Париж 1983. С.515.
3
B. Petra. Catholic theology and the discovery of Orthodoxy in the twentieth century. Talk presented at the Conference “The human subject and community in European philosophy and theology: Perspectives from East and West”, Florence, May 2006. Рус. пер.: Богословские труды. Т.40.
4
См.: С.С.Хоружий. Исихазм: эволюция рецепции // Исихазм. Аннотированная библиография. Под общей и научной ред. С.С.Хоружего. М., 2004. С. 40–50. Он же. Познание исихазма в прошлом и настоящем // Христианская мысль (Киев). Т.3, 2006.
5
Отметим справедливости ради, что в этот же период, при всем забвении исихастской традиции на православном Востоке, усердием Патриарха Иерусалимского Досифея (1641–1707), издательством, учрежденным в Яссах в 1680 г., осуществлен был ряд важных изданий исихастских текстов (см. «Библиографию исихазма», цит. выше).
6
Впервые это явление было описано проф. А.-Э.Тахиаосом, одним из участников нашего выпуска, в его исследовании о преп. Паисии Величковском: Подробней об нем см.: С.С.Хоружий. Предисловие // Исихазм. Аннотированная библиография. Под общей и научной ред. С.С.Хоружего. М., 2004. С. 31–35.
7
T. de Régnon. Etudes de théologie positive sur la Sainte Trinité. V.I. Paris, 1892, p.433. Цит. по: John Meyendorff. Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes. Mowbrays. London and Oxford, 1975. P.181.
8
Хр. Яннарас. Личность и Эрос. М., 2005. С.105.
9
С.С.Хоружий. К феноменологии аскезы. М., 1998. С.54 (Евагрианская проблема), с. 94–95 (Макариевская проблема).
10
John Meyendorff. Op.cit. P.181.
11
Хр. Яннарас. Цит. соч. С.149.
12
См. об этом: С.С.Хоружий. К феноменологии аскезы. С. 134–135.
13
Yves Congar. Une passion: l’unité. Réflexions et souvenirs 1929–1973. Paris, 1974. P.108. Цит. по: Э.Легран. Ив Конгар (1904–1995): Страсть к единству // Символ. [2006]. № 49.С.173.
14
В указанной выше библиографии исихазма, выпущенной нами в 2004 г., представлены 64 работы о. Иринея!
15
Иером. Василий (Кривошеин). Аскетическое и богословское учение св. Григория Паламы // Seminarium Kondakovianum (Прага). 1936, т. VIII. С. 99–154.
16
Здесь и далее цитаты из Томоса 1351 г. — в пер. А.Ф.Лосева по изданию: А.Ф.Лосев. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 896–897.
17
John Meyendorff. Op.cit. P.186.
18
См.: S.Khoruzhii. The idea of energy in the “Moscow School of Christian Neoplatonism” // Pavel Florenskij — Tradition und Moderne. Hrsg. N.Franz, M.Hagemeister, F.Haney. Fr.a.M. 2001.S.69–81. C.С.Хоружий. Имяславие и культура Серебряного века // Он же. Опыты из русской духовной традиции. М., 2005.С.287–308.
19
В этой связи стоит обратить внимание на статью о св. Феофане Никейском в нашем выпуске. Богословие Феофана не более чем одним поколением отделено от богословия Паламы, но мы уже можем заметить в нем симптомы наступающей дезориентации. Как излагается в статье, Феофан «творчески развивает» православно-исихастское учение о синергии и обожении, выдвигая собственную теорию о том, что Путь и опыт исихастского духовного восхождения, сравнительно с этапами, описанными в исихастской классике, включают еще некий высший этап, характеризуемый как «перихореза Бога и верных». Он совпадает уже с обожением в собственном смысле, совершенным соединением энергий человеческих и Божественных, и по отношению к нему синергия, сообразование и соработничество сих энергий, является лишь промежуточным, «средним» этапом. На первый взгляд, близко следуя речи об обожении у Паламы и Максима Исповедника, теория Феофана на поверку кардинально отходит от нее. Обожение — отнюдь не очередной этап аскетического Пути и опыта, но Телос всего Пути, отделенный от него онтологическою дистанцией и потому в точном смысле трансцендентный опыту человека, доступный для опыта лишь в своих подступах, начатках, лишь «зерцалом в гадании». Предел же нашего опыта — именно синергия. То, что за нею следует, — принципиально за-опытно, вне-опытно, и речь о нем обязана строиться в ином способе, дискурсе. И когда Феофан, уничтожая онтологическую дистанцию, пристраивает обожение как лишнюю ступень к Лествице, сливает его с аскетическим процессом, — речь его становится уже не речью опыта, как у исихастских учителей — тем самым, и не «богословием» в исихастском смысле — а всего лишь спекулятивным рассуждением, импровизацией, фантазией. Ясно также, что уничтожение онтологической дистанции неизбежно — какие бы ни делались декларации верности совсем недавнему догмату 1351 г. — влекло в сторону представлений о сущностной (а не только энергийной) связи Бога и мира — то есть к сближению с позициями богословского эссенциализма, томизма. В ряде пунктов такое сближение выходит у Феофана на поверхность — и в свете всего, мы распознаем в его мысли начало того движения, которое затем приведет уже к откровенному томизму Геннадия Схолария. Но богословские позиции томизма и православного энергетизма расходятся далеко, принципиально! Мы видим, как быстро в самой Византии переставали понимать Паламу, понимать, что главное в его мысли — ее строгая приверженность опыту, феноменологическая природа, и что именно осмысленный опыт заставлял его до последней йоты стоять на своем: да, дано человеку, твари, соединяться с Богом, со Христом в Духе, по энергии, и НЕ дано соединяться по сущности! Органическая и неразрывная, «Антеева» связь умозрения и опыта, которая обеспечила взлет Исихастского Возрождения, фатально уходила, утрачивалась. С ней утрачивалась и сама специфическая суть Восточнохристианского дискурса, отличавшая его от западной мысли; и православная мысль оказывалась обреченной уступить западным влияниям. И нам становится ясно, что спад Возрождения был вызван, увы, не только внешними причинами в лице захватчиков-османов…
20
С.С.Хоружий К феноменологии аскезы. С.257.
1
Интервью, данное Майе Кучерской для «Российской газеты» в феврале 2005 г.
1
Термин transformative practices активно использовался в штудиях по проблеме телесности Майкла Мэрфи и руководимого им института Эсален. См… напр.: M.Murphy. The future of the body. Explorations into the further evolution of the human nature. Los Angeles, 1992.
2
П.Адо. Духовные упражнения и античная философия. М. — СПб. 2005. С.273, 272.
3
См. С.С.Хоружий. О старом и новом. СПб., 2000. С.392, 427–428.
4
Превосходное освещение этой темы, как в части источников, так и анализа, см. у Питера Брауна: P.Brown. The body and society. Men, women and sexual renunciation in Early Christianity. Columbia Univ. Press, 1988. (Особ. гл. 4,5).
5
См. С.С.Хоружий. О старом и новом. С. 353–420.
6
Детальный анализ этих тенденций дан в нашей критической ретроспективе европейской антропологии: С.С.Хоружий. Человек Картезия // Точки — Puncta. 2004, № 1–2(4); Неотменимый антропоконтур. 1. Контуры до-Кантова Человека. 2. Кантовы антропотопики. 3. Антиантропология классического немецкого идеализма // Вопросы философии. 2005, №№ 1,2. 2007, № 6,7.
7
Л.Троцкий. Литература и революция. М., 1991. С. 196–197.
8
В.Н.Муравьев. Культура будущего // Он же. Овладение временем. М., 1998. С. 275–276, 278.
9
Дзига Вертов. Статьи. Дневники. Замыслы. М., 1966. С.47.
10
Там же. С.71.
11
Стоит уточнить, что мы говорим о профессиональной литературе, а не о том великом объеме словесности — в основном, интернетной — который производится далеко не специалистами и в котором обсуждаются, успешно решаясь, все и любые вопросы о Постчеловеке.
12
Ср., напр.: Постчеловек — «гипотетический образ будущего человека, который потерял привычный человеческий облик в результате внедрения передовых технологий»; «потомок человека, модифицированный до такой степени, что уже не является человеком»; «человек, генетически измененный и улучшенный до состояния, не укладывающегося в рамки человеческого существа» и т. д. и т. п.
13
R.Kurzweil. The age of spiritual machines. London, 1999. P.182.
14
T.Peters. The soul of trans-humanism // Dialog. A Journal of Theology. 2005. V.44(4). P.384.
15
Ф.Фукуяма. Наше постчеловеческое будущее. М., 2004. С.351.
16
Там же. С.332.
17
G.R.Peterson. Imaging God: Cyborgs, brain-machine interfaces, and a more human future // Dialog. A Journal of Theology. 2005. V.44(4). P.345.
18
Там же.
19
A.Foerst. God in the machine: What robots teach us about humanity and God. N-Y, 2000. P.43. (Из внутренних рассказов о воззрениях сотрудников MIT).
1
См. статью «Духовная практика» и «отверзание чувств» как феномены энергийной антропологии. Компаративный анализ.
2
Немаловажно, что осознание онтологической сути практики, делающей эту практику «стратегией границы» и тем резко отделяющей от всех обычных стратегий, изначально входит в самое практику. Уже в древний период (IV–VI вв.), «монашеская литература проводит различие между <человеческим существом> и <монахом>. Монахи обозначают себя как <людей, становящихся ангелами>, или как <обоживающиеся существа>, или многими подобными способами. Они ощущают себя вне исходной категории <человеческого>«. (R.Valantasis. Daemons and the Perfecting of the Monk's Body: Monastic Anthropology, Daemonology and Asceticism // Semeia, 1992, v.58, p.49).
3
Понятие Первоимпульса неприятия смерти обосновывается и разбирается нами в подготавливаемой книге «Дискурс синергии».
4
Если не говорить об элементарной категории вещественных объектов, доступных, сменяемых и заменяемых.
5
P.Hadot. Exercices spirituels et philosophie antique. Paris 1981.Pp. 54, 56.
6
Здесь ярко видна характерная античная — и, в особенности, позднеантичная — типология парадигмы духовных упражнений. Идеал отношений человека со смертью рисуется в соответствии со стоической диалектикой господства-рабства и варварства-просвещения: «возвышение мысли» доступно всякому, доступно и рабу; и раб (смертный), возвысившийся мыслью, достигает равенства и даже превосходства над своим господином (смертью). И как стоическая диалектика господства-рабства не остановила крушения рабовладельчества, так парадигма духовных упражнений не стала убедительною моделью отношения к смерти, способной развенчать и вытеснить иные пути, на которых человек пытался не быть рабом смерти.
7
Приведем сжатую формулировку этой парадигмы у Паламы: «Чрез ум, как чрез владыку-епископа, мы полагаем законы каждой способности души и каждому из членов тела… Кто [этого достигнет], тот стяжет и узрит в себе благодать». Св. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих, I 2,2.
8
Ж.Лакан. Семинары. Книга 1.М.1998.С.161.
9
Заметим, что «субнормальные феномены» в списке Лакана суть по типу именно сбои, рассогласования, т. е. нарушения (одно)связности сознания, скорее чем смутные и недоартикулированные активности.
10
Ж.Лапланш, Ж.-Б.Понталис. Словарь по психоанализу. М.1996.С.71
11
Хоружий С.С. «Духовная практика» и «отверзание чувств» как феномены энергийной антропологии. Компаративный анализ.
12
Напомним, что в нашей топике репрезентируются лишь стратегии Границы, и потому Гибридная топика не включает тех методик и практик, что используют элементы школ духовного опыта без притязаний на их телос.
13
Подчеркнем важность слова «действенный»: некоторая латентная связь как с Супра-, так и с Суб-Истоком может считаться всегда наличествующей; мы же говорим о связи, ставшей господствующим фактором в сознании, такой, в которой сознание и человек обращаются в арену активного совершающего действия энергий Внеположного Истока.
14
Таким отдаленным аналогом можно, скажем, считать акт обращения пациента к врачу: связь с рассматриваемым ниже духовным обращением тут все же не чисто омонимична.
15
Наряду с исихастской традицией, аналогичная структура начального этапа практики прослеживается и в суфизме, где «Вратам» соответствует «тауба» (обычный пер. — «покаяние»), первая из десяти стоянок, «макамов», образующих Путь суфия.
16
Компаративистский анализ неоплатонической и исихастской (паламитской) трактовок Обращения подробно проделан в нашей работе: S.Khorouji. Synergie h'esychaste et conversion philosophique // Annick Charles-Saget (ed.). Retour, repentir et constitution de soi. Paris 1998.
17
Ради краткости, мы не даем здесь конкретных описаний эмпирического материала; они в изобилии приведены в статьях «Покаяние» и «Подвиг» нашего «Аналитического словаря исихастской антропологии» (см.: С.С.Хоружий. К феноменологии аскезы. М.1998.Ч.1).
18
В первую очередь, такие явления спонтанности фиксируются в практике молитвы, которая на завершающей стадии Духовных Врат уже достигает довольно развитых форм; однако достоверная идентификация их, устанавливающая безусловное отличие от «естественного» процесса», — особая и непростая проблема. Возникающие здесь вопросы критериологии и герменевтики Духовной Практики рассматриваются нами в книге «К феноменологии аскезы», ч. II.
1
Интервью опубликовано в газете «НГ Религия» от 07.12.2005.
1
Лекция, прочитанная на Философском Факультете Белградского Университета 23 апреля 2007 г., в рамках Недели России в Сербии и Косове.
2
А.С.Хомяков. К сербам. Послание из Москвы // А.С.Хомяков. Полное собрание сочинений. Т.1. Изд.3. С.377,407, 384-386.
1
Ахутин А. В. Понятие «природа» в античности и в Новое время. М., 1988. С. 159.
2
Между терминами «бытие-в-действии» и «бытие-действие» имеется небольшое, но уловимое различие. Первый термин подразумевает единое и единственное бытие, выступающее или рассматриваемое в определенном аспекте или самопроявлении. Второй же термин подразумевает менее конкретизируемую и ограничительную, более апофатичную идею бытия: он лишь фиксирует некоторый способ, образ бытия и не несет никаких имплицитных допущений о «самом бытии». Мы находим это более предпочтительным.
3
Ахутин А. В. Цит. соч. С. 160.
4
С другой стороны, требуемая нами «определенность» энергии означает ее некую содержательность, окачествованность. И здесь встают далеко не формальные вопросы. Если «свободная энергия» непричастна форме, телосу и любым эссенциальным началам — какою иной окачествованностью она может обладать? Надо искать некие специфически энергийные способы окачествования — или, быть может, корректнее говорить, что свободная энергия, энергия вы-ступления, причастна некой «возможной форме»? Или, напротив, следует полагать эту энергию именно никак не окачествованной, «абсолютно чистой» — что опасно смахивает на фикцию или архаичную метафизику, трактовавшую о «первичной слепой воле», «чистом порыве» и т. п. В любом случае, набросанный нами энергийный план вечной проблематики Начала еще требует анализа, и одна из его первых тем — проблема окачествования энергии и возможности (ср. проблематику понятия «дхармы» в буддизме).
5
Архимандрит Софроний (Сахаров). Видеть Бога как Он есть. Эссекс, 1985. С. 134.
6
Хайдеггер М. Время и бытие // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 436.
7
Ср.: «Темпорализацию времени следует мыслить не по образу сущности… время должно выявить двойственность… как темпорализуется время, чтобы проявилась диахрония?» Levinas E. Autrement qu'être ou au-delà de l'essence. Ed. Martinus Nijhof. La Haye, 1974. P. 11–12.
8
Мамардашвили М. К. Сознание как философская проблема // Вопросы философии, 1990, № 10. С. 12.
9
Архимандрит Софроний (Сахаров). Цит. соч. С. 16.
10
[10] Хайдеггер М. О существе и понятии φύσις. Аристотель, «Физика», b-1. M., 1995. С. 98.
11
[11] Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. М., 1994. С. 76.
1
См.: С.С.Хоружий. Опыты из русской духовной традиции. М., 2005. Id. Духовная и культурная традиция в России в их конфликтном взаимодействии. Курс лекций в Гос. Университете «Высшая Школа Экономики», 2006 (неопубл.).
2
Надо, однако, отметить, что при всех различиях, две парадигмы все же не составляют прямой противоположности друг другу, бинарной оппозиции. Парадигма обожения церковна, она включает в себя догматические и сакраментальные предпосылки, а с ними и установку освящения (sanctification), связанную с таинствами Церкви и составляющую необходимый элемент литургической сферы. Но сакрализация не тождественна освящению, она гипертрофирует его и выносит далеко за пределы литургической сферы.
3
И.В.Киреевский. Обозрение русской словесности 1829 года // Он же. Избранные статьи. М., 1984. С.44.
4
Ко времени публикации этот взгляд Чаадаева успел сильно измениться: считая по-прежнему, что прошлого у России нет, он начинал видеть в этом возможности великого будущего и заявлял даже так: «Мы призваны… обучить Европу бесконечному множеству вещей… Придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы» (Письмо А.И.Тургеневу, окт. — ноябрь 1835 г. // П.Я.Чаадаев. Полн. собр. соч. и избранные письма. Т.2. М., 1991.С.99).
5
К.Д.Кавелин. Московские славянофилы сороковых годов // Он же. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989.С.338.
6
Г.Шпет. Очерк развития русской философии. Первая часть. Пг., 1922. С.277.
7
М.О.Гершензон. История Молодой России. М. — Пг., 1923. С. 208–209.
8
А.И.Герцен. Былое и думы // Он же. Соч. в 9 тт. Т.5. М., 1956.С.170–171.
9
И.В.Киреевский. В ответ А.С.Хомякову // Полн. собр. соч. в 2-х тт. под ред. М.О.Гершензона. Т.1. М., 1911. С.120.
10
Приведем для примера свидетельство католического богослова: в середине 20 в. происходит «своеобразная «ориентализация» католического богословия, которая достигла кульминации на II Ватиканском Соборе» (B.Petra. Catholic theology and the discovery of Orthodoxy in the 20th century. Talk presented at the Conference “The human subject and community in European philosophy and theology: Perspectives from East and West”. Florence, May 2006. (Unpublished).
11
Письмо П.Я.Чаадаева И.С.Гагарину от 1 октября 1840 г. // П.Я.Чаадаев. Цит. изд. С.139.
12
Ср. типичное суждение: «Славянофилы, продукт чисто московский…». Н.П.Колюпанов. Жизнь Александра Ивановича Кошелева. Т.1. Кн.1. М.,1889. С.580.
13
А.И.Герцен. Цит. соч. С.156. Мурмолки — старорусский головной убор, который носили славянофилы, демонстративно возрождавшие ношение незападного, национального платья.
14
Г.Шпет. Цит. соч. С.281. Заметим, что термин «интеллигенция» Шпет употребляет в широком значении социальной группы носителей просвещенного разума, но не в привившемся узком значении, предполагающем, по Г.П.Федотову, предикаты оппозиционности и беспочвенности.
15
А.С.Хомяков. Мнение русских об иностранцах // Он же. Полн. собр. соч., изд. 3. Т.1. М., 1900. С.68.
16
Он же. По поводу статьи И.В.Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России». Цит. изд. С.242.
17
К.С.Аксаков. Об основных началах русской истории // Он же. Полн. собр. соч. Т.1., изд.2. М., 1889. С.18. (Курс. автора).
18
Любопытно сопоставить эти понятия Хомякова с концептами отрицательной и положительной свободы в современной западной политической философии, от Берлина до Роулза.
19
А.С.Хомяков. Мнение русских об иностранцах. С.33.
20
Там же. С.61.
21
А.С.Хомяков. Послание к сербам. Цит. изд. С.381.
22
Он же. О возможности русской художественной школы. Цит. изд. С.97.
23
К.Д.Кавелин. Взгляд на юридический быт древней России // Он же. Цит. изд. С. 50–51.
24
Там же. С.39, 37.
25
Там же. С.21.
26
Там же.
27
Там же. С.22.
28
Там же. С.23.
29
Он же. Письмо баронессе Э.Ф.Раден от 26 мая 1864 г. // Русская мысль. 1899, № 12. С.14.
30
Он же. Взгляд на юридический быт древней России. С.66.
31
Он же. Краткий взгляд на русскую историю. Цит. изд. С.164.
32
Он же. Взгляд на юридический быт древней России. С.59.
33
Разделение западников на либералов (Грановский, Кавелин, Боткин и др.) и радикалов (Герцен, Огарев, Белинский и др.) уже в 1845-46 гг. принимает форму прямого раскола.
34
А.И.Герцен. С того берега // Он же. Собр. соч. в 30 тт. Т.6. М., 1955. С.319.
35
Он же. Развитие революционных идей в России. Цит. изд. Т.7. М., 1956. С.244.
36
В.Г.Белинский. Полн. собр. соч. Т.12. М.,1958. С.22. «Егор Федорович» — прозвание Георга Вильгельма Фридриха Гегеля в русских кружках.
37
М.А.Бакунин. «Международное тайное общество освобождения человечества» // Он же. Избр. филос. соч. и письма. М., 1987. С.265. (Курс. автора).
38
Он же. Письмо А.А. и Т.А.Бакуниным. Цит. изд. С.136.
39
К.Д.Кавелин. Взгляд на юридический быт древней России. С.20.
40
А.Н.Афанасьев. Народ-художник. Миф. Фольклор. Литература. М., 1986. С.295.
41
Отметим тут проницательную, хотя оставшуюся неразвитой, интуицию о том, что в христианстве, не редуцированном к «логике», начала «предания» и «мистицизма» (а в наших терминах, «духовная традиция») ведут не к дуалистической, а целостной картине человека, общества и реальности. Именно такую картину пыталось развивать славянофильство, с которым Герцен перекликается во многих пунктах, преодолевая шоры идеологических оппозиций.
42
А.И.Герцен. С того берега. С. 126–127.
43
С.С.Хоружий. Анти-антропология классического немецкого идеализма // Вопросы философии, 2007, №№ 6, 7.
44
Г.Г.Шпет. Философское мировоззрение Герцена. Петроград, 1921. С.12. (Курс. автора).
45
А.И.Герцен. Дилетантизм в науке. Письмо III: Дилетантизм и цех ученых. Цит. по: Г.Шпет. Цит. соч. С.22.
46
Там же.
47
Г.Г.Шпет. Цит. соч. С.24.
48
А.И.Герцен. С того берега. С.319.
49
К.С.Аксаков. Краткий исторический очерк Земских Соборов. Цит. изд. С. 279–280.
50
Он же. Несколько слов о русской истории, возбужденных историею г. Соловьева. Цит. изд. С.58, 55.
51
Он же. Краткий исторический очерк Земских Соборов. С.287.
52
Там же. С.284.
53
И.С.Аксаков. Письмо графине А.Д.Блудовой от 15.01.1862. Цит. по: Ранние славянофилы. Сост. Н.Л.Бродский. М., 1910. С.LIV–LV.
54
К.С.Аксаков. Записка о внутреннем состоянии России // Ранние славянофилы. С. 89–91.
55
И.С.Аксаков. Передовая газеты «День», 19 мая 1862. Цит. по: Ранние славянофилы. С.129.
56
А.С.Хомяков. По поводу статьи И.В.Киреевского… С.243.
57
Он же. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу одного послания Парижского архиепископа // Он же. Соч. в 2-х тт. Т.2. М., 1994. С.66.
58
Он же. Еще несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры. Цит. изд. С.209.
59
Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Изд.3. Париж, 1983. С.277.
60
С.С.Хоружий. Алексей Хомяков и его дело. II.6–7 // Он же. Опыты из русской духовной традиции. С. 169–204
61
А.С.Хомяков. По поводу отрывков, найденных в бумагах И.В.Киреевского // Он же. Полн. собр. соч., изд. 3. Т.1. С.283.
62
И.В.Киреевский. О возможности и необходимости новых начал для философии // Он же. Избранные статьи. М., 1984. С.262
63
Там же.
64
Г.Г.Шпет. Очерк развития русской философии. С.37.
65
Он же. Философское мировоззрение Герцена. С.75.
1
П.Лавринец. Полемика по поводу приглашения Льва Карсавина в Литовский университет // Контексты Льва Карсавина. Vilnius 2004. С.159.
2
П.Ивинский. Контексты Карсавина // Контексты Льва Карсавина. Vilnius 2004. С.25.
3
Ю.Мелих. Средний европеец — средний не религиозный человек // Контексты Льва Карсавина. Vilnius 2004. С.56.
4
Интервью г-жи Юлии Шалкаускас автору, Каунас, сентябрь 1993 г. Здесь и далее мы цитируем непубликовавшиеся стенограммы интервью, собранных С.С.Хоружим в Литве осенью 1993 г., в ходе работы над телефильмом «Любовь и смерть Льва Карсавина».
5
A.J.Greimas. Iš arti ir iš toli. Цит. по франц. пер. в статье: S.Žukas. Karsavin et le monde intellectuel lituanien (à travers les souvenirs de A.J.Greimas) // Revue des Études Slaves. 1996. T. 68(3). P.368.
6
См.: П.Ивинский. Цит. соч. С. 40–42.
7
Цит. по: F.Lesourd. Aperçu biographique // Lev Karsavine. Le poème de la mort. Lausanne. Editions L’Age d’Homme. 2003. P.166. Цитируемый документ подписан совместно Карсавиным и его двумя коллегами — историками.
2
Разумеется, в докладе мы не углубляемся в анализ этих кардинальных вопросов. Дальнейшее обсуждение их — лишь краткое резюме позиций, развитых и обоснованных в наших книгах: После перерыва. Пути русской философии. СПб., 1994; О старом и новом. СПб., 2000; Опыты из русской духовной традиции. М., 2005.
3
См.: С.С.Хоружий. Неопатристический синтез и русская философия // Он же. О старом и новом. С.40.
4
Иером. Василий (Кривошеин). Аскетическое и богословское учение св. Григория Паламы // Seminarium Kondakovianum (Прага). 1936. Т.VIII. С.149.
5
Подробней см. статью «Синергия» в нашем «Аналитическом словаре исихастской антропологии» (К феноменологии аскезы, с. 127–137).
6
См.: С.С.Хоружий. Очерки синергийной антропологии. М., 2005. С. 334–335.
7
Близкий к этому антропологизированный подход к истории проводится в исследованиях Фуко по истории безумия, наказаний и сексуальности.
8
Ф.Е.Василюк. Переживание и молитва. Опыт общепсихологического исследования. М., 2005. С.3.
1
М.Шелер. Человек и история // Макс Шелер. Избранные произведения. М., 1994. С.70.
3
М. Lot-Borodine. La déification de 1'homme. P., éd. du Cerf, 1970, p. 88—89.
4
Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1902—1903 гг.) СПб. 1906, стр. 427, 430.
6
Подчеркнем еще раз: этот способ, этот подход к человеку, впервые возник и сформировался в аскетике, в практике православного подвижничества, и долгое время оставался хранимым и развиваемым лишь в ее лоне. Отцы Церкви были искушенными аскетами, и однако, по очень многим причинам, вся богатейшая, живая стихия православного энергетизма лишь очень исподволь и не сразу начинала находить свое выражение в их писаниях. Положение радикально изменилось лишь с появлением паламитского богословия энергий. Именно этим определяется та особая, выделенная роль, которую играют в нашей работе аскетика и паламизм. Но мы, вместе с тем, далеки от мысли как-то вырывать и обособлять эти элементы из единого здания православной духовности. Связь их с другими краеугольными элементами этого здания несомненна и неразрывна. Так, в частности, важнейшее связующее звено между патристикой классического периода и богословием Паламы немедленно обнаруживается в творениях преп. Максима Исповедника.
8
Писано в 1978 г.; ныне положение начинает понемногу меняться. (Прим.1991 г.).
14
Энергийная онтология, на которую опирается наша концепция мистического опыта, описана нами в работе: С С. Хоружий. Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности. // Вопросы философии. 1997. № 6.
20
Архим. Софроний. О молитве. СПб. 1994. С. 81.
21
* Архим. Софроний. Видеть Бога как Он есть. С. 130.
22
** Там же.
23
Св. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолствующих. I 3, 33. С. 95.
26
К этому пункту можно сделать два замечания. Во-первых, термин «тренинг» не вполне адекватен, ибо по своей семантике обозначает скорей подготовительную, служебно-техническую деятельность: тренинг не самоценен, но совершается ради применения его результатов в некой иной деятельности, которая есть истинная самореализация человека. Разумеется, этой служебноети нет и не может быть в «онтологическом аутотренинге», и в свете сказанного, само сочетание «онтологический тренинг» есть, строго говоря, contradictio in adjecto. Тем не менее, мы прибегли к этому термину как хорошо передающему необходимые в «практике» моменты навыка и метода. — Во-вторых, можно провести структурную параллель с процессом в «токамаке», осуществлением управляемой термоядерной реакции в камере с магнитными стенками. В обоих случаях налицо те же две компоненты процесса: искомое — «трансцендирование», достигаемое путем кумулятивного фокусирования энергии; необходимое условие искомого — создание и энергийное (а не вещественно-субстанциальное) хранение-ограждение особого процессуального пространства: «магнитные стенки» в токамаке, стража внимания — в «практике». Параллель, конечно, чисто формальна и не должна выводиться за пределы общих элементов структуры.
28
Заметим, что именно здесь, в этой логике, – путь к верному философскому пониманию православного учения о Божественных энергиях и их действиях в человеке.
1
Таким образом, ранний этап развития исихазма, этап египетских и палестинских отцов-пустынников, лежит еще за рамками исихазма как культурного проекта. На этом этапе. традиция всецело занята формированием своих главных установок, основ исихастской практики, отсекая все, отвлекающее от этой работы. Поэтому отдельные эпизоды, в которых как-либо проявляется отношение к сфере интеллектуальной и культурной жизни, здесь носят еще характер частной реакции, скорее чем выражения сформировавшейся цельной позиции духовной традиции как таковой.
2
См. об этом., напр.: М. Скабалланович. Толковый типикон. М, 1995. С.439 и сл. (1-я пагинация).
1
Булгакове. Н. Свет Невечернип. М., 1917, с. 176.
3
Ср., напр., Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Комментарии к «Тимею» Платона. В изд.: Платон. Собр. соч., т. 3 (I). М., 1971, с. 658, 873.
4
Булгаков С. Н. Свет Невечерний, с. 241.
5
Булгаков С. Н. Агнец Божий. Париж, 1933, с. 133.
6
Булгаков С. Н. Свет Невечерний, с. 212–263.
7
Булгаков G. Н. Агнец Божий, с. 123,
8
Там же, с. 128.
9
Лосский В.,Спор о Софии. Париж, Щ?6, с. 82.
10
Шмеман А., свшц. Три образа. «Вестник РСХД», № 101–102, 1371, с. 21.
11
Булгаков С. Н. Философия хозяйства. 1912, с. 156
12
Там же, с. 141
13
Булгаков С. Н. Свет Невечерний, с. 354.
14
Т ам же.
15
Там ж е, о. 296.
16
Там ж е, с. 285,
17
См например, Булгаков С. Н. Богословие Евангелия Иоанна Богоелава. «Вестник РХД», 136, 4982, с. 59.
18
Булгаков С. Н. Софиология смерти. «Вестник РХД», 127, 1978, с. 37.
19
Там ж е, с. 41.
20
Булгаков С. Н. Невеста Агнца, с. 219.
21
Там же, с. 274.
22
Там же.
23
Там же, с. 583.
1
Логику, которую я развиваю здесь, однажды уже отлично выразил Густав Шпет: «Антропологизм, эпидемией пронесшийся по европейской философии в половине XIX века… только там может претендовать хотя бы на некоторое философское значение, где обращение к «человеку» есть не только спешное приобретение универсальной разгадки всех философских затруднений, но где в «человеке» усматривается новая философская проблема, через решение которой пробуждается надежда проникнуть в тайну действительности» (Г.Шпет. Философское мировоззрение Герцена. Пг., 1922, с.20. Курс. автора).
2
Приведем две исчерпывающие цитаты на сей предмет. О «народности»: «Читали предписание министра, как надо понимать нам нашу народность… Народность наша состоит в беспредельной преданности и повиновении самодержавию». (А.И. Никитенко. Дневник. Запись от 1 июня 1847 г.) О «православии»: «Симфония Власти и Церкви… всегда была в пользу Власти… вела к зависимости Церкви от Власти, а в худших случаях – и к серьезным нравственным отклонениям, к униженности и ослаблению творческого христианского духа» (В.Н.Топоров. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. II. М., 1998.С.515) Автор говорит здесь обо всем широком контексте русской истории с XV-XVI в., и ясно, что в этом контексте, уваровская концепция – именно «худший случай».
3
«Профиль» (Гл. ред. Мих.Леонтьев). № 44, ноябрь 2007.
4
См.: С.С.Хоружий. Человек Картезия // Точки – Puncta. 2004, №1-2(4); Неотменимый антропоконтур. 1. Контуры до-Кантова Человека. 2. Кантовы антропотопики. 3. Антиантропология классического немецкого идеализма // Вопросы философии. 2005, №№1,2. 2007, №6,7.
1
Гегель Г.В.Ф. Философия религии. Т.1. М.1975.С.220.
2
Там же. Т.2. М.1977.С.213.
3
M.Heidegger. Ph\"anomenologie und Theologie. Fr.a.M.1970.S.32.
4
P.Tillich. Systematic Theology. Lnd.1968.P.25.
5
Ib.P.31.
6
Г.В.Ф.Гегель. Лекции по истории философии.//Собр.соч. Т.XI. С.92.
7
Иеромонах Софроний. Старец Силуан. М.1991. С.153..
8
С.С.Хоружий. Подвиг как органон. Организация и герменевтика опыта в исихастской традиции // Вопросы философии 1998, вып.3, разд.II-B.
1
Б.В.Яковенко. Десять лет русской философии (1914–1924) // Логос. Международный Ежегодник по философии культуры. Ред. С.И.Гессен, Ф.А.Степун, Б.В.Яковенко. 1925, кн.1 (Прага). С.195.
2
Н,А,Бердяев. Русская религиозная мысль и революция // Версты (Париж). 1928, №3. С.59.
3
Б.В.Яковенко. Цит. соч. С.197.
4
Там же. С.196.
5
См.: С.С.Хоружий. Философский пароход // Он же. После перерыва. Пути русской философии. СПб. 1994. С. 189–208.
6
См., напр.: Л.Флейшман, Р.Хьюз, О.Раевская-Хьюз. Русский Берлин 1921–1923. По материалам архива Б.И.Николаевского в Гуверовском Институте. YMCA-Press, Paris, 1983. Russen in Berlin, 1918–1933. Eine kulturelle Begegnung / Hrsg. von Frietz Mierau. Weinheim–Berlin, 1988.Русский Берлин / Das russische Berlin, 1918–1941. Издание к выставке «Русский Берлин 1918–1941» в Государственном Историческом Музее 13–27 мая 2002. М. 2002.
7
Недавно опубликован детальный отчет о Берлинском периоде работы Академии, включающий роспись всех лекторов и прочитанных ими курсов: Г.Кульман. Отчет о Русской Религиозно-Философской Академии в Берлине. Публ. Р.Берда // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 2000 год. С. 198–205.
8
Б.Вышеславцев. Письмо к А.С.Ященко // Русский Берлин. С.260.
9
B.Jakowenko. Geleitwort // Der russische Gedanke. 1929/1930, Heft 1. S.1.
10
Н.Плотников. Европейская трибуна русской философии: Der russische Gedanke (1929–1938) // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1999 год. С. 337.
11
Н.О.Лосский. Воспоминания. Жизнь и философский путь. München. Wilhelm Fink Verlag. 1968. С. 222.
12
Там же. С.224.
13
В.В.Зеньковский. Зарождение РСХД в эмиграции (Из истории русских религиозных течений в эмиграции) // Вестник РХД. 1993, №168. С.20.
14
Там же. С. 21.
15
Братство святой Софии: документы (1918–1927) // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1997 год. Отв. ред. М.А.Колеров. СПб., изд. Алетейя, 1997. С.110.
16
М.Колеров. Сергей Николаевич Булгаков // Русское Зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века. Энциклоп. биогр. словарь. М., РОССПЭН, 1997. С.116.
17
Из числа первых философских событий в русском Париже можно назвать, напр., лекции Карташева «Религиозно-философские движения в начале ХХ столетия», Струве «Исторический смысл русской революции», ряд лекций Шестова. См.: La vie culturelle de l’émigration russe en France. Chronique (1920–1930). Établie par M.Beyssac. Paris, Presses Univ. de France, 1971. Pp. 10,12,13.
18
Н.А.Бердяев. Самопознание. Опыт философской автобиографии. YMCA-Press, Париж, 1949. С.283.
19
Позднее эти лекции были изданы: A.Kojève. Introduction à la lecture de Hegel. P.1947, расш. изд. 1962 и др. Из других книг Кожева наиболее важны: Essai d’une histoire raisonnée de la philosophie paienne. T.1-3. P.1968-1973. Le Concept, le Temps et le Discours. Essai d’une mise à jour du Systeme du Savoir hegelien. P. 1990.
20
E.Roudinesco. Jacques Lacan. Columbia University Press, NY, 1997. P.102.
21
П.Н.Савицкий. Комментарии к материалам Евразийского движения. Цит. по: К истории Евразийства. 1922–1924 гг. Публ. Е.Кривошеевой // Российский Архив. 1994, т.5. С.502.
22
Н.М.Зернов, в кн.: За рубежом. Белград – Париж – Оксфорд. (Хроника семьи Зерновых, 1921–1972). YMCA-Press, Париж, 1973. С.161–162. [Далее как «Хроника Зерновых»].
23
Н.О.Лосский. Цит.соч. С.227.
24
Там же. С.249.
25
О разделении диаспоры на «евлогианскую» и другие церковные юрисдикции см. ниже.
26
Более точно, с РСХД, а затем и с эмигрантскими организациями было непосредственно связано одно из звеньев YMCA, Всемирная Студенческая Христианская Федерация (ВСХФ), бессменным генеральным секретарем которой с 1895 по 1928 г. был Дж. Мотт (1865–1955). Именно Мотт был в тесном контакте с эмиграцией, и к нему адресовались многочисленные просьбы о поддержке начинаний последней.
27
Документальный материал об этом см. в публикации: Роберт Берд. YMCA и судьбы русской религиозной мысли (1906–1947) // // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 2000 год. Под ред. М.А.Колерова.М., О.Г.И., 2000. С.168сл.
28
Хроника Зерновых. С.104.
29
Там же. С.103.
30
В.В.Зеньковский. Цит. соч. С.28.
31
Там же.
32
Там же.
33
В.В.Зеньковский. Цит. соч. С. 23.
34
Хроника Зерновых. С.103-104.
35
Роберт Берд. Цит. соч. С.175,173.
36
Постановления Русского Всезаграничного Церковного Собора 1926 г. Протокол № 8 от 30 июня 1926 г. Цит. по: Хроника Зерновых. С. 154.
37
Митроп. Евлогий (Гергиевский). Путь моей жизни. М., 1994. С.409.
38
Хроника Зерновых. С.109.
39
Там же. С.146.
40
Митроп. Евлогий (Георгиевский). Цит. соч. С.410.
41
Там же.
42
Профессорско-преподавательский состав Института, перечень читаемых в нем курсов и другие аспекты его деятельности описывались в отчетах, регулярно публиковавшихся в трудах Института – богословских сборниках «Православная мысль», начавших выходить с 1928 г. См. напр.: Православная мысль №1, 1928 (Отчет за 1926–27 академический год); №2, 1930 (Отчет за трехлетие 1927–30 годов); №10, 1955 (Краткая летопись академической жизни за 1952 и 1953 гг.) и др.
43
Cвод публикаций членов этого сообщества, который велся Л.А.Зандером (1893–1964) вплоть до его кончины, составляет 5 томов. См.: List of the Writings of Professors of the Russian Orthodox Theological Institute in Paris. Ed. by L.A. Zander. Vv. I (1932) – V (1965). N.Y.
44
Митроп. Евлогий (Георгиевский). Цит. соч. С.413.
45
Ф.Г.Спасский. Краткая летопись академической жизни (1952 и 1953 гг.) // Православная мысль.1955, т.10. С.175.
46
Митроп. Евлогий (Георгиевский). Цит. соч. С.415.
47
Прот. В.Зеньковский. Духовно-воспитательная работа Богословского Института // Вестник РХД. 1985, № 145. С. 252.
48
Е.Н.Федотова. Георгий Петрович Федотов (1886–1951) // Г.П.Федотов. Лицо России. Сборник статей (1918–1931). YMCA-Press, Париж, 1967. С.XXVII.
49
Отчет о деятельности Православного Богословского Института за трехлетие 1927–1930 годов // Православная мысль. 1930, т. 2. С.207.
50
Митроп. Евлогий (Георгиевский). Цит. соч. С.523.
51
Хроника Зерновых. С.223.
52
Митроп. Евлогий (Георгиевский). Цит. соч. С.533.
53
A.Blane. A Sketch of the Life of Georges Florovsky // Georges Florovsky: Russian Intellectual and Orthodox Churchman. St Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, NY, 1993. P.85.
54
В.В.Зеньковский. Цит. соч.С.24.
55
A.Blane. Op.cit. P.73.
56
Хроника Зерновых. С.246.
57
Прот. Сергий Булгаков. У кладезя Иаковля (Ио. 4,23). О реальном единстве разделенной Церкви в вере, молитве и таинствах // Христианское воссоединение. Экуменическая проблема в православном сознании. Сб. статей. YMCA-Press, Париж, 1933. С.30.
58
Прот. Александр Шмеман. Русское богословие за рубежом // Русская религиозно-философская мысль ХХ века. Сб. статей под ред Н.П.Полторацкого. Питтсбург, 1975. С.86.
59
Н.О.Лосский. Цит. соч. С.296.
60
Fr. John Meyendorff. A Life Worth Living // Father Alexander Schmemann Endowment. Chair of Liturgical Theology. St.Vladimir’s Orthodox Theological Seminary. Crestwood, NY, s.d.
61
A.Blane. Op.cit. P.94.
62
Fr. Georges Florovsky. The Legacy and the Task of Orthodox Theology. Цит. по: A.Blane. Op.cit. P.92.
63
Н.О.Лосский. Цит. соч. С.296.
64
Прот. Александр Шмеман. Знаменательная буря. Несколько мыслей об автокефалии, церковном предании и экклезиологии // Вестник Рус. Зап.-Европ. Патриаршего Экзархата. 1971, №75-76. С.197.
65
Там же. С.201 (курсив автора).
66
Прот. Николай Афанасьев. Церковь Духа Святого. Рига 1994. С.91, 287.
67
Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Изд. 3. YMCA-Press, Париж, 1983. С. XV.
68
Там же. С.506, 508. (Курсив автора).
69
Н.О.Лосский. Цит. соч. С.257.
70
Fr. Georges Florovsky. The Responsibility of the Orthodox in America // The Russian Orthodox Journal. 1949. vol.6. Цит. по: A.Blane. Op.cit. P. 93.
71
Изложение и анализ этой аргументации даны в нашей работе «Неопатристический синтез и русская философия», вошедшей в книгу: С.С.Хоружий. О старом и новом. СПб., 2000.
72
Прот. Иоанн Мейендорф. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение. Пер. с фр. СПб. 1997. С.326.
73
Там же. Заметка «От редакции», без нумерации стр. Что касается потока публикаций по исихазму, то подготовленный нами капитальный свод этих публикаций (см.: Исихазм. Аннотированная библиография / Под общей и научной редакцией С.С.Хоружего. М.2004) насчитывает более 10 тыс. названий.
74
B.Jakowenko. Erklärung des Herausgegebers // Der russische Gedanke. 1929/1930, Heft 2. Цит. по: Н.Плотников. Цит. соч. С.338–339.
75
Г.В.Флоровский. Письмо к Н.С.Трубецкому от 17.10.1923 // Вестник РХД, 1993, № 168. С.67.
1
Хорошую иллюстрацию этого поворота можно найти в "Танцующей в темноте" фон Триера. Здесь типовые сюжетные и мизансценные элементы из Больших Дискурсов 30–х – 40–х годов – идейных, политических, производственных (к примеру, почти–цитаты из "Светлого пути" Григория Александрова) – демонстративно переводятся в личный план, в антропологический, индивидуальный дискурс, выражая сугубо приватную ситуацию героини. Первой же декларацией поворота был "Улисс" Джойса, где перипетии "Одиссеи", принадлежавшие у Гомера теокосмическому, историческому, социальному дискурсу, приватизировались – и тем самым, переводились в антропологический дискурс – с той же демонстративностью и вызовом. Напомним, что прежде кино столь же активно занималось обратным: оно всегда антропологично, всегда работает с человеком, однако усердно пыталось до основания социализировать человека, заставив антропологический дискурс выражать социальные, политические, производственные дискурсы. Все мастера советского кино были великими мастерами такого трюка – их для этого и держали. Сегодня же, выражая антропологический поворот, киноязык переходит от социализации приватного – к приватизации социального. Но верить ему и тут опасно: его пластичность огромна, и она делает его идеально пригодным к служебности, к "чего изволите".
2
Ж.Делез. Фуко. М., 1998. С.160.
3
Он же. Логика смысла. М., 1995. С.190.
4
Он же. Фуко. М., 1998. С.168.
5
Руссифицируясь, данный термин неизбежно меняет свой женский род на мужской.
6
Виртуальное общение в Сети можно считать как разновидностью эмпирического общения, так и самостоятельной парадигмой; но, вне зависимости от этого, суть его противоположна парадигме общения в Духовной Практике: если второе есть возведение эмпирического общения к бытийному, то первое – его низведение к еще более неполной, недовоплощенной, почти иллюзорной форме. Не исключено, впрочем, и появление неких компенсирующих факторов, неких своих нюансов, оживляющих эту форму; для окончательной оценки дело требует более подробного анализа.
7
Ле–цзы. // Чжуан–цзы. Ле–цзы. Пер. В.В.Малявина. М., 1995. С.300.
8
В этом свидетельстве нами соединены Макарий Великий (IV–V вв.), Симеон Новый Богослов (X–XI вв), авва Софроний (Сахаров, 1896–1993).
1
Определения и общие свойства отношений «ассоциированности» и «примыкания» между антропологическими практиками см. в нашей книге: С.Хоружий. Опыты из русской духовной традиции. М., 2005. С.19-20. Отметим, что здесь вновь – асимметричное отношение, хотя эстетические практики и обладают собственными богатейшими арсеналами весьма эффективных средств. Общей чертой этих эстетических арсеналов служит образование специфических «мыслечувственных комплексов», сцеплений интеллектуального и эмоционального содержания. Наглядный пример такого комплекса в действии дает, скажем, известная зарисовка Розанова: «Посмотришь на русского человека острым глазком... Посмотрит он на тебя острым глазком... И все понятно. И не надо никаких слов.» – В наших терминах, здесь представлена в чистом виде – «неаристотелева трансляция мыслечувственного комплекса».
2
Разумеется. в этом беглом тексте мы не входим в крупные академические вопросы о соотношении намеченной нами бинарной структуры с разнообразными описаниями строения художественного акта, известными в теоретической эстетике. В европейской мысли неизбежно доминировали структуры троичные, которые выдвигались на всех этапах истории; вдумчивый анализ основных современных версий таких эстетических триад проделан, к примеру, в недавней работе: Р.Берд. Катарсис – матезис – праксис: мистическая триада в эстетике Вяч. Иванова // Europa Orientalis. XXI, 2002 (1). C.288-302. Отсылая к ней за более подробной дискуссией, укажем лишь здесь, что критически важные черты нашего подхода – отнюдь не бинарность (которую нетрудно при желании детализировать в триадичность), но энергийность (отказ от отвлеченных эссенциальных категорий в пользу «энергийных», манифестационных и акционных) и антропологичность, прямая связь с антропологическими проявлениями. Вследствие этого, данный подход сближается не с российскими эстетическими построениями символизма и Серебряного Века (в частности, и не с упомянутою триадой Вяч.Иванова), но, прежде всего, с рецептивной эстетикой. Наша бинарная структура внутренне родственна триаде Х.-Р.Яусса «Poiesis – Aesthesis – Katharsis», поскольку эта триада трактуется своим автором как «продукция – рецепция – коммуникация», и ключевой третий член, «основное коммуникативное эстетическое переживание», по Яуссу, хотя и не выделяется нами в особую ступень, однако явно присутствует в нашем описании эстетического события. В истоке обоих подходов – та же назревшая тенденция к переводу эстетических концепций (а равно и других сфер гуманитарного знания) в антропологически фундированную эпистему.
1
Архимандрит Софроний (Сахаров). Рождение в Царство неколебимое. М., 2000, с. 71-72.
2
П.А. Флоренский. Письмо В.Ф. Эрну от 20 декабря 1912 г. // Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках. Сост. В.И. Кейдан. М., 1997. С. 499.
1
Статья для «Энциклопедии философских наук».
2
Против ересей. III.X.2 // Творения. М.1996.С.240
3
Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. I,. 8. Цит. по: Лосский В.Н. Мистическое богословие Восточной Церкви // Богословские труды. Т. 8. М. 1972. С. 32.
4
Архим. Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. М. 1996, C. 143.
5
Св. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих. М. 1995. С. 99.
1
Аристотель. Большая этика, 1187 a30; b6. Собр. Соч. в 4-х тт. Т. 4. М., 1984. (В дальнейшем, все цитаты из Аристотеля – по этому изданию).
2
Он же. Никомахова этика, 1178 a6.
3
Там же, 1139 b5.
4
Там же, 1098 a7.
5
Там же, 1177 a20.
6
Там же, 1178 а1.
7
Там же, 1177 b26.
8
Там же, 1177 b20,26.
9
Там же, 1179 а24,31.
10
Г.В.Ф.Гегель. Философия религии. Т.2.М.,1977.С.
11
Аристотель. Никомахова этика.1177 b32.
12
Он же. Физика. II, 4.196 а5-10.Цит.изд.Т.3.М.,1981.
13
Он же. Никомахова этика. 1113 а14.
14
Там же, 1112 b12.
15
Он же. Большая этика.1196 а2-3.
16
Там же.1180 а3.
17
В.И.Уколова. Комментарий // Боэций. Философские сочинения. М., 1990. С.390.
18
Боэций. Комментарии к Введению Порфирия к «Категориям» Аристотеля // Там же, с.73.
19
Он же. Против Евтихия и Нестория // Там же, с.172.
20
R.Descartes. Méditations sur la philosophie premiére. A Messieurs doyen et docteurs de la sacrée faculté de théologie de Paris // Id. Oeuvres et lettres. Prés. par A. Bridoux. P., Bibl. de la Pléiade, 2-me ed. 1987. P.260. (В дальнейшем, все ссылки на сочинения Декарта – по данному изданию. Все приводимые цитаты – наш перевод франц. текстов этих соч. Для соч., первоначально написанных Декартом по-латыни, авторизованные франц. переводы признаются более авторитетными текстами, играющими роль «последней авторской редакции» (см. замечания А.Бриду в указ. изд.).
21
Там же. P.259.
22
Он же.Entretien avec Burman.Loc.cit.P.1381.
23
Там же. Р.1391.Речь идет об объяснении, данном в «Началах философии» (кн.3) на базе идеи об особом роде давления, который не связан ни с каким движением.
24
В качестве неудачного прецедента дела Декарта можно вспомнить Луллия, Великое Искусство которого также возвещалось как эпистемологическая весть, однако не свершило никакой революции. Отнюдь не случайно Декарт упоминает Луллия в своем «Методе», и не случайно это упоминание пренебрежительно: «Искусство Луллия более служит не тому, чтобы узнавать вещи, о которых мы в неведении, а тому, чтобы, не разбирая их (sans jugement), о них говорить» (Discours de la Méthode. Loc.cit.P.137).
25
R..Descartes.Principes de la philosophie.Loc.cit.P.591.
26
1d.Discours de la Méthode. Loc.cit.P.147.
27
1b.P.145.
28
1d.Principes le la philosophie.Loc.cit.P.612.
29
1d.Discours de la Méthode.Loc.cit.P.148.
30
1d.Méditations.Loc.cit.P.301.
31
Ib.P.263.
32
Ib.P.479.
33
Id.Principes de la philosophie.Loc.cit.P.565.
34
Должно быть, конечно, и исключение, подтверждающее правило: в хорошую минуту, в разговоре с располагающим собеседником (молодым Бурманом), Картезий говорит о теологии совсем иначе.
35
R.Descartes. Méditations.Loc.cit.P.299.
36
1d.Principes de la philosophie. Loc.P.580.
37
1b.P.563.
38
1b.P.584.
39
1d. Méditations.Loc.cit.P.317.
40
1d.Principes de la philosophie.P.563.
41
Заметим, что Декарт нигде не принимает в рассмотрение самый стандартный аргумент: связь Бога и человека, познающего разума, может принять – более того, актуально приняла! – поврежденный характер отнюдь не вследствие «обмана Бога», но вследствие падения, падшего состояния человеческой природы. Формально, такое умолчание может оправдываться его установкой «воздержания от теологии». Однако, по существу, поскольку данное теологическое положение имеет прямые эпистемологические импликации, его неучет при построении эпистемологии заведомо не оправдан. В свете онтологических позиций Декарта (о них см. ниже), можно сказать, что de facto он признает предикат падшести за телесной природой, но не признает его за познающим разумом.
42
R. Descartes. Méditations. Loc.cit. P.300.
43
Ib. P.326.
44
Ib. P.390.
45
Ib. P. 310.
46
Id.Lettre а Mersenne de 16.X.1639.Loc.cit.P.1060.
47
Id.Méditations.Loc.cit.H.527.
48
Id.Lettre а Arnauld de 29.VII.1648.Loc.cit.P.1308.
49
Id.Recherche de la verité par la lumiére naturelle.Loc.cit.P.898-899.
50
Id.Principes de la philosophie.Loc.cit.P.561.
51
Id.Discours de la Méthode.Loc.cit.P.144.
52
Id.Principes de la philosophie.Loc.cit.Pp.606-609.
53
Ib.P.608.
54
Lettre а Elisabeth, princesse de Bohкme, de 1. XI. 1645. Loc. cit. P. 1203.
55
Id. Méditations. Loc. cit. P. 281.
56
Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P.585.
57
Ib. P. 590.
58
Id. Méditations. Loc. cit. P. 307.
59
Ib. P. 536.
60
Ib. P. 395.
61
Ib. P. 306.
62
Id. Lettre а Mersenne de 27. IV. 1637. Loc. cit. P. 963.
63
Id. Méditations. Loc. cit. P. 318.
64
Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 654.
65
Ib.
66
Id. Passions de l’âme. Loc. cit. P. 710.
67
Id. Méditations. Loc. cit. P. 539.
68
Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 664.
69
Ib. P. 663.
70
Id. Méditations. Loc. cit. P. 391.
71
Ib.
72
Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 594.
73
Мы указали бы, пожалуй, всего один важный пункт в учении Декарта, где существенно используются манипуляции субстанциями: это как раз доказательство дихотомии, совершенного различия мыслящей и протяженной субстанций. Не раз повторяемое, оно всегда имеет своим ядром положение, сформулированное в Геометрическом изложении как Дефиниция X: «Две субстанции реально различны, если каждая из них способна существовать без другой».
74
R. Descartes. Méditations. Loc.cit. P. 368-369.
75
Ib. P. 329.
76
Вл. С. Соловьев. О грехах и болезнях // Он же. Соч. в 2х тт. т.1. М. 1989. C.527.
77
R. Descartes. Méditations. Loc. cit. P. 329.
78
С.С. Хоружий. О старом и новом. СПб. 2000. с.391.
79
R. Descartes. Méditations. Loc. cit. P. 369.
80
Id. Entretien avec Burman. Loc. cit. P. 1381.
81
См. примеры в книге: С.С. Хоружий. Цит.соч. С.393-394.
82
R. Descartes. Méditations. Loc. cit. P. 528.
83
Ib. P. 447.
84
Ib. P. 326.
85
Id. Les passions de l’âme. Loc. cit. P. 705.
86
Ib.
87
Ib. P. 704.
88
Ib. P. 707-708.
89
Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 592.
90
Id. Les passions de l’âme. Loc.cit. P. 705.
91
Ib. P. 715.
92
Ib. P. 695.
93
Ib. P. 722-723.
94
Ib. P. 728.
95
Ib. P. 794.
96
Хоружий С.С. К феноменологии аскезы. М. 1998. С.214-216.
97
R. Descartes. Les passions de l’âme. Loc. cit. P. 759.
98
Id. Méditations. Loc. cit. P. 445.
99
Ib. P. 406.
100
Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 583.
101
Id. Méditations. Loc. cit. P. 263.
102
I. Kant. Einleitung zu Logikvorlesung. Цит. по: М. Heidegger. Kant und das Problem der Metaphysik. Fr. a. M. 1965. S. 187-188.
103
M. Heidegger. Kant und das Problem der Metaphysik. 3 Aufl. Fr. a. M. 1965. S. 15.
104
I. Kant. Kritik der reinen Vernunft. Hamburg 1993. S. 74.
105
Ib. S.148.
106
Ib. S. 149. (Курсив Канта).
107
M. Heidegger. Op. cit. S. 68.
108
Ib. S. 87-88.
109
I. Kant. Op. cit. S. 214.
110
Ib. S. 232. (Курсив Канта).
111
M. Heidegger. Op. cit. S. 111.
112
Ib. S. 115.
113
Ib. S. 22.
114
Ib. S. 116.
115
Ib. S. 25.
116
Ib. S. 115.
117
I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. Hamburg 1963. S 159. (Курсив Канта).
118
Ib. S. 157.
119
Id. Kritik der reinen Vernunft. S. 336.
120
Ib. S. 192.
121
Id. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Ges. Schriften. Bd. 7. Berlin 1907. S. 167.
122
Id. Kritik der reinen Vernunft. S. 341.
123
Первой попыткой историки признают здесь текст Ф. Гельдерлина «Суждение и бытие» (1795, опубл. 1961; приношу признательность проф. П. Элену (Мюнхен) за указание на эту работу). При этом, у Гельдерлина понятие не только вводится, но и играет решающую роль в трактовке когнитивной проблемы, давая возможность провести идею его «философии объединения» (Vereinigungsphilosophie) об изначальном единстве, в котором снимается противостояние субъекта и объекта (ср.: «В понятии разделения уже заложено понятие взаимной связи субъекта и объекта и необходимое предположение целого, частями которого служат объект и субъект». F. Hölderlin. Urtheil und Seyn // Id. Sämtl. Werke. München 1992. Bd. II. S. 50).
124
I. Kant. Kritik der reinen Vernunft. S. 341
125
Ib.S. 303-304.
126
Ib.S. 439-440.
127
Ib.S. 421.
128
Ib.S. 423.
129
Ib.S. 518.
130
В качестве продолжения старой темы «Кант и черт» в русской мысли (недавнее ее резюме см. в статье А.В. Ахутина «София и черт. (Кант перед лицом русской религиозной метафизики)», Вопросы философии. 1990, N 1, c. 51-69), напомним, что в знаменитом русском романе описано превращение субъекта – управдома Николая Ивановича – именно в «перевозочное средство», с выдачею и справки о том. При этом, указанное превращение совершается дьявольскими силами и входит в организацию бала сатаны – аналогом коего и оказывается, таким образом, конституция чистого познания у Канта.
131
I. Kant. Op. cit. S. 420, 426.
132
Ib. S. 421.
133
M. Heidegger. Op. cit. S.138.
134
I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. S.151.
135
Ib. S 23.
136
Ib. S. 24, 29-30.
137
Ib. S. 31.
138
Трактовка предиката Achtung у Канта весьма любопытна, и представляло бы интерес отдельно рассмотреть ее антропологическое содержание. Хайдеггер находит, в частности, что кантово «почитание конституирует сущность личности как нравственное Я (Selbst)… оно должно представлять собой некоторый род самосознания». (M. Heidegger. Op. cit. S. 143).
139
I. Kant. Op. cit. S.148-149.
140
Ib. S. 152. (Курсив Канта).
141
Ib. S. 4.
142
Id. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Ges. Schriften. Bd. 6. Berlin 1907. S. 170.
143
Id. Kritik der praktischen Vernunft. S. 168.
144
K. Vorländer. Einleitung // I. Kant. Op. cit. S. XLI.
145
I.Kant. Op. cit. S. 102.
146
Id. Kritik der Urteilskraft. Stuttgart 1991. S. 426.
147
Ib. S. 429. (Курсив Канта).
148
Ib. S. 432.
149
Ib. S. 428.
150
Ib. S. 435, 436.
151
Id. Kritik der reinen Vernunft. S. 317.
152
Ib. S. 283. (Курсив Канта).
153
См. Хоружий. С.С. К феноменологии аскезы. С.229.
154
I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. S. 140-141.
155
Ib. S. 97.
156
Н. Fuhrmans. Schelling im Tübinger Stift, Herbst 1790 – Herbst 1795 // Materialien zu Schellings philosophischen Anfängen. Frankfurt a. M. 1975. S. 68.
157
I.G.Fichte. Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794). Hamburg, F.Meiner Verlag. 1961. S. 55, 64, 178.
158
Ib., S. 24, 50, 26, 27.
159
Ib., S. 138.
160
Ib., S. 18.
161
Ib., S. 109.
162
Id. Die Bestimmung des Menschen (1800) // Fichtes Werke. Hrsg. von I. H.Fichte. Bd. II. Berlin. Walter de Gruyter & Co. 1971. S. 225, 257. (Курс. Фихте).
163
Ib., S. 203, 221.
164
Ib., S. 239.
165
Ib., S. 246.
166
Ib., S. 241.
167
Ib., S. 245.
168
Ib., S. 248.
169
Ib., S. 249.
170
Id. Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre. S. 56.
171
Id. Die Bestimmung des Menschen. S. 263.
172
Ib. 261.
173
Ib.
174
Ib., S. 288.
175
Id. Цит. по: F.Medicus. Einleitung // I.G. Fichte. Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre. S. XXIX.
176
Ib.
177
Id. Die Bestimmung des Menschen. S. 259.
178
Id. Das System der Sittenlehre. Цит. по: F. Medicus. Op. cit. S. XI.
179
Id. Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre. S. 179.
180
Ib., S. 210.
181
Ib., S. 204, 205.
182
Ib., S. 211.
183
Ib., S. 206.
184
Ib., S. 213.
185
Данный аргумент направлен против обвинений в атеизме (недавних, во время написания текста).
186
I.G. Fichte. Aus einem Privatschreiben (1800) // Fichtes Werke. Bd. V. S. 392, 394, 395. (Курс. Фихте).
187
Id. Die Bestimmung des Menschen. S. 287, 286.
188
Ib., S. 315.
189
Ib., S. 317.
190
Ib., S. 288.
191
Ib., S. 282.
192
Ib., S. 298.
193
Ib., S. 315.
194
Ib., S. 316.
195
Напомним, что с принятием кантовской редукции религиозной сферы, «вечная бесконечная воля» не может быть и волей Божией, волей Провидения.
196
I.G.Fichte. Die Bestimmung des Menschen. S. 277.
197
Id. Über die Würde des Menschen // Fichtes Werke. Bd. I. S. 414.
198
Id. Anweisungen zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre // Fichtes Werke. Bd. V. S. 401.
199
Id. Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre. S. 202.
200
G.W.F.Hegel. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. § 387. Здесь и далее – наш перевод, по изданию «Энциклопедии»: Hrsg. von F.Nicolin, O. Pöggeler. Berlin, Akademie – Verlag. 1966.
201
Ib.
202
Ib., § 90.
203
A.B. Ахутин. Dasein // Он же. Поворотные времена. СПб., изд. Наука. 2005. С.
204
G.W.F. Hegel. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. § 405. (Курсив Гегеля ).
205
Ib., § 406.
206
Ib., § 410.
207
Ib.
208
Ib. (Курсив Гегеля).
209
Ib. (Курсив Гегеля).
210
Ib., § 411.
211
Id. Philosophie der Religion // G.W.F. Hegel. Werke. Bd. 17. Suhrkamp Verlag. Fr.a.M. 1969. S. 252.
212
Id. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. § 390.
213
Ib., § 514.
214
См. об этом, в частности: С.С.Хоружий. Алексей Хомяков и его дело // Он же. Опыты из русской духовной традиции. М., 2005.
215
G.W.F.Hegel. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. § 433.
216
Б. Рассел. История западной философии. М., 1959. С. 758.
217
G.W.F.Hegel. Philosophie der Religion. S. 277.
218
F.W.J.Schelling. Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit. Düsseldorf, Verlag L. Schwann. 1950. S. 42.
219
G.W.F.Hegel. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. § 474.
220
F.W.J. Schelling. Über das Wesen deutscher Wissenschaft. Цит. по: H.Fuhrmans. Zur Einführung // F.W.J.Schelling. Op. cit. S. XLIII.
[1]
М.Мерло-Понти. Знаки. М., 2001. С. 192.
[2]
См., например: С.С.Хоружий. О духовной традиции вообще и о русской в частности // Он же. Опыты из русской духовной традиции. М., 2004.
[3]
См. выше в этой книге текст «Насущность подвига. Феномен православной аскезы как междисциплинарная проблема».
[4]
Отошлем к нашей «Феноменологии аскезы» за демонстрацией принципиального отличия этих методик, порой достигающих настоящей жестокости к себе, от психопатологических явлений, внешне иногда сходных.
[5]
Л.С.Выготский. О психологических системах // Он же. Собр. соч. Т.1. М., 1982. С.131.
[6]
См. С.С.Хоружий. К феноменологии аскезы. М., 1998. С.117-119.
[7]
См., напр., С.С.Хоружий. После перерыва. Пути русской философии. СПб., 1994. Сс.76, 175 и др.
[8]
Там же. С.175-176 и др.
[9]
См. прежде всего начальный текст этой книги, «Человек: Существо, трояко размыкающее себя».
[10]
Понятие размыкания, das Erschliessen, вводит также Хайдеггер в «Бытии и времени», и в нашем употреблении этого понятия есть некоторая близость к хайдеггеровской аналитике Dasein, образа бытия человека.
1
Расширенный вариант доклада на Международной конференции «Христианская аскетика и мистика: западная и восточная традиция в сравнительном освещении» (Москва, 3–5 сентября 2012 г.)
2
Символ (Москва — Париж), 2007. № 52. С. 13–50. (Англ. оригинал опубл. в 1992 г.)
3
М. Мерло — Понти. Знаки. М., 2001. С. 192.
4
P. Brown. The body and society. Men, women and sexual renunciation in Early Christianity. Columbia University Press, 1988. P. 235–236. Цитата в цитате — из поучений аввы Орсисия.
5
Ib. P.235.
6
Св. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих. II,2,9. М., 1995. С.166.
7
См. напр.: С.С.Хоружий. Феномен православной аскезы как междисциплинарная проблема // Он же.
8
См. выше статью «Православное покаяние как антропологический феномен».
9
Преп. Иоанн Синайский. Лествица. Слово 1,8. Сергиев Посад, 1894. С.22.
10
P. Brown. Loc. cit. P.222.
11
Отошлем к нашей «Феноменологии аскезы» за демонстрацией принципиального отличия этих методик, порой достигающих настоящей жестокости к себе, от психопатологических явлений, внешне иногда сходных.
12
Авва Дорофей. Душеполезные поучения и послания. Тула, 1991. С. 47–48.
13
Преп. Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседования, 12, 7 // Он же. Писания. Св. — Троицкая Сергиева Лавра. 1993. С.390.
14
M. Foucault. Le combat de la chasteté // Dits et écrits. II, 1976–1988. Paris, 2001. P.1124.
15
Преп. Иоанн Кассиан Римлянин. О постановлениях киновитян. VI, 6 // Он же. Цит. изд. С.76.
16
См., напр. о сведении ума в сердце: К феноменологии аскезы. С. 105–109; о соединении внимания и молитвы: Там же. С. 109–112; в целом, о соматике Умного Делания: Там же. С. 119–126. См. также: Феномен православной аскезы как междисциплинарная проблема. С. 195–205.
17
Метод священной молитвы и внимания // Путь к священному безмолвию. Малоизвестные творения отцов — исихастов. Сост., общая редакция, предисловие и примечания А. Г. Дунаева. М., 1999. С.23.
18
J. — Cl. Larchet. Théologie du corps. Paris, 2009. P.82.
19
Л. С. Выготский. О психологических системах // Он же. Собр. соч. Т.1. М., 1982. С.131.
20
См.: Св. Григорий Палама. Цит. соч. I.2,2. С.42; С. С.Хоружий. К феноменологии аскезы. С. 117–119.
21
Преп. Иоанн Синайский. Цит. соч. 30, 18. С.260.
22
См. прежде всего: С. С.Хоружий. Концепты духовной практики и отверзания чувств // Он же. О старом и новом. СПб., 2000. С. 353–420. Также: К феноменологии аскезы. С. 162–172, 298–302.
1
Заметим, что трактовка темы соборности у Булгакова, данная в «Очерках учения о Церкви» (1925-1929) и «Православии» (1932), не является частью его софиологии, ибо не использует ее специфических понятий и положений.
2
А. С. Хомяков. По поводу отрывков, найденных в бумагах И. В. Киреевского // Он же. Полн. собр. соч., изд.3. М., 1900. Т.1. С.283.
3
Детальное рассмотрение богословия соборности дано в наших работах: С. С.Хоружий. Богословие соборности и богословие личности: Симфония двух путей православного богомудрия // A. S.Khomiakov: Poet, Philosopher, Theologian. Holy Trinity Seminary Press. Jordanville, 2004. P.38-65; С. С.Хоружий. Алексей Хомяков и его дело // Он же. Опыты из русской духовной традиции. М., 2005. С.61-204.
4
А. С. Хомяков. Письмо к редактору «L’Union Chrétienne» о значении слов «кафолический» и «соборный»,
По поводу речи иезуита отца Гагарина // Он же. Полн. собр. соч. Т. II, изданный под ред. Ю. Самарина. Сочинения богословские. Прага, 1867. С. 275-283.
5
Он же. Еще несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры // Там же. С. 101.
6
См.: С. С.Хоружий. Хомяков и принцип соборности // Он же. После перерыва. Пути русской философии. СПб., 1994.
7
Г. В. Флоровский. Пути русского богословия. 3 изд. Париж, 1983. С.277.
8
К. С. Аксаков. Краткий исторический очерк Земских Соборов // Он же. Полн. собр. соч. Т.1, изд. 2. М., 1889. С.279-280.
9
Н. Ф. Федоров. Философия общего дела. Т.1. Верный, 1906. С.565.
10
Н. А. Бердяев. А. С.Хомяков. М., 1912. С. 196.
11
С. Л. Франк. Духовные основы общества // Русское Зарубежье. Лениздат, 1991. С.300, 304.
12
Там же. С.307.
13
Там же. С.308.
14
Там же. С.352.
15
Там же. Сс.359, 361.
16
В. В. Зеньковский. История русской философии. Т.2. Париж, 1989. С.403.
17
П. И. Новгородцев. Восстановление святыни // Он же. Сочинения. М., 1991. С.578.
1
А.С.Хомяков. Примечание к статье: Голос грека в защиту Византии // Он же. Полн. собр. соч. М., 1914. Т.3. С.367.
2
Второй Ватиканский Собор. Постановление об Экуменизме Unitatis redintegratio, 15. Цит. по: Апостольское послание «Свет с Востока»… Ватикан, 1995. С. 13–14.
3
Апостольское послание «Свет с Востока»… Ватикан, 1995. С. 35–36.
4
Г.Острогорский. История Византийского государства. М., 2011. С.64.
5
Н.Н.Алексеев. Христианство и идея монархии // Путь (Париж). 1927. № 6.С.21 (Репр. изд. М., 1992).
6
Ж.Дагрон. Император и священник. Этюд о византийском «цезарепапизме». СПб., 2010.С.369.
7
В.С.Соловьев. Философские начала цельного знания // Он же. Полн. собр. соч. в 20 тт. Т.2. М., 2000. С.200
8
П.В.Безобразов. Очерки византийской культуры. Пг., 1919.С.56, 59.
9
Ж.Дагрон. Цит. соч. С.6.
10
Там же. С.172.
11
С.Рансимен. Византийская теократия // Он же. Восточная схизма. Византийская теократия. М., 1998.С.142.
12
Г.Л.Курбатов. Политическая теория в ранней Византии // Культура Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984.С.98.
13
Протопресвитер Иоанн Мейендорф. История Церкви и восточно-христианская мистика. М., 2003.С.160.
14
Прот. А.Шмеман. Исторический путь Православия. Париж, 1989.С.104, 195.
15
Ж.Дагрон. Цит. соч. С.372, 367.
16
D.Martin. Religiöse Antworten auf Formen des Säkularismus // Den Säkularismus neu denken. Religion und Politik in Zeiten der Globalisierung. Fr.a.M. 2010. S.59.
17
В.В.Бибихин. К византийской антропологии // Точки — Puncta. 2001. Т. 3–4(1). С.25.
18
А.Мусин. Послесловие переводчика // Ж.Дагрон. Цит. соч. С.417.
19
Ф.Степун. Бывшее и несбывшееся. Т.2. Нью-Йорк, 1956. С.429.
20
С.Рансимен. Цит. соч. С.226.
1
Преп. Максим Исповедник. Письма. СПб., 2008. С.212
2
Иеромонах Софроний. Старец Силуан. М., 1991. С.153.
3
Прот. Иоанн Мейендорф. Православное богословие в современном мире // Православие в современном мире. Нью-Йорк, 1981. С.175 (курсив автора).
4
См.: С.С.Хоружий. Конституция личности и идентичности в перспективе опыта древних и современных практик себя // Вопросы философии. 2007. №1. С.75-85.
5
Рус. пер. см.: Символ (Париж – Москва), 2007. №52. С.13-50.
2
Прим. при подготовке к печати. Когда писался доклад, автору не было известно о выходе в свет в Вильнюсе Выпуска I «Архива Л.П.Карсавина». В данном выпуске его составитель, проф. П.И. Ивинский, опубликовал три начальных раздела обсуждаемой рукописи (см.: Л.П. Карсавин. О времени // Архив Л.П. Карсавина. Вып. I. Вильнюс 2002. Стр. 132–185).
3
Номера страниц при цитатах отвечают находящейся у докладчика машинописной копии работы. Можно предположить, что под «вмешательством чекистов» автор имеет в виду обыск и изъятие папок с незаконченной философской работой, которые последовали за арестом Ирины, старшей дочери философа, 12 марта 1948 г. (об этом событии он говорит в заявлении от 29 марта, направленном Военному прокурору Литовского военного округа и опубликованном в вышеуказанном выпуске «Архива Л.П. Карсавина»). Если эта гипотеза верна, написание данных разделов рукописи датируется еще точней: периодом с 12 марта 1948 по 9 июля 1949 г.
1
Шаламов В. Поезд.- «Новый мир»* 1988, № 6, с. 142.
2
Наряду с В л. Соловьевым и А. С. Хомяковым «пореволюционная» мысль относила к своим учителям и Η. Ф. Федорова, зорко усмотрев в пем точку сближения всех главных слагаемых чаемого нового миросозерцания: аутентичной народной духовности, русской религиозной философии и революционной идеологии с ее пафосом материального преобразования мира.
3
С т е п у н Ф. А. Об общественно-политических путях «Пути». «Современные записки», Париж, 1926, № 29, с. 445.
4
См. «Воля России». Прага, 1923, № 15, с. 93.
5
Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. 2-е изд. Париж, 1972, с. 30.
6
Карсавин JL П. Философия истории. Берлин, 1923, с. И.
7
Т а м ж е, с. 327.
8
Там ж е, с. 329.
9
Т а м ж е, с. 325.
10
Он ж е. О смысле революции. «Евразия», Париж, № 1 (24.XI.1928).
11
О н же. Оценка и задание. «Евразия», Париж, № 3 (8.XII.1928).
12
См. Берберова H. Н. Курсив мой. Мюнхен, 1983, с. 693.
13
Сравним: «Тогда мысль и развивается, тогда и становится свободною, когда ее всемерно угнетают и преследуют» (Карсавин Л. П. Философия и BKП. «Евразия», Париж, № 20, 6.1 V.1929).
14
Мнрскй Б. Трон ц алтарь. «Воля России». Прага, 1923, № 14, с. 40.
15
Герцен А. И. Былое и думы. Сочинения в 9-ти тт., т. 5. М., 1956, с. 157.
16
Карсавин Л. П. О личности. Каунас, 1929, с. 165
1
С.С.Хоружий. Диалогическая природа христианской метафизики Карсавина // Revue des Études Slaves, 1996, v. 68(3), 346–351.
2
С.С.Хоружий. Жизнь и учение Льва Карсавина. § 6. Историко-философская панорама // Он же. Пути русской философии. СПб, 1994.
1
Ср. хотя бы у Иоанна Кантакузина: «Император ромеев… созвал собор в досточтимом божественном храме Премудрости Слова Божия». Письмо епископу Иоанну // Сочинения Иоанна Кантакузина. СПб., 1997. С. 297.
2
А. Н. Муравьев. Путешествие к святым местам в 1830 году. Ч. I. СПб., 1883. С. 50-51.
1
Ф. Гро. О курсе 1982 года // М. Фуко. Герменевтика субъекта. СПб., 2007 С. 558, 563.
3
Ф. Гро. Цит. соч. С. 570.
4
A propos des faiseurs d’histoire. DE II, 328. P. 1232. Mutatis mutandis, установку «рефлексирования в истории» можно методологически сопоставить с установкой «философствовать в религии, окунувшись в ее среду», которую выдвигает Флоренский в начале «Столпа и утверждения истины»: обе они призывают вобрать в самое философию фундирующий ее опыт.
5
Le combat de lachastet6 [Битва целомудрия]. DE II, 312. P. 1114–1127.
6
Subjectivity et vdritd. DE II, 304. P. 1032.
7
Usage des plaisirset techniques desoi. DE II, 338. P. 1364.
8
Здесь и ниже, цифры в скобках после цитат — ссылки на цит. издание «Герменевтики субъекта». Заметим, что иногда цитаты могут быть не из Курса 1982 г., но из неопубликованных текстов Фуко, обширно цитируемых Ф. Гро в сопроводительных материалах.
9
Хотя отдельные замечания говорят о достаточной определенности его позиций в этой проблематике, а весь его «новый курс» в перспективе с неизбежностью выводил и к весомому новому слову в ней.
10
Ср.: «Фуко как-то сказал мне, что он находился под влиянием моей первой статьи, которая была посвящена понятию “обращения”». (П. Адо. Духовные упражнения и античная философия. М.-СПб., 2005. С. 367.) Эта фраза П. Адо прозвучала в ответ на вопрос интервьюера, где высказывалось более общее утверждение: «в конце своей жизни Мишель Фуко вплотную заинтересовался техниками себя, практикой себя под влиянием Вашей идеи духовного упражнения». (Там же).
11
Впрочем, изредка, в обзорных исторических рассуждениях, он позволяет себе говорить о «заботе о себе» в обобщенном смысле, примеряя ее к эпохам вне того тысячелетия, которое сам отводит для ее реальных исторических форм.
12
Ср., напр.: «Динамичное взаимодействие, перекличку vvS0i aeai)t6v и ёлщёХыа ёаитоО… вы обнаружите на всем протяжении истории греческой, эллинистической и римской мысли… с разным удельным весом, с различным распределением элементов самопознания и заботы о себе… Именно это переплетение является, на мой взгляд, очень важным» (85).
13
Ср., напр.: «Что представляет собой отношение субъекта к истине? Что это за субъект истины, что такое субъект, высказывающий истину?… исходя из Хайдеггера, я пытаюсь размышлять обо всем этом» (214).
14
Вскоре после кончины Фуко и с отсылом к разработкам его концепций практик себя и заботы о себе, это различие тщательно анализировал Поль Рикер. Он, однако, его рассматривал в ином аспекте, нежели Фуко и мы: с его помощью он передавал «примат рефлексивного опосредования непосредственной позиции субъекта, как та выражается в первом лице единственного числа: ”я мыслю”, ”я существую”». (77. Рикер. Я-сам как другой. М., 2008. С. 15). Конечно, в обоих случаях различие привлекается в видах ревизии Декартовой субъектологии, но стратегии ревизии оказываются весьма разными.
15
Рассмотрение генезиса субъекта в свете проблемы индивидуации дается нами выше в главе о Декарте (глава 3).
16
Le retour de la morale. DE II, 354. P. 1525. (Жирный шрифт наш.)
17
Une esthdtique de l’existence. DE II, 357. P. 1552.
18
Ж. Делез. Переговоры. СПб., 2004. С. 124.
19
Там же. С. 151, 155.
20
Там же. С. 125.
21
Le souci de soi. Paris, 1984. P. 57.
22
О христианском понятии аскезы (подвига) см.: С.С. Хоружий. К феноменологии аскезы. М., 1998. С. 72–82.
23
Ср. хотя бы: «Практика себя… вписывается в особенные, предполагающие влюбленность отношения между учителем и учеником» (232).
24
П. Адо. Цит. соч. С. 341.
25
П. Адо. Цит. соч. С. 23.
26
The Use of Pleasure. The History of Sexuality, vol. 2. Viking, 1985. P. 249.
27
lb. P. 93.Разумеется, это утверждение остается условным, покуда основные тексты Фуко о «христианской модели» нам недоступны. Но «Краткое содержание» Курса 1980 г. и опубликованный фрагмент «Признаний плоти» подтверждают его.
28
Выраженный здесь взгляд, отражающий известную фукианскую идею «эстетики существования», не разделяется, однако, Адо. Он говорит, что стоические трактаты «Об упражнении», дающие «систематическую кодификацию» духовных упражнений, существовали, но оказались утрачены; однако у Филона Александрийского имеются два перечня упражнений, которые он и воспроизводит: Перечень 1. Поиск, углубленное исследование (охйфи;), чтение, слушание, внимание, самообладание (£у>Ф&те1а), безразличие к безразличным вещам. Перечень 2. Чтения, медитации, врачевание страстей, воспоминания о том, что есть благо, самообладание, исполнение должного. (Я Адо. Цит. соч. С. 25).
29
Разумеется, это утверждение остается условным, покуда основные тексты Фуко о «христианской модели» нам недоступны. Но «Краткое содержание»
Курса 1980 г. и опубликованный фрагмент «Признаний плоти» подтверждают его.
30
Ненормальные. СПб., 2004. С. 271.
31
Прот. Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. Нью-Йорк. 1982. С. 190–191.Ф. Ницше. К генеалогии морали. С. 524.P. Brown. The Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. Columbia University Press, 1988. P. XVI.
32
См. С.С. Хоружий. К феноменологии аскезы. М., 1998. С. 72–73.
33
Le souci de la vdritd. DE II, 350. P. 1491.
34
Ф. Ницше. К генеалогии морали. С. 524.
35
P. Brown. The Body and Society. Men, Women
36
Du gouvernement des vivants. DE II, 289. P. 945.
37
Michel Foucault. Les rdponses du philosophe. Dits et 6crits I, 1954–1975. № 163. Paris, Gallimard, 2001. P. 1677. Далее ссылки на это издание даются как DE I, с указанием номера текста. Аналогичная, но более развернутая и углубленная дефиниция признания дана в т. 1 «Истории сексуальности», см.: М. Фуко. Воля к истине. М., 1996. С. 161.
38
Les techniques de soi. DE II, 363. P. 1624.
39
lb. Р. 1626–1627. Publicatio sui — у Тертуллиана, синоним экзомологезы.
40
lb. Р. 1631.
41
lb. Р. 1628.
42
Du gouvernement des vivants. P. 946–947.
43
Les techniques de soi. P. 1628.
44
lb.
45
lb.
46
lb.
47
Du gouvernement des vivants. P. 947.
48
Les techniques de soi. P. 1629.
49
Du gouvernement des vivants. P. 948.
50
Le combat de la chastetd. P. 1118.
51
lb. P. 1121. В цитате — парафразы из «Собеседований» Кассиана (XII,2).
52
Преп. Иоанн Кассиан Римлянин. Писания. Св. — Троицкая Сергиева Лавра, 1993. С. 390.
53
Le combat de la chastet6. P. 1124, 1126.
54
lb. P. 1126.Le sujet et le pouvoir. DE II, 306. P. 1048.
55
lb. Р. 1120, 112
56
Le sujet et le pouvoir. DE II, 306. P. 1048.
57
Преп. Иоанн Кассиан Римлянин. Цит. соч. С. 76.
58
Д. Эрибон. Мишель Фуко. М., 2008. С. 50.
59
Ср., напр., мнение Адо: «Его описание практик себя… не только является историческим исследованием: он хочет ненавязчиво (discrfetement) предложить современному человеку модель жизни» (П. Адо. Духовные упражнения и античная философия. С. 302).Usage des plaisirs et techniques de soi. DE II, 338. P. 1364.
60
Usage des plaisirs et techniques de soi. DE II, 338. P. 1364.
61
Les techniques de soi. P. 1604.
62
lb.
63
lb.
64
Французская subjectivity предоставляет рус. переводу выбор между «субъективностью» и «субъектностью». По смыслу, я выбираю второй вариант, удачно подчеркивающий, что речь идет не о специфической перспективе, вносимой субъектом («субъективность»), а о самом основоустройстве субъекта как такового, особом «субъектном» модусе бытия.
65
Foucault. DE II, 345. P. 1452.
66
lb. P. 1453–1454.
67
Introduction. DE I, 1. P. 94.
68
lb. P. 95.
69
Michel Foucault. Les rdponses du philosophe. P. 1685.
70
Духовность при этом получает особое (пере)определение: это — «те поиски, практика и опыт, посредством которых субъект производит в себе самом изменения, необходимые для того, чтобы получить доступ к истине» (27).
71
Перед нами лекция философа, а не подготовленная им книга, и Фуко здесь не поправил себя: разумеется, отделение богословия от духовности на основе Аристотеля, а точней, Аристотеля в весьма специфической редакции Фомы, никак не могло совершаться «с конца 5 в.». Без Аристотеля (препарированного) это отделение не могло обрести своего фундамента, и до этапа схоластики тенденция к оттеснению «духовности», умалению ее роли лишь сквозила у некоторых богословов — как то, прежде всего, у Абеляра.
72
Qu’est-ce que les Lumibres? DE II, 351. P. 1506–1507.
73
La technologie politique des individus. DE II, 364. P. 1633.П. Адо. Цит. соч. С. 356.
74
П. Адо. Цит. соч. С. 356
75
Он же. Что такое античная философия? М., 1999. С. 278, 280.
76
См. Qu’est-ce que les Lumifcres? P. 1506.
77
A propos de la g6n6alogie de l’6thique: un aper^u du travail en cours. DE II, 326. P. 1206. NB: это — версия интервью, отличная от цит. выше DE II, 344.
78
Le retour de la morale. DE II, 354. P. 1525. Признание того, что поздний стоицизм не избежал элементов принудительной морали, порождает постепенное смещение внимания Фуко к киникам, которых в такой морали было не заподозрить.
79
lb. Р. 1517.
80
The Use of Pleasure. P. 92.
81
The Use of Pleasure. P. 92.
82
lb. Р. 1435–1436.
83
Вообще говоря, Фуко проводит различие между этикой и моралью (о чем см., напр.: Ж. Делез. Переговоры. СПб., 2004. С. 133, 151), но в данном контексте оно не играет роли.
84
A propos de la généalogie de l’éthique: un aperçu du travail en cours. DE II, 344. P. 1443.
85
De l’amitte сотте mode de vie. DE II, 293. P. 982.
86
lb. P. 983–984.
87
lb. P. 984.
88
Le triomphe social du plaisir sexuel: une conversation avec Michel Foucault. DE II, 313. P. 1128–1129.
89
lb. P. 1129.
90
Ф. Гро. Цит. соч. С. 578.t
91
П. Адо. Духовные упражнения и античная философия. С. 286, 288.
92
Там же. С. 321.
93
A propos de la gdndalogie de l’dthique: un apenju du travail en cours. DE II, 344. P. 1443.94
94
S. Kierkegaard. Entweder — Oder. Jakob Hegner Verlag, Koln, Olten, 1968. S. 902.Michel Foucault, une interview: sexe, pouvoir et la politique de l’identit£. DE II, 358. P. 1562, 1561, 1557.
95
Michel Foucault, une interview: sexe, pouvoir et la politique de l’identit£. DE II, 358. P. 1562, 1561, 1557
96
lb. P. 1557.
97
Как нетрудно заметить, эта немаловажная установка элиминирования дискурса «большинства» из антропологии проводится Фуко вполне решительно во всех его набросках антропологического проекта для современности. Что же касается его капитальных штудий античных антропоформаций, то здесь эта установка присутствует тоже, но уже — как ненавязчивая и не выпячиваемая тенденция. Так, во втором томе «Истории сексуальности» анализ сферы эротики включает лишь педерастию, «ухаживание за отроками», меж тем как гетеросексуальная эротика упоминается между строк в качестве мелочи, не идущей к делу и анализа не заслуживающей.
98
Д. Эрибон. Цит. соч. С. 349.
99
"Там же. С. 48.
100
Michel Foucault, une interview: sexe, pouvoir et la politique de l’identitd. P. 1554.
101
П. Адо. Цит. соч. С. 301.
102
S. Kierkegaard. Loc. cit. S. 824, 825, 728.
103
П. Адо. Цит. соч. С. 300.
104
S. Kierkegaard. Loc. cit. S. 825.
105
По-видимому, этот стереотип вообще входил в практикуемые Фуко способы обращения с идеями предшественников. JI. Альтюссер, один из его философских учителей, пишет так: «В русле его [Фуко] идей и под его пером смысл выражений, заимствованных у меня, превратился во что-то прямо противоположное» (цит. по: Д. Эрибон. Цит. соч. С. 83). В свете этого, можно предположить, что именно эту свою особенность Фуко имеет в виду, говоря о разном своем отношении к другим философам: «Для меня существует три категории философов: Философы, которых я не знаю, философы, которых я знаю и о которых говорю; философы, которых я знаю и о которых не говорю» (Le retour de la morale. P. 1522). Если предположение верно, то Кьеркегор и Альтюссер принадлежат в мире Фуко к этой третьей категории, причем ее определение весьма смягчено: в нее входят авторы, чьи идеи Фуко, используя, наделяет противоположным смыслом.
107
Трактовка Обращения в духовной практике на основе онтологической аналитики Зова — Отклика дана в моих текстах: Православное покаяние как антропологический феномен // Кривица и noKajaH>e. Зборник радова петог, шестог, седмог философско-богословског симпосиона у дане светих Кирила и Методща (1999, 2000, 2001). Никши; Цетин>е, 2002. 86–94; Трилогия Границы: Три текста о духовной практике. 2. Смерть и неприятие смерти // О старом и новом. СПб., 2000. С. 421–451.
108
В Западном христианстве издавна утвердилось заметно иное, сниженное отношение к покаянию: с ним не связывалось какого-либо онтологического аспекта, а признавалась лишь юридическая функция «восстановления отношений» покаявшегося грешника с Богом и «икономическая» функция поддержания некоторого стабильного порядка религиозной жизни.
109
Довольно сходным образом видит ядро «себя» и психоанализ, отчего в отношении к нему Фуко всегда присутствовал элемент сдержанного неприятия.
110
Здесь можно вспомнить, что у стоиков всегда присутствовала идея единого управляющего центра человеческого существа, «ведущего начала» (тд fjyc^ovixov), которое обычно отождествлялось с разумом. В свете этого, дистанция между двумя традициями вполне наглядна: если угодно, «ум- епископ» есть также своего рода «ведущее начало», однако же не имманентное, не исходно наличное, а обретаемое, формируемое, и не совпадающее с умом, а епископствующее над ним — или точней, представляющее собою ум, поставленный Богом, внеположным истоком, во епископа.
111
Мы не касаемся здесь вопроса о пастырстве, отношении священника к пастве, которое строится не на одном личном общении, но имеет в реальном социуме весьма смешанную природу.
112
Св. Феодор Студит. Подвижнические монахам наставления //Добротолю- бие. Т. 4. Св. — Троицкая Сергиева Лавра, 1992. С. 631.
113
G. Deleuze. Foucault. Paris, Ed. de Minuit, 1986. P. 139.
114
Совпадение не является полным за счет ряда пунктов: Делез говорит о силах, а не энергиях и рассуждает в русле топологической динамики, в котором не предполагается онтологического размыкания («силы возвышения к бесконечному» далеко не то же что «энергии внеположного истока»), а категории внутреннего и внешнего (по отношению к человеку) понимаются иначе, чем в синергийной антропологии.
115
См. выше в разделе «Язык концепции».
116
Полезно здесь сделать уточнение: феномены смешанности, наложения форм предельного опыта наличествуют и у современного человека. В духовных практиках, в современной психологии и психиатрии, хорошо известны явления, в которых онтологическое (аутентично религиозное) смешивается и сращивается с бессознательным. Синергийная антропология сопоставляет этим феноменам наложения форм «гибридные» топики Границы; в частности, смешениям элементов духовной практики с паттернами бессознательного сопоставляется «топика прелести», включающая феномены аскетической демонологии. Но важно заметить, что эти феномены смешения в современном сознании, вообще говоря, отнюдь не тождественны архаической первичной неразличенности топик. В современном сознании происходит действительное смешение и/или сращивание двух разных стихий, различие которых известно сознанию и им признано. В архаическом же сознании никаких двух стихий еще нет, и налицо собственно не смешение, а отсутствие разделенно- сти, неведение о том, что стихий, хотя бы в потенции, две, а не одна. Две эти ситуации должны порождать в сознании процессы разного типа. Поскольку же это различие процессуальности практически не отмечено и не исследовано в науке, возникает опасность смешения уже в ее сфере: смешения шаманизма с явлениями аскетической демонологии и с духовной практикой. Синергийная антропология позволяет отчетливо разделить все три феномена, относя их к разным антропоформациям: первый — к Пред-Топическому Человеку, второй — к гибридной «топике прелести», третий — к Онтологической топике. И в связи с усиленным интересом к шаманизму, к другим видам примитивной религиозности в современных психотехниках и духовных течениях, такое разделение должно быть полезным.
117
А.А. Россиус. Введение // Ф. Ницше. Рождение трагедии. М., 2001. С. 37. С этим напоминанием ассоциируется целый комплекс проблем пред- топической антропологии и персонологии. Укажем здесь лишь, что анализ «трагической субъективности» выводит и к общему вопросу, не только антропологическому, но также культурфилософскому: как соотносится с разделением Онтологической и Онтической топик знаменитая дихотомия аполло- нического и дионисийского начал в античном сознании и культуре?
118
Преп. Феофан Затворник // Умное делание о молитве Иисусовой. Сборник поучений св. Отцов и опытных ее делателей. Сост. игумен Валаамского монастыря Харитон. Изд. 3. М., 1992. С. 132–133.
119
М.Ж. Кондорсе. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936. С. 15.
120
См.: С.С. Хоружий. Эвтанасия // Очерки синергийной антропологии. М., 2005. С. 110–124.Ставшее популярной формулой название сборника: Who comes after the Subject? Ed. by E. Cadava, P. Connor, J.-L. Nancy. N.-Y., 1991. См. о нем Гл. 9, раздел I.Ж. Делез. Переговоры. СПб., 2004. С. 199.
121
Ставшее популярной формулой название сборника: Who comes after the Subject? Ed. by E. Cadava, P. Connor, J.-L. Nancy. N.-Y., 1991. См. о нем Гл. 9, раздел I
122
Ж. Делез. Ницше и философия. М., 2003. С. 324
123
Ж. Делез. Переговоры. СПб., 2004. С. 199.
124
М. Бланшо. Опыт-предел // Танатография Эроса. СПб., 1994. С. 69.
125
Ср., напр.: «Как же он смешон — этот мыслитель… Когда Боске говорит о вечной истине раны, то это говорится от имени личной, отвратительной раны, которую он носит в собственном теле. Когда Фицджеральд и Лоури говорят…. они говорят от имени всех выпитых литров алкоголя… Когда Арто говорит… это уже речь со дна шизофрении. Каждый из них чем-то рисковал и шел при этом до конца; отсюда их неоспоримое право на сказанное. Что же остается на долю абстрактного мыслителя, дающего мудрые советы…? Не пора ли наконец стать профессионалами в этих областях?… Нам следует быть немножко алкоголиком, немножко сумасшедшим, немножко самоубийцей, немножко партизаном-террористом». Ж. Делез. Логика смысла. М., 1995. С. 190.
126
Entretien avec Michel Foucault. DE II, 281. P. 862.
127
Стоит указать, что в синергийной антропологии отношение между предельным опытом и опытом в феноменологической (интенциональной) парадигме существенно иное. Сфера предельного опыта здесь расширяется за счет опыта Онтологической топики, который ни Фуко, ни Делезом не признается в качестве автономного вида предельного опыта. Тем не менее, он является таковым, и, как мы видели, входящий в него опыт сознания в модусе трезвения, будучи предельным опытом, в то же время обладает природой интенционального опыта. Вместе с тем, коренное отличие опыта Онтической топики и, в частности, опыта трансгрессии, от интенционального опыта не подлежит, конечно, сомнению.
128
И точно так же сомнительна и спорна «чистая имманентность» в рисуемой Фуко общей схеме субъективации в эллинистических практиках: «Имманентность учреждается от себя к себе. Все упражнения направлены на то, чтобы между мной и мной установилось прочное и совершенное отношение, которое можно представить себе, например, в политико-юридической форме» (581). Спросим: если искомое «отношение себя к себе» должно подчиняться политико-юридической форме — разве же эта форма имманентна, находима субъектом в самом себе? Нет, разумеется; в описываемой субъективации она выступает как трансцендентный фактор, и субъект конституируется здесь вовсе не имманентно, а как «политико-юридическое животное». Однако процитированный пассаж — не точные слова Фуко, это — пересказ Гро, и можно допустить, что слова о «политико-юридической форме» им неосторожно добавлены. Но вот уже точный Фуко: «То “себя”, с которым здесь соотносятся, — это не что иное как само это отношение… в итоге, это имманенция, а лучше сказать, онтологическое соответствие себя отношению к себе» (581). Как легко видеть, тот же вопрос наш остается и тут. То «чистое отношение», что утверждается здесь как конституирующий телос практики себя — заведомо не произвольно, это некое должное отношение. Спросим: но откуда берется форма должного отношения? Источник этой формы, трансцендентный процессу субъективации, и есть подлинный конституирующий субъективацию телос, а не само отношение как таковое, которое на поверку оказывается еще не последней инстанцией.
129
См. С.С. Хоружий. О старом и новом. С. 424–434.
130
Ф. Гро. Цит. соч. С. 581.
131
Здесь возникает и несколько побочный вопрос о том, как следует квалифицировать, с позиций синергийной антропологии, опыт тех практик себя, что удовлетворяют условию Фуко — сохраняют «неприкасаемое ядро себя». Как мы видели, они заведомо не могут быть духовными практиками; но более определенный ответ зависит уже от содержания ядра. В эллинистических практиках, обсуждаемых Фуко, это ядро «себя» не включает предельных антропологических проявлений и, соответственно, их опыт не является опытом Антропологической Границы, а конституируемый в них тип субъектности отвечает некоторой участняющей конституции человека (в сущности, близким образом оценивал стоические практики Кьеркегор). Но в версии, предлагаемой Фуко для современности, главное содержание, так сказать, «ядро ядра», есть способ получать удовольствие, а телос практик, «цель — это испытание удовольствия и его возможностей». Это уже иной род опыта, ибо такая цель определенно отвечает страсти, страстному устроению человека, которое связано с бессознательным и формируется антропологическими проявлениями из Онтической топики. Это означает, что эстетика существования в современном варианте Фуко антропологически не идентична античной эстетике существования, которая, вообще говоря, не культивировала страстей (напротив, чаще вела борьбу с ними) и не конституировала субкультур на их основе. Сходные суждения высказывал и Делез. Он также находит в последнем проекте Фуко «призыв к страсти» и отмечает отличие этого проекта от античной культуры себя: «Мы не возвращаемся к грекам, когда исследуем те модусы, которые вырисовываются сегодня» (Переговоры. С. 125)). Однако на этом сближение с Делезом кончается. В духовных практиках, как мы выше замечали, пребывание в страстном состоянии расценивается как пребывание в плену, рабство человека — нечастый случай, когда в этих практиках используется язык власти. Отсюда, в дискурсе духовных практик, с их позиций, прокламируемое философом «творчество себя» как изобретение новых сильнейших удовольствий есть род рабского существования, а смерть самого Фуко от СПИДа — смерть раба, наказанного своим господином, страстью.
132
Макарий Египетский. Наставления о христианской жизни // Добротолю- бие. Т. 1. С. 274.
133
Архим. Софроний (Сахаров). Видеть Бога как Он есть. Эссекс, 1985. С. 164, 177.
134
В.Н. Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Богословские труды. Т. 8. 1972. С. 97.
135
Свящ. Сергий Мансуров. Очерки из истории Церкви // Богословские труды. Т. 7. 1971. С. 109–110.
136
Св. Исаак Сирин. Слова подвижнические. М., 1993. С. 201.
137
Не следует смешивать этого автора 5 в. н. э. с упоминавшимся выше стоиком 1–2 вв.
138
Ср. хотя бы: «Должно быть наконец признано право каждого убить себя, когда он пожелает, и в пристойных условиях… Если б я выиграл миллиард в лотерею, я создал бы институт, куда люди, желающие умереть, приходили бы провести уикенд, неделю или месяц в наслаждении, может быть, в наркотиках, чтобы потом исчезнуть, как бы стереться…». Un systfeme fini face к une de- mande infinie. DE II, 325. P. 1201.
139
Ж Делез. Переговоры. С. 150.
140
Un plaisir si simple. DE II, 264. P. 778–779.
141
Ф. Ницше. Сумерки идолов. С. 612.
142
Ср., напр.: «Феноменологический субъект был дисквалифицирован во второй раз психоанализом, после того как он был уже дисквалифицирован лингвистической теорией». Structuralisme et poststructuralisme. DE II, 330. P. 1254.
143
Ф. Гро. Цит. соч. С. 576.
144
Разумеется, мы имеем здесь в виду прямой «этимологический» смысл термина, а отнюдь не знаменитый концепт раннего Фуко, нагруженный, в первую очередь, историко-культурным измерением.
1
С.С.Хоружий. Диалогическая природа философского творчества Карсавина // Revue des Etudes slaves, Paris, LXVIII/3, 1996, p.333.
2
Детальное обсуждение проявлений анти-антропологизма в русле классической метафизики дано в нашей критической ретроспективе этого русла. См.: С.С.Хоружий. Человек Картезия // Точки — Puncta. 2004, № 1–2(4); Неотменимый антропоконтур. 1. Контуры до-Кантова Человека. 2. Кантовы антропотопики. 3. Антиантропология классического немецкого идеализма // Вопросы философии. 2005, №№ 1,2. 2007, № 6,7.
3
Название коллективного сборника, который выпустили ведущие западные философы в 1991 г.
4
Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках. СПб., 1997. С.26. (Здесь и далее, ссылки без указания автора — на работы Карсавина.)
5
Saligia // Л.П. Карсавин. Малые сочинения. СПб., 1994. С.45.
6
Noctes Petropolitanae. Цит. изд. С.156, 165.
7
Там же. С.169.
8
Философия истории. СПб., 1993. С.316.
9
О началах. СПб., 1994. С.182.
10
Там же.
11
Там же. С. 182–184.
12
Апологетический этюд // Малые сочинения. С.380.
13
О личности // Л.П. Карсавин. Религиозно-философские сочинения. Т.1. М., 1992. С. 24–25.
14
Там же. С.25.
15
Там же. С.26.
16
Там же. С.65.
17
Там же. С.62.
18
Там же. С.175. Это положение, характерное для Карсавина, утверждается им неоднократно — ср., напр.: «Весь мир есть личное бытие, актуализирующееся отчасти в человеческих личностях, отчасти же существующее зачаточно (в так называемой живой природе) или потенциально (в неодушевленной природе)» (Проблема учения об ангелах (ангелология) // Символ (Париж), 1994. Т.31. С.364). Оно сближает карсавинскую мысль с руслом гилозоизма в мировой философии — в частности, с мыслью Дж. Бруно, в русской философии — с конкретным идеал-реализмом Н.Лосского и др. — и может рассматриваться как выражение ее своеобразного «пан-персонализма».
19
Там же. С.26.
20
Там же. С.187.
21
Там же. С. 171–172.
22
Там же. С.87.
23
Там же. С.142.
24
Там же. С.144.
25
Там же. С.68.
26
См. об этом: Д.И.Макаров. Через Свет Фаворский к Божественной перихорезе: основные моменты богословия обожения св. Феофана Никейского // Символ (Париж-Москва), 2007, № 52. См. также наши замечания к этой статье (цит. изд., с. 500–501), где аргументируется, что подобная идея связана с эссенциалистской онтологией сущностной причастности мира Богу.
27
Церковь, личность и государство // Малые сочинения. С. 419–420.
28
Феноменология революции. Тверь. 1992. С.59.
29
Церковь, личность и государство. С. 420–421.
30
Н.А.Бердяев. О рабстве и свободе человека. Париж, 1972. С.30.
31
О личности. С.176.
1
См., напр.: С.С.Хоружий. От антропологической прагматики к антропологической эвристике: стратегии развития синергийной антропологии. (Доклад в Семинаре ИСА 12.09.2007 г.) // Точки – Puncta, 2007, № 2.
2
С.С.Хоружий. Очерки синергийной антропологии. М., 2005, с. 327-367.
3
Так определяет этот род А.В.Ахутин в наших «Диалогах об опыте»: «Трансцендирование определенного опыта человеческого бытия в возможность иного самоопределения человека». См.: А.В.Ахутин, С.С.Хоружий. Диалоги об опыте. 1. Опыт в философии и религии: отправляясь от Канта // Точки – Puncta. 2007, №2.
4
У Витгенштейна эти черты не столь очевидны, но, тем не менее, они отчетливо выявлены в витгенштейновских штудиях В.В.Бибихина. См., напр.. раздел «Сказать и показать» в его книге о Витгенштейне, где он квалифицирует метод Витгенштейна как «упражнения в зрении», замечая, что эти упражнения «пригодны, чтобы разобраться в нашем человечестве» (В.В.Бибихин. Витгенштейн: смена аспекта. М., 2005. С.47).
1
Novalis. Die Christenheit oder Europa. Ein Fragment // Id. Dichtungen und Prosa. Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, 1975. S.446.
2
С.С.Аверинцев. Христианство // Новая Философская энциклопедия. Т.4. М., 2001. С.306.
3
Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер. Вера — истина — толерантность. Христианство и мировые религии. М., 2007. С. 90, 130.
4
Там же. С.92.
5
Прот. Артемий Владимиров. О целостности христианского миросозерцания и о том, каким должен быть православный миссионер // Современная православная миссия. Екатеринбург, 2010. С.62, 73.
6
П.Тиллих. Христианство и встреча мировых религий // Он же. Теология культуры. М., 1995. С.425.
7
С.С.Хоружий. К феноменологии аскезы. М., 1998. Он же. Очерки синергийной антропологии. М., 2005.
8
П.Тиллих. Цит. соч. С.434.
1
Заметим, что именно здесь, в этой логике, – путь к верному философскому пониманию православного учения о Божественных энергиях и их действиях в человеке.
2
Модели идентичности, отвечающие разным топикам границы, обсуждаются нами ниже в цикле «Шесть интенций на бытийную альтернативу».
3
См. сборник: Who comes after the Subject? Ed. by E.Cadava, P.O’Connor, J.-L.Nancy. N.-Y.,1991.
4
Если не говорить об элементарной категории вещественных объектов, доступных, сменяемых и заменяемых.
5
P. Hadot. Exercices spirituels et philosophie antique. Paris 1981. Pp.54,56.
6
Здесь ярко видна характерная античная – и, в особенности, позднеантичная – типология парадигмы духовных упражнений. Идеал отношений человека со смертью рисуется в соответствии со стоической диалектикой господства-рабства и варварства-просвещения: «возвышение мысли» доступно всякому, доступно и рабу; и раб (смертный), возвысившийся мыслью, достигает равенства и даже превосходства над своим господином (смертью). И как стоическая диалектика господства-рабства не остановила крушения рабовладельчества, так парадигма духовных упражнений не стала убедительною моделью отношения к смерти, способной развенчать и вытеснить иные пути, на которых человек пытался не быть рабом смерти.
7
Для понимания исторических судеб «контрпрограммы» важно учитывать, что она стоит на всецело энергийной основе и не имеет основы эссенциальной. В ней развертывается «следование Зову», икономия Зова—Отклика, и это – сугубо энергийная, но не эссенциальная икономия. Если связь человека с Внеположным Истоком носит исключительно характер Зова—Отклика, то человек не может сопоставлять Внеположному Истоку не только никаких «субстанций», но равно и никаких «сущностей»: весь его опыт, включая мистический и откровенный, не содержит для этого оснований. (Поэтому христианское богословие указывает, что Божественная Сущность, Усия, в обычном философском аристотелианском понимании не есть сущность, а должна характеризоваться лишь апофатически, как «Сверх-Сущность»). Отсюда – важное следствие: связь с Внеположным Истоком не может и служить основанием ни для каких эссенциальных, нормативных дискурсов в горизонте человеческого существования – нормативной этики, эстетики, права и т.д. Все такие дискурсы лишь конвенциональны, основаны на произвольных (пусть сколь угодно полезных или правдоподобных) постулатах; они не конституируются из самой онтологической ситуации Человека и не могут составлять необходимого элемента «контрпрограммы», вся специфика которой именно в том, что она работает прямо с этою ситуацией.
8
Св. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих, I. 2.2. Пер. В.Вениаминова [В.В.Бибихина]. М., 1995. С.42.
9
Ж.Лакан. Семинары. Кн.1: Работы Фрейда по технике психоанализа (1953-54). М., 1998. С. 161.
10
С.С.Хоружий. О старом и новом. Санкт-Петербург, 2000. С.345.
11
К.Скотников. Новая Ичкерия – Новосибирская зона художественного сепаратизма // Художественный журнал. 2000. №33. С.29.
12
Ж.Делез. Логика смысла. М., 1995. С.190.
13
Н.А.Носов. Виртуальная цивилизация // Виртуальные реальности в психологии и психопрактике. Ред. Н.А.Носов, О.И.Генисаретский. М.,1995. С.109.
14
Ж.Бодрийяр. Войны в Заливе не было. Пер. Галины Курьеровой // Художественный журнал. 1994. №3. С.33.
15
Заметим, что подобное убывание вполне совместимо с глобализацией, хотя она означает, казалось бы, рост связности планетарного существования. С разрастанием размеров системы растет число дальних связей, однако при этом могут пресекаться, отмирать связи более ближние и более существенные для жизни; а также может убывать и средняя, «удельная» интенсивность связей.
16
В.О.Пелевин. Generation «П». М., 2000. С.144-145.