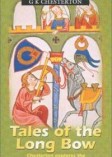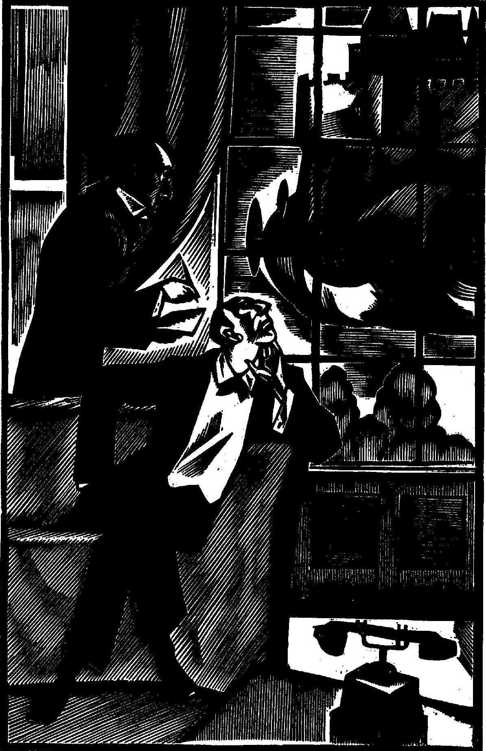НЕПРИГЛЯДНЫЙ НАРЯД ПОЛКОВНИКА КРЕЙНА
В этих рассказах речь пойдет о делах, которые невозможно совершить, в которые невозможно поверить и о которых, как воскликнет измученный читатель, невозможно читать. Если мы без пояснений скажем: «Все это — правда», вы вспомните о корове, перепрыгнувшей через луну, и о глубоком человеке, проглотившем самого себя. Словом, рассказы эти невероятны; тем не менее лжи в них нет.
Само собой разумеется, невероятные события начались в самом чопорном и скучном уголке света, в самое скучное время, а первым их героем стал самый скучный из людей. Место действия — прямая дорога в лондонском пригороде, разделяющая два ряда надежно защищенных коттеджей. Время действия — без двадцати одиннадцать, то есть как раз тот момент, когда процессия местных жителей, одетых по-воскресному, торжественно шествует в церковь, а герой по фамилии Крейн — весьма почтенный полковник в отставке, тоже направлявшийся в церковь, как направлялся он всегда в этот час. Между ним и его соседями не было заметной разницы; пожалуй, только, он был еще незаметней, чем они. Так, его дом звался Белой Хижиной, что все же звучит не столь заманчиво, как Рябиновая Заводь или Вересковый Склон. В церковь он оделся как на парад; но он вообще одевался так хорошо, что никто не назвал бы его хорошо одетым. Он был довольно красив, хотя и несколько иссушен, как бы прожарен солнцем. Его выгоревшие волосы могли сойти и за блекло-русые, и за седые, а светло-голубые глаза смотрели чуть сумрачно из-под приспущенных век. Полковник был своего рода пережитком. На самом деле ему едва пошел пятый десяток, и последние ордена он получил на последней войне. И все же он был военным довоенной поры — той поры, когда на каждый приход полагалось по одному полковнику. Было бы несправедливо назвать его ископаемым; скорей уж он окопался и хранил традиции так же терпеливо и твердо, как не покидал окопов. Он просто не любил менять привычки и слишком мало думал об условностях, чтобы их нарушать. Привычек у него было много: так, он ходил в церковь к одиннадцати, не предполагая, что несет с собой дух добрых традиций и английской истории.
В то утро, выйдя из дому, он вертел в руках клочок бумаги и против обыкновения хмурился. Он не пошел прямо к калитке, а прошелся по садику, размахивая черной тростью. Потом постоял немного, глядя на красную маргаритку, притаившуюся в углу клумбы; наконец его бронзовое лицо оживилось, и глаза засветились весельем, что, впрочем, заметили бы немногие. Он сложил записку, сунул в жилетный карман и направился за коттедж, в огород, где старый слуга по имени Арчер, мастер на все руки, трудился в тот час над грядками.
Арчер тоже был пережитком. Оба они пережили многое, что прикончило других людей. Они вместе прошли войну и были очень преданы друг другу, но Арчер так и не утратил удручающей лакейской важности и выполнял обязанности садовника с достоинством дворецкого. Выполнял он их прекрасно, быть может — потому, что для умного горожанина огород и сад весьма привлекательны. Но всякий раз, когда он сообщал: «Я высадил рассаду», казалось, что он говорит: «Я подал херес», а вопрос: «Нарвать морковки?» звучал как «Еще вина, сэр?».
— Надеюсь, вы не работаете по воскресеньям? — сказал полковник, улыбаясь куда приветливее, чем всегда, хотя и вообще был человеком вежливым.— Вы слишком увлеклись огородом. Скоро станете заправским крестьянином.
— Я собирался обследовать капусту, сэр,— страдальчески четко выговорил крестьянин.— Ее вчерашнее состояние не показалось мне удовлетворительным.
— Хорошо, что вы не остались при ней на ночь,— сказал полковник.— Впрочем, вы очень кстати занялись капустой. Я как раз хотел о ней потолковать.
— О капусте, сэр? — почтительно переспросил слуга.
Но полковник как будто забыл о ней и, рассеянно замолчав, пристально глядел куда-то. Сад и огород полковника, как и шляпа его, и пальто, и манеры, были ненавязчиво безупречны. Там, где росли цветы, царил какой-то старый, старее коттеджа, дух. Аккуратная живая изгородь была густа, как в дворцовом саду, и самая ее искусственность напоминала скорее о королеве Анне, чем о королеве Виктории. Пруд, выложенный по краю камнем и окруженный ирисами, казался классическим озерцом, а не искусственной лужей. Стоит ли гадать о том, почему душа человека и уклад его жизни так влияют на обстановку? Как бы то ни было, душа Арчера пропитала огород. Арчер был человек дела и свое новое занятие воспринял на редкость серьезно. В отличие от сада, огород выглядел не искусственным, а по-сельски живым. Даже деревенские хитрости были тут: клубнику покрывала сетка от птиц, висели крест-накрест усаженные перьями веревки, а посреди самой большой грядки торчало старое пугало. Его одиночество разделял и оспаривал другой самозваный гость — на самом краю огорода стоял божок из тропиков, уместный тут не больше, чем скребок для чистки обуви. Полковник не был бы таким законченным служакой, если бы не отдал дань любви к путешествиям. Когда-то он увлекался этнографией и привез этого божка. Однако сейчас он смотрел не на божка, а на пугало.
— Кстати, Арчер,— сказал он,— вам не кажется, что пугалу нужна новая шляпа?
— Не уверен, сэр,— серьезно сказал садовник.
— Нет, посудите сами,— возразил хозяин,— что такое пугало? В теории, увидев его, простодушная птица должна подумать, что я гуляю в огороде. Boт то существо в непотребной шляпе — это я! Не совсем точный портрет. Я бы сказал, в духе импрессионизма. Тот, кто носит такую шляпу, никогда не будет строг к воробью. Борьба характеров, то-се — и, поверьте, воробей победит. Кстати, что это за палка там привязана?
— По-видимому, сэр,— сказал Арчер,— она изображает ружье.
— Под таким углом ружье не держат,— заметил Крейн.— И вообще существо в подобной шляпе непременно промахнется.
— Прикажете приобрести новую шляпу, сэр? — спросил терпеливый Арчер.
— Ну, что вы! — беззаботно ответил хозяин. — Я отдам бедняге свою. Как святой Мартин отдал плащ
[1].
— Отдадите свою...— нетвердо, но почтительно повторил Арчер.
Полковник снял блестящий цилиндр и надел на божка, стоявшего у его ног. Камень как будто ожил, и щеголеватый карлик осклабился на зелень огорода.
— Что-то она слишком целая,— озабоченно сказал полковник.— Пугала таких не носят. Посмотрим, что тут можно сделать.
Он раскрутил трость над головой и обрушил ее на цилиндр. Тот осел до пустых глазниц идола.
— Смягчена прикосновением времени,— заметил полковник, протягивая слуге атласные останки.— Наденьте ее на пугало, друг мой. Сами видите, мне она не годится.
Арчер взял шляпу послушно, как автомат, но глаза его заметно округлились.
— Поспешим,— весело сказал полковник.— Я чуть было не отправился в церковь слишком рано, а теперь боюсь опоздать.
— Вы намерены посетить церковь без шляпы, сэр?— спросил Арчер.
— Как можно! — сказал полковник.— Каждый должен снять шляпу, входя в храм. А если шляпы нет, что снимешь? Ай-ай-ай, где сегодня ваш разум? Выкопайте, пожалуйста, кочанчик.
Вышколенный слуга повторил «кочанчик» не столько четко, сколько сдавленно.
— А теперь, будьте другом, дайте мне кочан,— сказал полковник.— Уже пора. Кажется, одиннадцать пробило.
Арчер тяжело побрел к капустной грядке с кочанами самых чудовищных форм и сочных красок, которые достойней философского раздумья, чем нам, легкомысленным, кажется. Овощи причудливы и не так уж будничны. Если бы мы назвали капусту кактусом, мы увидели бы в ней немало занятного.
Эти истины открывались полковнику, пока он, опередив колеблющегося Арчера, извлекал из земли громадный зеленый кочан с длинным корнем. Потом, вооружившись садовым ножом, он обрезал корень, вылущил середину кочана и, перевернув его, с серьезным видом водрузил себе на голову. Наполеон и другие военные вожди любили короны — и полковник, подобно кесарям, увенчал себя зеленью. Историку, склонному к философии, пришли бы в голову и другие сравнения, если бы он взглянул отвлеченно на капустную шляпу.
Прихожане глядели на нее, но никак не отвлеченно. Шляпа казалась им даже слишком конкретной. Ни одному философу не выразить того, что думали, взирая на полковника, обитатели Рябиновой Заводи и Верескового Склона. Что скажешь, когда один из самых достойных и уважаемых соседей, образец хороших манер, если не вкуса, торжественно шествует в церковь с капустой на голове?
Однако никто не посмел выразить протест вслух. Обитатели этого мирка не способны объединиться, чтобы восстать или высмеять. С уютных и чистеньких столов не соберешь гнилых яиц, и не таким людям швырять кочерыжками в капусту. Быть может, в трогательных названиях коттеджей и скрывалась доля истины. Действительно, каждый дом здесь — приют уединения.
Когда полковник приближался к паперти, собираясь почтительно снять свой овощной убор, его окликнули чуть сердечней, чем полагалось в этих краях. Он спокойно ответил и остановился ненадолго. Окликнул его врач по имени Хорес Хантер — высокий, хорошо одетый и несколько развязный. Лицо у него было неприметное, волосы — рыжие, но полагалось считать, что в нем что-то есть.
— Здравствуйте, полковник,— сказал он своим звучным голосом.— Какая з-з-замечательная погода!
Звезды кометами сорвались с мест, и миру открылись неизвестные пути, когда доктор Хантер проглотил слова: «Зверская шляпа».
Почему он так сказал и что при этом думал, описать нелегко. Было бы ошибкой предполагать, что все дело в длинном сером автомобиле у ворот Белой Хижины, в даме на ходулях, в мягком воротничке или уменьшительном имени. И тем не менее все это промелькнуло в мозгу нашего медика, когда он спешно справлялся с собой. Разгадка в том, что Хорес Хантер был честолюбив, что голос его был звонок, а вид самонадеян, ибо он твердо решил занять свое место в мире, точнее — в свете.
Ему нравилось, что на воскресном смотре его видят за дружеской беседой с полковником. Тот был небогат, но знал Кое-кого. А тем, кто Кое-кого знает, известно, что Кое-кто делает; тем же, кто не знает — остается только гадать. Дама, явившаяся с герцогиней на благотворительный базар, сказала полковнику: «Здравствуйте, Джим»,— и доктору показалось, что такая фамильярность свидетельствует не о небрежности, а о родстве. Та же герцогиня ввела состязания на ходулях, которые переняли позже Вернон-Смиты с Верескового Склона. Нельзя же растеряться, если миссис Вернон-Смит спросит: «А вы на ходулях ходите?» Никогда не угадаешь заранее, что им взбредет на ум. Как-то доктор счел немодным идиотом человека в мягком воротничке, а потом так стали ходить все, и он понял, что это самая мода и есть. Странно предположить, что скоро все наденут капустные шляпы, но ручаться ни за что нельзя, а ошибаться он больше не намерен. Сперва ему, как врачу, захотелось дополнить костюм полковника смирительной рубашкой, но Крейн не выказывал признаков безумия. Не походил он и на шутника — он вел себя вполне естественно. Ясно было одно: если это новая мода, надо принять ее так же просто, как принял полковник. И вот доктор сказал, что погода замечательная, и убедился, к своей радости, что возражений нет.
Все местные жители, как и врач, оказались на распутье
[2], и все согласились с Хантером — не потому, что эти добрые люди были так же честолюбивы, а потому, что они вообще предпочитали осторожность. Они вечно боялись, как бы их кто не потревожил, и у них хватало ума не тревожить других. Кроме того, они чувствовали, что тихого, сдержанного полковника особенно и не проймешь. Вот почему он с неделю щеголял в своей зверской зеленой шляпе и ничего не услышал. Только к концу недели (в течение которой доктор вглядывался в горизонт, высматривая коронованных капустой) запретные слова прозвучали, и все разрешилось.
Нужно сказать, полковник словно и забыл о своей шляпе. Он надевал ее, снимал и вешал на крюк в темной прихожей, где на двух других крюках висела его шпага рядом со старинной картой. Он вручал капусту Арчеру, когда тот, из любви к порядку, настаивал на своих правах; конечно, чистить ее слуга не решался, но все же встряхивал, недовольно хмурясь. Все это стало для Крейна одной из условностей, а он слишком мало думал о них, чтобы их нарушать. Очень может быть, что все дальнейшее удивило его не меньше, чем соседей. Во всяком случае, развязка (или подобная взрыву разрядка) произошла так.
Мистер Вернон-Смит, вересковый горец, маленький, проворный, всегда испуганный (хотя чего, собственно, бояться такому основательному человеку?), дружил с Хантером и, как пассивный сноб, смиренно поклонялся снобу активному, прогрессивному, парящему в сферах. Людям типа Хантера нужны такие друзья — надо же перед кем-то красоваться. И что еще удивительней, людям типа Смита нужны Хантеры, которые насмешливо и благосклонно красуются перед ними. Как бы то ни было, Вернон-Смит намекнул, что шляпа его соседа не совсем модна и прилична. Доктор же Хантер, гордясь своей недавней ловкостью, высмеял его замечание. Многозначительно помахивая рукой, он дал понять, что весь общественный уклад развалится, если скажут хоть слово на эту деликатную тему. Вернон-Смиту казалось теперь, что полковник взорвется при самом отдаленном намеке на овощ или на шляпу. Как всегда бывает в таких случаях, запретные слова так и бились в его мозгу. Ему хотелось называть все на свете шляпами и овощами.
Выйдя в тот день из сада, Крейн увидел между кустом и фонарем своего соседа и его дальнюю родственницу. Девушка эта училась живописи, что не совсем укладывалось в кодекс Верескового Склона, а значит — и Белой Хижины. Она стригла темные волосы, а полковник не любил стрижек. Но лицо у нее было милое, честные темные глаза — широко расставлены, в ущерб красоте, но не честности. Кроме того, у нее был очень звонкий, какой-то свежий голос; полковник часто слышал, как она выкрикивает счет, играя в теннис по ту сторону ограды, и почему-то чувствовал себя старым или, быть может, слишком молодым. Только теперь, у фонаря, он узнал, что ее зовут Одри Смит, и обрадовался такой простоте. Знакомя их, Вернон-Смит чуть не ляпнул: «Разрешите познакомить вас с моей капустой», но вовремя сказал: «...кузиной».
Полковник невозмутимо сообщил, что погода прекрасная, а его сосед, радуясь, что обошел опасность, поддержал его встревоженно и бодро, как поддерживал всегда на собраниях местных обществ.
— Моя кузина учится живописи,— начал он новую тему.— Гиблое дело... Будет рисовать на мостовой и протягивать прохожим... э-э-э... поднос. Наверное, надеется попасть в академию...
— Надеюсь не попасть,— пылко сказала Одри Смит.— Уличные художники куда честнее.
— Ах, если бы твои друзья не набивали тебе голову идеями!— воскликнул Вернон-Смит.— Одри знается с ужасным сбродом... с вегетарианцами и... социалистами.— Он решил, что вегетарианец все же не овощ, а ужас перед социалистами полковник разделяет.— В общем, с поборниками равенства. А я всегда говорю: мы не равны и равны не будем. Если вы разделите поровну собственность, она вернется в те же руки. Это — закон природы. Тот, кто думает обойти закон природы, безумен, как... э-э-э...
Стараясь изгнать навязчивый образ, он вспомнил было мартовского зайца, но девушка раньше закончила фразу. Спокойно улыбнувшись, она сказала:
— Как шляпник полковника Крейна
[3].
Мы будем только справедливы, если скажем, что Вернон-Смит бежал, как от взрыва. Но мы не скажем, что он бросил даму в беде,— в отличие от него она ничуть не растерялась. Двое оставшихся не обратили на него внимания; они смотрели друг на друга и улыбались.
— По-моему, вы храбрее всех в Англии,— сказала Одри.— Я не о войне и не об орденах. Да, я кое-что про вас знаю. Одного я не знаю: зачем вы это делаете?
— По-моему, это вы храбрее всех,— отвечал он.— Во всяком случае, тут, у нас. Я хожу неделю как последний дурак и жду. А они молчат. Кажется, они боятся сказать не то.
— Они безнадежны,— заметила мисс Смит.— Они не носят капустных шляп, но вместо головы у них репа.
— Нет,— мягко сказал полковник,— у меня здесь много добрых соседей, в том числе и ваш кузен. Поверьте мне, в условностях есть смысл, и мир умней, чем кажется. Вы молоды, а потому нетерпимы. Но вы не боитесь борьбы, а это лучшее в нетерпимости и молодости. Когда вы сказали про шляпника, честное слово, вы были как Бритомарта
[4].
— Это кто, суффражистка из «Королевы фей»?— спросила девушка.— Боюсь, я забыла литературу. Понимаете, я художница, а это, кажется, сужает кругозор. Ну, что за лощеные пошляки! Вы только подумайте, как он говорил о социалистах.
— Да, он судил немного поверхностно,— улыбнулся полковник.
— Вот почему,— закончила она,— я восхищаюсь вашей шляпой, хотя и не знаю, зачем вы ее носите.
Этот обычный разговор странно повлиял на полковника. Какое-то тепло охватило его и чувство резкой перемены, которого он не испытывал с войны. Внезапное решение сложилось в его уме, и он сказал, словно шагнул через границу:
— Мисс Смит, могу ли я просить вас еще об одной услуге? Это не принято, но вы ведь не любите условностей. Если вы окажете мне честь и придете ко мне завтра, в половине второго, вы услышите всю правду. Вернее, увидите.
— Конечно, приду,— сказала противница условностей.— Спасибо вам большое.
Полковник проявил особый интерес к предстоящему завтраку. Как многие люди его типа, он умел угостить друзей. Он понимал, что молодые женщины плохо разбираются в винах, а эмансипированные — тем более. Он был добр и радушен и любил порадовать гостей едой, как радуют ребенка елкой. Почему же он волновался, словно сам стал ребенком? Почему не мог уснуть от счастья, как дети перед Рождеством? Почему допоздна бродил по саду, яростно попыхивая сигарой? Когда он смотрел на пурпурные ирисы и на серый ночной пруд, чувства его переходили от серого к пурпурному. Ему недавно перевалило за сорок, но он не знал, что легкомысленная дерзость лишь увяла и выцвела на время, пока не почувствовал, как растет в нем торжественное тщеславие юности. Порой он смотрел на чересчур живописные очертания соседней виллы, темневшей на лунном небе, и ему казалось, что он слышит голос, а может, и смех.
Друг, посетивший наутро полковника, никак на него не походил. Рассеянный, не очень аккуратный, в старом спортивном костюме, он тщетно приглаживал прямые волосы того темнорыжего цвета, который называют каштановым, и как-то странно вдвигал в галстук тяжелую, чисто выбритую челюсть. Фамилия его была Гуд, занимался он юриспруденцией, но пришел не по делу. Спокойно и приветливо поздоровавшись с Крейном, он улыбнулся старому слуге, как улыбаются старой остроте, и выказал признаки голода.
День был очень теплый, светлый, и все в саду сверкало. Божок приятно ухмылялся, пугало щеголяло новой шляпой, ирисы у пруда колыхались на ветру, и полковник подумал о флагах перед боем.
Она появилась неожиданно, из-за угла. Платье на ней было синее — темное, но яркое и очень прямое, хотя не слишком эксцентричное. В утреннем свете она меньше походила на школьницу и больше на серьезную женщину под тридцать. Она стала старше и красивей, и эта утренняя серьезность умилила Крейна. Он с благодарностью вспомнил, что чудовищной шляпы больше нет. Столько дней он носил ее, ни о ком не думая, а в те десять минут у фонаря почувствовал, что у него выросли ослиные уши.
День был солнечный, и стол накрыли под навесом веранды. Когда все трое уселись, хозяин взглянул на гостью и сказал:
— Не сочтите меня одним из тех, кого не любит ваш кузен. Надеюсь, я не испорчу вам аппетита, если ограничусь зеленью.
— Как странно! — удивилась она.— Вы совсем не похожи на вегетарианца.
— В последнее время я похож на идиота,— бесстрастно сказал он,— а это лучше, чем вегетарианец. Нет, сегодня особый случай. Впрочем, пускай объяснит Гуд, это скорей его касается.
— Меня зовут Роберт Оуэн Гуд,— не без усмешки сказал гость.— Наводит на всякие мысли
[5]. Но сейчас важно другое: мой друг смертельно оскорбил меня, обозвал Робин Гудом.
— Мне кажется, это лестно,— сказала Одри Смит.— А почему он вас так назвал?
— Потому что я настоящий лесной житель.
Тут Арчер внес огромное блюдо и поставил перед хозяином. Он уже подавал и другие блюда, но это он нес торжественно, как несут на Рождество свиную голову. На блюде лежал вареный кочан капусты.
— Мне бросили вызов,— продолжал Гуд.— Мой друг сказал, что я кое-чего не сделаю. В сущности, все так думают, но я это сделал. А, надо заметить, этот самый друг, в пылу насмешки, употребил опрометчивое выражение. Вернее, он дал опрометчивый обет.
— Я сказал,— торжественно пояснил полковник,— что, если он это сделает, я съем свою шляпу.
Он наклонился и принялся ее есть. Затем рассудительно произнес:
— Видите ли, обет надо исполнять буквально или никак. Можно спорить о том, насколько точно выполнял свой обет мой друг. Но я решил быть точным. Съесть одну из моих шляп я не мог. Пришлось завести шляпу, которую можно съесть. Одежду есть трудно, но еда может стать одеждой. Мне казалось, что позволительно считать шляпой свой единственный головной убор. Дурацкий вид — не такая уж большая плата за верность слову. Когда даешь обет или держишь пари, всегда чем-нибудь рискуешь.
Он попросил у гостей прощения и встал из-за стола.
Девушка тоже встала.
— По-моему, это прекрасно,— сказала она.— Так же нелепо, как легенды о Граале
[6].
Встал и юрист — довольно резко — и, поглаживая подбородок, поглядывал на друга из-под нахмуренных бровей.
— Ну вот, ты и вызвал свидетеля,— сказал он,— а теперь я покину зал суда. Мне надо уйти по делу. До свидания, мисс Смит.
Девушка машинально попрощалась, а Крейн очнулся и устремился за своим другом.
— Оуэн,— быстро сказал он,— жаль, что ты уходишь. Ты правда спешишь?
— Да,— серьезно ответил Гуд.— Мое дело очень важное.— Углы его рта дрогнули.— Понимаешь, женюсь.
— О, черт! — воскликнул полковник.
— Спасибо за поздравления,— сказал ехидный Гуд.— Да, я серьезно обдумал. Я даже решил, на ком женюсь. Она знает, ее предупредили.
— Прости,— растерянно сказал Крейн,— конечно, я тебя поздравляю, а ее — еще больше. Я очень рад. Понимаешь, я просто удивился. Не потому...
— А почему?— спросил Гуд.— Наверное, ты думал, что я останусь старым холостяком? Знаешь, я понял, что дело тут не в годах. Такие, как я, старятся по собственной воле. В жизни куда больше выбора и меньше случайностей, чем думают нынешние фаталисты. Для некоторых судьба сильнее времени. Они не потому холосты, что стары; они стары, потому что холосты.
— Ты не прав,— серьезно сказал Крейн.— Я удивился не этому. Я совсем не вижу ничего странного... скорее, наоборот... как будто все правильней, чем думаешь... как будто... в общем, я тебя поздравляю.
— Я скоро тебе все расскажу,— сказал Гуд.— Пока важно одно: из-за нее я это сделал. Я совершил невозможное, но поверь — невозможнее всего она сама.
— Что же, не буду тебя отрывать от столь невозможного дела,— улыбнулся Крейн.— Право, я очень рад. До свидания.
Трудно описать, что он чувствовал, взирая сзади на квадратные плечи и рыжую гриву гостя. Когда он повернулся и поспешил к гостье, все стало каким-то новым, неразумным и легким. Он не мог бы сказать, в чем тут связь, он даже не знал, есть ли она вообще. Полковник был далеко не глуп, но привык глядеть на вещи извне; как солдаты или ученые, он редко в себе копался. И сейчас он не совсем понял, почему все так изменилось. Конечно, он очень любил Гуда, но любил и других, и они женились, а садик оставался прежним. Будь тут дело в дружбе, он скорее беспокоился бы, не ошибся ли его друг, или ревновал бы к невесте. Нет, причина была иная, не совсем понятная, и непонятного становилось все больше. Мир, где коронуют себя капустой и женятся очертя голову, казался новым и странным, и нелегко было понять живущих в нем людей — в том числе самого себя. Цветы в кадках стали яркими и незнакомыми, и даже овощи не огорчали его воспоминанием. Будь он пророком или ясновидящим, он увидел бы, как зеленые ряды капусты уходят за горизонт, словно море. Он стоял у начала повести, которая не закончилась, пока зеленый пожар не охватил всю землю. Но он был человеком дела, а не пророком и не всегда понимал, что делает. Он был прост, как древний герой или патриарх на заре мира, не знавший, как велики его деяния. Сейчас он чувствовал, что занялась заря — и больше ничего.
Одри Смит стояла довольно близко — ведь, провожая гостя, Крейн отошел недалеко,— но он увидел ее в зеленой рамке сада, и ему показалось, что ее платье еще синее от дали. А когда она заговорила, ее голос звучал иначе—приветливо и как бы издалека, словно она окликает друга. Это растрогало его необычайно, хотя она только и сказала:
— Где ваша старая шляпа?
— Она уже не моя,— серьезно ответил он.— Пришлось, ничего не поделаешь. Кажется, пугало в ней ходит.
— Пойдемте посмотрим на пугало!— воскликнула она.
Он повел ее в огород и показал его достопримечательности — от Арчера, важно опиравшегося на лопату, до божка, ухмылявшегося у края грядки. Говорил он все торжественней и не понимал ни слова.
Наконец она рассеянно, почти грубо прервала его, но ее карие глаза смотрели ясно и радостно.
— Не говорите вы так! — воскликнула она.— Можно подумать, что мы в глуши. А это... это просто рай
[7]... У вас так красиво...
Именно тогда потерявший шляпу полковник потерял и голову. Темный и прямой на причудливом фоне огорода, он в самой традиционной манере предложил даме все, чем владел, включая капусту и пугало. Когда он называл капусту, смешное воспоминание бумерангом возвратилось к нему и стало возвышенным.
— И лишнего тут много,— мрачно заключил он.— Пугало, и божок, и глупый человек, опутанный условностями.
— Особенно когда выбирает шляпу,— сказала она.
— Боюсь, это исключение,— серьезно возразил он. — Вы редко такое увидите, у меня очень скучно. Я полюбил вас, иначе не мог, но вы — из другого мира, где говорят, что думают, и не понимают ни наших умолчаний, ни наших предрассудков.
— Да, мы наглые,— признала она,— и вы простите меня, если я скажу, что думаю.
— Лучшего я не заслужил,— печально ответил он.
— Я тоже, кажется, вас полюбила,— спокойно сказала она.— Не знаю, при чем тут время. Вы самый поразительный человек, какого я видела.
— Господи помилуй! — почти беспомощно воскликнул он.— Боюсь, вы ошибаетесь. Что-что, а на оригинальность я никогда не претендовал.
— Вот именно! — подхватила она.— Я видела очень многих людей, претендующих на оригинальность. Конечно, они готовы одеться в капусту. Они бы и в тыкву залезли, если бы могли. Они бы ходили в одном салате. Ведь они это делают ради моды, неумолимой богемной моды. Отрицание условностей — их условность. Я и сама так могу, это очень занятно, но я всегда распознаю смелость и силу. У них все зыбко, все бесформенно. А поистине сильный может создать форму и разбить ее. Тот, кто жертвует ради слова двадцатью годами условности — настоящий человек и властелин судьбы.
— Какой там властелин! — сказал Крейн.— Интересно, когда же я перестал владеть своей судьбой — вчера или вот сейчас?
Он стоял перед ней, как рыцарь в тяжелых доспехах. Да, этот старый образ тут очень уместен. Все стало так непохоже на то, чем он прежде жил, на рутину его бесконечных будней, что дух его не сразу взорвал броню. Если бы он поступил, как поступает в такую минуту всякий, он не мог бы испытать высшей радости. Он был из тех, для кого естественен ритуал. Почти неуловимая музыка его души напоминала не пляску, а чинный старинный танец. Не случайно он создал этот сад, и выложенный камнем пруд, и высокую живую изгородь. Полковник склонился и поцеловал даме руку.
— Как хорошо! — сказала она.— Вам не хватает парика и шпаги.
— Простите,— сказал он.— Ни один современный мужчина не достоин вас. Надеюсь, я все-таки не совсем современный.
— Никогда не носите эту шляпу! — воскликнула она, указывая на проломленный цилиндр.
— По правде говоря,— кротко ответил он,— я и не собирался.
— Какой вы глупый! — сказала она.— Не эту самую, а вообще... Ничего нет красивей капусты.
— Ну, что вы,— начал он, но она смотрела на него совершенно серьезно.
— Вы же знаете, я художница и мало смыслю в литературе. У книжных людей слова стоят между ними и миром. А мы видим вещи, не имена. Для вас капуста смешная, потому что у нее смешное, глупое имя вроде «пусто» или «капут». А она совсем не смешная. Вы бы это поняли, если бы вам пришлось ее писать. Разве вы не знаете, почему великие художники писали капусту? Они видели цвет и линию — прекрасную линию, прекрасный цвет.
— Может быть, на картине...— неуверенно начал он.
Она громко рассмеялась.
— Ох, какой вы глупый! — повторила она.— Неужели вы не понимаете, что это было красиво? Тюрбан из листьев, а кочерыжка — острие шлема. Как у Рембрандта — шлем, окутанный тюрбаном, и бронзовое лицо в зеленой и пурпурной тени. Вот что видят художники, у которых голова свободна от слов! А вы еще просите прощения, что не надели эту черную трубу. Вы же ходили как царь в цветной короне. Вы и были тут царем — все вас боялись.
Он попытался возразить, но она засмеялась чуть задорнее.
— Если бы вы еще продержались, они бы все надели овощные шляпы. Честное слово, мой кузен стоял недавно над грядкой с лопатой в руке.
Она помолчала и спросила с прелестной непоследовательностью:
— А что такое сделал мистер Гуд?
Но рассказы эти — шиворот-навыворот и рассказывать их надо задом наперед. Те, кто хочет узнать ответ на ее вопрос, должны пойти на скучнейший из подвигов и прочитать второй рассказ.
А в перерыве между пытками пусть отдохнут.
НЕЖДАННАЯ УДАЧА ОУЭНА ГУДА
Подвижники, прочитавшие до конца рассказ о неприглядном наряде, знают, что деяния полковника были первыми в ряду деяний, которые обычно считают невозможными, как подвиги рыцарей короля Артура. Сейчас полковник будет играть второстепенную роль, и мы скажем, что ко времени вышеизложенных событий его давно знали и чтили как респектабельного и темнолицего офицера в отставке, который живет в предместье Лондона и изучает первобытные мифы. Однако загар и знание мифов он приобрел раньше, чем респектабельность и дом. В молодости он был путешественником, беспокойным и даже отчаянным; и в рассказе появляется потому, что принадлежал в ту пору к кружку молодых людей, чья отвага граничила с сумасбродством. Все они были чудаками, причем одни исповедовали мятежные взгляды, другие — отсталые, а третьи — и те, и другие. Среди последних был Роберт Оуэн Гуд, не совсем законопослушный законник, герой нашего рассказа.
Гуд больше всех дружил с Крейном и меньше всех на него походил. Он был домоседом, Крейн — бродягой; он не терпел условностей, Крейн их любил. Имена «Роберт Оуэн» свидетельствовали о семейной традиции, но вместе с мятежностью он унаследовал немного денег и мог наслаждаться свободой, скитаясь и мечтая в холмах между Северном и Темзой. Особенно он любил удить на одном островке. Здесь, в верховьях Темзы, часто видели странного человека в старом сером костюме, с рыжей гривой и тяжелым наполеоновским подбородком. В тот день, о котором пойдет речь, над ним стоял его добрый друг, отправлявшийся в одну из своих одиссей по южным морям.
— Ну,— укоризненно спросил нетерпеливый путешественник,— поймал что-нибудь?
— Ты как-то спрашивал меня,— ответил рыболов,— почему я считаю тебя материалистом. Вот поэтому.
— Если надо выбирать между материализмом и безумием,— фыркнул Крейн,— я за материализм.
— Ты неправ,— отвечал Гуд.— Твои причуды безумнее моих, да и пользы от них меньше. Когда вы видите у реки человека с удочкой, вы непременно спросите, что он поймал. А вот вас, охотников на крупную дичь, никто ни о чем не спрашивает. Ваш слоновый улов велик, но незаметен; наверное, сдаете на хранение. Все у вас скромно скрыто песком, прахом и далью. А я ловлю то, что неуловимей рыбы: душу Англии.
— Скорей ты схватишь тут насморк,— сказал Крейн.— Мечтать — неплохо, но всему свое время.
Тут вещая туча должна бы скрыть солнце, как окутала тень тайны это место рассказа. Ведь именно тогда Джеймс Крейн изрек славное пророчество, на котором и зиждется наша невероятная повесть. Минуту спустя, должно быть, он и не помнил своих слов. Минуту спустя странная туча уже сползла с солнца.
Пророчество обернулось поговоркой (в свое время многотерпеливый читатель узнает, какой именно). В сущности, вся беседа состояла из поговорок и пословиц; их любят такие, как Гуд, чье сердце — в английской деревне. Однако на сей раз первым был Крейн.
— Ну хорошо, ты любишь Англию,— сказал он.— Но если ты думаешь ей помочь, не жди, пока у тебя под ногами вырастет трава.
— Этого я и хочу,— отвечал Гуд.— Об этом и мечтают твои измученные горожане. Представь, что бедняга клерк идет и видит, как у него из-под ног растет волшебный ковер. Ведь это сущая сказка.
— Он не сидит камнем, как ты,— возразил Крейн.— У тебя скоро ноги обовьет плющ. Тоже вроде сказки. Жаль, поговорки такой нет.
— Ничего, поговорок у меня хватит! — засмеялся Гуд.— Напомню тебе о камне, который мхом не обрастет.
— Да, я катящийся камень,— ответил Крейн.— Я качусь по земле, как земля катится по небу. Но помни: мхом обрастает только один камень.
— Какой, о мой шустрый камневед?
— Могильный,— сказал Крейн.
Гуд склонил длинное лицо над бездной, отражавшей чащи. Наконец он сказал:
— Там не только мох. Там и слово «Resurgam»
[8] .
— Может, и воскреснешь,— великодушно согласился Крейн. — Трубе придется нелегко
[9], пока она тебя разбудит. Опоздаешь к Суду!
— В настоящей пьесе,— сказал Гуд,— я ответил бы, что лучше опоздать тебе. Но христианам не к лицу так прощаться. Ты правда сегодня уезжаешь?
— Да, вечером,— ответил Крейн.— Конечно, тебя не тянет к моим людоедам на острова?
— Предпочитаю мой собственный остров,— сказал Оуэн Гуд.
Друг его ушел, а он, не двигаясь, смотрел на тихий перевернутый мир в зеленом зеркале речки. Рыболовы часто сидят так, но нелегко было понять, интересуется ли рыбой наш одинокий законник. Он гордо носил в кармане томик Исаака Уолтона
[10], потому что любил старые английские стихи не меньше, чем старые английские ландшафты. Но рыболовом он был не слишком искусным.
Дело в том, что Оуэн Гуд поведал другу не о всех чарах, влекущих его к островку в верховьях Темзы. Если бы он сказал, что надеется поймать столько же рыбы, как апостолы, или морского змия, или кита, проглотившего Иону
[11], он выражался бы довольно точно. Оуэн Гуд ловил то, что редко ловят рыболовы,— юношеский сон, давнее чудо, случившееся в этих пустынных местах.
За несколько лет до того он удил как-то вечером на островке. Сумерки сменились тьмой, солнце оставило по себе две-три широкие серебряные ленты за черными стволами. Улетели последние птицы, исчезли все звуки, кроме мягкого плеска воды. Вдруг — бесшумно, как призрак — из леса на другом берегу вышла девушка. Она что-то сказала, он не понял и что-то ответил. Была она в белом и держала охапку колокольчиков. Прямая золотистая челка закрывала ее лоб; лицо было бледно, как слоновая кость, и бледные веки тревожно вздрагивали.
Он ощутил, что непроходимо глуп, но говорил, кажется, связно — она не уходила, и даже занятно — она засмеялась. И тут случилось то, чего он так и не понял, хотя любил копаться в себе. Она взмахнула рукой и выронила синие цветы. Вихрь подхватил его; ему стало ясно, что начались чудеса, как в сказке или в эпосе, и все земное — их ничтожный знак. Еще не понимая, где он, он стоял весь мокрый на берегу — по-видимому, он бросился в воду и спас цветы, как ребенка. Из всех ее слов он запомнил одну только фразу: «Вы же насмерть простудитесь».
Простудиться он простудился, но не умер, хотя мысль о смерти была вровень с его чувствами. Врач, которому пришлось кое-что рассказать, весьма заинтересовался тем, что удостоился услышать. Он увлекался генеалогией и судьбой знатных семейств и, поднапрягшись, вывел, что таинственная дама — Элизабет Сеймур из Марли-Корта. О таких вещах он говорил почтительно, даже подобострастно, носил фамилию Хантер и позже поселился неподалеку от Крейна. Как и Гуд, он восхищался ландшафтом и считал, что тот обязан своей прелестью заботам и умению владельцев Марли-Корта.
— Такие помещики и создали Англию,— сказал он.— Хорошо радикалам болтать, но где бы мы были без них?
— Я тоже за помещиков,— не без усталости ответил Гуд.— Я так их люблю, что хотел бы их размножить. Побольше, побольше помещиков! Сотни и тысячи...
Не знаю, разделял ли доктор Хантер его пыл и понял ли его слова. Сам же Гуд вспоминал поздней эту беседу, если вообще мог вспоминать какие-нибудь беседы, кроме одной.
Не буду скрывать от умного, но утомленного читателя, что все это и побудило Гуда сидеть часами на островке, глядя на другой берег. Шли годы, уходила молодость, приближался средний возраст, а Гуд все возвращался сюда, ждал и не дождался. Впрочем, заглянув поглубже, мы даже и не посмеем сказать, что он ждал. Просто этот уголок стал хранилищем святыни, и Гуд хотел увидеть все, что бы здесь ни случилось. Так и вышло, он все увидел; а еще задолго до конца нашей повести случились здесь дела довольно странные.
Однажды утром из лесу вышел пыльный человек, тащивший пыльные доски, и принялся сколачивать деревянный щит, на котором огромными буквами было написано «Продается». Впервые за это время Гуд бросил удочку, встал и громко спросил, в чем дело. Человек отвечал ему терпеливо и добродушно, но, кажется, решил, что говорит с беглым сумасшедшим.
Так началось то, что стало для Гуда истинным кошмаром. Перемены шли неспешно, годами, и ему казалось, что он беспомощен и связан, как во сне. Он зловеще смеялся, вспоминая, что теперь человека считают властелином своей судьбы, а он не может охранить воздух от яда и тишину от адских звуков. Что-то есть, мрачно думал он, в простодушных восторгах Хантера. Что-то есть в самой грубой и даже варварской аристократии. Феодалы совершали набеги, надевали на рабов ошейники, а порой и вешали кого-нибудь. Но они не вели упорной войны против наших пяти чувств.
Бесформенное чудище пухло, росло и даже размножалось без явного деления клеток. И вот на берегу оказалась целая толпа черных строений, увенчанных высокой трубой, из которой шел дым прямо в безответное небо. На земле валялись лом и мусор, а ржавая балка лежала как раз там, где стояла, выйдя из леса, девушка с колокольчиками.
Он не покинул острова. При всей романтичной склонности к оседлой сельской жизни он недаром родился в семье старого мятежника. Отец недаром нарек его Робертом Оуэном, а друзья называли Робин Гудом. Правда, иногда сердце у него падало, но чаще он воинственно шагал по острову, радуясь, что лесные цветы реют так близко от гнусных построек, и бормотал: «Выкинем флаги на гребень стены!»
Как-то утром, когда восход еще сиял за темной глыбой фабрики и свет атласным покровом лежал на реке, по атласу заскользило что-то потемнее и погрубее — тонкая струйка жидкости, не смешивающаяся с водой, но извивающаяся по ней, как червь. Оуэн Гуд смотрел на нее, как смотрят на змею. Подобно змее, она поблескивала матово и довольно красиво, но для него воплощала зло, словно змий-искуситель, заползший в рай. Через несколько дней змеи размножились: несколько ручейков поползли по реке, не смешиваясь с ней, как не смешиваются с водой зловещие зелья ведьм. Позже появилась темная жидкость, уже не претендующая на красоту,— бурые, тяжелые, широкие пятна.
Гуд до самого конца смутно представлял себе назначение фабрики. В деревне говорили, что производят тут краски для волос, но пахло скорее мыловаренным заводом, и он предположил, что здесь нашли золотую середину между краской и мылом — какое-то сверхученое косметическое средство. Такие средства особенно вошли в моду с тех пор, как профессор Хейк написал свой труд о лечебной пользе косметики, и Гуд часто видел теперь на лужайках своего детства большие плакаты: «К чему стариться?», с которых недостойно скалилась какая-то дама.
Решив разузнать побольше, Гуд стал наводить справки. Очень долго он писал без ответа; крупные фирмы так же неделовиты, как государственные учреждения, толку от них не больше, а манеры у них куда хуже. Но в конце концов он добился свидания и встретился с теми, кого хотел увидеть.
Одним из них был сэр Сэмюел Блисс, не оказавший еще тех услуг, благодаря которым все мы знаем его под именем лорда Нормантауэрса. Вторым был его управляющий, мистер Лoy; тучный, толстоносый, в толстых перстнях, он глядел на всех подозрительным, налитым обидой взором, словно боялся суда. Третьим был наш старый друг, доктор Хорес Хантер; он стал теперь медицинским инспектором и отвечал за санитарное состояние округи. Четвертый же удивил Гуда больше всего: их собеседование почтил присутствием сам профессор Хейк, совершивший переворот в современном уме своими открытиями о связи румянца со здоровьем. Когда Гуд узнал, кто это, мрачная улыбка осветила его лицо.
Для данного случая профессор припас еще более интересную теорию. Говорил он последним и теорию свою изложил как окончательный приговор. Управляющий уже заверил, что нефть просто не может течь в воду, так как на фабрике ею мало пользуются. Сэр Сэмюел сообщил — сердито и даже небрежно,— что он открыл для народа несколько парков и построил рабочим бараки, обставленные с большим вкусом, так что никто не вправе обвинить его в равнодушии к красоте. Тут-то профессор и изложил учение о предохранительной пленке. Если тонкий слой нефти, сказал он, и появился в воде, это не важно, с водой он не смешивается, она только станет чище. Нефть — своего рода капсула; так заливают желатином пищу, чтобы ее сохранить.
— Интересная теория...— заметил Гуд.
Сэр Сэмюел Блисс поджался и ощетинился.
— Надеюсь,— выговорил он,— вы не сомневаетесь в опытности нашего эксперта?
— Ну что вы! — серьезно ответил Гуд.— Я верю, что он опытен, и верю, что он ваш.
Профессор заморгал, но под его тяжелыми веками что-то засветилось.
— Если вы намерены так разговаривать...— начал он, но Гуд его перебил и обратился к Хантеру тоном веселым и грубым, словно пинок:
— А вы что скажете, дражайший доктор? Когда-то вас не меньше моего умиляли эти места. Вы говорили, что только старинные семьи сохраняют прелесть Англии.
— Из этого не следует,— ответил врач,— что не надо верить в прогресс. То-то и плохо с вами, Гуд: вы в прогресс не верите. Нужно поспевать за временем, а кто-нибудь всегда от этого страдает. И вообще все не так уж страшно. Когда пройдет новый билль, придется пользоваться фильтром Белтона.
— Понимаю...— задумчиво сказал Гуд.— Сперва вы мутите воду ради денег, а потом вынуждаете очищать ее и ставите это себе в заслугу.
— Не пойму, о чем вы говорите,— запальчиво сказал Хантер.
— Сейчас я думал о мистере Белтоне,— ответил Гуд.— Хорошо бы его пригласить. Такая теплая собралась компания.
— Не вижу смысла в этом нелепом разговоре! — сказал сэр Сэмюел.
— Не называйте нелепой теорию бедного профессора! — возмутился Гуд.— Вы ведь не считаете, что эти вещества переморят всю рыбу?
— Конечно нет,— резко ответил Хантер.
— Она приспособится к масляной среде,— мечтательно продолжал Гуд.— Полюбит нефть...
— Ну, знаете, мне некогда слушать глупости! — сказал Хантер и хотел было идти, но Гуд преградил ему путь, прямо глядя на него.
— Не называйте глупостью естественный отбор,— сказал он.— О нем я знаю все. Я не берусь судить, попадут ли масла в воду,— я не разбираюсь в технике. Я не разберу, гремят ли ваши чертовы машины,— я не изучал акустики. Я не пойму, сильно воняет или нет,— я не читал вашей книги «Обоняние». Но о приспособлении к среде я знаю все. Я знаю, что некоторые низшие организмы изменяются вместе с условиями. Я знаю, что есть существа, которые приспособляются к любой грязи и пакости. Когда кругом затишье, они притихают; когда кругом кипит, они кипят; когда кругом гнусно, они гнусны. Спасибо, что вы меня в этом убедили.
Не ожидая ответа, он поклонился и поспешно вышел. Так пришел конец знаменитой дискуссии о правах жителей прибрежной полосы, а может — и чистоте Темзы, и всей старой Англии со всем хорошим и плохим, что в ней было.
Широкая публика так и не узнала подробностей — по крайней мере, до тех пор, пока не разыгралась катастрофа. Правда, об этом немного поговорили через месяц-другой, когда доктор Хорес Хантер выставил свою кандидатуру в парламент. Человека два поинтересовались, как он предотвращает загрязнение воды. Величайший из современных гигиенистов, профессор Хейк, написал в интересах науки, что врач может поступить только так, как поступил Хантер. По счастливой случайности промышленный заправила этих мест, сэр Сэмюел Блисс, серьезно взвесив все за и против, решил голосовать за Хантера. Знаменитый организатор вел себя как истый философ, но мистер Лoy, его управляющий, оказался практичней и настойчивей. И вот голубые ленты — знак хантерианцев — украсили железные балки, деревянные столбы фабрики и тех, кто сновал между ними и звался «рабочими руками».
Гуд выборами не интересовался, но участие в них принял. Все же он был юристом — ленивым, но знающим. Без всякой надежды, из чистого духа противоречия, он подал иск и защиту своих интересов взял на себя. Ссылаясь на закон Генриха III
[12], он требовал привлечь к ответственности тех, кто распугивает рыбу, принадлежащую подданным короля, живущим в долине Темзы. Судья похвалил его умелость и знания, но ходатайство отклонил, ссылаясь на прецеденты. Он указал, что еще нет способа определить, налицо ли тот «плотский страх», о котором идет речь в законе. Толкуя закон Ричарда II против ведьм, пугавших детей, крупные авторитеты считали, что ребенок «должен явиться в суд и лично поведать о своем страхе». Поскольку ни одна рыба не явилась, судья склонился на сторону ответчика. В сущности, судья умел оценить и свою, и чужую логику, но предпочел свою. Ведь наши судьи не связаны сводом законов — они прогрессивны, как Хантер, и, по велению принципа, не отстают от новых сил века, особенно от тех, которые можно встретить на званом обеде.
Однако этот неудачный процесс повлек за собой то, что затмило его сиянием славы. Оуэн Гуд вышел из суда и свернул к вокзалу. Шел он, как всегда, мрачно задумавшись, но видел много лиц, и впервые ему пришло в голову, что на свете живет очень много народу. И на перроне мелькали лица, а он рассеянно скользил по ним взглядом, как вдруг увидел одно, и оно поразило его, как лицо покойника.
Она спокойно вышла из буфета; в руке у нее, как у многих других, был саквояж. По непонятной извращенности ума, хранящего святыню, Гуд не мог представить себе, чтобы она была не в белом и выходила не из леса. Сейчас он совсем смешался — синее шло ей не меньше белого, а в том лесу недоставало буфета и перрона.
Она остановилась; дрожащие, бледные веки поднялись, и он увидел серо-голубые глаза.
— Господи! — сказала она.— Вы тот мальчик, который прыгнул в реку.
— Я уже не мальчик,— сказал Гуд,— но в реку готов броситься.
— Только не бросайтесь под поезд! — сказала она.
— По правде говоря,— сказал он,— я думал броситься в поезд. Вы не возражаете, если я брошусь в ваш?
— Я еду в Биркстед,— растерянно сказала она.
Ему было безразлично, куда она едет; но тут он вспомнил, какой полустанок есть на этом пути, и поспешно устремился в вагон. Замелькали ландшафты, а путники довольно глупо смотрели друг на друга. Наконец она улыбнулась.
— Я слышала о вас от вашего друга,—сказала она.— Тогда он пришел в первый раз. Вы ведь знакомы с Хантером?
— Да,— ответил Оуэн, и тень омрачила его счастье.— А вы... вы хорошо его знаете?
— Довольно хорошо,— сказала Элизабет Сеймур.
Мрак, окутавший его душу, быстро сгущался, Хантер — если вспомнить слова Крейна — был не из тех, у кого трава растет под ногами. Он вполне мог использовать тот случай, чтобы втереться к Сеймурам. Все на свете было для него ступенькой лестницы; камень островка стал ступенькой к их дому, а дом, быть может, еще одной ступенькой? Гуд понял, что до сих пор злился отвлеченно. До сих пор он не знал, что такое ненависть.
Поезд остановился у станции.
— Пожалуйста, выйдите здесь со мной,— резко сказал Гуд.— У меня к вам большая просьба.
— Какая? — тихо спросила она.
— Соберите букет колокольчиков,— глухо ответил он.
Она вышла из вагона, и, не говоря ни слова, они пошли по
извилистой деревенской дороге.
— Помню! — сказала она вдруг.— С этого холма виден ваш островок и лес, где росли колокольчики.
— Пойдем посмотрим,— сказал Оуэн.
Они поднялись на холм и остановились. Внизу черная фабрика изрыгала в воздух зловещий дым, а там, где некогда был лес, стояли коробки домов из грязного кирпича.
Гуд заговорил:
— «Итак, когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте
[13]», тогда и настанет конец света. Пусть бы кончился сейчас, пока мы здесь, на холме.
Она смотрела вниз, полуоткрыв рот и побледнев еще сильнее. На ближайшем из ящиков пестрели плакаты, и самый большой гласил: «Голосуйте за Хантера». Гуд вспомнил, что наступил последний, ответственный день выборов. И тут Элизабет спросила:
— Это тот самый Хантер? Он хочет в парламент?
Камень, лежавший на его душе, вспорхнул ввысь, как орел.
Холм, на котором он стоял, показался выше Эвереста. Во внезапном озарении он понял: она знала бы, хочет ли Хантер в парламент, если... если бы его опасения были правдой. Ему стало так легко, что он посмел сказать:
— Я думал, вы слышали. Я думал... Ну, я думал, вы его любите... не знаю почему.
— И я не знаю,— сказала Элизабет.— Говорят, он женится на дочке Нормантауэрса. Они ведь купили наше имение.
Роберт Оуэн Гуд помолчал; потом сказал громко и весело:
— Что ж, голосуйте за Хантера. Чем он плох? Милый, старый Хантер! Надеюсь, он попадет в парламент. Надеюсь, он станет премьером. Господи, да пускай его будет императором Солнечной системы!
— За что это ему? — удивилась она.
— За то, что вы не любите его,— ответил Гуд.
— Вот как! — проговорила она, и легкая дрожь ее голоса проникла ему в душу как звон серебряных колокольчиков.
Во вдохновении веселья голос его стал звонче, лицо живей, моложе и строже, а профиль еще больше похож на молодого Наполеона. Его широкие плечи, ссутулившиеся над книгами, выпрямились, и рыжие волосы упали назад с открытого лба.
— Я скажу вам кое-что о нем,— начал он,— и о себе тоже. Друзья говорят, что я неудачник, мечтатель, и трава растет у меня под ногами. Я скажу вам, почему я ей не мешал. Через три дня после нашей встречи я виделся с Хантером. Конечно, он ничего не знал. Но он человек практичный, очень практичный, не какой-нибудь мечтатель. По его тону я понял, что он хочет использовать тот случай — для себя, а может, и для меня, он ведь добрый... да, он добрый. Если бы я понял его намек и вступил, так сказать, в компанию, я бы узнал вас намного раньше, и вы были бы не воспоминанием, а... знакомой. И я не смог. Судите меня как хотите — не мог, и все. Я не мог прийти к вам, когда дверь передо мной распахивал этот угодливый лакей. Я не мог, чтобы этот самодовольный сноб играл такую роль в моей жизни. А когда мой лучший друг изрек пророчество, я ему поверил.
— Какое пророчество? — рассеянно спросила она.
— Сейчас это не важно,— сказал он.— Странные вещи творятся со мной, и, может быть, я еще что-нибудь сделаю. Но прежде всего я должен объяснить, кто я и зачем жил. Есть на свете такие люди — я не считаю, что они лучше всех, но они есть, назло здравомыслящим современным писателям. Я ходил по миру слепым, я смотрел внутрь — на вас. Если вы мне снились, я долго был сам не свой, словно встретил привидение. Я читал серьезных, старых поэтов — только они были достойны вас. А когда я вас увидел, я решил — настал конец света, и мы встретились в том мире, который слишком хорош, чтобы верить в него.
— Я не думаю,— сказала она,— что в это не надо верить.
Он взглянул на нее, и радость пронзила его, словно молния.
Даже в лучшую пору ее близорукие глаза трогательно мигали, но сейчас она моргала беспомощно, как слепая, по другой причине. Глаза ее блестели и слепли от слез.
— Вы говорили о неудачниках,— ровным голосом сказала она.— Наверное, многие так назовут и меня, и мою семью. Во всяком случае, сейчас мы бедны. Не знаю, известно ли вам, что я даю уроки музыки. Должно быть, нам полагается исчезнуть — мы не приносили пользы. Правда, некоторые из нас старались не приносить и вреда. А теперь я скажу вам о тех, кто очень, очень старался. Современные люди считают, что это все старомодно, как в книге. Ну и пускай. Они знают нас мало, как и мы их. Но вам, когда вы так говорите... я должна сказать... Если мы сдержаны, если мы холодны, если мы осторожны и нелепы — это все потому, что в самой глубине души мы знаем: есть на свете верность и любовь, которых стоит ждать до конца света. Только очень страшно, если теперь... когда я дождалась... страшно вам, еще страшнее мне...— Голос ее пресекся, и молчание сковало ее.
Он шагнул вперед, словно ступил в сердце вихря, и они встретились на вершине холма, как будто пришли с концов света.
— Это — как эпос,— сказал он.— Действие, а не слово. Я слишком долго жил словами.
— О чем вы?—спросила она.
— Я стал человеком дела,— ответил он.— Пока вы были прошлым, не было настоящего. Пока вы были сном, не было яви. Но теперь я совершу то, чего никто не совершал.
Он повернулся к долине и выбросил вперед руку, словно взмахнул мечом.
— Я нарушу пророчество,— крикнул он.— Я брошу вызов оракулу, посмеюсь над злой звездой. Тот, кто звал меня неудачником, увидит, что я сделал невозможное.
Он кинулся вниз и позвал Элизабет так беспечно, словно они играли в прятки. Как ни странно, она побежала за ним. Все дальнейшее еще меньше соответствовало ее тонкости, скромности и достоинству. Она никогда не могла описать жуткой бессмыслицы выборов, но у нее осталось смутное чувство клоунады и конца света. Однако фарс не оскорблял ее, трагедия — не пугала. Она не была возбуждена в обычном смысле слова; ее держало то, что прочней терпения. За всю свою одинокую жизнь она не чувствовала так сильно стен из слоновой кости, но теперь в башне было светло, словно ее осветили свечами или выложили чистым золотом.
Гуд стремительно притащил свою даму на берег реки. Навстречу им вышел мистер Лoy в отороченном мехом пальто, застегнутом на все пуговицы. В глазах его полыхнуло удивление — или недоверие,— когда Гуд сердечно предложил ему помощь. Тут на него налетел один из агентов с пачкой телеграмм. Не хватало агитаторов, не хватало ораторов, в каком-то местечке заждалась толпа, Хантер задерживался... В своей беде агент готов был схватить хоть клоуна и доверить ему дело Великой Партии, не вдаваясь в нюансы его политических взглядов. Ведь вся деловитость и беготня наших дней срывается в последнюю минуту. В тот вечер Роберту Оуэну Гуду разрешили бы идти куда угодно и говорить что угодно. Интересно, что думала об этом его дама,— быть может, ничего. Как во сне, проходила она через уродливые, плохо освещенные конторы, где метались, словно кролики, маленькие сердитые люди. Стены были покрыты плакатами, изображающими Хантера в единоборстве с драконом. Чтобы люди не подумали, что Хантер бьет драконов спорта ради, на драконе было написано, кто он такой. По-видимому, он был «Национальной расточительностью». Чтобы знали, чем именно сражает его Хантер, на мече стояло «Бережливость». Все это мелькало в счастливом, испуганном сознании Элизабет, и она невольно подумала, что ей пришлось учиться бережливости и бороться с искушением расточительности, но она не знала, что это бой с большим чешуйчатым чудовищем. В самом главном центре они увидели и кандидата В цилиндре, но он забыл о нем и не снял, здороваясь с дамой. Ей было немного стыдно, что она думает о таких пустяках, но она обрадовалась, что не выходит замуж за кандидата в парламент.
— В трущобы ехать не к чему,— сказал доктор Хантер.— Там толку не дождешься. Надо бы их уничтожить, да и народ заодно.
— А у нас был прекрасный митинг,— весело вставил агент.— Нормантауэрс рассказывал анекдоты, и ничего, выдержали.
— Да,— сказал Оуэн Гуд, бодро потирая руки,— как у вас насчет факелов?
— Каких еще факелов?—спросил агент.
— Как? — строго сказал Гуд.— В этот славный час путь победителя не будут освещать сотни огней? Понятно ли вам, что народ в едином порыве избрал своего вождя? Что жители трущоб готовы сжечь последний стул в его честь? Да хоть бы этот...
Он схватил стул, с которого встал Хантер, и принялся рьяно его ломать. Его успокоили, но ему удалось увлечь всех своим предложением.
К ночи организовали шествие, и Хантера в голубых лентах повели к реке, словно его хотели крестить или утопить, как ведьму. Быть может, Гуд хотел ведьму сжечь — он размахивал факелом, окружая сиянием растерянную физиономию доктора. У реки он вскочил на груду лома и обратился к толпе с последним словом:
— Сограждане, мы встретились у Темзы, той Темзы, что для нас, англичан, как Тибр для римлян. Мы встретились в долине, воспетой английскими поэтами и птицами. Нет искусства, столь близкого нам, как акварельные пейзажи; нет акварелей, столь светлых и тонких, как изображения этих мест. Один из лучших поэтов повторял в своих раздумьях: «Теки, река, пока не кончу петь»
[14].
Говорят, кто-то пытается загрязнить эти воды. Ложь! Те, кто сейчас встал вровень с нашими певцами и художниками, хранят чистоту реки. Все мы знаем, как прекрасны фильтры Белтона. Доктор Хантер поддерживает мистера Белтона. Простите, Белтон поддерживает Хантера. Теки, река, пока не кончу петь.
Да и все мы поддерживаем доктора Хантера. Я всегда готов и поддержать его, и выдержать. Он — истый прогрессист, и очень приятно смотреть, как он прогрессирует. Хорошо кто-то сказал: «Лежу без сна, средь тишины, и слышу, как он ползет все выше, выше, выше»! Его многочисленные местные пациенты объединятся в радости, когда он уйдет в лучший мир, то есть в Вестминстер. Надеюсь, все меня правильно поняли. Теки, река, пока не кончу петь.
Сегодня я хочу одного: выразить наше единство. Быть может, некогда я спорил с Хантером. Но, счастлив сказать, все это позади — я питаю к нему самые теплые чувства по причине, о которой говорить не буду, хотя мог бы сказать немало. И вот, в знак примирения, я торжественно бросаю факел. Пусть наши распри угаснут в целительной влаге мира, как гаснет пламя в чистых прохладных водах священной реки.
Раньше, чем кто-нибудь понял, что он делает, он закрутил факел над головой сверкающим колесом и метнул его метеором в темные глубины.
И тут же раздался короткий крик. Все лица до одного повернулись к воде. Все лица были видны — освещены зловещим пламенем, поднявшимся над Темзой. Толпа глядела на него, как смотрят на комету.
— Вот,— крикнул Оуэн Гуд, хватая Элизабет за руку.— Вот оно, пророчество Крейна!
— Да кто такой Крейн? — спросила она.— И что он предсказывал?
— Он мой друг,— объяснил Гуд.— Просто старый друг. Ему не нравилось, что я сижу над книгой или с удочкой, и он сказал на том самом островке: «Может, ты и много знаешь, но Темзы тебе не поджечь, готов съесть свою шляпу!»
Повесть о том, как Крейн съел шляпу, читатели могут вспомнить, оглянувшись на тяжкий пройденный путь.
ДРАГОЦЕННЫЕ ДАРЫ КАПИТАНА ПИРСА
Тем, кто знаком с полковником Крейном и юристом Гудом, будет интересно (или неинтересно) узнать, что рано поутру они ели яичницу с ветчиной в кабаке «Голубой боров», стоящем у поворота дороги, на лесистом холме. Тем, кто с ними незнаком, мы сообщим, что полковник, сильно загорелый и безупречно одетый, и казался, и был молчаливым; а юрист, рыжий и как бы немного ржавый, молчаливым казался. Крейн любил хорошо поесть, а в этом кабачке кормили лучше, чем в кабачке богемном, и несравненно лучше, чем в дорогом ресторане. Гуд любил фольклор и сельские красоты, а в этой долине было так прохладно и тихо, словно западный ветер попал здесь в ловушку, приручился и стал летним воздухом. Оба любили красоту — и в женщине, и в пейзаже,— хотя (или потому что) были романтически преданы своим женам; но девушкой, служившей им — дочерью кабатчика,— залюбовался бы всякий. Она была тоненькая, тихая, но часто вскидывала голову, неожиданно и живо, словно коричневая птичка. Держалась она с неосознанным достоинством, ибо отец ее, Джон Харди, был кабатчиком старого типа, который сродни если не джентльмену, то йомену
[15]. Он немало знал, много умел и лицом походил на Коббета
[16], которого нередко читал зимними вечерами. Гуд, сохранивший, как и он, устарелую склонность к мятежу, любил с ним потолковать.
И в долине, и в сияющем небе царила тишина, хотя время от времени над головой пролетал аэроплан. Мужчины обращали на него не больше внимания, чем на муху, но девушка по всем признакам его замечала. Когда никто не глядел на нее, она смотрела вверх; когда же на нее глядели, старательно смотрела вниз.
— Хороший у вас бекон,— сказал полковник.
— Лучший в Англии,— подхватил Гуд,— а ведь по части завтраков Англия — истинный рай. Не пойму, зачем гордиться империей, когда у нас есть яйца и ветчина. Надо бы изобразить на гербе трех свинок и трех кур. Именно они подарили нашим поэтам утреннюю радость. Только тот, кто позавтракал, как мы, способен написать: «Сгорели свечи, и веселый день...»
[17]— Значит, бекон и впрямь создал Шекспира,— сказал полковник.
— Конечно,— сказал юрист и, увидев, что девушка их слышит, прибавил: — Мы хвалим ваш бекон, мисс Харди.
— Его все хвалят,— сказала она с законной гордостью.— Но скоро это кончится. Скоро запретят держать свиней.
— Запретят свиней! — воскликнул потрясенный юрист.
— Глупые свиньи,— сердито сказал полковник.
— Выбирай слова,— сказал Гуд.— Человек ниже свиньи, если он ее не ценит. Нет, что творится! Как же новое поколение проживет без ветчины? Кстати, о новом поколении, где ваш Пирс? Он обещал сюда приехать, поезд пришел, а его нет.
— Простите, сэр,— несмело и вежливо вставила Джоан Харди.— Капитан Пирс наверху.
Это могло обозначать, что тот — в доме, на втором этаже, но Джоан привычно взглянула в синюю бездну неба. Потом она ушла, а Оуэн Гуд долго глядел туда же, пока не заметил наконец аэроплана, сновавшего, как ласточка.
— Что он там делает? — спросил юрист.
— Себя показывает,— объяснил полковник.
— Зачем ему показывать себя нам? — удивился Гуд.
— Незачем,— ответил Крейн.— Он показывает себя ей.— Помолчал и прибавил: — Хорошенькая девушка.
— Хорошая девушка,— серьезно поправил Гуд.— Ты уверен, что он ведет себя порядочно?
Крейн помолчал и поморгал.
— Что ж, времена меняются,— сказал он наконец.— Я человек старомодный, но скажу тебе как твердолобый тори: он мог выбрать и хуже.
— А я как твердолобый радикал,— ответил Гуд,— скажу тебе: вряд ли он мог выбрать лучше.
Тем временем своевольный авиатор спустился на полянку у подножья холма и направился к ним. Походил он скорее на поэта и, хотя весьма отличился во время войны, был из тех, кто стремится победить воздух, а не врага. С той героической поры его светлые волосы заметно отрасли, а синие глаза стали не только веселее, но и воинственней. У свинарника он немного задержался, чтобы поговорить с Джоан Харди, и, подходя к столу, просто пылал.
— Что за чушь? — орал он.— Что за мерзость? Нет, больше терпеть нельзя! Я такого натворю...
— Вы достаточно сегодня творили,— сказал Гуд.— Лучше позавтракайте с горя.
— Нет, вы смотрите...— начал Пирс, но Джоан тихо появилась рядом с ним и несмело вмешалась в беседу.
— Какой-то джентльмен,— сказала она,— спрашивает, можно ли ему с вами поговорить.
Джентльмен этот стоял чуть подальше вежливо, но так неподвижно, что человек слабонервный мог бы испугаться. На нем был столь безукоризненный английский Костюм, что все сразу признали в нем иностранца, но тщетно обрыскали мыслью Европу, пытаясь угадать, из какой он страны. Судя по неподвижному, лунообразному, чуть желтоватому лицу, он мог быть и азиатом. Но когда он открыл рот, они сразу определили его происхождение.
— Простите, что помешал,— сказал американец.— Барышня говорит, вы самые лучшие специалисты по этим местам. Я вот хожу, ищу древности, а их нет и нет. Покажите мне, пожалуйста, всякие ваши средние века, очень буду обязан.
Они не сразу оправились от удивления, и он терпеливо пояснил:
— Я — Енох Оутс. В Мичигане меня все знают. А тут, у вас, я купил участочек. Посмотрел я нашу планетку, подумал и решил: если у тебя завелся доллар-другой — покупай землю в таком месте. Вот я и хочу узнать, какие тут самые лучшие старинные памятники. Эти, средневековые.
Удивление Хилари Пирса сменилось не то восторгом, не то яростью.
— Средневековые! — возопил он.— Памятники! Вы не прогадали, мистер Оутс. Я вам покажу старинное здание, священное здание, такое древнее, что его бы надо перевезти в Мичиган, как пытались перевезти аббатство Гластонбери
[18].
Он кинулся в угол огорода, размахивая руками, а американец послушно и вежливо пошел за ним.
— Глядите, пока этот стиль не погиб! — закричал Пирс, указывая на свинарник.— Средневековей некуда! Скоро их не будет. Но с ними падет Англия, и сотрясется мир.
По лицу американца невозможно было понять, насмешливо или наивно он спросил:
— Вы считаете эту постройку очень древней?
— Без всяких сомнений,— твердо ответил Пирс.— Мы вправе предположить, что в таком самом здании держал своих питомцев Гурт-Свинопас
[19]. Более того! Я убежден, что данный памятник много древнее. Крупнейшие ученые полагают, что именно здесь недооцененные создания посоветовали блудному сыну вернуться домой. Говорят, мистер Оутс, что такие памятники скоро исчезнут. Но этого не будет! Мы не подчинимся вандалам, покусившимся на наши святыни. Свинарник восстанет во славе! Купола его, башни и шпили возвестят победу священной свиньи над нечестивым тираном!
— Мне кажется,— сухо сказал Крейн,— мистеру Оутсу следует осмотреть церковь у реки. Викарий разбирается в архитектуре и объяснит все лучше, чем мы с вами.
Когда чужеземец ушел, полковник сказал своему молодому другу:
— Некрасиво смеяться над людьми.
Пирс обратил к нему пылающее лицо.
— Я не смеялся,— сказал он и засмеялся, но лицо его все так же пылало.— Я говорил всерьез. Аллегориями, быть может, но всерьез. Сердито, может быть... Но, поверьте, пришло время рассердиться. Мы слишком мало сердились. Я буду бороться за возвращение, за воскресение свиньи. Она вернется и диким вепрем ринется на своих гонителей.
Он вскинул голову и увидел на вывеске голубого борова, похожего на геральдических зверей.
— Вот наш герб! — вскричал он.— Мы пойдем в бой под знаменем Борова
[20]!
— Бурные аплодисменты,— сказал Крейн.— На этом и кончайте, не надо портить собственную речь. Оуэн хочет посмотреть местную готику, как Оутс. А я посмотрю вашу машину.
Каменистая тропинка вилась меж кустов и клумб, словно садик вырос по краям лестницы, и на каждом повороте Гуд спорил с упирающимся Пирсом.
— Не оглядывайтесь на ветчинный рай,— говорил он,— не то обратитесь в соляной... нет, в горчичный столп. Творец создал для услады глаз не одних свиней...
— Эй, да где же он? — спросил полковник.
— Свиньи, свиньи...— мечтательно продолжал Гуд.— Необоримо их очарование в раннюю пору нашей жизни, когда мы слышим в мечтах цокот их копытец, и хвостики их обвивают нас, как усики винограда.
— Ну что ты несешь! — сказал полковник.
Хилари Пирс действительно исчез. Он нырнул под изгородь, вскарабкался вверх по другой, более крутой тропинке, продрался сквозь кусты, вспрыгнул на забор и увидел оттуда свинарник и Джоан Харди, спокойно идущую к дому. Тогда он спрыгнул на дорожку, прямо перед ней. В утреннем свете все было четким и ярким, как в детской книжке. Пирс стоял, вытянув руки вперед, его желтые волосы совсем растрепались в кустах, и похож он был на дурака из сказки.
— Я не могу уйти, пока я с вами не поговорю,— сказал он.— Ухожу я по делу... да, именно по делу. Когда люди уходили в поход, они сперва... вот и я... Конечно, не для всех свинарник — высокий символ, но я, честное слово... В общем, вы сами знаете, что я вас люблю.
Джоан Харди это знала, но, словно концентрические стены замка, ее окружали древние деревенские условности, прекрасные и строгие, как старый танец или тонкое шитье. Самой скромной и гордой из всех дам, вытканных на ковре наших рыцарских рассказов, была та, кого мир и не назвал бы дамой.
Она молча глядела на него, он — на нее. Головка у нее была птичья, профиль — соколиный, а цвет ее лица не определишь, если мы не назовем его ослепительно-коричневым.
— Вы и впрямь спешите,— сказала она,— Я не хочу, чтобы со мной объяснялись на бегу.
— Простите,— сказал он.— Да, я спешу, но вас я не тороплю. Я просто хотел, чтобы вы знали. Я ничего не сделал, чтобы заслужить вас, но я нашел себе дело. Вы ведь сами считаете, что в мои годы нужно трудиться.
— Вы поступите на службу? — простодушно спросила она.— Я помню, вы говорили, у вас дядя служит в банке?
— Надеюсь, не все мои разговоры были на таком уровне,— сказал он, не подозревая ни о том, что она помнит каждое его слово, ни о том, как мало знает она об идеях и мечтах, которые казались ему такими важными.— Не то чтоб на службу... Скорее, это служение... Честно говоря, я займусь торговлей и торговать буду свиньями.
— Тогда не приезжайте к нам,— сказала она.— Здесь их скоро запретят, и соседи...
— Не бойтесь,— сказал он.— Я стану деловым и коварным. Что же до того, чтобы сюда не приезжать... Пишите мне хотя бы каждый час. А я буду присылать вам подарки.
— Не думаю, что отец разрешит мне принимать их,— сказала она.
— Попросите его подождать,— серьезно сказал Пирс.— Пусть он сперва на них посмотрит. Я не думаю, что он их отвергнет. Они ему понравятся. Он одобрит мой скромный вкус и здравые деловые принципы. А вы не пугайтесь, я не буду вас беспокоить, пока всего не совершу. Только знайте, что для вас я бросаю вызов миру.
Он вспрыгнул на стену и исчез, а Джоан молча вернулась в кабачок.
В следующий раз три друга встретились за завтраком в совсем другом месте. Полковник пригласил их в свой клуб, хотя сам ходил туда довольно редко. Первым явился Оуэн Гуд, и лакей, как ему велели, провел его к столику у окна, за которым расстилался Грин-парк. Зная военную пунктуальность полковника, Гуд подумал, что сам спутал время, и полез в карман, где была зажигалка. Там оказалась и газетная заметка, которую он сам, смеха ради, вырезал на днях. Говорилось в ней вот что:
«В Западных графствах, особенно — на шоссе, ведущем в Бат, мотоциклисты все чаще превышают дозволенную скорость. Как ни странно, нарушителями оказываются в последнее время богатые и респектабельные дамы, прогуливающие домашних животных, которым, по словам хозяек, необходима для здоровья большая скорость, вызывающая сильный приток воздуха».
Он рассеянно проглядывал эти строки, когда вошел полковник с газетой в руке.
— Просто смешно! — воскликнул Крейн.— Я не революционер, не то, что ты, но эти правила и запрещения переходят все границы. Вот, бродячие зверинцы запретили. Опасно, видите ли. Деревенские мальчишки не увидят льва, потому что раз в пятьдесят лет кто-нибудь сбегает из клетки. Но это еще что! Ты знаешь, недавно завели особые поезда, которые перевозят больных в санатории. Так вот, их тоже запретили, заразы боятся. Если так пойдет, я сбешусь, как Хилари.
Хилари Пирс тем временем пришел и слушал его, странно улыбаясь. Улыбка эта удивляла Гуда не меньше, чем газетные заметки. Он переводил глаза с Пирса на газету и с газеты на Пирса, а тот улыбался все загадочней.
— Сегодня вы не так уж беситесь,— сказал ему Оуэн Гуд.— Раньше бы вы от таких запретов разнесли крышу.
— Да, запреты неприятные,— сдержанно отвечал Пирс.— Очень не ко времени. Разрешите взглянуть?
Гуд протянул ему вырезку, и он закивал, повторяя:
— Вот, вот, за это меня и схватили!..
— Кого схватили? — удивился Гуд.
— Меня,— сказал Пирс.— Респектабельную даму. Но я убежал. Хорошее было зрелище, когда дама перемахнула через изгородь и поскакала по лугам.
Гуд взглянул на него из-под нахмуренных бровей.
— А что это за домашние животные?
— Свинки,— бесстрастно пояснил Пирс.— Я им так и сказал: «Домашнее животное, вроде мопса».
— Ах, вон что! — сказал Гуд.— Хотели провезти их на большой скорости, а вас задержали...
— Сперва я думал одеть их миллионерами,— благодушно поведал авиатор.— Но когда присмотришься, сходство не такое уж большое...
— Насколько я понимаю,— сказал полковник,— с другими законами было то же самое?
— Да,— сказал Пирс.— Я их нарушил, я и создал.
— Почему же газеты об этом не пишут? — спросил Крейн.
— Им не разрешают,— ответил Пирс.— Власти не хотят меня рекламировать. Когда случится революция, в газетах о ней не напишут.
Он помолчал, подумал и начал снова:
— Потом я повез бродячий зверинец, оповещая всех, что в клетках — самые опасные хищники. Потом я возил больных. Свинки скучали, но условия у них были хоть куда, я нанял сиделок...
Крейн, рассеянно глядевший в окно, медленно повернулся к друзьям и резко спросил:
— Чем же это кончится? Дальше выкидывать такие штуки невозможно...
Пирс вскочил, и к нему вернулось то романтическое самозабвение, с которым он давал обет у свинарника.
Невозможно! — воскликнул он.— Вы и сами не знаете, что сказали! Все, что я делал до сих пор, возможно и банально. Теперь я совершу невозможное. Везде, во всех книгах и песнях, сказано, что этого быть не может. Если под вечер, в четверг, вы придете к каменоломне, напротив кабачка, вы увидите самый символ невозможного, и он будет таким явным, что даже газеты не сумеют его утаить.
На склоне дня, в то место, где сосновую рощу перерезал шрам каменоломни, пришли два еще нестарых человека, не утративших страсти к приключениям, и расположились там, как на пикник. Оттуда, словно из окна, выходящего на долину, узрели они то, что походило на видение или, точнее, на комическое светопреставление. Небо на западе сияло лимонным светом, выцветавшим в прозрачно-зеленый, и два-три облачка у горизонта были ярко-алыми. Лучи заходящего солнца золотили все и вся, и кабачок казался сказочным замком.
— Вот тебе для начала небесное знамение,— сказал Оуэн Гуд.— Странно, но это облако очень похоже на свинью...
— Или на кита
[21],— откликнулся Крейн и было зевнул, но, поглядев на небо, встряхнулся. Художники давно заметили, что облака весомы и объемны; однако не до такой же степени.
— Это не облако,— резко сказал он.— Это дирижабль...
Странная глыба все росла, и чем четче она становилась, тем невероятней.
— Господи, милостивый! — закричал Гуд.— Да это свинья!
— Дирижабль в виде свиньи,— уточнил полковник.
Над «Голубым боровом» воздушное чудище встало, и от него оторвались яркие точки.
— Парашютисты,— сказал полковник.
— Какие странные...— заметил юрист.— Господи, да это не люди!
С такого расстояния странные парашютисты походили на ангелов средневековой миниатюры, а небо — на золотой фон, символизирующий вечность. Спустившись пониже, они обрели большее свиноподобие. Наконец они исчезли за деревьями, и путники, взглянув на садик у кабачка, в котором они вот-вот должны были приземлиться, увидели Джоан Харди. Она стояла у свинарника, подняв птичью головку, и глядела в небо.
— Странный способ ухаживания! — сказал Крейн. — Наш влюбленный друг преподносит просто невозможные дары.
— Да! — закричал Гуд, очнувшись.— Вот оно, это слово!
— Какое слово? — спросил Крейн.
— «Невозможно»,— отвечал Г уд.— И он, и мы этим словом живем. Разве ты не видишь, что он сделал?
— Как не видеть! — сказал полковник.— Но я не вижу, к чему ты ведешь.
— Он нарушил еще одну поговорку,— объяснил Оуэн.— Свиньи летают.
— Это удивительно,— признал полковник,— но еще удивительней, что им не разрешают ходить по земле.
Они пошли по крутому склону холма вниз, в лесной полумрак, теряя ощущение высоты и сверкающей нелепицы облаков, словно им и вправду было видение; и голос Крейна звучал в полумгле так, словно он рассказывал свой сон.
— Я другого не пойму,— говорил он.— Как Хилари это сделал?
— Он удивительный человек,— откликнулся Гуд.— Ты сам рассказывал, что он творил на фронте. Это не труднее...
— Гораздо труднее,— возразил Крейн.— Там все были вместе, здесь он один.
— Что ж,— сказал Гуд,— человек творит чудеса, когда очень захочет, даже если с виду он похож на плохого поэта. Кажется, я знаю, чего хочет он. Да, он ее заслужил... это — час его славы...
— Все равно не понимаю,— сказал полковник, и эту часть дела он не понимал еще долго, пока не случилось много других интересных вещей.
А тем временем Хилари Пирс спустился как Меркурий во впадину каменоломни и направился к Джоан Харди.
Сейчас не до ложной скромности,— сказал он.— Я победил. Я принес вам Золотое руно, вернее — золотую щетину. Я превратил свинью в Пегаса. Я пришел к вам во славе...
— Вы в грязи,— улыбаясь, сказала она.— Эту красную глину трудно чистить. Щетка ее не возьмет, надо сперва...
— О Господи! — воскликнул Пирс.— Неужели ничто не вырвет вас из будней? Неужели вы не воскликнете хотя бы: «О, дай мне крылья свиньи!»
[22] Что бы вы сказали, если бы я перевернул землю или поверг себе под ноги солнце и луну?
— Я сказала бы,— все так же улыбаясь, ответила Джоан,— что вас нельзя оставлять без присмотра.
Он глядел на нее минуту-другую, словно не сразу понял; потом засмеялся внезапно и радостно, словно увидел что-то наконец и удивился, как же он не видел этого раньше.
— Однако и стукаешься же об землю, когда упадешь с неба,— сказал он,— об землю крестьян и свиней... простите, это комплимент. Что за штука — здравый смысл, и насколько он тоньше поэтических выдумок! Особенно когда ему сопутствует все, что очищает небо и смягчает землю,— красота, и смелость, и достоинство. Да, Джоан, вы правы. Согласны вы смотреть за мной?
Он схватил ее за руки, и она ответила, улыбаясь:
— Да... только вы идите... вот ваши друзья...
Действительно, Крейн и Гуд шли к ним сквозь сетку тонких деревьев.
— Поздравьте меня! — крикнул Хилари Пирс.— А я покаюсь вам и расскажу новости.
— Какие новости? — спросил Крейн.
Хилари Пирс широко улыбнулся и махнул рукой, указывая на свинок с парашютами.
— Правду сказать,— признался он,— это просто фейерверк в честь победы или поражения, как назовете. Больше нет нужды доставлять их тайно, запрет сняли.
— Сняли? — воскликнул Гуд.— Что ж это? Нелегко выдержать, когда сумасшедшие внезапно выздоравливают.
— Сумасшедшие тут ни при чем,— спокойно ответил Пирс.— Перемена произошла гораздо выше или гораздо ниже. Словом, на той неисповедимой глубине, где Большие Люди вершат Большие Дела.
— Какие? — спросили Гуд и Крейн.
— Старый Оутс,— отвечал Пирс,— занялся чем-то другим.
— При чем тут Оутс? — удивился Гуд.— Это тот янки, который ищет старинные развалины?
— Да,— устало сказал Пирс.— Я тоже думал, что он ни при чем. Я думал, это наши дельцы и вегетарианцы. Но нет, они были невинным орудием. Суть в том, что Енох Оутс — самый крупный в мире поставщик свинины, и это он не хотел конкуренции. А его воля — закон, как сам он сказал бы. Теперь, слава Богу, он изобрел какое-то другое дело.
Если неукротимый читатель хочет узнать, какое же дело изобрел мистер Оутс, он, как это ни печально, должен терпеливо прочитать историю об его исключительной изобретательности, а ей предшествует еще одна повесть, без которой здесь не обойдешься.
ЗАГАДОЧНЫЙ ЗВЕРЬ ПАСТОРА УАЙТА
В летописях содружества странных людей, творивших невозможное, говорится о том, что Оуэн Гуд, ученый юрист, и Джеймс Крейн, полковник в отставке, сидели как-то под вечер на маленьком островке, послужившем некогда подмостками для начала любовной истории, с которой терпеливый читатель, по- видимому, знаком. Оуэн Гуд часто удил здесь рыбу, но теперь, оторвавшись от любимого дела, беседовал и ел. Был тут и третий друг, помоложе — светловолосый, живой, даже как бы встрепанный человек, на чьей свадьбе недавно побывали и полковник, и юрист.
Все трое слыли чудаками; но чудачества пожилых людей, бросающих миру вызов, непохожи на чудачества юных, надеющихся изменить мир. Хилари Пирс собирался мир перевернуть, а старшие друзья смотрели на это, как смотрели бы на милого им ребенка, играющего ярким шариком. Быть может, именно поэтому один из них вспомнил об очень старом друге, и улыбка осветила его длинное, насмешливое, печальное лицо.
— Кстати,— сказал Оуэн Гуд,— я получил письмо от Уайта.
Бронзовое лицо полковника тоже осветилось улыбкой.
— И прочитал? — спросил он.
— Да,— ответил Гуд,— хотя и не все понял. Вы не знакомы с ним, Хилари? Значит, эта встряска еще впереди...
— А что в нем такого? — заинтересовался Пирс.
— Да ничего...— отрывисто ответил Крейн.— Начинает он подписью, кончает обращением.
— Вы не прочитаете нам его письмо?..— спросил бывший летчик.
— Пожалуйста,— согласился юрист.— Тайны тут нет, а была бы — ее все равно не обнаружишь. Дик Уайт — сельский священник. Многие зовут его Диким Уайтом. Когда он был молод, он был похож на вас. Попробуйте представить себя пятидесятилетним пастором, если воображение выдержит...
Мы уже говорили, что нашу летопись надо читать задом наперед; и письмо преподобного Ричарда Уайта прекрасно для этого годится. Когда-то у пастора был смелый и красивый почерк, но спешка и сила мысли превратили его в истинную клинопись. Содержание письма было такое:
«Дорогой Оуэн! Я все твердо решил. Знаю, что ты возразишь, но здесь ты будешь неправ, потому что бревна — из других мест и ни к нему, ни к его прислужникам отношения не имеют. Вообще я все сделал один, вернее — почти один, хотя такая помощь ни под какой закон не подходит. Надеюсь, ты не обидишься. Конечно, ты мне хочешь добра, но пора нам наконец поговорить начистоту».
— Вот именно,— сказал полковник.
«Мне надо многое тебе рассказать,— продолжал Оуэн Гуд.— Знаешь, все вышло лучше, чем я думал. Сперва я боялся — все же, сам понимаешь, как рыбе зонтик, белый слон, пятая нога и что там еще. Однако на свете больше того-сего, и прочее, и прочее, в общем — Бог свое дело знает. Иногда просто чувствуешь себя в Азии».
— Да? — спросил полковник.
— Что он имеет в виду? — воскликнул Пирс, теряя последнее терпение.
«Конечно,— продолжал Гуд,— здесь сильно переполошились, а всякие мерзавцы — просто испугались. Чего от них, собственно, и ждать... Салли сдержанна, как всегда, но она все в Шотландии да в Шотландии, так что сам понимаешь. Иногда мне очень одиноко, но я духом не падаю. Наверное, это смешно, а все же скажу, что со Снежинкой не соскучишься».
— Мне давно не до смеха,— печально проговорил Хилари Пирс.— Какая еще снежинка?
— Девочка, наверное,— предположил полковник.
— Да, наверное, девочка,— сказал Пирс.— У него есть дети?
— Нет,— сказал полковник.— Не женат.
— Он долго любил одну женщину из тех краев,— пояснил Гуд.— Так и не женился. Может быть, Снежинка — ее дочь от «другого»? Совсем как в фильме или в романе. Хотя тут вот что написано:
«Она пытается мне подражать, они всегда так. Представляешь, как все перетрусят, если она научится ходить на двух ногах».
— Что за чушь! — закричал полковник Крейн.
— Мне кажется,— сказал Гуд,— что это пони. Сперва я подумал было, что собака или кошка, но собаки служат, да и кошки поднимаются на задние лапы. Вообще «перетрусят» для них слишком сильное слово. Правда, тут и пони не очень подходит, вот слушайте:
«Я научил ее, и она мне приносит все, что я скажу».
— Да это же обезьяна! — обрадовался Пирс.
— Думал так и я,— сказал Гуд.— Тогда было бы понятно про Азию... Но обезьяна на задних лапах — еще обычней, чем собака. Кроме того, Азия здесь значит что-то большее. Вот он что пишет: «Теперь я чувствую, что разум мой движется в новых, точнее — в древних просторах времени или вечности. Сперва я называл это восточным духом, но было бы вернее назвать это духом восхода, рассвета, зари, который никак не похож на жуткий, неподвижно-вязкий оккультизм. Истинная невинность сочетается здесь с величием, сила могучей горы — с белизной снегов. Мою собственную веру это не колеблет, а укрепляет, но взгляды мои, что ни говори, становятся шире. Как видишь, и я сумел опровергнуть поговорку».
— Последняя фраза мне понятна,— сказал Гуд, складывая письмо.— Все мы опровергаем поговорки.
Хилари Пирс вскочил на ноги и пылко заговорил:
— Ничего страшного нет, когда пишут задом наперед. Многие думают, что объяснили все в письме, которого и не писали. Мне безразлично, каких он любит зверей. Все это — добрые английские чудачества, как у мечтательных лудильщиков или спятивших сквайров. Оба вы творите Бог знает что именно в таком роде, и мне это очень нравится. Но я толкусь среди нынешних людей, видел нынешние чудачества, и, поверьте, они хуже старых. Авиация — тоже новая штука, я сам ею увлекаюсь, но теперь есть духовная авиация, которой я боюсь.
— Простите,— вставил Крейн.— Никак не пойму, о чем вы.
— Конечно! — радостно ответил Пирс.— Это мне и нравится в вас. Но мне не нравится, как ваш друг рассуждает о широких взглядах и восточных восходах. Многие шарлатаны рассуждали так, а вторили им дураки. И вот что я вам скажу: если мы поедем к нему, чтобы посмотреть на эту Снежинку, мы очень удивимся.
— Что же мы увидим? — спросил Крейн.
— Ничего,— ответил Пирс.
— Почему? — снова спросил Крейн.
— Потому,— сказал Пирс,— что ваш Уайт беседует с пустотой.
И Хилари Пирс, охваченный сыщицким пылом, принялся расспрашивать всех, кого только можно, о преподобном Ричарде Уайте.
Он узнал, что Уайт служит в самых глубинах западной части Сомерсетшира, на землях некоего лорда Арлингтона. Священник и помещик не ладили, тем более что священник был гораздо мятежней, чем положено. Особенно возмущала Уайта нелепость или аномалия, вызвавшая столько гнева в Ирландии и в других местах: он никак не соглашался понять, почему дома, построенные или улучшенные арендаторами, юридически принадлежат землевладельцу. В знак протеста он построил себе хижину на холме, у самой границы Арлингтоновых земель. Этим объяснялись некоторые фразы — скажем, о бревнах и о приспешниках. Но многое оставалось тайной, и прежде всего Снежинка.
Как выяснилось, некоторые слышали от священника примерно те же слова, которые были в письме: «Сперва я боялся, что это и впрямь обуза»... Никто не помнил этих слов точно, но все соглашались в том, что речь шла о какой-то ненужной, обременительной вещи. Вряд ли это могла быть Снежинка, о которой он говорил с тем умилением, с каким говорят о ребенке или котенке. Вряд ли это было новое жилище. По-видимому, в его путаной жизни существовало еще что-то, третье, слабо мерцавшее сквозь хитросплетения строк.
Полковник Крейн никак не мог вспомнить, что же именно писал его друг.
— Ну, как это...— почти сердился он.— Обуза... неудобство... пятая нога... Кстати, я тоже получил письмо. Покороче и, кажется, попроще.— И он протянул письмо Гуду, который и начал его читать.
«Никогда не думал, что даже здесь, в наших краях, в самом Авалоне, люди так запуганы помещиками и крючкотворами. Никто не посмел помочь мне, когда я переносил свой дом, одна Снежинка помогла, и мы с ней управились дня за три. Теперь я вообще не на его земле. Придется ему признать, что на свете всякое бывает».
— Нет, постойте! — прервал себя Гуд и заговорил медленней, как бы размышляя.— Все это очень странно... Не вообще странно, а для странных людей... для этого странного человека... Я знаю Уайта лучше, чем вы. Фактов он придерживается твердо, как все склочные люди. Понимаете, он способен перебить у помещика окна, но никогда не скажет, что их было шесть, если их было пять. Какая же точность может быть здесь? Как могла эта Снежинка перенести целый дом?
— Я уже говорил, что я думаю,— сказал Пирс.— Кто бы она ни была, увидеть ее невозможно. Друг наш стал духовидцем, и Снежинкой он зовет духа или как их там, подопытный призрак. Для духа — сущие пустяки перенести какой-то дом. Но если человек в это верит, мне его искренне жаль.
Собеседники его вдруг стали старше; быть может, сейчас они впервые могли бы показаться старыми. Он заметил это и быстро заговорил:
— Вот что... я с ним увижусь и все разузнаю!.. Сейчас и двинусь.
— Это очень далеко,— покачал головой полковник.— Вам ведь завтра надо в министерство...
— Ничего,— сказал Пирс.— Я туда полечу.
Исчезая, он легко взмахнул рукой, словно Икар, первый человек, оторвавшийся от земли.
Наверное, летящий силуэт так сильно запечатлелся в их памяти потому, что на следующий день Пирс был совсем другим. Когда они пришли, чтобы встретить его, к Министерству авиации, они увидели, что сам он стал тише, а взгляд его — безумней, чем обычно. В соседнем ресторане, за завтраком, все говорили сперва о пустяках, но наблюдательный полковник понимал, что с Пирсом что-то случилось. Пока они думали, с чего бы начать, Пирс проговорил, глядя на горчичницу:
— Вы в духов верите?
— Не знаю,— ответил Оуэн Гуд.— По-гречески меня назвали бы агностиком... Неужели у бедного Уайта в приходе водятся духи?
— Не знаю,— в свою очередь сказал Пирс.
— Вы что, серьезно? — воскликнул Гуд.
— Вот он, агностик! — улыбнулся Пирс.— Не выносит истинного агностицизма... Я не знаю, водятся ли там духи. Я не знаю, что там такое, если они не водятся...
Он помолчал, потом заговорил спокойней:
— Лучше расскажу по порядку. Вы помните, что в тех краях так и чувствуешь славу Гластонбери, и тайну Артуровой могилы, и пророчества Мерлина
[23]... Когда я добрался до деревни, мне показалось, что она — западней заката. Дом пастора еще западней, в заброшенных полях, за которыми стоит глухой лес. Именно дом, Уайт его покинул, осталась пустая раковина, холодная, как классический храм из тех, что украшали когда-то сельские усадьбы. Дом этот — к западу от прихода, но живет ваш Уайт еще намного западней, если он вообще где-нибудь живет.
Солнце уже скрылось, когда я опустился на лугу, у деревни, и пошел дальше пешком. Пока я шел, темнело, и я боялся, что не доберусь засветло до места. Крестьяне, которых я спрашивал, отвечали уклончиво, но я все же понял из их слов, что Уайт поселился на холме, возвышавшимся над лесом. Дойти туда нелегко, но я дошел и стал пробираться сквозь чащу, карабкаясь по холму. Подо мной шумели вершины; из моря деревьев, словно купол, вставал одинокий холм, а на вершине его, на темном фоне туч, темнела какая-то постройка. Выглянул месяц, минуту-другую я видел ее лучше, и она показалась мне очень простой и легкой. Стояла она на четырех колоннах, словно христианский священник избрал себе пристанищем языческий храм четырех ветров. Чтобы вглядеться получше, я потянулся вверх, соскользнул вниз по склону, в самую чащу, и она поглотила меня, как море. Примерно полчаса я продирался сквозь низкие ветви и переплетенные корни, под двойным покровом ночной и лесной тьмы, пока не оказался наконец на голой вершине.
Да, на голой. Ветер колыхал редкую траву, словно волосы на лысеющей голове, и больше ничего там не было. Дом исчез, как исчезает сказочный дворец. Сквозь лес, немного в стороне, к вершине шла просека, но она не вела никуда. Когда я увидел это, я сдался. Что-то мне подсказало, что я ничего не найду. Я пошел назад, спустился побыстрее с холма, но когда я снова нырнул в море листьев, раздался жуткий звук. Таких звуков на земле нет — это был и вой, и хохот... в общем, я такого не слышал... как будто ржал огромный конь... или кричал человек, и в крике этом слышались издевка и торжество.
Улетел я сразу — мне надо было утром в министерство, но, кроме того, я хотел поскорее вам все рассказать. Помните, я боялся, что ваш друг не в себе... Теперь я боюсь, что он прав.
Оуэн Гуд резко встал и ударил кулаком по столу.
— Вот что,—крикнул он.— Едем туда все вместе!
— Вы надеетесь что-то выяснить? — мрачно спросил Пирс.
— Нет,— сказал Гуд.— Я и так знаю. Дик Уайт — человек точный. Даже слишком точный, в том и вся тайна. Он скучно, нудно, педантично твердил нам правду. Но и я иногда бываю точным. Посмотрим-ка расписание поездов.
Когда они прибыли на место, селение до смешного не походило на то, что видел недавно Хилари Пирс. Такие селения мы называем сонными, забывая при этом, что они относятся совсем не сонно к своим делам, особенно — к праздникам. Пикадилли-Серкус выглядит почти одинаково и в будни, и на Рождество; деревенская рыночная площадь преображается в день ярмарки. Когда Пирс побывал здесь впервые, ему явились в ночном лесу достойные Мерлина загадки; когда он приехал во второй раз, он очутился в самой сердцевине праздничной сутолоки. По-видимому, всем распоряжалась высокая дама благородной внешности, с которой Оуэн Гуд, на удивление друзьям, сердечно поздоровался и, отойдя в сторону, вступил в оживленную беседу. Как ни занята она была, говорили они долго, но Пирс услышал только последние слова:
— Он обещал что-то привезти... Вы же знаете, он всегда держит слово.
Вернувшись к друзьям, Гуд сказал им:
— Вот на этой даме Уайт и хотел жениться. Теперь я понял, почему они поссорились, и думаю, что не все потеряно. Другое плохо — здесь полицейские, с инспектором во главе. По-видимому, они ждут Уайта. Надеюсь, до скандала не дойдет...
Надежда его не оправдалась. То, что произошло, можно назвать скандалом только из вежливости. Через десять минут на площади творилось такое, для чего нет слова в языке. Гоняясь по лесу за неуловимым храмом, Пирс думал недавно, что достиг пределов фантазии. Но то, что явилось ему во мраке и одиночестве, было не так поразительно, как то, что он увидел на многолюдной, светлой площади.
Из леса, покрывавшего холм, показалось что-то, похожее на белый омнибус. Но это был не омнибус. Двигалось оно быстро, и все скоро увидели, что это — огромный слон, серебрящийся на солнце. Сидел на слоне пожилой человек в черной пасторской одежде; он гордо поворачивал голову то вправо, то влево, и в солнечных лучах сверкали его серебряные волосы и резкий орлиный профиль. Инспектор сделал один шаг и застыл как статуя. Священник на слоне ворвался в толпу так спокойно и властно, как врывается на арену умелый дрессировщик, и направился к одному из лотков.
— Видите, я сдержал слово,— громко и весело сказал он высокой даме.— Привел вам белого слона.
Потом он помахал рукой Гуду и Крейну.
— Вот хорошо, что приехали! — крикнул он.— Вы одни все знали, я вам писал...
— Так оно и было,— сказал Гуд,— только мы думали, что это — метафора...
— Нет, постойте,— вмешался оправившийся инспектор.— Я этих ваших метафор не понимаю, мое дело — закон. Мы вас сколько раз предупреждали, а вы уклоняетесь...
— Уклоняюсь? — радостно переспросил Уайт.— Что поделаешь, слон... Они такие... чуть что — уклонятся, убегут, испарятся, словно росинка... нет, Снежинка... Эй, Снежинка, пошли!
Он ласково ударил слониху по спине, и, прежде чем инспектор хоть что-то понял, она плавно, словно водопад, ринулась сквозь толпу. Если бы полицейские погнались за ней на мотоциклах, они бы на нее не влезли. Револьверов у них не было, но ее все равно не взяла бы револьверная пуля. Белое чудище быстро удалялось по белой дороге, и, когда оно обратилось в черную точку, народ подумал было, что все это — наваждение; но тут раздался трубный, торжествующий глас, который так напугал Пирса в ночном лесу.
Когда друзья снова встретились в Лондоне, Крейн и Пирс нетерпеливо ждали полного разъяснения событий, ибо Оуэн Гуд опять получил письмо.
— Теперь мы все знаем,— весело сказал Пирс,— и все поймем.
— Конечно,— согласился Гуд.— Читаю: «Дорогой Оуэн, большое тебе спасибо. Ты не сердись, что я ругал папки и перья».
— Простите, что он ругал? — спросил Пирс.
— Папки и перья,— повторил Гуд.— Итак, продолжим: «Понимаешь, они тут распоясались, потому что я вечно говорил, что у меня его нет и не будет. Когда они увидели, что он у меня есть, и еще какой, они сразу пошли на попятный».
— О чем, собственно, речь? — спросил полковник,— Это какая-то игра в слова.
— Что ж, я выиграл,— сказал Гуд.— Пропущено слово: «юрист». Полиция приставала к Уайту, думая, что у него нет юриста. Когда я взялся за дело, я обнаружил, что они нарушали законы не меньше, чем он. В общем, я ему помог, и он меня благодарит. Дальше речь идет о более личных делах, и очень интересных. Надеюсь, вы помните даму, за которой он много лет ухаживал, в том примерно духе, в каком сэр Роджер де Каверли
[24] ухаживал за вдовой. Еще я надеюсь, что вы меня поймете, если я назову ее величественной. Она прекрасный человек, но совсем не случайно у нее такой грозный и важный вид. Эти чернобровые Юноны умеют распоряжаться и властвовать, и чем больше размах, тем им лучше... а когда все обрушивается на одну деревушку, результаты бывают поразительные. Вы видели, как она царствовала над ярмаркой и не испугалась слона. Если бы ей довелось править целым стадом слонов, она бы не пала духом. А этот белый слон не только не напугал ее,— он ее обрадовал, снял бремя с души...
— Теперь вы сами впали в его стиль,— сказал Хилари Пирс.— Что вы имеете в виду?
— Опыт учит меня,— отвечал юрист,— что сильные, деловые люди гораздо застенчивей мечтателей. Самый их стоицизм велит им скрывать свои чувства. Они не понимают тех, кого любят, и не решаются в том признаться. Они страдают молча, а это страшная привычка. Словом, сделать они могут что угодно, но не умеют сидеть без дела. Блаженные теоретики, вроде Пирса...
— Нет уж, простите! — вознегодовал Пирс.— Да я нарушил больше законов, чем вы прочитали!.. Если этот психологический экскурс должен все разъяснить, лучше я послушаю Уайта.
— Пожалуйста,— согласился Гуд.— В его изложении события выглядят так: «Теперь все в порядке, я очень счастлив, но, ты подумай, как осторожно нужно подбирать слова! Кто бы догадался, что ей примерещится...»
— Мне кажется,— вежливо перебил Крейн,— лучше тебе снова заняться переводом. Что ты говорил о застенчивых практиках?
— Я говорил,— ответил юрист,— что там, на ярмарке, я увидел над толпой властное, невеселое лицо и вспомнил многое. Мы не виделись десять лет, но я сразу понял, что она страдает, и страдает молча. Давно, когда она еще была обыкновенной помещичьей дочкой, охотящейся на лисиц, а Дик — чудаковатым помощником викария, она сердилась на него два месяца за какую-то ошибку, которую можно было объяснить в две минуты.
— Что же случилось сейчас? — спросил Пирс.
— Неужели вам еще не ясно? — удивился Гуд.— Она была в Шотландии, он ей писал, и она его не поняла. В сущности, как ей понять, если и мы не поняли? Теперь они снова в раю, и, надеюсь, больше у них недоразумений не будет, ведь это — плод разлуки. А хобот-искуситель и впрямь похож на змия...
— Значит, она...— начал Пирс.
— Не поняла, кто такая Снежинка,— закончил Гуд.— Мы подумали о пони, о ребенке, о собаке — а она подумала о другом.
Все помолчали, потом Крейн улыбнулся.
— Что ж, я ее не виню,— сказал он. Какая мало-мальски изысканная дама решит, что ей предпочли слониху?
— Удивительно! — сказал Пирс.— Откуда же эта слониха взялась?
— Сейчас узнаете,— ответил Гуд.— «Хотя это и не был, в точном смысле слова, зверинец капитана Пирса...»
— Черт! — вскричал Пирс.— Это уж слишком! Помню, я увидел свою фамилию в голландской газете и все думал, что там еще за слова — одни ругательства, или нет...
— Хорошо, я сам объясню,— сказал терпеливый Гуд.— Как я вам уже говорил, преподобный Уайт скрупулезно точен. Он сообщает, что слон попал к нему не из вашего, свиного, зверинца, а из настоящего. Но все же это с вами связано. Иногда мне кажется, что все эти приключения связаны не случайно... что у наших кунсштюков есть особая цель. Не всякий подружится с белым слоном...
— Не всякий подружится с нами,— вставил Крейн.— Мы и есть белые слоны.
— Так вот...— продолжал Гуд,— когда вы, Пирс, решили возить в клетках своих свиней, власти стали разгонять повсюду бродячие зверинцы, и Уайт защитил зверей, которых везли через его приход. В благодарность ему подарили белого слона.
— Как странно,— заметил Крейн, — брать гонорар слонами...
Все снова помолчали, потом Пирс задумчиво произнес:
— И еще странно, что все это вышло из-за моих свинок. Гора родила мышь, а здесь — наоборот, свинья родила слониху.
— Она еще не то родит, — сказал Оуэн Гуд.
С чудищами, которых в дальнейшем родила свинья Пирса, читатель познакомится только тогда, когда одолеет рассказ об исключительной изобретательности Еноха Оутса.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ ЕНОХА ОУТСА
«С тех пор как полковник съел свою шляпу, наш сумасшедший дом лишился фона».
Добросовестный летописец не вправе надеяться, что фраза эта понятна без объяснений. Однако, чтобы объяснить и ее, и породившие ее обстоятельства, он вынужден подвергнуть читателя новому испытанию и отбросить его ко временам, когда достигшие средних лет герои этой летописи были совсем молодыми.
В те времена полковник был не полковником, а Джимми Крейном, и не ведал еще ни дисциплины, ни скромной элегантности. Роберт Оуэн Гуд только начал изучать право и знал законы лишь настолько, чтобы ловчее их нарушить, а друзьям приносил то и дело новый план революции, призванной уничтожить все и всякие суды. Ричард Уайт недавно обрел веру, но каждую неделю менял вероисповедание и рвался обращать соотечественников то в католичество, то в мусульманство, то в древний друидизм
[25]. Хилари Пирс готовился к будущим занятиям, пуская змеев. Словом, это было давно, и старшие из наших героев начинали свою долгую дружбу, собираясь вместе почти каждый день. Сборища эти, по здравом размышлении, они стали называть Сумасшедшим Домом.
— В сущности,— сказал при этом Гуд,— нам бы надо обедать по отдельности, в палатах, обитых чем-нибудь помягче...
Уайт, проходивший строго-аскетическую фазу, сообщил к случаю, что особенно святые монахи вообще не выходят из кельи. Отклика это не встретило, и Гуд предложил другой вариант: поставить мягкое кресло, символизирующее обитую изнутри одиночную палату. Кресло это займет тот, кто окажется самым безумным.
Джимми Крейн не говорил ничего и расхаживал по комнате, как белый медведь по льдине. Так бывало всегда, когда его особенно сильно тянуло к льдинам и к медведям или к тому, что соответствует им в южных широтах. Он был пока что самым безумным из друзей, во всяком случае, именно он внезапно исчезал невесть куда и внезапно появлялся; увлекался же он первобытными мифами, которые гораздо причудливей сменяющих друг друга вер молодого Уайта. Кроме того, он был серьезней всех. В одержимости будущего пастора было что-то мальчишеское, как и в его диком взоре, и в резком профиле. Когда он хвастался, что вот-вот откроет тайну Изиды, все понимали, что он ее не сохранит. Что же до Крейна, он сохранил бы любую тайну, даже если То была бы шутка. И когда он отправился в долгое путешествие, чтобы поглубже изучить мифы, никто его не удерживал. Уехал он в потертом костюме, почти без багажа, но с большим револьвером и большим зеленым зонтиком, которым решительно размахивал на ходу.
— Вернется он еще безумней, чем был,— говорил Ричард Уайт.
— Дальше некуда...— качал головой Оуэн Гуд.— Африканский колдун не сделает его безумней.
— Сперва он поехал в Америку,— сказал священник.
— Да,— согласился юрист,— но не к американцам, а к индейцам. Может быть, приедет в перьях...
— А может, с него сняли скальп,— с надеждой предположил Уайт.
— Вообще-то он больше интересуется Тихим океаном,— сказал Гуд.— Там скальпов не снимают, там тушат людей в кастрюльках.
— Тушеный он вряд ли приедет...— огорчился Уайт.— Знаешь, Оуэн, мы бы так не говорили, если бы не были уверены, что с ним ничего не случится.
— Да,— серьезно сказал Гуд.— Конечно, он вернется целым и невредимым. Но вид у него, наверное, довольно странный...
Гуд получал от него письма, все больше о мифологии; потом, одна за другой, пришли несколько телеграмм; и, наконец, они узнали, что Крейн прибыл и вот-вот придет. Минут за пять до обеда раздался стук в дверь.
— Сейчас нам понадобится трон! — засмеялся Оуэн Гуд и посмотрел на большое мягкое кресло, стоящее во главе стола.
Пока он смотрел, в комнату вошел Джеймс Крейн в безупречном вечернем костюме, гладко причесанный, с небольшими подстриженными усиками, сел за стол, приятно улыбнулся и заговорил о погоде.
Развить эту тему ему не удалось; зато удалось удивить друзей. Именно в тот вечер изложил он им свою веру, которой так и не изменил.
— Я жил среди тех, кого называют дикарями,— сказал он,— и открыл наконец одну истину. Вот что, друзья мои, вы можете толковать сколько угодно о независимости и самовыражении, но я узнал, что самым честным, и самым смелым, и самым надежным оказывается тот, кто пляшет ритуальный танец и носит в носу кольцо там, где это принято. Я много развлекался и никому в том не помешаю, но теперь я увидел, чем держатся люди, и вернулся к своему племени.
Так началось действо, закончившееся появлением Еноха Оутса, и мы обязаны коротко рассказать вам первый акт прежде, чем перейдем ко второму. Не покидая своих эксцентричных друзей, Крейн твердо придерживался условностей, и новые его знакомые представить его не могли никем, кроме суховатого джентльмена в черном и белом, скрупулезно точного и вежливого в мелочах. Тем самым Хилари Пирс, бесконечно его любивший, никогда его, в сущности, не понимал. Он не знал его молодым, не догадывался о том, какое пламя дремлет под камнем и снегами; и удивился происшествию с капустой гораздо больше, чем Гуд или Уайт, прекрасно видевшие, что полковник почти не стареет. Удивление это росло по мере того, как происходило все, поведанное летописцем,— горела Темза, летали свиньи, врывался на сцену белый слон. Теперь, когда друзья собирались вместе, полковник, повинуясь этикету, надевал капустную корону, а самому Пирсу предложили привести к обеду свинью.
— Я давно думаю,— сказал Гуд,— почему свиней не держат дома, как собак.
— Что ж,— сказал Пирс,— если у вас хватит такта и вы не будете есть свинины, я готов, приведу.
— Снежинку, к сожалению, привести трудно,— заметил полковник.
Пирс посмотрел на него и в который раз почувствовал, как не подходит ритуальная капуста к его благородной голове. Полковник недавно женился и помолодел до смешного, но все же что-то здесь было неверно, и летчик огорченно вздохнул. Именно тогда и произнес он слова, послужившие началом достоверному, хотя и скучному рассказу.
— С тех пор как полковник съел свою шляпу,— сказал он,— наш сумасшедший дом лишился фона.
— Ну, знаете! — вознегодовал полковник.— Прямо в лицо называть меня фоном!
— Темным фоном,— успокоил его Пирс.— Что здесь обидного? Глубоким и загадочным, как ночь, в которой сверкают звезды. Только на этом фоне видны причудливые очертания и пламенные цвета. Ваши безупречные манеры и безупречные костюмы оттеняли наш карнавал. У нашей эксцентричности был центр... нельзя быть эксцентричным без центра.
— По-моему, Хилари прав,— серьезно сказал Гуд.— Нельзя сходить с ума всем сразу. Сумасшествие лишается нравственной ценности, если никто ему не дивится. Что же нам делать теперь?
— Я знаю, что делать! — воскликнул Пирс.
— Да и я знаю,— сказал Гуд.— Надо найти нормального человека.
— Где его найдешь!..— вздохнул полковник.
— Нет, я хочу сказать, человека глупого,— объяснил Оуэн Гуд.— Не выдумщика, вроде тебя, а такого, который и не знает ничего, кроме условностей. Важного, практичного, делового... Ну, в общем — прекрасного, круглого, цельного дурака. В его невинном лице, как в чистом зеркале, отразятся наши безумства.
— Знаю! Знаю! — закричал Пирс, чуть не размахивая руками.— Енох Оутс!
— Кто это такой? — спросил пастор.
— Неужели владыки мира сего пребывают в безвестности? — удивился Гуд.— Енох Оутс — это свинина и почти все прочее. Я тебе рассказывал, как Хилари напал на него у свинарника.
— Он нам и нужен! — не унимался Пирс.— Я его притащу! Он миллионер — значит, невежа. Он американец — значит, важный. Кого-кого, а его мы удивим!
— Я не допущу шуток над гостями,— сказал полковник.
— Ну, что ты! — возразил Гуд.— Мы не обидим его, да он и сам не обидится. Видел ты американца, которого не тянет к зрелищам? А если уж ты не зрелище в этой капусте, я и не знаю...
— И вообще,— вмешался Пирс,— тут есть разница. Я бы в жизни не пригласил этого Хореса Хантера...
— Сэра Хореса Хантера...— почтительно прошептал Гуд.
— ...потому что он подлец и сноб,— продолжал Пирс,— и мне очень хочется его обидеть. А Енох мне нравится, то-то и смешно. Хороший такой человек, простой, темный. Конечно, он разбойник и вор, но он об этом не знает. Я его приглашу, потому что он на нас непохож, но он и не хочет стать на нас похожим. Что тут плохого? Мы его покормим, а он побудет для нас фоном...
Когда Енох Оутс, принявший приглашение, явился на званый Обед, юрист и священник сразу вспомнили, как за годы до этого вошел в эту же дверь безупречно вежливый человек в вечернем костюме. Однако между новым фоном и старым была заметная разница. Манеры Крейна отличались поистине английской, аристократической простотой; миллионер, как это ни странно, напоминал скорее знатного француза или итальянца, который постоянно обороняется от натиска демократии. Он был очень вежлив, но как-то скован, держался слишком прямо, на стул опустился тяжело. Правда, и весил он немало, а широким красноватым лицом напоминал погрузневшего индейца. Смотрел он отрешенно и вдумчиво жевал сигару. Казалось бы, все это предвещает склонность к молчанию. Но если такая надежда и возникла, она не оправдалась.
Монолог мистера Оутса не отличался блеском, зато и не прерывался. Поначалу Пирс развлекал гостя, как развлекают ребенка заводной игрушкой, рассказывая ему о полковнике и капусте, о капитане и свиньях, о пасторе и слоне. Осталось неизвестным, как воспринял все это гость,— быть может, просто не слышал. Но стоило Пирсу остановиться, он заговорил сам и вскоре опроверг ходячее мнение о живой, точной и быстрой речи американцев. Говорил он неспешно, глядел в стену, а из потока слов выделялись только нудные ряды каких-то цифр. Правда, в одном отношении он оправдал надежды: деловым и скучным он был. Однако хозяева все сильнее ощущали, что он не столько фон, сколько главное действующее лицо.
— ...понял, что идея первый сорт,— говорил он.— Конечно, пришлось вложить тридцать тысяч, но ведь сэкономил сто двадцать, а сырье, можно сказать, даром. Оно и понятно, куда их девать, все равно что обгорелые спички. В общем, дело пошло, и на первом перегоне я выручил семьсот пятьдесят одну тысячу чистой прибыли.
— ...семьсот пятьдесят одну тысячу...— прошептал Хилари Пирс.
— Им, дуракам, и в голову не приходило,— продолжал мистер Оутс,— зачем я это скупаю. Когда я работал со свининой, я им, конечно, спуску не давал, а сейчас нам нечего делить, им это и даром не нужно. Вот, например, с ваших крестьян я собрал девятьсот двадцать пять тысяч ушей, на зиму хватит.
Оуэн Гуд, привыкший к речам свидетелей-дельцов, слушал гораздо внимательнее, чем поэтичный Пирс, упивавшийся самими звуками.
— Простите,— вмешался он.— Я не ослышался? Вы сказали «ушей»?
— Вот именно, мистер Гуд,— кивнул терпеливый Оутс.
— Простите еще раз,— продолжал Гуд.— Насколько я понимаю, вы скупаете за бесценок свиные уши?
— Ну конечно! — снова согласился Оутс.— Для рекламы главное — удивить. Скажешь людям, что ты сделал невозможное,— и бери их голыми руками. Сперва мы написали просто: «А мы можем!» Целую неделю все гадали, что бы это значило.
— Надеюсь,— вкрадчиво сказал Пирс,— что нам вы откроете это сразу?
— Конечно! — повторил Оутс.— Мы научились делать шелк из свиной шкуры и щетины. Так вот, через неделю мы выпустили новую рекламу: «Лучшая женщина в мире ждет у очага, что вы принесете ей кошелек из свиного уха!»
— Кошелек из уха...— повторил Пирс.
— Именно! — кивнул невозмутимый делец.— Мы назвали его «Свиной шепот». Помните? «Любила девушка свинью...» Самый был лучший плакат... Принцесса что-то шепчет свинье на ухо. Теперь ни одна женщина в Штатах не обойдется без нашего кошелька. А все почему? Потому, что мы опровергли поговорку. Вот, смотрите.
Хилари Пирс вскочил и вцепился ему в руку.
— Нашли! — закричал он.— Дождались! Сюда, сюда!.. Прошу вас, умоляю, пересядьте в кресло!..
— В кресло? — удивился миллионер.— Не знаю, за что мне такая честь. Ну что ж, если вы просите...
Трудно сказать, что Пирс просил. Он тащил гостя к трону, пустовавшему много лет, издавая странные крики:
— Вы!.. Вы один!.. Honoris causa!.. Нашли короля!.. Сумасшедший дом!..
Тут вмешался полковник и навел порядок. Мистер Енох Оутс благополучно отбыл, но мистер Хилари Пирс никак не мог успокоиться.
— Вот вам и фон! — причитал он горестно.— А мы еще думали, что вы не в себе! Господи помилуй! Да перед ним мы просто звери полевые! Современный бизнес безумней всего, что ни выдумай!
— Ну,— благодушно возразил Крейн,— мы и сами, бывало...
— Куда нам! — закричал Пирс.— Мы знали, что делаем глупости! А этот дивный человек совершенно серьезен. Он думает, что так и надо. Нет, далеко нам до безумия, которого достиг современный бизнесмен!
— Может, они такие в Америке,— предположил Уайт.— Юмора нет...
— Чепуха! — резко сказал Крейн.— У американцев юмор не хуже нашего.
— Как же нам повезло,— благоговейно проговорил Пирс,— что в нашу жизнь вошло это богоподобное создание!..
— Вошло и вышло,— вздохнул Гуд.— Придется Крейну служить фоном...
Полковник о чем-то думал, а при этих словах нахмурился. Потом он вынул изо рта сигару и отрывисто спросил:
— А вы не забыли, как я им стал?
— Давно это было,— откликнулся Гуд.— Хилари еще ходил в длинном платьице...
— Я сказал вам тогда,— напомнил Крейн,— что узнал в своих странствиях важную вещь. Вы думаете, я — старый тори, но я ведь и старый путешественник... Я предан традициям, потому что много видел. Когда я приехал домой, я сказал, что вернулся к своему племени. И еще я сказал, что лучшие люди — те, кто племени верен. Те, кто носит в носу кольцо.
— Помню,— промолвил Гуд.
— Нет, ты забыл,— почти сердито возразил Крейн.— Ты это забыл, когда смеялся над Енохом Оутсом. Я, слава Богу, политикой не занимаюсь, и не мое дело, кинете ли вы в него бомбу за то, что он миллионер. Кстати, деньги он почитает меньше, чем Нормантауэрс, тот не стал бы говорить о них всуе. Но вы не бросаете бомбу в богача. Вы издеваетесь над американцем. Вам смешно, что он — хороший член племени, что у него в носу кольцо.
— Американцы... они... вообще-то,— вставил Ричард Уайт.— Знаешь, ку-клукс-клан...
— А у тебя что, нет кольца? — закричал, не слыша его, полковник, и так громко, что священнослужитель машинально пощупал нос.— Над тобой бы не смеялись? Да чем англичанин лучше, тем он смешней... и очень хорошо.
Полковник не говорил так пылко с тех пор, как вернулся из тропиков, и те, кто знал его тогда, смотрели на него с любопытством. Даже самые старые его друзья не понимали, как свято он чтит законы гостеприимства.
— Так и бедный Оутс,— продолжал Крейн.— Его странности, его мнения, его грубость и нелепость оскорбляют вас... а меня — еще больше, чем вас. Но вы, мятежники, думаете, что у вас — особенно широкие взгляды, тогда как взгляды у вас узкие, просто вы этого не знаете. Мы, консерваторы, хотя бы знаем, что наши вкусы — это вкусы. И еще мы знаем — во всяком случае, я знаю,— что такой вот Оутс гораздо лучший друг, лучший муж, лучший отец, чем нью-йоркский сноб, играющий в Лондоне лорда, а во Флоренции — эстета.
— Не говорите «муж»! — взмолился Пирс.— Как вспомню эту рекламу... «Ждет у очага»... Неужели вам это нравится?
— Мне дурно от этого,—сказал полковник.— Я бы скорее умер. Но что с того? Я — другого племени.
— Нет, не понимаю,— заговорил Гуд.— Невозможно вынести эту вульгарную, пошлую, ханжескую болтовню. Это же неприлично! Куда смотрит полиция?
— Ты неправ,— сказал полковник.— Это неприлично, и вульгарно, и пошло, если хочешь, но лицемерия здесь нет. Он говорил искренне. Не веришь — спроси его об его собственной жене. Он не обидится, то-то и странно. Он скажет то же самое.
— К чему вы клоните? — спросил Пирс.
— К тому,— отвечал Крейн,— что вам надо попросить у него прощения.
Так в действе об Енохе Оутсе, кроме пролога, появился эпилог, послуживший, в свою очередь, прологом следующих действ. Новая цепь событий началась в те минуты, когда полковник вынул изо рта сигару, ибо слова его тронули сердце капитана, а слова капитана тронули сердце богача.
Несмотря на всю свою драчливость Хилари Пирс был очень добр и ни за что на свете не обидел бы нарочно безобидного человека; кроме того, он глубоко, почти тайно, почитал Крейна. По этим причинам он вошел наутро в высокие золоченые двери роскошнейшего отеля, постоял минутку, а затем сообщил свое имя каким-то людям в золоте, важным, как немецкие генералы. Ему стало легче, когда американец спустился, чтобы его встретить, и протянул ему большую руку так сердечно, словно между ними никогда не бывало недоразумений. По-видимому, вчерашние безумства, как и средневековый свинарник, казались миллионеру обычными для нашей феодальной страны, а Сумасшедший Дом — одним из ее бесчисленных клубов. Быть может, Крейн был прав, предполагая, что для каждого народа все другие народы — сумасшедшие.
Наверху, в номере, Енох Оутс проявил еще больше радушия, угощая гостя коктейлями самых странных цветов и названий, хотя сам пил только теплое молоко. Пирсу он доверился сразу, и тот сильно страдал, словно, пролетев пятнадцать этажей, шлепнулся прямо в спальню едва знакомого человека. При малейшем намеке на извинения миллионер открыл свое сердце, как бы раскрыл объятия, и заговорил своим трубным голосом так же легко, как вчера:
— Я женат на самой лучшей женщине в мире,— сообщил он.— Это они с Богом вместе меня и создали, но ей, знаете ли, пришлось труднее, чем Богу. Когда я начинал, у нас ничего не было, и я бы сдался, если бы не она. Таких, как она, больше на свете и нет. Вот, посмотрите.
С поразительной быстротой он достал цветное фото, и Пирс увидел чрезвычайно царственную и нарядную даму со сверкающими глазами, в тщательно уложенной короне золотых волос.
— Она мне говорила: «Я верю в твою звезду»,— мечтательно сказал Оутс.— «Держись свинины, Енох!» Так мы и выстояли.
Пирс подумал было о том, как трудно вести нежную беседу, вставляя в нее имя «Енох», но ему стало стыдно, когда Свиная Звезда засияла в глазах его нового друга.
— Тяжело нам было, но я держался свинины. Я знал, что жене виднее... Так оно и вышло, привалило счастье и мне, я провернул одну махинацию, вывел конкурентов из строя... и дал ей наконец то, чего она заслуживает... Сам я развлечений не люблю, но просто сердце радуется, когда позвонишь ей поздно вечером, а у нее гости...
Перед его величавой простотой не могла устоять насмешка, свойственная более утонченной культуре. Нетрудно было заметить, как нелепы его слова, но это ничего не меняло. Быть может, именно так определяется все великое.
— Вот, говорят, «романтика деловой жизни»,— продолжал Оутс.— Как у кого, а у меня и правда это целый роман. Мы решили расширять дело, перекинулся я и на Англию... Правда, с вашими властями пришлось немного повозиться... ну, ничего, они везде одинаковы...
Многие считали Пирса не вполне нормальным, и он нередко оправдывал это мнение. Но если он и был сумасшедшим, то английским. Он просто дрожал при одной мысли, что можно говорить о своих чувствах, да еще чужому человеку, в отеле, потому что это к слову пришлось. И все же чутье подсказало ему, что именно теперь надо воспользоваться возможностью, хотя он не очень ясно понимал, к чему это приведет.
— Простите,— неловко проговорил он.— Я хочу вам сказать важную вещь.
Он помолчал и начал снова, упорно глядя в стол:
— Вы говорите, что женаты на лучшей женщине в мире. Как ни странно, я тоже. Это часто бывает. А вот и другое совпадение: мы с ней тоже держались свинины. Когда я встретил ее, она разводила свиней во дворе деревенского кабачка. Но получилось так, что пришлось отказаться от свиней... а может быть, и от кабачка, и от свадьбы. Мы были так же бедны, как были вы вначале, а для бедных такой приработок решает все. Нам грозила нищета... и все потому, что вы держались свинины. Но наши свиньи были живые, они ходили по земле, мы стелили им солому, мы их кормили, а вы покупали и продавали только имя, фантом, призрак свиньи, и призрак этот чуть не убил и наших свиней, и нас. Как по-вашему, справедливо ли, чтобы ваша романтика погубила нашу? Нет ли тут ошибки?
Енох Оутс долго молчал.
— Это надо обсудить,— сказал он наконец.
К чему привели обсуждения, несчастный читатель узнает, когда соберет силы и сможет выдержать повесть об учении профессора Грина — которую, правда, можно читать и отдельно.
УДИВИТЕЛЬНОЕ УЧЕНИЕ ПРОФЕССОРА ГРИНА
Если эта часть нашей летописи покажется лишь идиллией, интерлюдией, романтическим эпизодом и вы не найдете в ней той глубины и того величия, которые придают значительность и злободневность другим рассказам, мы попросим вас не спешить с осуждением, ибо в небольшой истории о любви Оливера Грина отразились, как в притче, первые симптомы свершения и суда, увенчавших все, о чем мы пишем.
Начнем ее с того летнего утра, когда солнце засияло поздно, но ярко, тучи рассеялись, серые дали стали сиреневыми, а на узкой дороге, прорезавшей холмы, показались два силуэта.
Оба путника были высоки ростом, оба служили когда-то в армии, и все же они совсем не походили друг на друга. Один мог быть сыном другому, и этому не противоречило то, что он говорил без умолку, а старший молчал. Но они не состояли в родстве и, как то ни странно, шли вместе потому, что дружили. Всякий кто читал о них где-нибудь, сразу узнал бы полковника Крейна и капитана Пирса.
По-видимому, Пирс хвастался тем, что обратил богатого американца.
— Да,— говорил он,— я горжусь. Убийцу обратит всякий, а вот миллионера!.. Правда, он и раньше был ничего. Он пуританин, не признает ни выпивки, ни борьбы, ни нации — словом, одни отказы. Но сердце у него на месте. Потому я его и обратил.
— К чему же именно?—спросил полковник.
— К частной собственности,— ответил Пирс.— Он никогда о ней не слышал, он ведь — миллионер. А я ему все популярно объяснил, и он в общем понял. Я ему сказал, чтобы он не грабил в большом масштабе, а давал хотя бы в малом. Ему это показалось очень мятежным, но понравилось. Понимаете, он купил здешние земли и думал устроить образцовое поместье, где всех бреют под машинку и выпускают по воскресеньям в свой собственный садик, только не на газон. А я ему говорю: «Хотите сделать людям подарок, так и делайте. Когда вы дарите даме цветок, вы же не посылаете к ней инспектора из общества охраны растений. Когда вы дарите другу сигары, вы не требуете отчета о том, как и где он их курит. Почему бы вам не прибавить доброты к вашим добрым делам? Почему не пустить свои деньги на то, чтобы стало больше свободных, а не рабов? Почему не отдать арендаторам их земли?» Он все так и сделал, создал сотни землевладельцев, изменил самый облик этих краев. Вот я и хочу, чтобы вы посмотрели на одну из ферм.
— С удовольствием,— сказал Крейн.— А что это там?
Они уже приблизились к ферме, стоявшей на склоне холма, и увидели огород, а над ним — соломенную крышу, простроченную старинными окошками. Одно из окошек было открыто, а из него торчала длинная труба, черневшая в утреннем небе.
— Пушка! — вскричал Пирс.— На что она ему, Господи?
— Кому? — спросил Крейн.
— Они сдают комнату под крышей,— отвечал Пирс.— Такому Грину, он вроде отшельника, а может — и сумасшедший...
— Во всяком случае, помешался он не на разоружении,— сказал Крейн.— Ах нет, я вижу, что это такое!
— Что же это? — спросил Пирс.
— Телескоп,— сказал Крейн.
— А не бывает пушек-телескопов? — с надеждой спросил Пирс.— Есть же поговорка «палить по звездам». Может, он на них и охотится вместо уток...
Беседуя таким странным образом, они увидели, что сквозь зеленый, мерцающий сумрак сада к ним приближается меднорыжая девушка с широким, прекрасным лицом. Пирс изысканно поклонился ей. Он считал, что новые землевладельцы ни в чем не должны уступать прежним.
— Я вижу,—сказал он,— у вашего постояльца телескоп.
— Да, сэр,— отвечала девушка.— Наш мистер Грин— знаменитый ученый.
— Вряд ли вам нужно говорить мне «сэр»,— задумчиво промолвил Пирс.— Лучше бы «гражданин»... Кстати, разрешите представить вам гражданина Крейна.
Крейн учтиво склонился перед ней, не выражая особой радости от своего титула; а Пирс продолжал:
— Нет, нельзя называть гражданами тех, кто живет не в городе. Моррис предлагал звать друг друга соседями... А вы не согласитесь говорить мне «дед»?
— Если не ошибаюсь,— вставил Крейн,— ваш астроном гуляет в саду.
— Он там часто гуляет,— сказала девушка,— и на лугу, и у коровника. Идет и разговаривает сам с собой. Он и с другими разговаривает, объясняет свою теорию всем, даже мне, когда я дою корову.
— А вы нам ее не объясните? — заинтересовался Пирс.
— Ну, куда мне! — засмеялась девушка.— Там что-то вроде четвертого измерения... Он вам сам объяснит. Простите, меня корова дожидается.
— Крестьяне всегда живут приработками,— сказал Пирс.— Вы подумайте, получать доход с коровы, кур и звездочета!
Тем временем звездочет приближался к ним по той дорожке, по которой ушла девушка. Глаза его были скрыты большими темными очками — он берег зрение, чтобы лучше видеть звезды,— и от этого его простодушное лицо казалось довольно зловещим. Хотя он сильно сутулился, хилым он не был; но рассеянным, несомненно, был. Глядел он под ноги и хмурился, словно земля ему не нравилась.
Начал он, как обычно, с того, что его теорию очень легко объяснить. По-видимому, так оно и было, ибо он непрестанно ее объяснял; но он считал, что ее и понять легко, и сильно преувеличивал. Как раз в тот день он должен был изложить ее на астрономическом конгрессе, который собирался неподалеку от Бата; отчасти потому он и поселился у Дэйлов, в Сомерсетских холмах. Он думал, что ему безразлично, где он живет, и не ошибался; но воздух и цвета этих мест медленно проникали в его душу.
Поговорив с пришельцами, профессор Грин печально и терпеливо вздохнул. Даже самые умные люди приносили ему разочарование. Реплики их были интересны, но никак не связаны с темой, и он все больше ощущал, что предпочитает тех, кто слушает молча. Цветы и деревья тихо стояли, слушая час за часом, как он разоблачает ошибки нынешней астрономии. Молчала и корова; молчала и девушка, а если и говорила, то мягко и весело, не претендуя на ум. И он, как обычно, направился к коровнику.
Девушку, о которой идет речь в нашем рассказе, было бы несправедливо назвать коровницей. Марджери Дэйл училась в школе и немало узнала прежде, чем вернулась на ферму, где принялась за сотни дел, которым она могла бы обучить своих учителей. Быть может, Грину почудилось сейчас, что он — один из них.
И небо, и землю уже тронули вечерние тени. Светящееся небо за яблонями стало яблочно-зеленым, ферма потемнела, потяжелела, и Грин впервые заметил, как странно меняет ее очертания его телескоп. Ему показалось, что с этого могла бы начаться сказка. Посмотрев на штокрозы, он удивился, что цветы бывают такими высокими, словно ромашка или одуванчик догнали ростом фонарный столб. И это казалось началом сказки — сказки о Джеке и бобовом стебле. Грин плохо понимал, что с ним творится, но ясно чувствовал, как из глубин его души встает что-то почти забытое — то, что он знал, когда не умел еще ни читать, ни писать. Смутно, словно прежнее воплощенье, он видел темные полосы полей под летними тучами и ощущал, что цветы драгоценны, как самоцветы. Он вернулся домой, в ту деревню, которую помнит каждый городской мальчик.
— Сегодня у меня доклад,— сказал он.— Надо бы мне еще подумать...
— Вы ведь всегда думаете,— сказала девушка.
— Да, конечно...— неуверенно проговорил он и впервые понял, что сейчас, собственно говоря, не думает.
— Вы такой умный,— продолжала Марджери,— Понимаете всякие трудные вещи...
— И вы бы поняли,— возразил он,— то есть, вы тоже, конечно, умная... вы все на свете поймете...
— Ну, нет!..— улыбнулась она.— Я понимаю только про корову или про эту скамеечку...
— Мою теорию можно связать и с ними,— оживился Грин.— Точкой отсчета может быть что угодно. Вас учили, что Земля вращается вокруг Солнца. Составим формулу иначе. Примем, что Солнце вращается вокруг Земли.
— Я так и думала!..— обрадовалась Марджери.
— Точно так же,— продолжал он,— можно принять и математически выразить, что Земля вращается вокруг Луны. Тем самым любой предмет на земле тоже будет вращаться вокруг Луны... Как видите, мы принимаем Луну за центр, а дугу, описываемую коровой...
Марджери откинула голову и засмеялась — не насмешливо, а счастливым, детским смехом.
— Ой, как хорошо! — вскричала она.— Значит, корова перепрыгнула через Луну!
Грин поднес руку к виску, помолчал и медленно проговорил, словно вспоминая греческую цитату:
— Да... я где-то об этом слышал... Там еще собачка засмеялась...
Тогда и произошло то, что в мире идей поразительней смеха собачки. Астроном засмеялся. Если бы видимый мир соответствовал миру невидимому, листья свернулись бы в благоговейном страхе и птицы рухнули с неба. Ощущение было такое, словно засмеялась корова.
Потом астроном снова помолчал; рука его, поднятая к виску, сорвала синие очки, и миру явились синие глаза. Вид у профессора был мальчишеский и даже детский.
— Я все удивляюсь, зачем вы их носите,— сказала Марджери.— Месяц для вас был совсем синий... Какая это поговорка про синий месяц?
Он бросил очки на землю и раздавил ногой.
— Господи! — вскричала она.— Что ж вы их так! Я думала, вы их будете носить, пока весь мир не посинеет.
Он покачал головой.
— Мир прекрасен,— сказал он.— Вы прекрасны.
Марджери хорошо справлялась с молодыми людьми, отпускавшими ей комплименты, но сейчас она и не подумала о том, что надо защищаться — так беззащитен был ее собеседник,— и не сказала ничего. А он сказал очень много, и слова его по ходу дела не становились умнее. Тем временем в соседнем селенье Гуд и Крейн обсуждали с Друзьями новую теорию. Лекционный зал в Бате был готов с ней ознакомиться. Но создатель ее о ней забыл.
— Я много думал об этом астрономе,— сказал Хилари Пирс.— Мне кажется, он человек свой, и мы с ним скоро подружимся... или, вернее, он подружится с нами. Да нет, я знаю, что с нами дружить накладно, а сейчас — тем более. Я чувствую, что-то будет... как будто я астролога спросил... как будто астроном — Мерлин нашего Круглого стола. Кстати, учение у него занятное.
— Чем же? — удивился Уайт.— Да и смыслите ли вы в таких делах?
— Больше, чем он думает,— ответил Пирс.— Знаете, это ведь не теория, это аллегория.
— Аллегория? — переспросил Крейн.
— Да,— сказал Пирс.— Притча о нас. Мы все время разыгрывали ее, сами того не зная. Когда он говорил, я понял, что же с нами было.
— Что вы такое несете? — возмутился Крейн.
— Он принимает,— задумчиво продолжал Пирс,— что движущиеся предметы неподвижны, а неподвижные движутся. Вот вы считаете меня слишком подвижным, а многие считают таким вас. На самом же деле мы стоим как вкопанные, а вокруг все движется, мечется, суетится...
— Так,— промолвил Оуэн Гуд.— Начинаю понимать...
— Во всех наших приключениях,— говорил Пирс,— мы держались чего-то, как бы трудно нам ни было, а противники наши ничего не держались, даже собственных взглядов. Мы стояли, они двигались. Полковник носил капусту и съел ее, а его соседи тем временем вообще потеряли представление о том, что можно носить, что нельзя. Мода слишком воздушна, слишком неуловима, чтобы стать точкой опоры. Гуд восхищался английской природой, Хантер — английскими помещиками. Но Хантер перекинулся к новым властителям, потому что консерватором был из снобизма, а снобизм — опора ненадежная. Я решил ввозить сюда свиней и ввозил; Енох Оутс перекинулся на кошельки, а потом, к нашему счастью, стал раздавать землю, ибо деловой человек суетен и даже на праведный путь встает слишком легко. И так во всем, даже слона Уайт завел — и держал, а власти мигом отстали, когда увидели, что у него есть юрист. Мораль ясна: нынешний мир плотен, но не прочен. В нем нет ничего, что в нем хвалят или порицают—ни неумолимости, ни напора, ни силы. Это не камень, а глина, вернее—грязь.
— Вы правы,— сказал Оуэн Гуд,— и я сделаю вывод. В нынешней Англии все так суетно и смутно, что революции быть не может. Но если она произойдет, она победит. Все прочее слишком слабо и зыбко.
— По-видимому,— предположил полковник, глядя на Пирса,— вы собираетесь сделать какую-то глупость.
— Да,— сказал Пирс.— Я пойду на лекцию по астрономии.
Какой именно степени достигла глупость Хилари Пирса, нетрудно определить по газетной статье, которую друзья его читали наутро.
ПОТРЯСАЮЩЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ НА НАУЧНОМ КОНГРЕССЕ
ДОКЛАДЧИК СОШЕЛ С УМА И ИСЧЕЗ
На третьем съезде Астрономического общества, собравшемся в Бате, произошло прискорбное и непонятное событие. Многообещающий ученый, профессор Оливер Грин, намеревался прочитать доклад на тему: «Теория относительности и движение планет». Примерно за час до начала заседания участники съезда получили телеграмму, сообщающую, что докладчик меняет тему, т. к. только что открыл неизвестное науке небесное тело. Все были радостно взволнованы, но чувства эти сменились удивлением, когда начался самый доклад. Сообщив, что в системе одной из звезд существует неизвестная доселе планета, профессор Грин стал описывать ее с фотографической точностью. По его словам, жизнь на этой планете приняла чрезвычайно причудливые формы, в частности — некие живые объекты тянутся вверх, непрерывно дробясь на отростки, которые, в свою очередь, покрыты зелеными полосками или языками. Когда он описывал еще более невероятную форму жизни — движущийся объект на четырех цилиндрических подпорках, увенчанный несколько изогнутыми конусами, Один из присутствующих, и до того привлекавший внимание неуместными репликами, крикнул: «Да это же корова!», на что докладчик отвечал: «Конечно, корова! А вы тут и коровы не заметите, хоть она перепрыгни через Луну!» Дальнейшие высказывания, сводившиеся, насколько удалось понять, к совершенно неуместному восхвалению женской красоты, были прерваны, т.к. председательствующий послал за медицинской помощью. К счастью, на съезде присутствовал сэр Хорес Хантер, крупный физиолог, интересующийся астрономией, который и установил на месте, что профессор Грин страдает нервным расстройством, что подтвердил местный врач. Тем самым больного можно было увезти без ненужных проволочек; однако человек, подававший неуместные реплики, вскочил и заявил, что профессор Грин — единственный нормальный человек в зале, после чего столкнул со сцены сэра Хореса Хантера и с поразительной быстротой увел больного. Как ни странно, погнавшиеся за ними ученые не обнаружили перед зданием никого».
Спустилась ночь. Звезды стояли над фермой Дэйлов, а телескоп втуне целился в них. Огромные стекла отражали луну, о которой их владелец втуне говорил своим ученым собратьям, а самого владельца дома не было. Хозяева решили, что вполне естественно ему заночевать в Бате.
— В конце концов,— сказала миссис Дэйл,— не маленький же он.— Однако ее дочь не была в этом уверена.
Наутро она встала раньше, чем обычно, и принялась за работу, которая по неизвестным причинам показалась ей довольно трудной. Вполне естественно, что наедине с собой, в утренние часы, она вспоминала вчерашние действия астронома.
«Как же, не маленький,— думала она.— Спасибо, если не больной... В гостинице его обсчитают...»
Чем будничней и скучнее казалось ей в дневном свете все, что ее окружало, тем больше тревожила ее участь человека, глядевшего на синее небо сквозь синие очки. Она беспокоилась о том, опекают ли его в должной мере родные или близкие, о которых, кстати сказать, никогда от него не слышала. Она вообще не видела, чтобы он с кем-нибудь разговаривал, кроме капитана Пирса, который жил за холмом, потому что года два назад женился на ее старой подруге, с которой они вместе учились и были когда-то неразлучны. Вероятно, друзьям нужно пройти фазу неразлучности, чтобы безболезненно разлучиться.
— Пойду-ка я спрошу Джоан,— сказала она.— Кто-кто, а ее муж что-нибудь да знает.
После этого она вернулась в кухню и приготовила завтрак. Сделав все, что она только могла, для еще не появившейся семьи, она вышла в сад и постояла у ворот, глядя на лесистый холм, отделявший ее от кабачка. Она подумала, не запрячь ли пони; и пошла по дороге, к вершине холма.
По карте судя, кабачок и ферма были почти рядом, и Марджери могла бы пройти раз в десять больше. Но карты, как и все ученые бумаги, очень неточны. Гребень холма был крут, как горный кряж, и дорога, безмятежно бежавшая мимо фермы, внезапно превратилась в истинную лестницу. Марджери долго взбиралась на нее под навесом низких деревьев и очень устала. Наконец между кронами сверкнуло белое небо, и она взглянула в долину, как смотрят в другой мир.
Мистер Енох Оутс любил в приливе чувств поговорить о «просторе прерий». Мистер Розвуд Лоу, прибывший в Лондон из Иоганнесбурга, нередко упоминал в своих речах «бескрайний вельд»
[26]. Однако ни американская прерия, ни африканский вельд не больше на вид, чем английская долина, когда на нее смотришь с холма. Ничто не может быть дальше дали — дальше линии, которою небо ставит предел человеческому взору. На нашем небольшом острове очень много бесконечных пространств, словно остров этот таит семь сокровенных морей. Глядя на долину, Марджери дивилась и бескрайности ее, и укромности. Ей казалось, что деревья растут, когда она на них смотрит. Вставало солнце, и весь мир вставал вместе с ним. Даже небо медленно поднималось, словно его, как балдахин, убирали в сияющую бездну света.
Долина у ее ног была расцвечена как карта в атласе. Прямоугольники травы, земли или колосьев были так далеко, что она могла бы счесть их королевствами только что созданного мира. Но на склоне холма, над сосновым лесом, она различила белый шрам каменоломни, а чуть пониже — сверканье речки, у которой стоял «Голубой боров». Подходя к нему, она все четче видела треугольный луг, усеянный черными точками свиней, среди которых была и яркая точка — ребенок. Ветер, погнавший ее в путь, сдвинул все линии, и они стремились теперь только к этой точке.
Когда дорожка пошла ровнее, ветер немного улегся, и Марджери обрела вновь тот здравый смысл, который помогал ей управляться с хозяйством. Ей даже стало неудобно, что она тревожит занятую женщину по такой глупой причине, и она принялась убеждать себя, что всякий должен бы беспокоиться о беспомощном и больном человеке.
Подругу она окликнула тем бодрым голосом, который так раздражает всех в рано вставших людях. Марджери была немного моложе и намного веселее Джоан, которая к тому же познала бремя и напряжение заботы о детях. Однако чувства юмора Джоан не утратила и слушала подругу с настороженной улыбкой.
— Мы просто хотим узнать, что с ним случилось,— сравнительно беспечно говорила Марджери.— А то еще нас будут ругать, мы же видели, что он такой...
— Какой?—спросила Джоан.
— Ну, тронутый,— объяснила пришелица.—Ты бы слышала, что он говорил про деревья, и корову, и новую планету...
— Хорошо, что ты пришла ко мне,— спокойно сказала Джоан.— Наверное, больше никто на земле не знает, где он сейчас.
— Где же он? — спросила Марджери.
— Не на земле,— отвечала Джоан Харди.
— Он... умер? — неестественным голосом проговорила Марджери.
— Он летает,— объяснила Джоан Пирс.— Они его хотели схватить, а Хилари спас его и увез на аэроплане. Конечно, они спускаются поесть, когда опасности нет...
— Спас! Схватить! Опасности! — закричала Марджери.— Что это значит?
— Понимаешь,— отвечала ей подруга,— кажется, он рассказал ученым то же самое, что тебе. А они решили, что он сумасшедший,— для чего ж еще на свете ученые? И хотели отправить в больницу, а Хилари...
Дочь фермера встала во гневе и славе, и потолок поднялся, как поднималось недавно сверкающее небо.
— Отправить его в больницу! — воскликнула она. — Да как они смеют? Это им там место! У него в ногах больше ума, чем во всех их лысых черепушках! Ух, стукнула бы я их головами! Лопнули бы, как скорлупки, а у него не голова — чугун! Он же их всех обскакал в этой ихней науке!
То, что она не имела представления ни об именах, ни о самом существовании вышеупомянутых естествоиспытателей, не помешало ей сильными мазками дополнить их портрет.
— Старые усатые пауки! — определила она.— Им бы только кого словить. Спятили, вот и злятся на здорового человека.
— Ты считаешь, что он вполне здоров? — серьезно спросила Джоан.
— То есть как? — удивилась Марджери.— Здоровей некуда.
Джоан великодушно помолчала.
— Ты за него не беспокойся,— сказала она наконец.— Хилари его в обиду не даст. А где мой муж, там и борьба, так что твоих врагов, может, и стукнут головами. Тут у нас такое творится... Я думаю, много случится всякого, и здесь, и по всей стране...
— Да? — рассеянно спросила Марджери Дэйл, не интересовавшаяся политикой.— А это твой Томми там бегает?
И они заговорили о ребенке и о других будничных вещах, ибо прекрасно поняли друг друга.
Если же читатель, как это ни странно, хочет узнать, что же творилось тогда и что случилось впоследствии, ему придется одолеть повествование о причудливых постройках майора Блейра, которое приблизит его к долгожданному концу.
ПРИЧУДЛИВЫЕ ПОСТРОЙКИ МАЙОРА БЛЕЙРА
Граф Иден в третий раз стал премьер-министром, и внешность его была всем знакома и по карикатурам, и по выступлениям. Светлые волосы и худоба придавали ему моложавость, но лицо, если вглядеться, оказывалось морщинистым, старым, чуть ли не дряхлым. Политиком он был умелым и опытным и как раз недавно победил социалистов, составлявших кабинет; добивался он этого, главным образом, тем, что употреблял вовремя удачные лозунги (которые, к большому своему удовольствию, выдумывал по вечерам). Особенно прославился лозунг: «Не национализация, а рационализация»; он, собственно, и привел Идена к победе. Однако в те дни, с которых начинается очередная повесть, премьер-министр думал о другом. Он только что получил три письма, по одному от трех столпов своей политики, и каждый просил его о немедленной встрече — и лорд Нормантауэрс, и сэр Хорес Хантер, и мистер Розвуд Лоу. Перед ними встала труднейшая проблема, связанная с тем, что один из могущественных миллионеров внезапно сошел с ума.
Премьер-министр видел много американских миллионеров, включая самых диких, непохожих ни на миллионера, ни на американца. Но Енох Оутс, свиной король, стал непохож и на них самих. Судя по сбивчивым рассказам трех столпов, прибывших к нему в поместье, в Сомерсет, мистер Оутс был до времени самым обычным представителем своего типа. Как и подобает богачу-иностранцу, он купил добрую четверть графства, и все, естественно, ждали, что он будет ставить там те сельскохозяйственные и медицинские опыты, для которых так подходят жители английской деревни. Но он сошел с ума и отдал землю крестьянам. Никто не удивлялся, когда чужеземные богачи увозили из Англии картины, древности, замки и даже скалы. Но отдать англичанам английскую землю — это такое безумие, что виновного призвали к ответу. И вот он сидел за круглым столом, словно на скамье подсудимых.
— Мистер Оутс,— говорил премьер-министр мрачному миллионеру,— не думайте, я вполне сочувствую романтическим порывам. Но к нашему климату они не подходят. Да, et ego in Arcadia
[27]... все мы мечтали о сельской идиллии. Надеюсь, вы достаточно умны, и пастушки пляшут под вашу дудку.
— Рад сообщить, что это не так,— проурчал Оутс.— Под свою собственную.
— Я бы не стал спешить,— мягко продолжал лорд Иден.— Мне кажется, разумный компромисс еще в нашей власти. Конечно, вы составили дарственную... Но я как раз беседовал недавно с крупными юристами...
— И они объяснили,— прервал его Оутс,— как нарушить закон за хорошие деньги.
— Люблю грубоватый американский юмор! — улыбнулся лорд Иден,— Я хотел сказать, что у нас, в Англии, много способов поправить наши неизбежные ошибки. Для этого есть и термин. Историки называют это гибкостью неписаной конституции.
— Термин есть и у нас,— сказал Оутс.— Мы называем это мошенничеством.
— Вот не знал, что вы так щепетильны! — ехидно и нетерпеливо вставил Нормантауэрс.
— Что-то вы таким не были! — добродетельно добавил Розвуд Лоу.
Енох Оутс медленно встал из-за стола, словно левиафан из глубин моря. Его большое невеселое лицо не изменилось, но сонным оно уже не было.
— Да,— промолвил он,— да, бывало, я и сам мошенничал... нарушал, можно сказать, Нагорную Проповедь. Я разорял людей, но тех, которые разорили бы меня, а если кто из них был беден, он все равно только и думал, как меня убить или уничтожить. А вот таких, как вы, у нас бы линчевали или выкатали в перьях, если бы вы только заикнулись о том, что можно отобрать у людей их законную землю. Может быть, климат у вас и другой, но мне это не мешает.
И он медленно выплыл из комнаты, оставив четверым неразрешимую загадку.
— Что же теперь делать? — мрачно спросил Хорес Хантер.
— Кажется, он прав,— горько сказал Нормантауэрс.— Сделать уже ничего нельзя.
— Можно,— произнес премьер-министр.
Все посмотрели на него; но никто ничего не прочитал на изрезанном морщинами лице, оттененном светлыми волосами.
— Ресурсы цивилизации не исчерпаны,— сказал премьер — Именно это говорили прежние власти, прежде чем стрелять в народ. Я прекрасно понимаю, господа, что вам бы очень хотелось пострелять. Вам кажется, что и собственные ваши владения вот-вот развалятся на кусочки. Что будет с правящим классом, если он лишится земли? Не волнуйтесь, сейчас я вам все объясню. Я знаю, что нам делать.
— Что? — проговорил сэр Хорес.
— Национализировать землю,— ответил премьер-министр.
— Да это же настоящий социализм! — закричал лорд Нормантауэрс.
— Именно настоящий,— проворковал лорд Иден.— Так и назовем: «настоящий»... нет, «истинный социализм». Именно то, что нужно для выборов. Хорошо запоминается. У них — простой социализм, а у нас — истинный.
— Что ж это такое? — закричал Хантер в порыве чувств, заглушивших весь его снобизм.— Вы поддерживаете большевиков?
— Нет,— сказал Иден и улыбнулся, как сфинкс.— Большевики меня поддержат.
Он помолчал и заговорил спокойней:
— Конечно, чувства это ранит... Наши старые замки и поместья, жилища знати, станут общественной собственностью, как почты... Когда я вспоминаю счастливые часы в Нормантауэрсе...— Он улыбнулся владельцу.— И у вас, сэр Хорес, есть прекрасный замок, и у вас, мистер Лоу... не припомню, как же они называются...
— Розвудский замок...— угрюмо проговорил Лоу.
— Нет,— снова вскочил сэр Хорес,— что же будет с нашим лозунгом? «Не национализация...»
— Ничего,— легко ответил лорд Иден.— Теперь мы скажем: «Не рационализация, а национализация». Какая разница? В конце концов мы же патриоты, мы — национальная партия.
— Ну, знаете ли!..— начал Нормантауэрс, но премьер ласково перебил его:
— Компенсируем... все компенсируем... Да, компенсация — великая вещь!.. Приходите сюда через неделю... ну, скажем, ровно в четыре часа. Думаю, к тому времени я все подготовлю...
Когда через неделю они снова собрались в солнечном саду премьер-министра, тот действительно подготовил все: стол на освещенном солнцем газоне едва виднелся из-под карт и документов. Юстес Пим, один из многочисленных секретарей, колдовал над ними, а лорд Иден, сидевший во главе стола, сосредоточенно читал какую-то бумагу.
— По-видимому, вы хотите узнать, на каких условиях совершится национализация,— сказал он.— Как ни жаль, все мы вынуждены чем-нибудь жертвовать ради прогресса...
— А, черт с ним, с прогрессом! — закричал Нормантауэрс.— Вы что, всерьез считаете, что мое поместье...
— Сейчас, сейчас...— сказал премьер, глядя в бумагу.— Оно входит в раздел четвертый, «Старинные замки и аббатства». По новому законопроекту такие поместья находятся под охраной. Поручается она так называемому лорду-хранителю округи. В данном случае... так, так... вы и есть лорд-хранитель.
Взъерошенный Нормантауэрс глядел на него, и взгляд его неглупых глазок медленно менялся.
— С поместьем сэра Хореса,— сказал премьер,— дело обстоит иначе. В тех местах недавно свирепствовала свинка, и потому их нельзя оставлять без специального врачебного присмотра, который и осуществляет санитарный инспектор. Это, конечно, исключительный случай; в случаях же нормальных, скажем, в вашем, мистер Лоу, поместье и самый дом охраняет государственный чиновник. Учитывая ваши общественные заслуги, мы решили выдвинуть вас на этот пост. Конечно, в любом случае при национализации земли бывший владелец получит существенную сумму. Лицам же, ответственным за охрану, государство будет платить жалованье и отпускать специальные дотации, чтобы поместья содержались в достойном виде.
Он замолчал, словно ожидая аплодисментов, но сэр Хорес раздраженно крикнул:
— Нет, что же это такое! Мой замок...
— Вот кретины! — сказал премьер-министр, впервые теряя такт и терпение.— Да вы же выгадываете вдвое! Сперва вам заплатят за то, что у вас отобрали замок, а потом — за то, что вы в нем живете.
— Милорд,— смиренно проговорил Нормантауэрс,— прошу прощения за все, что я говорил или думал. Мне надо бы знать, что передо мной — великий государственный деятель.
— О, это пустяки! — честно признался Иден.— Смотрите, нас не выбили из седла демократические выборы. Мы сумели управиться с палатой общин не хуже, чем с палатой лордов. Так и социализм. Мы останемся у власти, только звать нас будут не аристократами, а бюрократами.
— Понял! — закричал Хантер.— Ну, теперь конец этой демагогии!..
— И я так думаю,— сказал с улыбкой премьер-министр и принялся складывать большие карты.
Когда он складывал самую большую, последнюю, он вдруг остановился и сказал:
— Что это?
В самой середине стола лежал запечатанный конверт.
— Это вы положили, Юстес?—спросил премьер.
— Нет,— удивился мистер Пим.— Я его и не видел. В утренней почте его не было.
— Оно вообще не пришло по почте,— сказал лорд Иден.— Как же оно сюда попало?
Он вскрыл конверт и довольно долго глядел на листок письма. Видел он следующее:
«4 сентября 19..
Дорогой лорд Иден!
Мне стало известно, что вы заняты будущей судьбой наших древних замков. Я был бы весьма признателен, если бы Вы сообщили мне, каковы Ваши планы в отношении замка Туч, принадлежащего мне, чтобы я мог заранее подготовиться.
Искренне Ваш
Лорд Туч».
— Кто такой Туч?—спросил озадаченный политик.— Пишет он так, будто мы знакомы, но я его не помню. И где этот замок? Надо взглянуть на карты.
Они глядели на карты много часов, перерыли Берка, Дебретта, «Кто есть кто», атласы и справочники, но не нашли вежливого и твердого помещика. Лорд Иден был огорчен — он знал, что в глуши иногда таятся очень важные особы, с которыми не оберешься хлопот. Он знал, что аристократы, его собственный класс, должны быть с ним во время переворота, и очень старался не обидеть ни одного чудака или самодура. Но, как он ни огорчался, он бы утешился, если бы не то, что случилось через некоторое время.
Однажды утром он вышел в сад и направился к известному нам столу, чтобы мирно выпить там чаю, как вдруг увидел в траве новое письмо. Оно тоже было без штемпеля, и почерк был тот же самый, но тон изменился.
«Замок Туч
6 октября 19..
Милорд!
Поскольку Вы разрабатываете свой проект, ни в малой степени не учитывая исторических заслуг и героических традиций замка Туч, я вынужден сообщить Вам, что собираюсь защищать до последней капли крови крепость моих предков. Кроме того, я призову на помощь английский народ. В следующий раз Вы услышите обо мне, когда я к нему обращусь.
Искренне Ваш
Лорд Туч».
Заслуги и традиции упомянутого замка приковали на неделю двенадцать секретарей к энциклопедиям, хроникам и ученым трудам. Но самого премьера больше беспокоило другое: как попадает письмо в дом, точнее — в сад? Никто из слуг ничего не знал. Более того — премьера незаметно и тщательно охраняли, особенно с тех пор, как вегетарианцы сообщили, что будут убивать всех, кто санкционирует убийство животных. У каждого входа в его дом и сад кишели полисмены в штатском, и каждый из них клялся, что письма пронести никто не мог. Однако письма пришли. Лорд Иден долго об этом думал и сказал наконец, вставая с кресла:
— Надо поговорить с мистером Оутсом.
Юмор или справедливость побудили его пригласить на эту беседу все тех же трех влиятельных лиц. Не совсем ясно, мистер ли Оутс предстал перед их судом, или они — перед судом мистера Оутса. Лорд Иден долго говорил о пустяках, подходя все ближе к теме, и вдруг небрежно спросил:
— Кстати, вы ничего не знаете об этих письмах?
Американец ответил не сразу. Сперва он молчал, потом сам задал вопрос:
— А почему вы думаете, что я о них знаю?
— А потому,— не выдержал Хорес Хантер,— что вы связались с этой шайкой... С этими сумасшедшими...
— Что ж,— спокойно сказал Оутс,— спорить не буду, они мне нравятся. Вы говорите, они сумасшедшие. Но в их безумии есть метод
[28]. Они люди верные и дельные. Помните, Пирс спас профессора. Я знаю Айру Блейра, который ему помогал, и уж он-то, поверьте мне, вполне здоров. Он крупнейший специалист по воздухоплаванию, а перешел вот к ним, значит, есть в них что-то, чем-то они его купили. Он им помогает, он сделал для Пирса эту свинью, и...
— Ну, вот! — закричал Хантер.— Уж если это не сумасшествие...
— Я помню майора Блейра по военным временам,— спокойно сказал Иден.— Его называли Аэроблейр. Превосходно работал. Но я, собственно, хотел спросить о другом: не известно ли вам, мистер Оутс, где находится замок Туч?
— Да, мистер Оутс,— вставил слово Нормантауэрс.— Где этот замок?
— Как вам сказать...— задумчиво проговорил американец.— Собственно, везде. Эй, да вот он!
— Так,— промолвил премьер-министр.— Я знал, что мы чего-нибудь дождемся.
— Чего же мы дождались? В чем дело? — закричали его гости.
— Сейчас мы увидим,— сказал премьер,— откуда приходят письма.
Над деревьями сада появилось огромное облако, светящееся теплым светом, как облака на закате; точнее всего назвать это матовым пламенем. Чем ближе оно подплывало, тем невероятней становилось, тем огромней, тем очерченней, и наконец все ощутили, что оно вот-вот раздавит деревья. Когда люди глядят на облака, им кажется, что они видят крепости и замки. Но увидь они в небе настоящий замок, они бы закричали от ужаса. Однако светящаяся глыба, плывущая над садом, была замком и ничем иным, с башнями и бойницами, как в сказке.
— Смотрите, милорд! — закричал Оутс громким, носовым голосом.— Вы говорили, что я мечтатель. Вот он, воздушный замок!
Замок проплыл над столом, и от него оторвался крохотный белый прямоугольник.
И сразу же вслед за ним вниз посыпались десятки листков, покрывая газон преждевременным снегом. Двенадцать секретарей бросились их собирать и приводить газон в порядок. Потом они их разобрали, и оказалось, что это, большей частью, предвыборные листовки. Внимательнее всего лорд Иден изучил такую:
«ДОМ АНГЛИЧАНИНА БОЛЬШЕ НЕ КРЕПОСТЬ!
ПЕРЕСЕЛИМСЯ В ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ!
ЕСЛИ ЭТО КАЖЕТСЯ ВАМ НЕЛЕПЫМ, МЫ ВАМ СКАЖЕМ, ЧТО ЛИШИТЬСЯ ДОМА НА ЗЕМЛЕ НЕСРАВНЕННО НЕЛЕПЕЕ».
За этим следовали менее связные фразы, в которых проницательный читатель угадал бы руку поэтичного Пирса. Он восклицал: «Они украли землю, так разделим же небо!», предлагал обучить ласточек и ворон, чтобы те изображали изгороди и межи в «голубых лугах», и прилагал рисунок, где изобразил пунктиром ряды послушных птиц. Окончились его призывы кратким выразительным лозунгом: «Три акра и ворона».
Но Иден читал дальше, и на лице его отражались чувства, которые вряд ли могла вызвать такая умилительная утопия. Вот что он читал:
«Не удивляйтесь, что воздух, общественная собственность, станет собственностью частной, когда земля, частная собственность, стала общественной. Так уж оно теперь, общественные и частные дела поменялись местами.
Вот, например, все мы видели в газетах, как сэр Хорес Хантер улыбается любимому какаду. Казалось бы, дело частное, но мы его знаем. Однако мы не знаем, что сэру Хоресу будут платить из государственной казны по три тысячи фунтов за то, что он останется в собственном доме.
Видели мы и лорда Нормантауэрса в свадебной поездке и читали об его новом браке, который именуют Великой Любовью. Тоже вроде бы частное дело; но мы его знаем. Однако мы не знаем, что деньги налогоплательщиков потоком потекут в его карман и за то, что он лишится замка, и за то, что он его не лишится.
Известно нам и то, что мистер Розвуд Лоу бьется над улучшением породы болонок,— и, видит Бог, они в том нуждаются!.. Но дело тоже частное, и мы его знаем, не зная, однако, что мистеру Лоу заплатят дважды за один и тот же дом. Более того: мы не знаем, что милостью этой он обязан своей удивительной щедрости, побуждающей его снабжать деньгами нашего премьер-министра».
Упомянутый премьер улыбнулся еще угрюмей и бегло проглядел другие воззвания. Походили они на предвыборные, хотя выборов не предвиделось.
«ГОЛОСУЙТЕ ЗА КРЕЙНА!
ОН СКАЗАЛ, ЧТО СЪЕСТ СВОЮ ШЛЯПУ, И СЪЕЛ.
ЛОРД НОРМАНТАУЭРС ОБЕЩАЛ ОБЪЯСНИТЬ, КАК ПРОГЛОТИЛИ АНГЛИЧАНЕ ЕГО НЕБОЛЬШУЮ КОРОНУ, НО ВСЕ НЕ СОБЕРЕТСЯ».
«ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПИРСА!
ОН СКАЗАЛ, ЧТО СВИНЬИ ПОЛЕТЯТ, И ОНИ ПОЛЕТЕЛИ.
РОЗВУД ЛОУ СКАЗАЛ, ЧТО ПОЛЕТЯТ АЭРОПЛАНЫ НОВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИНИИ, НО ПОКА ЧТО ПОЛЕТЕЛИ ТОЛЬКО ВАШИ ДЕНЬГИ».
«ГОЛОСУЙТЕ ЗА ТЕХ, КТО ТВОРИТ И ГОВОРИТ ЧЕПУХУ!
ТОЛЬКО ОНИ ГОВОРЯТ И ТВОРЯТ ПРАВДУ».
Лорд Иден перевел взгляд на уплывающий замок, и взгляд этот был странным. Лучше ли это, хуже ли для души, но было в нем что-то, чего не могли понять деловые и трезвые люди.
— Да, поэтично!..— сухо сказал он.— Это кто, Виктор Гюго что-то такое говорил о политике и облаках? Не у него ли сказано: «Поэт всегда в небесах, но там же и молния»
[29]?
— Молния! — презрительно произнес Нормантауэрс.— Да эти идиоты пускают фейерверк.
— Конечно,— кивнул Иден.— Но я боюсь, что пускают они его в пороховой погреб.
И он все вглядывался в небо, хотя воздушный замок давно исчез.
Если бы взгляд его и впрямь последовал за замком, он был бы удивлен, ибо скепсис еще не вытравил в нем удивления. Причудливая постройка проплыла закатным облаком к закату, словно тот замок из сказки, который стоит западней луны. Оставив за собой зеленые сады и красные башни Херефорда, она перекочевала туда, где нет садов, а нерукотворные башни держат могучую стену Уэллса. Там, среди утесов и скал, она скользнула в расщелину, по дну которой черной рекою шла темная полоса. То была не река, а трещина, замок в нее опустился и по круглому, словно котел, дуплу проник в полумрак огромной пещеры.
Там и сям, словно упавшие в бездну звезды, светились искусственные огни; на деревянных помостах и галереях стояли ящики и даже какие-то сараи; а у каменных стен колыхались самые причудливые аэростаты, похожие на гигантских ископаемых или на первобытные наскальные рисунки. Тому, кто попал сюда впервые, могло показаться, что здесь заново творится мир. Человек, приведший воздушный замок, бывал тут и раньше и обрадовался огромной свинье, как радуются, войдя в дом, любимой собаке. Звали его Хилари Пирс, и эта свинья играла большую роль в его жизни.
Посередине пещеры стоял стол, заваленный бумагами, как и стол в саду премьер-министра, но здесь бумаги были испещрены значками и цифрами, а над ними о чем-то спорили два человека. В том, кто повыше, ученый мир узнал бы профессора Грина, которого мир этот искал, как недостающее звено между обезьяной и человеком — так же безуспешно, так же рьяно и тоже ради науки. В том, кто пониже, очень немногие узнали бы Айру Блейра, которого мы вправе назвать мозгом английской революции.
— Я ненадолго,— сказал Пирс.
— Почему это? — спросил Блейр, набивая трубку.
— Не хочу мешать вашей беседе,— отвечал авиатор.— Не хочу я ее и слушать. Я знаю, что бывает, когда вы оба разойдетесь. Профессор тонко заметит: «9920,05», а вы скажете с мягким юмором: «75,007». На это грех не возразить: «982,09». Грубовато, конечно, но чего не бывает в пылу полемики...
— Майор Блейр,— промолвил профессор,— оказал мне большую честь, разрешил ему немного помочь...
— Это вы мне оказали честь,— возразил инженер.— С таким математиком я сделаю все в десять раз быстрее.
— Ну что ж,— вздохнул Пирс,— если вы так довольны друг другом, не стану вам мешать. Правда, было у меня поручение от хозяйки профессора, мисс Дэйл... да что там, в другой раз!..
Грин с неожиданной прытью вынырнул из бумаг.
— Поручение? — воскликнул он.— Неужели мне?
— 8282,003,— холодно ответил Пирс.
— Не обижайтесь,— сказал Блейр.— Передайте профессору, что вас просили, а потом уж идите.
— Мисс Дэйл была у моей жены,— сказал Пирс,— искала вас. Вот и все. Надеюсь, этого хватит.
По-видимому, этого хватило, ибо Грин, сам того не замечая, скомкал одну из драгоценных бумаг, словно пытался побороть какие-то чувства.
— Теперь я пойду,— весело сказал Пирс.— Дела, дела...
— Постойте,— окликнул его Блейр почти у выхода.— А других новостей у вас нет?
— В математическом выражении,— сказал, не оборачиваясь, Пирс,— новости такие: π1+π2=πn. П-сьмо уже на земле, его прочитали.
И он полез в свой воздушный замок, а Оливер Грин увидел скомканную бумагу и принялся ее расправлять.
— Мистер Блейр,— сказал он,— мне очень стыдно. Вы тут живете как отшельник, служите великой идее, а я впутываю вас и ваших друзей в свои мелкие дела!.. То есть для меня они не мелкие, но вам, наверное, все это кажется ничтожным.
— Я не совсем точно знаю,— отвечал Блейр,— что за дела у вас. Поистине, это дело ваше. Но я очень рад вам, именно вам, а не только идеальной счетной машине.
Айра Блейр, последний и, в обычном смысле слова, самый умный из героев нашей саги, был не очень молод, невысок, но так подвижен, что его коренастая фигура в кожаной куртке запоминалась сильнее, чем его лицо. Однако, если он сидел и курил, можно было обнаружить, что лицо у него скорее неподвижное, нос короткий и прямой, а задумчивые глаза гораздо светлее черных густых волос.
— Просто Гомер какой-то,— говорил он.— Две армии сражаются за тело звездочета. Вы — вроде знака, вроде символа, ведь все это безумие началось с того, что вас признали безумным. А личные ваши дела не касаются никого.
Последняя фраза пробудила Грина, и он — застенчиво, но многоречиво — рассказал своему другу историю своей любви. Завершил он этот рассказ такими словами:
— Вы скажете, что за телячьи нежности, и будете правы. Наверное, те, кто служит великому делу, должны пожертвовать...
— Не вижу, чего тут стыдиться,— прервал его Блейр.— Может быть, в некоторых делах это действительно мешает, но не здесь. Открыть вам тайну?
— Если вам не трудно,— сказал Грин.
— Корова не прыгает через луну,— серьезно сказал Блейр.— Этим занимаются быки.
— Простите, не совсем понял...— проговорил ученый.
— Я хочу сказать,— объяснил Блейр,— что в нашем деле без женщин не обойдешься, потому что мы боремся за землю. Воздушный замок могут защищать одни мужчины. Но когда крестьяне защищают свои фермы и дома, женщины очень важны. Вот слушайте, я вам расскажу. В конце концов, почему бы и мне не исповедаться, тем более что моя история — с моралью? Вы мне — о корове и луне, я вам — о воздушном замке.
Он покурил, помолчал и начал снова:
— Наверное, вы думали, почему бы это такой прозаичный шотландский инженер построил этот замок, радужный, как связка детских шариков. Все потому же, мой друг... да, потому, что иногда мужчина становится непохожим на самого себя. Довольно давно я выполнял один государственный заказ в пустынных местах, на западном берегу Ирландии. Там почти не с кем было поговорить, кроме дочери обедневшего сквайра, и я разговаривал с ней довольно часто. Был я сухарь сухарем, настоящий механик, и вечно возился с грязными машинами. А она была принцессой из кельтской саги, в золотисто-рыжей огненной короне, с прозрачным, светящимся лицом, и даже когда она молчала, казалось, что слышишь песню. Я пытался развлекать ее рассказами о чудесах науки, о новых летательных аппаратах, но она говорила: «Что мне до них! Я каждый вечер вижу на небе сказочные замки»,— и показывала на алые облака или лиловые тучи, плывущие в зеленом сиянии над океаном.
Вы бы сказали, что я сошел с ума, если бы сами с ума не сошли. Я по-детски обижался и все думал, как бы ей доказать, что она неправа. Мне хотелось, чтобы моя наука побила ее облака на их собственном поле, и я трудился, пока не создал прекрасный, как радуга, замок. Может быть, я мечтал создать ей дом там, в небе, где она и жила, словно ангел. Пока я работал, мы сближались все больше, но об этом я вам рассказывать не буду, расскажу сразу конец, то есть — самую мораль. Мы готовились к свадьбе, и я спешил закончить свой замок, чтобы унести ее в небо. Но тут Шейла повела меня за город и показала мне кирпичный домик, который сняла очень дешево и прекрасно обставила. Я заговорил было о воздушных замках, но она мне сказала, что ее замок благополучно опустился на землю. Запомните: женщина, особенно ирландская, в высшей степени практична, когда речь идет о браке. Она не прыгает через луну, она крепко стоит посреди трех акров. Вот почему в нашем деле без женщин не обойтись, особенно — без таких, как те, которых полюбили вы и Пирс. Когда миру нужен Крестовый поход во имя небесных идеалов, тут нужны мужчины, и ничем не связанные, вроде францисканцев. Когда надо бороться за свой дом, нужны женщины, нужны семьи. Нужен прочный христианский брак. Мелкую собственность не сохранишь со всем этим зыбким многоженством, с этим гаремом, у которого даже нет стен.
Грин кивнул и встал.
— Когда надо бороться... — произнес он.— Вы считаете, что уже надо?
— Не я считаю, лорд Иден,— отвечал Блейр.— Другие не совсем понимают, что делают, но он-то понимает.
И Блейр выбил трубку, и тоже встал, чтобы вернуться к работе как раз в ту минуту, когда Иден, очнувшись от раздумья, закурил сигару и вошел в дом.
Он не стал объяснять окружающим его людям, о чем он думает. Только он один понимал, что Англия — уже не та страна, которую он знал в молодости и которая обеспечивала ему роскошь и покой. Он знал, что многое изменилось и к лучшему, и к худшему, и одна из перемен была простой, весомой и грозной. Появилось крестьянство. Мелкие фермеры существовали и держались за свои фермы, как держатся везде. Лорд Иден не мог поручиться, что хитроумные проекты, разработанные в его саду, подойдут к этой, новой Англии. Был ли он прав, усталый и сломленный читатель узнает из повести о победе, после которой сможет наконец удалиться на покой.
ПОБЕДА ЛЮБИТЕЛЕЙ НЕЛЕПИЦЫ
Роберт Оуэн Гуд прошел через библиотеку с большим пакетом в руке и вышел в светлый сад, где его жена накрывала на стол, ожидая к чаю гостей. Даже на свету она не казалась постаревшей, хотя много нелегких лет прошло с тех пор, как он встретил ее в долине Темзы. Ее близорукие глаза по-прежнему глядели немного испуганно, и это трогательно оживляло ее прозрачно-золотистую красоту. Элизабет еще не была старой, но всегда казалась старомодной, ибо принадлежала к той забытой всеми знати, чьи женщины двигались по своим усадьбам не только с изяществом, но и с достоинством. Муж ее стал морщинистей, но прямые рыжие волосы остались такими же, как были, словно он носил парик. Он тоже страдал старомодностью, несмотря на мятежное имя, и недавнее участие в успешном мятеже; и одной из самых старомодных черт его была гордость за свою жену, истинную леди.
— Оуэн,— сказала она, встревоженно глядя на него,— ты опять накупил старых книг!..
— Нет, новых,— возразил он.— Хотя вообще-то они по древней истории.
— По какой именно? — спросила она.— Наверное, о Вавилоне?
— Нет,— сказал Оуэн Гуд.— О нас.
— Ну, что ты!..— снова встревожилась Элизабет.
— То есть о нашей революции,— сказал ее муж.
— Слава Богу,— мягко сказала Элизабет.— Нашу с тобой историю нельзя ни написать, ни напечатать. Помнишь, как ты прыгнул в воду за колокольчиками? Тогда ты и поджег Темзу.
— Нет, Темза меня подожгла,— отвечал Гуд.— А ты всегда была духом воды и феей долины.
— Ну, я не такая старая...— улыбнулась она.
— Вот, послушай,— произнес он, листая книгу,— «Недавний успех аграрного движения...».
— Потом, потом,— перебила его она.— Гости идут.
Гостем оказался преподобный Ричард Уайт, игравший в недавнем мятеже роль ветхозаветного пророка. В частной жизни он был все таким же порывистым, сердитым и непонятным.
— Нет, ты смотри! — крикнул он.— Это идея... Ну, сам знаешь... Оутс пишет из Америки... а он молодец... Но он все же из Америки, ему что... Сам понимаешь, не так все просто... легко сказать «Соединенные Штаты»...
— Ну, зачем нам Штаты! — отмахнулся Гуд.— Я больше за гептархию, нас как раз семеро. А вот ты послушай, что пишут: «Успех аграрного движения...»
Но тут снова пришли гости — молчаливый Крейн и шумный Пирс с молодой застенчивой женой. Жена Уайта редко покидала деревню, жена Крейна была занята в своей мастерской, где сейчас рисовала мирные плакаты, а недавно — мятежные.
Гуд был из тех, кого книги поистине глотают, словно чудище с кожистой пастью. Не будет преувеличением, если мы скажем, что он проваливался в книгу, как проваливается в болото неосторожный путник, и не пытался оттуда вылезти. Он мог замолчать в середине фразы и углубиться в чтение или, наоборот, вдруг прервать молчание, читая вслух какой-нибудь отрывок. Никак не отличаясь невежливостью, он был способен пройти через чужую гостиную прямо к полкам и раствориться в них подобно домашнему привидению. Проехав в поезде много миль, чтобы повидаться со старым другом, он проводил весь визит над пыльным фолиантом, неизвестным ему до той поры. Сам он этого не замечал, и жене его, сохранившей старомодные представления о любезности и гостеприимстве, приходилось то и дело быть вежливой и за него и за себя.
— «Недавний успех аграрного движения...» — бодро начал он, но Элизабет быстро встала, встречая новых гостей. То были неразлучные профессор Грин и механик Блейр — самый непрактичный и самый практичный из наших героев.
— Какой у вас красивый сад! — сказал Блейр хозяйке.— Редко увидишь такие клумбы... Да, старые садовники знали свое дело.
— Тут почти все старое,— отвечала Элизабет.— А дети ваши здоровы?
— «Недавний успех аграрного движения...» — звонко проговорил ее муж.
— Ну, Оуэн,— улыбнулась она,— какой ты смешной! Зачем же читать об этом людям, которые сами все знают?
— Простите,— сказал полковник.— Невежливо возражать даме, но вы ошибаетесь. Участник событий никогда не знает, что именно произошло. Он узнает это на следующий день из утренних газет.
— Если Оуэн начнет, он никогда не кончит,— слабо запротестовала хозяйка.
— Может, правда,— поддержал ее Блейр,— нам бы лучше...
— «Недавний успех аграрного движения,— властно сказал Гуд,— обусловлен в немалой степени экономическими преимуществами крестьянства. Оно может кормить город, может и не кормить; и давно этим пользуется в европейских странах. Что же до нас, все мы помним первые дни восстания. Горожане, привыкшие к тому, как мерцают в сером предутреннем свете ряды бидонов, не увидели их, и бидоны эти засверкали в их памяти, словно украденное серебро. Когда сэр Хорес Хантер занялся этим делом, оказалось, что ему ничего не стоит обеспечить каждую семью новым, более изящным бидоном. Однако население отнеслось к этому без должного энтузиазма, требуя в придачу еще и молока, и пришло к выводу, что иметь корову лучше, чем иметь бидон. Слухи же о том, что Хантер выдвинул лозунг «Три метра и бидон» не подтвердились и, по-видимому, пущены его врагами.
Большую роль сыграло и то, что сэр Хорес Хантер, совместно с профессором Хейком, широко развернули в сельской местности научную деятельность и проверяли на местных жителях свои гипотезы в области здорового распорядка дня, гигиенической одежды и правильного питания. Чтобы проверить, как выполняются их распоряжения, они посылали специальных инспекторов, что неоднократно приводило к прискорбным сценам. Однако и это не все; роль сыграло и состояние общества. По прежним понятиям, граф Иден был почти идеальным политиком, но к тому времени, когда он бросил вызов крестьянству, выдвинув проект национализации, он достиг преклонного возраста, и претворять проект в жизнь пришлось его помощникам типа Хантера или Лоу. Вскоре стало ясно, что многие иллюзии его эпохи уже не существуют.
Нельзя отрицать, что намеченные мероприятия страдали с самого начала некоторой призрачностью в силу определенных условностей политической жизни, принимавшихся прежде как должное. Скажем, щадя чувства незамужних молодых дам, премьер-министр посылал вместо себя в провинцию своих секретарей, дополнявших невинную иллюзию легким гримом. Когда обычай этот распространился и на личную жизнь, положение несколько усложнилось. Если верить слухам, в последние дни правительства Ллойд Джорджа на митингах выступали одновременно не меньше пяти премьер-министров; что же до министра финансов, он действовал в трех лицах, одновременно наслаждаясь заслуженным отдыхом на озере Комо. Когда в результате прискорбного просчета администрации на платформе появились сразу два одинаковых министра, аудитория сильно развеселилась, но почтение ее к властям заметно упало. Конечно, слухи о том, что рано утром целая колонна премьер-министров расходится парами по своим постам, в немалой степени преувеличены, но пользовались они большим успехом с легкой руки капитана Хилари Пирса, некогда служившего в авиации.
Если свою роль сыграли такие пустяки, то еще больше значили явления серьезные, например — программы и посулы традиционных партий. Все знают, что обычный лозунг «Каждому — по миллиону!» давно стал простой условностью, своего рода узором. Однако постоянное его употребление при полном невыполнении постепенно ослабляло веру в слово. Это бы еще ничего, если бы наши политики им и ограничились. К несчастью, борьба вынудила их давать новые обещания.
Так, лорд Нормантауэрс, жертвуя своим принципом трезвенности, неосмотрительно пообещал рабочим по бутылке шампанского к завтраку, обеду и ужину. Несомненно, намерения у него были весьма высокие, но выполнить их он не смог. Когда рабочие военных заводов обнаружили, что в бутылках, аккуратно обернутых лучшей фольгой,— кипяченая вода, они внезапно забастовали, что остановило выпуск снарядов и обеспечило первые, поистине невероятные победы мятежников.
Так началась одна из самых удивительных в истории войн — односторонняя война. Одна сторона не могла бы, конечно, ничего, если бы другая хоть что-нибудь могла. Меньшинство боролось бы недолго, если бы большинство боролось вообще. Все существующие институции полностью утратили доверие и потому не действовали никак. Что пользы было обещать рабочим большее жалованье, когда те немедленно ссылались на шампанское лорда Нормантауэрса? Что пользы было премьер-министру клясться своей честью, когда никто не был уверен, что перед ним — премьер-министр? Правительство вводило новые налоги, но их никто не платил. Оно мобилизовало армии, но те не сражались. Никто не хотел производить новые виды оружия и пользоваться ими. Все мы помним, как профессор Хейк предложил сэру Хоресу Хантеру, который был тогда министром, новое взрывчатое вещество, способное изменить геологическое строение Европы и утопить в Атлантическом океане наши острова, но ни кебмен, ни клерки, как он их ни уговаривал, не помогли ему перенести это вещество из кеба в кабинет.
Анархии нарушенных обещаний противостояли только те, кого в народе прозвали врунами, а в ученых кругах — апологетами абсурда, потому что они, как правило, сулили самые нелепые и невероятные вещи. На них работало все больше людей, ибо они делали то, что обещали; и прозвище их стало символом достоинства и благородства. Небольшое сообщество, породившее такое явление, чрезвычайно гордилось тем, что выполняет со скрупулезной точностью самые дикие свои обещания. В сущности, с самого начала они буквально осуществляли все, что издавна признается невозможным. Когда же дело дошло до крестьянской собственности, которую они же сами и воскресили, убедив американского миллионера подарить фермерам свою землю, они стали так же буквально и точно выполнять более серьезные обеты. Враги смеялись над ними и над их лозунгом: «Три акра и корова». Они отвечали: «Да, это — миф, утопия, чудо; но мы видели чудеса, и наши мифы оказывались правдой».
Необъяснимая и невероятная победа их мятежа объясняется, повторим, прежде всего тем, что на сцену вышло новое крестьянство, получившее землю в собственность согласно дарственной, подписанной Енохом Оутсом в феврале 19..г. Лорд Иден и его кабинет попытались вернуть землю путем национализации, но этому помешало новое и загадочное препятствие: дух крестьянства. Оказалось, что крестьян нельзя двигать с места на место, как жителей города, которых просто переселяют, чтобы проложить на месте их домов новую улицу; крестьяне подобны не пешкам, а растениям, у которых крепкие корни. Когда же лорд Иден решил пустить в ход весь сложный механизм насилия, поднялось крестьянское восстание, которого Англия не видела со средних веков.
Оговоримся сразу: восставшие не считали себя ни мятежниками, ни изгоями, ни нарушителями закона. С их точки зрения они были законными владельцами своей земли, а чиновники, пытавшиеся ее отобрать,— преступниками и ворами. И вот они вышли на тех, кто проводил так называемую национализацию земель, как шли их отцы на пиратов или на волков.
Правительство приняло срочные меры. Оно немедленно ассигновало мистеру Лоу 50000 фунтов на подавление мятежа, и он попытался оправдать доверие, выбрав из всех своих племянников даровитого финансиста, мистера Линарда Крэмпа, и поручив ему командование правительственными силами. Однако тонкий ум и деловая хватка не возместили мистеру Крэмпу элементарного знакомства с военным искусством, которым обладали Крейн и Пирс.
И все же успехи вышеупомянутых военачальников не были бы так велики, если бы на их стороне не оказался гениальный инженер. Выдающиеся открытия Айры Блейра в области воздухоплавания были совершенно неизвестны обществу, ибо он не пытался извлечь из них денежную выгоду. Такое донкихотство сосуществовало с исключительным здравым смыслом, но резко противостояло тому духу деловитости и стяжательства, которые побуждали других изобретателей широко рекламировать свои изобретения. Майор Блейр лишь в шутку демонстрировал раза два свои летательные аппараты, самое же главное скрывал в ущельях Уэллса. Обычно изобретателю мешает отсутствие капитала — важнее открыть миллионера, чем новый закон науки. Но в данном случае помешал бы именно миллионер, неотделимый от рекламы и совершенно неспособный к смирению и неизвестности. Что еще важнее, успех Блейра обнажил ошибку, лежащую в основе коммерции. Мы говорим о конкурирующих сортах мыла, варенья или какао, имея в виду лишь торговое, а не истинное соперничество. Никто не берет двух подопытных покупателей и не кормит их насильно вареньем двух сортов, чтобы определить по их улыбке, какое лучше. Никто не поит их какао и не смотрит, какой сорт легче выдержать. Оружие действительно спорит друг с другом; и оружие Блейра победило. Однако и это не было главной, самой глубокой причиной успеха.
Все ученые согласны в том, что и Крейн, и Пирс грубо нарушали основные законы стратегии. Они и сами признавали это, одержав очередную победу, но было уже поздно исправлять ошибки. Чтобы понять, в чем тут дело, необходимо остановиться на странных обстоятельствах, сложившихся к тому времени.
Так, например, общепризнана военная роль дорог. Но всякий, кто заметил, что делалось на лондонских улицах начиная примерно с 1924 года, догадается, что понятие «дороги» не так статично и однозначно, как думали римляне. Правительство уже ввело повсюду знакомый нам всем новый материал для покрытия дорог, обеспечив тем самым и удобство путешественников, и благосостояние мистера Хэгга. Поскольку в деле участвовали и некоторые члены кабинета, официальная поддержка была надежно обеспечена. Одно из преимуществ этого материала — то, что его надо полностью сменять каждые три месяца. Случилось так, что как раз к началу восстания все западные и многие лондонские трассы полностью вышли из строя. Это уравняло силы, вернее — дало перевес мятежникам, передвигавшимся по лесам, под прикрытием деревьев. Двигаться с места на место в это время мог только тот, кто тщательно избегал дорог.
Другой пример. Всем известно, что лук — устаревшее оружие; тем обидней, если тебя из него убьют. Когда стреляли из леса, из-за деревьев, лук и стрелы оказались исключительно удобными. С точки зрения механики современное оружие и современные средства передвижения несравненно выгодней и удобней старых. Но механический фактор зависит от фактора морального. Скажем, подвезти изготовленные прежде снаряды было практически невозможно не только из-за дорог, но и потому, что владельцы грузовиков кому-то чего-то недоплатили, и больше никто не хотел им помогать; таким образом, снова все сорвалось из-за нарушенного слова. У мятежников же снабжение было идеальным. С помощью кузнецов и дровосеков они могли производить свое устарелое оружие в неограниченном количестве. Именно в связи с этим капитан Пирс произнес известные слова: «Ружья на деревьях не растут, лук и стрелы — растут».
Самым невероятным, почти легендарным событием стала Битва Луков Господних, обязанная своим названием странному пророчеству знаменитого Уайта, игравшего в этом новом робин-гудовом войске роль брата Тука
[30]. Явившись на переговоры к сэру Хоресу Хантеру, пастор Уайт, если верить слухам, угрожал министру чем-то вроде чуда. Когда тот справедливо указал ему, что лук — устаревшее оружие, он ответил: «Да, устаревшее. Но будут у нас и луки, созданные Самим Господом и годные для Его великих ангелов!»
Для историков в вышеназванной битве есть много неясного, словно над угрюмым ноябрьским днем нависла темная туча. Всякий, кто знает те края, заметил бы, что самый их ландшафт изменился. Лес на фоне неба стал низким и круглым, словно горб. Но по карте там значился просто лес, и, согласно плану, правительственные силы продвигались к нему, не обращая внимания на какие-то нелепые странности.
Тогда и случилось то, чего не смогли описать даже свидетели и участники. Деревья внезапно выросли вдвое, как в страшном сне, словно лес птичьей стаей поднялся с земли и ревущей волной покатил на противника. Те, кто увидел хоть что-то, увидел именно это, а потом уж никто ничего не видел толком, ибо на правительственные войска посыпались с неба камни
[31]. Многие верят, что мятежники использовали деревья как пращи или катапульты
[32]. Если так оно и было, это значит, что пророчество пастора Уайта осуществилось, завершая ряд осуществившихся нелепиц».
— А знаете, что он мне тогда сказал? — прервал его легко возбудимый пастор.
— Кто и когда? — спросил терпеливый Гуд.
— Этот ваш Хантер,— отвечал священнослужитель.— Ну, про луки.
Оуэн Гуд помолчал и закурил сигарету.
— Да,— сказал он потом.— Знаю. Слава Богу, я лет двадцать с ним встречался. Начал он так: «Я не считаю себя религиозным человеком...»
— Именно! — закричал Уайт, подпрыгивая в кресле.— «Не считаю, но все же, говорит, не утратил благопристойности и вкуса. Я не смешиваю религии с политикой». А я ему сказал: «Оно и видно».
Тут мысли его перескочили на другой предмет.
— Да, кстати,— снова возопил он,— Енох Оутс очень даже смешивает... конечно, религия у него такая... американская. Вот, предлагает мне познакомиться с литовским пророком. Кажется, в Литве началось какое-то движение, хотят образовать Всемирную Крестьянскую Республику
[33], но пока только одна Литва и есть. Этот пророк думает, не подцепить ли Англию, раз уж у нас победили аграрии.
— Ну, что вы все толкуете о Всемирных государствах? — прервал Гуд.— Сказано вам, я за гептархию
[34].
— Как вы не понимаете? — взволнованно обратился к пастору бывший аэронавт.— Что у нас общего со всемирными республиками? Англию мы можем перевернуть вверх дном, но мы любим именно ее, хотя бы и в перевернутом виде. Да сами наши обеты, сами поговорки никто никогда не переведет. Англичанин клянется съесть шляпу, испанец и не думает жевать сомбреро. Темзу поджечь можно, Тибр или Ганг — нельзя, потому что об этом и не помышляют в соответствующих странах. Стоит ли говорить французу про белых слонов? Никто не размышляет о том, летают ли чехословацкие свиньи и прыгают ли через луну югославские коровы. То, что по-английски шутка, может оказаться по-литовски настоящей, истинной бессмыслицей.
— У нас все началось с шуток,— сказал Оуэн Гуд, глядя на серые и серебряные кольца дыма, тянущиеся от его сигареты к небу,— ими и кончится. Рассказы о нас станут довольно смешными легендами, если не исчезнут совсем, и никто никогда не примет их всерьез. Они развеются, как вот этот дымок, покружившись немного в воздухе. Догадается ли хоть один из тех, кто улыбнется им или зевнет над ними, что нет дыма без огня?
Никто не ответил. Потом полковник Крейн встал и серьезно попрощался с хозяйкой. Начинало смеркаться, и он знал, что жена его, известная художница, уже собирается домой из студии. Он всегда старался быть в доме к ее приходу, но на сей раз все же зашел на минутку в огород, где слуга его, Арчер, стоял, опираясь на лопату, как стоял до потопа.
Постоял в огороде и полковник. Тихоокеанский идол был все там же, чучело по-прежнему носило цилиндр, а капуста была такая же зеленая и весомая, как в то утро, когда начал меняться мир.
— Хилари прав,— сказал Крейн.— Иногда разыгрываешь притчу, сам того не зная. Я и сам не знал, что делал, когда выкопал тот кочан. Я и не знал, что страдаю ради символа. А вот дожил, увидел Британию в капустной короне! Легко сказать, «правь морями»
[35] — она не умела править собственной землей. Но пока есть капуста, есть надежда. Арчер, друг мой, вот вам мораль: страна, которая думает обойтись без капусты, добром не кончит.
— Да, сэр,— почтительно проговорил Арчер.— Выкопать еще кочанчик?
Полковник вздрогнул.
— Нет, спасибо,— поспешно сказал он.— Революция еще туда-сюда, но этого бы я снова не вынес.
Обогнув дом, он увидел, что окна светятся теплым светом, и пошел в комнату, к жене.
Арчер остался в саду один, чтобы все как следует прибрать и доделать, и одинокая его фигура становилась все темнее по мере того, как закат и сумерки спускались на землю серым покровом с малиновой каймой. Окна — уже освещенные, но еще открытые — украшали газон и дорожки золотым узором. Быть может, Арчеру и подобало остаться в одиночестве, ибо только он не изменился среди перемен. Быть может, ему не случайно довелось стоять черным силуэтом на фоне сияющего сумрака, ибо его невозмутимая респектабельность была таинственней мятежа. Ему предлагали и сад, и ферму, но он не желал приноравливаться к новому миру и, нарушая законы эволюции, не спешил вымирать. Он был пережитком и выказывал странную склонность к выживанию.
Вдруг одинокий садовник обнаружил, что он в саду не один,— над изгородью горели отрешенные голубые глаза. Многие заметили бы, что нежданный гость чем-то похож на Шелли. Арчер такого поэта не знал, но гостя узнал, ибо тот был другом его хозяина.
— Простите, если ошибусь,— с трогательной серьезностью сказал Хилари Пирс.— Я все думаю, в чем тайна вашей неподвижности. Быть может, вы — божество садов, прекраснее вон того идола и благопристойнее Приапа
[36]? Быть может, вы — Аполлон, служащий Адмету, и успешно... да, очень успешно скрывающий свои лучи? — Он подождал ответа, не дождался и заговорил тише: — А может быть, ваши стрелы попадают не в голову, а в сердце, сеют не смерть, а жизнь, расцветают деревцами, как ростки, которые вы сажаете в саду? Не вы ли ранили нас, одного за другим, пробуждая любовью к мятежу? Я не назову вас Амуром,— и виновато, и чопорно сказал он,— не назову Амуром, Арчер, потому что вы не языческий бог, а тот, просветленный, одухотворенный, почти христианский Амор, которого знали Чосер и Боттичелли. Ведь это вы в геральдических одеждах трубили в золотую трубу, когда Беатриче кивнула Данте
[37]? Ведь это вы дали каждому из нас Vita Nova?
[38]— Нет, сэр,— отвечал Арчер.
* * *
Так летописец подошел к концу темных и бесплодных своих трудов, не дойдя, однако, до начала. Вероятно, читатель надеялся, что эта повесть, подобно мирозданию, объяснит, когда окончится, зачем же она была создана. Но собственный труд сломил его, он заснул, а летописец слишком вежлив, чтобы его спросить, не узнал ли он разгадки во сне. Летописец не знает, крепко ли он спал и видел ли что-нибудь, кроме крылатых башен или белых храмов, шагающих по лугам сквозь сумерки, или свиней, подобных херувимам, или пламенной реки, текущей во тьму. Образы нелепы и ничего не значат, если не тронули сердца, а летописец недалек, но все же не станет защищать своих видений. Он пустил стрелу наугад, и не думает смотреть, попала она в ствол дуба или в сердце друга. Лук у него игрушечный; а когда мальчик стреляет из игрушечного лука, трудно найти стрелу, не говоря о мальчике.
notes
1
Св. Мартин (316?–397), епископ Турский. Однажды св. Мартин, увидев раздетого и нищего человека, снял с себя плащ, рассек его мечем надвое и половину отдал нищему.
2
Ср. пьесу Б. Шоу «Врач на распутье»
3
…безумен как мартовский заяц… безумен как шляпник. – Ср. сказку Л. Кэррола «Алиса в стране чудес», гл. «Безумное чаепитие» и др.
4
Бритомарта – женщина-рыцарь из II книги аллегорической поэмы Э. Спенсера «Королева фей» (1590–1596).
5
Намёк на Роберта Оуэна (1771–1858), английского социалиста-утописта, теоретика педагогики, организатора трудовых коммун, активного участника профсоюзного движения 30-х гг.
6
Легенды о Граале – легенды о таинственном сосуде, на поиски которого в разное время отправлялись Парсифаль, Ланселот, сэр Галаад. Чудесное явление Грааля рыцарям Круглого Стола – один из сюжетов Артуровского цикла.
7
Элитарному английскому саду (см. рассказы «Преступление коммуниста», «Летучие звезды», «Вещая собака») Честертон предпочитает демократический огород свободного крестьянина. Подробнее об этом – в эссе «Морской огород» (сб. «Смятения и шатания»).
8
Да воскресну (лат.).
9
Речь идет т трубах Апокалипсиса. Откр., 8,2.
10
Уолтон Исаак (1593–1683) – английский поэт, автор биографии английских поэтов эпохи барокко, любитель рыбной ловли, оправдывающий свое пристрастие тем, что из двенадцати четверо апостолов были рыбаками. Автор поэмы «Искусный рыболов, или Досуг человека, склонного к размышлениям» (1653). На окнах гостиницы «Комплит Энглер» (Виндзор) и по сей день сохранились витражные изображения красочных рыб его работы.
11
Книга пророка Ионы, 2, I, 2, II.
12
Генрих III (1207-1272) – король Англии с 1216 г.
13
…мерзость запустения. – Мтф., 24,25.
14
Теки, река, пока не кончу петь. – Перифраза строки из «Буколик» Вергилия.
15
…сродни… йомену – т.е. сродни тому английскому свободному крестьянину XIV–XVIII вв., который работал на земле, являвшейся его наследственной собственностью. Йомен – центральный персонаж социальной утопии Честертона.
16
Коббет Уильям (1763–1835) – английский журналист, издатель, член парламента, реформатор. В его книге «Деревенские поездки» (1830) и «Советы молодому человеку» (1829) осмысляется английский национальный характер. Честертон посвятил ему книгу «Уильям Коббет». Имя Коббета упомянуто в сонете на смерть Честертона, принадлежащем перу священника и критика Роналда Нокса: «Со мной,– воскликнул Коббет,– бунтовал».
17
Шекспир, «Ромео и Джульетта». Акт III, сцена 5.
18
В аббатстве Гластонбери находилась первая христианская церковь на земле Англии; здесь, по легенде, сохранилась гробница короля Артура.
19
Гурт-Свинопас – персонаж романа В. Скотта «Айвенго».
20
…под знаменем Борова… – Ср. эссе Честертона «О комнатных свиньях».
21
…облако похоже на свинью… или на кита. – Комическая перифраза из беседы Гамлета с Полонием. «Гамлет», акт III, сцена 2.
22
«О, дай мне крылья свиньи!» – Ср.: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя?» – Пс. 54, 7.
23
Герой легенд Артуровского цикла, волшебник Мерлин, предсказал рыцарям трагическую судьбу, которой нельзя было избежать.
24
Роджер де Каверли – вымышленный английскими писателями Ричардом Стилом (1672–1729) и Джозефом Аддисоном (1672–1719) комический персонаж нравоописательных эссе в журналах «Болтун» и «Зритель», старомодный и наивный помещик, живущий среди практичных и здравомыслящих английских буржуа.
25
Друидизм – система языческих верований у кельтов, населявших Британские острова.
26
Вельд – пастбища на юге Африки.
27
И я [был] в Аркадии (лат.).
28
…в их безумии есть метод. – «В его безумии есть метод»,– говорит Полоний о Гамлете. «Гамлет», акт II, сцена 2
29
«Поэт всегда в небесах, но там же и молния». – Честертон цитирует по памяти стихотворение В. Гюго «Веселая жизнь» (сб. «Возмездие», 1853): «Отбросы дикарей… твердят мне: «Ты поэт – пари под небесами!» Но в небе гром живет!» (пер. Вс. Рождественского).
30
Брат Тук (точнее, отец Тук) – персонаж легенды о Робин Гуде.
31
…посыпались с неба камни. – Парафраза новозаветного изречения «И говорят громам и молниям: падите на нас» (Откр., 6, 16).
32
…мятежники использовали деревья как пращи… – Намёк на Бирнамский лес из «Макбета»: зная о страшном предсказании Макбету «Ты невредим, пока на Дунсинан Бирнамский лес пойдёт» (пер. Ю. Корнеева), войско Малькольма, под прикрытием зелёных ветвей, двинулось на войско Макбета.
33
…с литовским пророком… образовать Всемирную Крестьянскую Республику. – В 1927 г. Честертон посетил Польшу и проездом познакомился с Литвой (точнее, был в Вильнюсе, принадлежащем тогда Польше и называвшемся Вильной). Ср. упоминание о литовцах в эссе «Упорствующий в правоверии» (сб. «Истина») и «Все наоборот». Несомненно, Честертон симпатизировал маленькой, крестьянской, католической Литве.
34
Гептархия – термин, введенный английскими историками в XVI в. для обозначения периода английской истории с VI по IX вв., характеризующегося отсутствием политического единства страны. Дословно «Гептархия» означает «семь царств»: саксов – Уэссекс, Суссекс, Эссекс; англов – Мерсия, Нортумбрия и Восточная Англия; ютов – Кент.
35
«Правь морями»… – слова из написанного в 1740 г. стихотворения Джеймса Томсона (1700–1748), «Правь, Британия», ставшего впоследствии английским гимном.
36
Приап – в античной мифологии – божество производительных сил природы; в римскую эпоху – страж садов, но и покровитель распутников (изначально – фаллос).
37
Беатриче кивнула Данте – «Vita Nova», гл. II. Беатриче и Данте – постоянный сюжет живописных работ «Братства прерафаэлитов», считавшихся классиками современного искусства в пору обучения Честертона в художественной школе.
38
Новую жизнь (лат.). «Vita Nova» – «Новая жизнь» – «малая книга памяти» Данте, написанная в начале 90-х годов XIII в. Считается первым психологическим романом в Европе после гибели античной цивилизации.