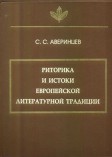Риторика и истоки европейской литературной традиции
ПРЕДИСЛОВИЕ
Задуматься о предметах, составляющих тематику этого цикла статей, меня заставило ощущение, что в истории культуры есть границы между качественно различными феноменами, отчетливость которых в нашей рефлексии слишком часто затушевывается и размывается навыками упрощенно–эволюционистской мысли.
Навыки эти сказываются, между прочим, в расхожем употреблении простейших терминов. Всякое словесное искусство, плоды которого фиксируются в письменной форме, зовется «литературой», начиная с иероглифических текстов Древнего Египта, вообще с самой что ни на есть архаичной архаики; просто, мол, эта литература, как всякая деятельность человека, «развивается», по всей видимости сохраняя, однако, свою идентичность. Поскольку же людям, какими их знает история культуры, всегда было свойственно заниматься словесным искусством, единственное условие существования литературы — употребление письменности (претворяющее в литературу то, что доселе звалось фольклором). Но людям свойственно также «ценить» произведения словесного искусства, иметь о них более высокое или, напротив, низкое мнение, как-то выражать свое мнение; эту общечеловеческую наклонность можно рассматривать как зачаточное состояние критической и даже теоретико–литературной рефлексии, и тогда получится, что литературная критика и теория литературы хотя бы в зачатке существовали тоже «всегда», что их становление можно помыслить как эволюцию от зачатка к зрелым формам, как чисто количественное прибавление качества «развитости».
Как только культура достигает определенного «уровня» — до чего характерно мышление в квантитативных категориях, выражающее себя в словечке «уровень»! — потенциальное наличие критико–теорети- ческой рефлексии якобы чуть ли не автоматически становится реальностью. К этому надр добавить, что современная научная мода, в особенности западная, поощряет чрезвычайно расширительное употребление термина «риторика»: нынче модно, например, говорить о «риторике Ветхого Завета». У этой моды, как у многих не вполне разумных обыкновений, имеются уважительные причины — прежде всего, как кажется, реакция на руссоистско–романтическую абсолютизацию «безыскус- ности» фольклора и архаики. Разумеется, верно, что словесное поведение человека никогда не бывает стопроцентно, химически чисто «безыскусным»; тем паче на стадии архаики, когда все в той или иной мере подчинено ритуальной норме. Но когда мы любое оформление речи, любое проявление словесного искусства называем «риторикой», теряется ощущение необычного изобретения, сделанного когда-то греческими софистами в острой обстановке сенсации и скандала, которую еще можно почувствовать в Аристофановых «Облаках», не говоря уже о неисчислимом множестве исторических анекдотов. Из-за чего, спрашивается, было горячиться, если риторика была тоже «всегда» и всего–навсего эволюционировала? На этом фоне более благоразумным предстает употребление слова «философия»: правило, систематически нарушаемое, но не вовсе оставляемое даже в наше время, привязывает этот термин к особым формам мысли, сложившимся в Греции между Фалесом и Платоном, пожалуй, также в Индии Шанкары, возможно, в Китае Конфуция и JIao–цзы, — но отнюдь не повсюду, где имелась развитая цивилизация и письменно фиксируемая «мысль» или «мудрость», например, не в Египте, не в Месопотамии. Напротив, слово «наука» часто разделяет судьбу слов «литература» и «риторика», будучи прилагаемо к любому накоплению знаний о природе, каковым люди тоже занимались «всегда». Наше словоупотребление не всегда учитывает переворот, которым сопровождалось введение методической самопроверки человеческого знания, каковое впервые превращает это знание в науку sensu stricto, в то, что на аристотелевском языке именуется επιστήμη.
Я исходил из убеждения, прежде всего, в том, что литературу, живущую в присутствии риторической теории, отделяет от словесного искусства «вообще» тот же момент систематической рефлексии (по этимологическому смыслу слова reflexio — оглядки на себя), который отделяет философию — от извечной мудрости «вообще», а науку — от простой аккумуляции эмпирических сведений под крылом наследуемой из рода в род ремесленнической или жреческой традиции; далее, в том, что переход к систематической рефлексии, постановка вопроса о методе, будь то метод познания или метод творчества, — не простая эволюция, не простое достижение культурой некоего количественно понимаемого «уровня», но интеллектуальная революция, принципиальное преобразование основ культуры. Рефлексия по своей сути не «естественна». Человеческому уму «естественно» смотреть не в себя, а перед собой или в крайнем случае над собой, занимаясь — в более или менее прагматическом контексте быта и обряда — всем на свете от утвари до богов, только не законами собственной деятельности. Человеческой речи также «естественно» иметь темой что угодно, только не самое себя. Напротив, систематически поставить гносеологическую проблему и связанную с ней задачу построения формальной логики, т. е. переориентировать знание с космического и божественного на само же знание, — совершенно не «естественно». Не «естественно» засесть, как Аристотель, за сочинение двух «Аналитик», по две книги каждая, и «Топики» в восьми книгах. Столь же не «естественно» задуматься над выражением мысли в речи, заняться теорией языка, любезной упомянутым выше софистам рефлексией над словом, наконец, систематизацией правил словесного творчества, долженствующих обеспечить оптимальную сообразность индивидуального произведения абстрактному концепту жанра, — написать, как тот же Аристотель, три книги «Риторики» и книгу «Поэтики». В перспективе сознания той публики, для которой несколько ранее писал Аристофан, все это выверт, извращение — к чему мыслить о мысли и говорить о речи, когда есть столько других тем? Разумеется, это точка зрения отсталая, обскурантская, — однако нельзя сказать, что непонятная или бессмысленная.
Допустив систематическую рефлексию, греки начали интеллектуальную авантюру, продолженную другими, в ходе которой ничто не могло остаться в своем прежнем состоянии. Ужас, инстинктивный horror души перед тем направлением мысли, когда все человеческое становится объектом рефлексии и через это потенциально релятивизиру- ется, во всяком случае выводится из сферы «естественного», — испуг этот заявлял о себе через тысячелетия после поры софистов, Сократа, Аристофана и Аристотеля. В эмоции отвращения к средневековой схоластике парадоксальным образом объединялись поборники веры, и притом столь различные, как католик Петр Дамиани, православный Максим Грек и отец Реформации Мартин Лютер, — с поборниками самодовлеющего культурного идеала, каковыми были гуманисты Ренессанса. Для людей прошлого столетия расхожей фразой стала укоризна «разъедающей рефлексии». В нашем столетии немец JI. Клагес написал претолстую книгу под названием «Ум (Geist) как противник души»; а наш Андрей Белый, вообще говоря, не слишком схржий с Аристофаном, как тот, карикатурно изображал своего «Сократа», каковым был тоже не так уж похожий на Сократа неокантианец, ученик Германа Когена, Б. А. Фохт:
На робкий роковой вопрос
Ответствует философ этот,
Почесывая бледный нос,
Что истина, что правда… — метод.
«Жизнь, — шепчет он, остановясь
Меж зеленеющих могилок, —
Метафизическая связь
Трансцендентальных предпосылок…»
(«Мой друг», 1908)
Существо дела схвачено точно — «естественное» в человеке бунтует именно против установки на «метод». Но сама живучесть этой негативной эмоциональной реакции связана с ощущением полной непреодолимости, неотвратимости того, что случилось в Греции софистов и Аристотеля. Поворот к рефлексии, к «методу» был трудным делом; но раз сделанного невозможно было переиграть. Ртныне только культура с такими основаниями была правильной, отвечающей своей дефиниции; любая другая культура в географическом кругу досягаемости античного образца, желавшая быть конкурентоспособной, оказывалась вынуждена перенять аристотелевские правила игры. Христианство изгнало языческих богов, варвары разрушили Римскую империю, начался новый культурный цикл, но упомянутые правила игры продолжали действовать, становясь разве что более жесткими. Христианское богословие и христианская проповедь принимают в себя чуждый Библии инструментарий формализованных процедур дефинирования и силлогистического умозаключения; проповедь становится также предметом риторической рефлексии. Еще более поразительно, что Аристотель как автор «Метафизики», логических трудов, но также «Риторики» и «Поэтики» был воспринят совсем уж, казалось бы, чуждой античности арабской культурой ислама; арабы имели, разумеется, специфические проблемы с такими понятиями «Поэтики», как «трагедия», но принцип рефлективного подхода, накладываясь на совершенно иную традицию поэтического искусства, сохранил свою идентичность. Вернемся к Европе: Ренессанс резко потеснил схоластику, — но за счет того, что возвысил и расширил права риторики и поэтики, риторического идеала humanitas, к коему восходит термин «гуманист», имевший, как известно, значение, весьма отличное от нынешнего.
Лишь существенно позднее новоевропейский рационализм в своем специфическом развитии создал иные парадигмы рефлексии, отличные от силлогистических дедукций по модели Аристотелевой метафизики, или Эвклидовой геометрии, или казуистики римского права. Здесь не место расписывать по пунктам революцию, произведенную Новым временем в переориентировавшихся с дедукции на эксперимент естественных науках; но для знания «гуманитарного» (опять та же humanitas аукнулась!) главным открытием был, вне сомнения, историзм, подготовленный в XVIII столетии, в веке Джамбаттисты Вико, и выявивший свои возможности уже в следующем столетии, в пору Гегеля и романтиков. Как и открытие дедуктивной рефлексии в древности, открытие этого типа рефлексии вызывает horror, живо описанный различными мыслителями от Ницше («Vom Nutzen und Nachteil der Historie fiir das Le- ben») до Мирча Элиаде; но снова horror этот фиксирует необратимое и универсальное действие открытия на жизнь культуры в целом. В присутствии историзма само понятие стиля художественного творчества не может оставаться по–прежнему равным себе; для некоторых искусств, привыкших жить дисциплинирующей принудительностью стиля, прежде всего для архитектуры, это обернулось серьезным кризисом идентичности — эксцессы конструктивизма и направления Корбюзье объяснимы только из отчаянной попытки справиться с историзмом XIX в., обернувшимся для архитектуры безудержной эклектикой. Но и для литературы действие риторической нормативности кончается. Недаром почтенное в веках имя риторики становится со времен романтиков бранным; & propos: из такого контекста, специально связанного с XIX в., читателю, может быть, будет легче понять, в каком смысле я вообще позволяю себе употреблять в моих опытах слово «риторика» как ключевое. Очень часто слово это применяется в обычном обиходе для обозначения декоративных приемов, так сказать, подцвечивающих речь. Подцветка эта сама по себе весьма нередко именно у романтиков и их продолжателей играет чрезвычайно большую роль. Если держаться расхожего словоупотребления, то, конечно, Виктор Гюго — один из самых «риторичных» авторов; сердечно мною уважаемый М. JI. Гаспа- ров имеет все основания говорить об индивидуальной риторике Марины Цветаевой. Сознательно и откровенно риторичен наш современник Бродский, еще в молодые годы догадавшийся заметить:
Я заражен обычным классицизмом…
Но стоит нам сказать, как мы только что сказали: «индивидуальная риторика», — как все встает на свои места. А для моих нижеследующих рассуждений жизненно важно такое понятие риторики, которое предполагает место для индивидуального стиля только внутри дедуктивно определяемой и решительно надличной, даже надвременной нормы. «Риторичность» Виктора Гюго нисколько не мешает тому, что его творчество, его теоретико–литературная мысль (знаменитое предисловие к «Кромвелю», 1827, провозглашающее войну «деспотизму систем, кодификаций и правил») были важными симптомами конца риторики как универсалии литературы и культуры вообще. А уж творчество поздней Цветаевой, все, сверху донизу, — очень яркое выражение того, как далеко ушло время подобных универсалий, время риторики как, по точному выражению безвременно умершего А. В. Михайлова, культуры готового слова.
Но, условно говоря, «конец риторики», конец длинного ряда эпох, когда идея нормы определенным образом формировала даже самые эксцентрические явления и ставила свои задачи рефлексии — это не совсем «конец», просто потому, что мы оказываемся в постриторическом состоянии культуры, что риторика никуда не исчезла, никуда не делась, а просто «снята» (aufgehoben в гегелевском смысле слова), что открытая шокировавшими не одного Аристофана софистами рефлексия остается навсегда с нами, как наша судьба и наше достояние.
С. Аверинцев
Октябрь 1995
ГРЕЧЕСКАЯ «ЛИТЕРАТУРА» И БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ «СЛОВЕСНОСТЬ»
(противостояние и встреча двух творческих принципов)
1. ПРОТИВОСТОЯНИЕ
«Что общего у Афин и Иерусалима?»
Тертуллиан, «О неправомочности еретиков», гл. 7.
Были времена, когда в Европе твердо верили, что история мировой литературы начинается не откуда-нибудь с середины, а точно с самого начала, с начала всех начал — с античности: «В начале была Греция…» Предполагалось, что доэллинский мир знал словесное творчество, однако стихийное, бессознательное, безличное
[1] и притом поставленное на службу внеэстетическим, жизненно утилитарным целям, между тем как в литературной культуре, как таковой, этому миру было отказано; только греки положили начало феномену литературы, «изобрели» и разработали одну за другой жанровые формы, выстроили из них стройную систему и довершили свои благодеяния тем, что создали теорию литературы, или поэтику, в своих наиболее общих основаниях значимую и поныне.
Чтобы верить в такую картину, необходимо видеть догреческий и внегреческий мир куда более «темным», а классическую Элладу — куда более «ясной», цивилизованной, похожей на Европу Нового времени, чем они были на деле. Больше никто и никогда не сможет увидеть их такими. Мы стали куда богаче наших предков: открытия и дешифровки дарили нам один шедевр за другим — «Сказку о двух братьях» и эпос о Гильгамеше, «Песнь арфиста» и «Повесть о невинном страдальце», вавилонские «покаянные псалмы» и гимны Атону, угаритские поэмы и хеттские хроники; весь этот материал позволил заново увидеть литературный облик искони знакомого и все же малопонятого Ветхого Завета. Мы узнали, какой зрелой, тонкой, дифференцированной могла быть древневосточная литература; одновременно выяснилось, как много темного и архаического присутствовало в составе самой греческой культуры. Мы стали разумнее: самоуверенный европоцентризм, с легким сердцем деливший народы на «творческие» и «нетворческие», окончательно выявил для нас свою интеллектуальную и нравственную несостоятельность. Все это объективные результаты научного (и не только научного) развития, которые никому не дано взять назад.
Стоит подумать, однако, не было ли у классицизма своих резонов, с которыми мы обязаны считаться — пусть на совершенно ином уровне — и ныне? Не отражало ли его наивно–четкое представление о Греции как абсолютной точке отсчета на линии литературного развития некий аспект истины?
Мы с привычной легкостью говорим не только о «вавилонской литературе» или о «древнееврейской литературе», но также о «хеттской литературе», о «хурритской литературе», о «финикийской литературе», о «самаритянской литературе». Была «литература» у греков, и была «литература» у финикийцев. Конечно, всякому ясно, что национальный облик и художественные достижения этих двух литератур весьма различны, но не об этом идет речь. Речь идет о другом: предполагается, что все различия между ними укладываются в рамки одного равного себе понятия «литературы», так что само слово «литература» употреблено оба раза в принципиально одинаковом смысле. Примерно так: более ранние хронологически и, как сказали бы несколько десятилетий назад, «стадиально» более архаичные литературы народов Ближнего Востока осуществили такие-то и такие-то достижения, а греки «пошли дальше», сделали еще один, дальнейший шаг по этому же пути, осуществили дальнейший «прогресс» (ведь за словом «прогресс» и стоит образ непреклонного поступательного движения по раз начатому пути)
[2].
Но справедливо ли это? Не вернее ли сказать, что литературы древнего Ближнего Востока, взятые как одно целое, и литература античной Греции, взятая опять-таки как целое, суть все же явления принципиально различного порядка, не соизмеримые между собой, не поддающиеся никакому сопоставлению в категориях «уровня» или «стадиальности» — что это не стадии одного пути, но, скорее, два разных пути, которые разошлись из одной точки в различных направлениях? В самом деле, возможно ли приложить одни и те же критерии жанровой разработанности, авторской оригинальности и т. п., скажем, к Иезе- киилю и Софоклу? Если мы признаем то и другое в одном и том же смысле слова «литературой», мы нанесем обиду сразу обеим сторонам: во–первых, мы незаслуженно оскорбим греков, ибо сведем на нет, растворим в универсальных категориях всю неимоверность, всю уникальность инициативы, принадлежащей им и только им; во–вторых, мы унизим и негреков, ибо станем мерить их самобытные достижения чужой для них греческой меркой и описывать эти достижения в терминах «еще–не» — еще не дошли, еще не поняли
[3]. Если уж пользоваться пространственной метафорикой пути — греки не опередили своих ближневосточных соседей, не продолжили их путь, а пошли совсем в иную сторону, с каждым своим шагом отдаляясь от их цели, чтобы приблизиться к своей цели. В Греции произошло то, чего не то чтобы не успело произойти, а принципиально не могло и не должно было произойти в «библейском» мире: литература впервые осознала себя именно литературой, то есть самозаконной формой человеческой деятельности, явно для себя противостоящей всему, что не есть она сама, например стихийному экстатическому «вещанию» пророков, а также культу, обряду, быту и вообще «жизни». Слов нет, до новоевропейского пафоса специализации греческой классике еще очень далеко; ее литература глубоко укоренена в полисном бытии
[4], но укоренена она в нем именно как дерево, связанное с почвой корнями, но растущее вверх, прочь от почвы.
Возьмем предельный случай: когда Демосфен произносит на агоре свои речи, составленные по правилам риторского искусства и тщательно выученные наизусть, — это есть политическое «использование» литературы (менее всего чуждое и Новому времени), которое решительно ничего не меняет в глубинном факте автономности литературы. Литература, «связанная с жизнью», уже тем самым не есть литература, пребывающая внутри «жизни» (понятие «внутрижизненности», или «внутриситуативности» библейского типа литературы, пока определяемое чисто негативно, по противоположности к инициативе греков, будет дополнительно выяснено ниже).
Что было внешним знаком, сигнализирующим о том, что автоно- мизация греческой литературы бесповоротно совершилась? Мы можем ответить на этот вопрос вполне четко:
возникновение специальной теории литературы, поэтики, литературной критики и филологии. Литература, допускающая подобного рода рефлексию над своими результатами, есть явление совершенно иного порядка, чем литература, которая по самой сути своей этого не допускает. Уже Демокрит писал сочинения «О поэзии»
[5], «О Гомере», или «О правильном выговоре и редких речениях», «О красоте слов», «О благозвучных и неблагозвучных звуках речи», «О песни»
[6]. Своей полной зрелости греческая теория литературы достигает в «Поэтике» Аристотеля.
Если разрешить себе такой взгляд на вещи, который непозволителен при филологическом анализе обособленных явлений, но неизбежно входит в условия игры, как только мы берем историко–культурные эпохи в их целостности, можно утверждать, что сама возможность де- мокритовско–аристотелевской рефлексии над литературой некоторым образом была содержательно заложена в художественной практике уже самых ранних греческих поэтов, начиная с Гомера (недаром последнему посвящены целое сочинение Демокрита и ряд важных замечаний Аристотеля). Между Гомером и греческой теоретической поэтикой существует смысловое соотношение вопроса и ответа. Методы и категории Аристотеля столь же органично связаны с художественной структурой «Илиады» или «Царя Эдипа», сколь лишены смысла в приложении к «Книге Исайи» или к «Повести об Ахикаре». Греческая литература всей своей сутью как бы требует, чтобы ее мыслили как предмет теоретической поэтики; в этом смысле потенциальная соотнесенность с возможностью теоретической поэтики есть характеристика всей греческой литературы, включая те ее произведения, которые возникли задолго до рождения поэтики. Но, осознав себя в качестве литературы и внутренне вычленившись из нелитературы, литература в некотором смысле впервые становится собой, а значит, старомодное представление, согласно которому литература «родилась» в Греции, имеет свои резоны.
Еще раз повторим: дело совсем не в том, что литература, не осуществляющая такого самоосознания и самоопределения, якобы непременно «ниже», «беднее» или «примитивнее», нежели литература, осознавшая себя. Она не ниже, она по сути своей иная, и самый термин «литература» получает в приложении к ней существенно иной смысл. Обратимся на минуту от истории слова к истории мысли. Общепринятое обыкновение до сих пор заставляет всех говорить — с полным основанием! — что философия впервые родилась в Ионии и что ее основателем, самым первым философом средиземноморского круга был Фалес, хотя все отлично знают, что древние египтяне, вавилоняне, иудеи и до него куда как серьезно задумывались над глубинными вопросами жизни и смерти. Нельзя утверждать, что «Книга Иова» уступает в глубине самым прославленным порождениям греческой философии (на каких весах можно было бы проверить такой приговор?..); и все же «Книга Иова» являет собой все что угодно — «мудрость», может быть, «философствование»
[7], но во всяком случае не философию. Вся мысль египтян, вавилонян и иудеев в своих предельных достижениях не философия, ибо предмет этой мысли не «бытие», а жизнь
[8], не «сущность», а существование, и оперирует она не «категориями», а нерасчлененны- ми символами человеческого самоощущения–в-мире, всем своим складом исключая техническо–методическую «правильность» собственно философии.
В отличие от них греки, если позволительно так выразиться, извлекли из жизненного потока явлений неподвижно–самотождественную «сущность»
[9] (будь то «вода» Фалеса или «число» Пифагора, «атом» Демокрита или «идея» Платона) и начали с этой «сущностью» интеллектуально манипулировать, положив тем самым начало философии. Они высвободили для автономного бытия теоретическое мышление, которое, разумеется, существовало и до них, но, так сказать, в химически связанном виде, всегда внутри чего-то иного. В их руках оно впервые превратилось из мышления–в-мире в мышление–о-мире
[10]. Но совершенно аналогичную операцию они проделали со словом, изъяв его из житейского и сакрального обихода, запечатав печатью «художественности» и положив тем самым — впервые! — начало литературе. В этом смысле литература, скажем, библейского типа может быть названа «поэзией», «писанием», «словесностью», только не «литературой» в собственном, узком значении термина. Она не есть литература по той же причине, по которой ближневосточная мысль не есть философия.
В обоих случаях мы высказываем не оценку их уровня, а характеристику их сущности, мы отмечаем не их мнимую неполноценность сравнительно с литературой и философией греческого типа, а их глубокие типологические отличия от последних. Существенно, что в обоих культурных мирах — ближневосточном и эллинском — совершенно различен социальный статус литературного творчества. Ближний Восток знает тип «мудреца» (древнеевр. hkm) — многоопытного книжного человека, состоящего на царской службе в должности писца и советника, а на досуге развлекающегося хитроумными сентенциями, загадками и иносказаниями («притчами» — древнеевр. msljm); идеализированный портрет такого «мудреца» — Ахикар; из рук «мудрецов» вышли «Поучения Птаххотепа» и «Книга Притчей Соломоновых», «Беседа разочарованного со своей душой», «Екклесиаст» и другие шедевры учительной словесности. Палестина знала еще тип «пророка» («возвес- тителя», древнеевр. nbj') — экстатического провозвестника народных судеб, несравнимо более склонного к нонконформизму, чем «мудрецы», кормившиеся из рук сильных мира сего. Когда речения «пророков» получали письменную фиксацию, возникали весьма своеобычные произведения, без которых немыслим облик Библии. Но ни «мудрецы», ни тем паче «пророки» никоим образом не были по своему общественному самоопределению литераторами. Ученость на службе царя, вера на службе бога — и словесное творчество всякий раз лишь как следствие того и другого служения, всякий раз внутри жизненной ситуации, которая создала отнюдь не литературными интересами.
Конечно, зрелый тип профессионального литератора, который больше страшится за честь своего стиля, чем за собственную гражданскую честь
[11], и в Греции возникает только в эпоху эллинизма (хотя некий прообраз этого типа явили изумленному миру уже софисты); каждый может вспомнить знаменитую эпитафию Эсхила, похваляющуюся его подвигами на поле брани и не проговаривающуюся ни единым словом о его трагедиях. Все это так. И все же черты литератора проглядывают уже в зачинателях греческой поэзии, и притом с каждой эпохой все отчетливее. Легендарный образ Гомера, как он дан его жизнеописаниями, но также им самим — в лице Демодока («Одиссея», песнь VIII) — являет, разумеется, родовые черты бродячего певца–сказителя, известные едва ли не всем народам мира, но при этом так, что в эти черты с необычной эмфазой вкладывается смысл отрешенной созерцательности,
жизни только для своего искусства[12]. Гесиод, критикуя поэтический принцип героического эпоса, выступает с авторской декларацией, с литературной программой, он проектирует собственное творчество, сознательно противопоставляя себя одной поэтической традиции и основывая другую («Теогония», стр. 1—24). Земледелец, обращающийся к земледельцам, он отделен от собратьев тонкой, но ощутимой чертой: своим литераторством
[13].
Но особенно показательно другое — в Греции мы имеем перед собой совершенно чуждый Ближнему Востоку тип «непризнанного гения», «непонятого новатора», «пролагателя новых путей», которому остается только уповать на признательность потомства
[14]. Черты этого типа начинают проступать уже во второй половине VI столетия до н. э. (например, в сетованиях философа и поэта Ксенофана на традицию, определяющую почет «грубым» атлетам, а не ему, носителю новых духовных ценностей); свою окончательную отчетливость они обретают в эпоху Еврипида, этого классического «меланхолика», явившего грекам образец творческого одиночества. Но ближневосточная литература, столь неимоверно осведомленная в самых разнообразных оттенках человеческой потерянности и злополучности, отлично знающая муки праведника среди злодеев (сквозной мотив Давидовых псалмов) и мудреца среди глупцов (шумерская поэма, известная под названием «Человек и его личный бог», целый ряд ветхозаветных текстов) — эта обильная слезами литература ни в одной из своих многочисленных исповедей не дает самочувствия «гения среди толпы»: такой психологический комплекс в библейском мире просто неизвестен. Мы не могли бы объяснить ближневосточному человеку, что такое «творческое одиночество», и не только потому, что он никогда не приписывал себе способности «творить»
[15] (откуда и проистекает неведомое Греции целомудрие его как бы неличного вдохновения), но и потому, что у него
не было опыта подлинного одиночества — такого одиночества, которое не есть только пустота («покинутость», «оставленность», на которую так горестно жалуется лирический герой 37/38 псалма
[16]), но и позитивная смысловая наполненность («пафос дистанции»). Человек в Библии никогда не остается по–настоящему один, ибо даже тогда, когда рядом с ним нет людей, его утешающий или грозящий Бог всегда рядом, и его присутствие дано как нечто до крайности насущное, конкретное, ощутимое, так что для холодной интеллектуальной отстраненности от всего сущего просто не остается места. Понятие «толпа»
[17] на библейский язык непереводимо: конечно, вокруг человека ходят злодеи, которые злоумышляют против его жизни, жестоковыйные грешники, до которых ему необходимо докричаться, если он «пророк», глупцы и неучи, среди которых ему скучно, если он «мудрец», но все они в принципе пребывают на той же плоскости бытия, что и он сам. Интеллектуальный фокус внутреннего самодистанцирования, наилучшим образом известный интеллигентному греку со времен Сократа и Еврипида, здесь не в ходу.
Каждое слово Библии говорится всякий раз
внутри непосредственно–жизненного общения говорящего со своим Богом и с себе подобными: так, пророк отнюдь не имеет претензий «создать» некий шедевр на века, έτήμα εις άεί во вкусе Фукидида, но зато желает быть по–человечески услышанным, и притом незамедлительно
[18]. Потому это слово — принципиально неавторское слово, брошенное на волю потока, предоставленное всем превратностям непрекращающегося разговора. В разговоре неважно, кто сказал слово: у любого творца слишком много сотворцов — прежде всего, разумеется, его Бог, затем мудрецы былых времен, из сокровищницы которых он может невозбранно черпать, не страшась упрека в плагиате, и, наконец, вся народная общность, включенная в ситуацию разговора. Важно другое — что слово вообще было сказано, вошло в состав разговора и зажило в нем, беспрерывно меняясь в зависимости от его перипетий.
Отсюда вытекает сущностная «анонимность» литературы ветхозаветного типа, присутствующая даже тогда, когда текст несет на себе имя его создателя (как сочинения пророков). Само собой разумеется, что эта «анонимность» ни в коем случае не означает безличности: кто, в самом деле, спутает ироническую сосредоточенность «Екклесиаста» с яростными интонациями «Книги Иова» или с вдохновенно–резонерским голосом «Книги Притчей Соломоновых»? В древнееврейской литературе много своеобычнейших «личностей», но нет ни одной «индивидуальности». «Личностью» человек бывает — или не бывает — независимо от того, что он о себе думает, в качестве «индивидуальности» он самоопределяется — или не самоопределяется — в своем сознании. Исповедуется «личность», самоопределяется «индивидуальность»; а самоопределиться — это значит провести мысленный
предел между собой и не–собой, осознать себя как неделимый и от всего отделенный, равный себе самому «атом»
[19]. Поэтому «личность» может быть и коллективной (ср. учение о всечеловеческой душе Адама в еврейской мистике), между тем как «коллективная индивидуальность» — просто нонсенс. Во всем Ветхом Завете немного таких личностных книг, как пророчество Исайи; и все же мы непреложно знаем, что в ее создании участвовали различные лица, разделенные огромными промежутками времени (от 740 г. до V в. до н. э.), которые, однако, творили всецело «в духе» ее первого зачинателя, подчиняясь изначально заданному ритму мысли и слова
[20].
Итак, понятие индивидуального «авторства» неизвестно ближневосточным литературам; его функционально замещает понятие личного «авторитета». Авторитет личности Исайи — вот что скрепляет воедино и освещает труды «Девтероисайи» и «Тритоисайи». Чтимое имя Имхотепа, или Давида, или Соломона есть всякий раз метка, указывающая на особое значение сборника, которому это имя присвоено (здесь даже нельзя говорить о мистификации, о литературном подлоге, ибо понятие литературного подлога предполагает понятие литературного авторства). Личное имя — это символ, и употребление таких символов по–своему логично. За основанием иерусалимского культа Йахве стоит образ и авторитет Давида; поэтому связанные с этим культом песнопения, возникшие в различное время, созданы «во имя» Давида или «от» его имени
[21], а потому суть «Давидовы псалмы». За палестинской традицией, общей для всего Ближнего Востока культуры «мудрого» афоризма (ср. египетские книги поучений), стоит воспоминание о временах Соломона, при дворе которого впервые прижилась космополитическая утонченность; поэтому антология сентенций поставлена под знак имени Соломона, как «Книга Притчей Соломоновых»
[22]. Отсутствие понятия об авторстве, этого неотъемлемого атрибута литературной психологии, вполне логично, коль скоро литературное слово живет внутри жизненной (а не «духовной», не «культурной») ситуации общения. Так обстояло дело и в Египте, и в Вавилоне, и едва ли не более всего в Палестине.
Греки пошли по иному пути. Эти «изобретатели» изобрели совсем особый, опосредованный, объективированный тип коммуникации–че- рез–литературу, сознательно отделенной от жизненного общения. Со стихией разговора они поступили по–своему, переместив его
внутрь литературного произведения и создав драматические жанры и прозаический диалог: теперь уже не литература омывается волнами длящегося разговора Бога и людей, а разговор искусственно воссоздается, имитируется, стилизуется средствами литературы. Диалог как литературный жанр! Это греческое изобретение едва ли не наиболее отчетливо выявило коренную недиалогичность
[23] греческой литературы. Как известно, лучший цвет литературного диалога — это диалоги Платона, а их самый главный герой, самый непременный персонаж и самый яркий образ — Сократ. Но что такое платоновский Сократ? Это идеал радикально недиалогического человека, который не может быть внутренне окликнут, задет и сдвинут с места словом собеседника, который в пылу спора остается всецело непроницаемым, неуязвимым, недостижимым для всякого иного «я», а потому в состоянии манипулировать партнерами в беседе, двигать ими, как вещами, сам никем не движимый. Такой образ — гениальный литературный коррелят эллинских философских концепций самодовлеющей сущности: и неделимого «единого» элеатов, и демокритовского «атома», и платоновского «сущност- но–сущего» (которое, как известно из «Тимея», р. 28 А, никогда не рождается и никогда не преходит, но всегда есть), и того неподвижного Перводвигателя, о котором будет учить Аристотель. Это «индивидуальность» в полном смысле слова, некое «в себе» (греч. καθ' αύτό)
[24]. Но чтобы быть раскрытым для сущностного диалога, надо как раз
не довлеть себе, надо искать «источник жизни», «источник воды живой» (древнеевр. mqwr hjjm, mqwr mjm hjjm) вне себя, в другом, будь этот другой человек или Бог, «я» должно нуждаться в «ты». В Библии никто не стыдится нуждаться в другом; человек жаждет и алчет преданности другого человека (ср. уже цитированный псалом 37/38) и милости Бога, но и Йахве яростно, ревниво, почти страдальчески домогается человеческого признания. Греческая философия создает идеал «самодовле- ния» (αυτάρκεια
[25]). Греческий мудрец тем совершеннее, чем меньше он нуждается в ком бы то ни было другом
[26], а философское божество греческих доктрин, этот абсолютизированный прототип самого философа, уже безусловно довлеет себе и невозмутимо покоится в своей сферической
[27] замкнутости, ибо для него, как мы это знаем уже из Ксенофана, «не приличествует» куда-либо — но, значит, и к кому-либо! — порываться
[28]. Вот что стоит за образом Сократа, этого «недиалогического» руководителя диалогов.
Но ум, не подвластный чужому окликанию, высвободившийся из «диалогической ситуации», создавший дистанцию между собой и другим «я», получает невиданные доселе возможности для подглядывания и наблюдения за другими и за самим собой «со стороны», для объектной характеристики и классификации чужих «я». Те же диалоги Платона являют пример такой тонкости в воспроизведении речевых повадок каждого персонажа (то, что в терминах греческой риторической теории именуется этопеей), какую мы тщетно будем искать во всей сумме дошедших произведений ближневосточных литератур. Гораций так обобщит эту практику высокохудожественного «передразнивания» чужих интонаций:
Разница будет сильна: божество говорит ли, герой ли,
Старец преклонный ли, юноша ль пылкий еще и цветущий,
Властной матроны ли речь, иль кормилицы ревностной слово,
Странника речь ли, купца, иль владельца цветущего поля,
Колх, ассириец ли, Фив уроженец или Аргоса.
(Пер. А. В. Артюшкова)
Становление описываемого Горацием принципа речевой характеристики персонажа было возможно лишь на основе последовательно объектного, наблюдающе–отстраненного подхода к иному «я». Чтобы схватить и выделить предметную структуру чужого «голоса» (в бах- тинском смысле слова), необходимо сделать с целокупностью диалога то, что Демокрит сделал с целокупностью космоса — разъять ее в своей мысли на «атомы» монологов, сталкивающиеся в своем взаимодействии, но принципиально непроницаемые друг для друга; всякий иной подход к диалогу речевой характеристике противопоказан
[29]. Но что это такое — личность, понятая объективно, чужое «я», наблюдаемое и описываемое, как вещь? Греки ответили на этот вопрос одним словом:
«характер» (χαρακτήρ). Слово это по исходному смыслу означает либо вырезанную печать, либо вдавленный оттиск этой печати, стало быть, некий резко очерченный и неподвижно застывший пластичный облик, который легко без ошибки распознать среди всех других. Можно выстроить ряд из таких «характеров», наколов каждый на свою иголку, как жуков в энтомологической коллекции, и с цепкой наблюдательностью натуралиста отмечать различия: это и было сделано на рубеже IV и III вв. до н. э. Феофрастом, учеником великого систематизатора Аристотеля и автором трактата Ήθικοι χαρακτήρες («Нравственные характеры»). Примечательно, что Феофраст вышел из перипатетической школы, давшей столь мощный импульс естественным наукам, и сам весьма серьезно занимался ботаникой и минералогией. Его описания «льстеца», «пустослова», «болтуна», «бессовестного», «мелочного» и т. п., его тонко разработанная феноменология типов человеческого поведения — точный коррелят художественной практики античных драматургов, дошедшей до полной систематизированное™ в так называемой новой аттической комедии с ее набором амплуа. Общеизвестно, что античные драматические жанры детерминированы в своем подходе к характеристике человека употреблением маски и что сами слова, передающие в «классических» языках понятие личности (греч. πρόσωπον, лат. persona), означают театральную маску и театральную роль
[30]. Маска — это больше лицо, чем само лицо: такова глубинная предпосылка, которая не может быть отмыслена от всей античной философской и литературной концепции «характера». Необходимо уяснить себе: личность, данная как личина, лицо, понятое, как маска, — это отнюдь не торжество внешнего в противовес внутреннему или, тем паче, видимости в противовес истине (с греческой точки зрения, скорее, наоборот, ибо лицо — всего–навсего «становящееся», и постольку чуждо истине, зато маска — «сущее», как демокритовский атом и платоновский эйдос, и постольку причастна истине). Неподвижно–четкая, до конца выявленная и явленная маска — это смысловой предел непрерывно выявляющегося лица. Лицо живет, но маска пребывает. У лица есть своя история; маска — это чистая структура, очистившаяся от истории и через это достигшая полной самоопределенности, массивной предметной самотождественности. Маска дает облик лица овеществленно, объективно, статуарно, как полный набор и специфическое чередование выпуклостей и впадин в единожды напечатленном и навечно застывшем отпечатке печати (χαρακτήρ!).
Открытие «характера» было великим открытием мысли и воображения. Конечно, люди всегда знали, что они различаются между собой телом и нравом, что среди них есть храбрецы и трусы, буйные и тихие, трудолюбцы и празднолюбцы, праведники и злодеи: чтобы отчетливо уразуметь эти отличия, не было надобности в характерологии феофрас- товского стиля. Ближневосточные литературы дают здесь совсем не мало: какие проницательные наблюдения над психологией лжи мы находим в псалме 11/12, какой образ лености — в 26–й главе «Книги Притчей Соломоновых»! Но вот что знаменательно: это каждый раз психология лжи, а не лжеца, образ лености, а не «характер», не «маска» лентяя. Душевные свойства описываются в Библии как динамическая энергия, а не как предметный атрибут. К поэтике Ближнего Востока можно приложить характеристику Д. С. Лихачева, относящуюся к поэтике древнерусской литературы XIV-XV вв.: «Психологические состояния как бы «освобождены» от характера… Авторы описывают психические состояния, игнорируя психологию человека в целом, его характер. Чувства как бы живут вне людей, но зато пронизывают все их действия, смешиваются с чувствами автора…»
[31] Напротив, греки увидели телесно–душевный облик человека, его «эйдос» и «этос», его «характер» как систему черт и свойств, как целостную и закономерную предметную структуру, подлежащую наблюдению в последовательном ряде ситуаций. Каждая черта должна быть схвачена в соотнесенности со всеми другими, для каждой интонации, каждой повадки, каждого телодвижения и жеста должно быть отыскано место внутри этой структуры. Если в Библии душевное состояние дается как всена- полняющая стихия страдания или ликования, добра или зла, как один из общих модусов человеческой вселенной, внутри которой ощущают себя и автор, и читатель, то у греков оно гораздо более однозначно и жестко локализуется в замкнутом, пластично–выпуклом «индивидууме», как объект философского или художнического рассмотрения со стороны, а то и мысленного эксперимента. Описывая своего «брюзгу», Феофраст и в самом деле все время экспериментирует: а как поступит брюзга, если помыслить его в такой-то ситуации? а что он скажет, если поместить его в такие-то обстоятельства? Такая умственная игра предполагает, что каждый человек детерминирован в своих самопроявлениях своей «природой» (φύσις), своим «нравом» (ήθος): по словам Гераклита, нрав человека есть его «демон», иначе говоря — его судьба (Frgm. В 119 Diets; аналогичные сентенции у Эпихарма, Демокрита, Платона). То, что человек есть «брюзга» или «льстец», мыслится данным столь же непреложно, столь же наглядно и выразительно, но также и столь же вещно, столь же объективно, как и его рост или форма его носа. Внутренняя «маска» человека в принципе подобна его внешней «маске», и между обеими «масками» должно существовать структурное соответствие: отсюда интерес греков к науке физиогномике
[32], оказавшей, между прочим, огромное влияние на всю художественную практику античной литературы
[33]. Физиогномическая культура наблюдения дала греческой литературе возможности, которые были неведомы словесности Ближнего Востока. Дело не в том, что там недоставало выразительных
личных образов, взывающих к чувству читателя: они были, и еще какие! Но эти личные образы предложены нашему восприятию в принципе не как «маски», не как «характеры». Какой яркий образ — уже сам Йахве, этот «Бог–Ревнитель», «огнь поядающий», который с таким мучительным неистовством, с такой страшной настойчивостью требует от человека любви и верности! И все жв Иахве — все, что угодно, только не «характер»
[34]; самая его сущность заключена в том, что он есть Бог «незримый», с Которым можно вступать в разговор, но Которого никоим образом нельзя наблюдать, разглядывать и воссоздавать в пластическом образе
[35]. Ут–Напиштим и Авраам, Гильгамеш и Гидеон, Ахи- кар и Самуил, Синухе и Мардохай — живые образы, но не «характеры»; а если мы вычитываем из библейского повествования характерологические сведения, скажем, об избалованном и самоуверенном, но одновременно чистом и мудром красавце Иосифе, о сумрачном Сауле, о ловком и вдохновенном, удачливом и многострадальном Давиде, о праведном спорщике Иове, в последней глубине мучений все же упоенном возможностью наконец-то поговорить со своим Богом начистоту, — мы, собственно говоря, накладываем изготовленную греками и усовершенствованную нами сетку координат на такую смысловую полноту, которая в
самой себе этих координат не несет. Не таков опыт античной литературы, обобщенный Горацием в следующих профессиональных писательских рекомендациях:
…Ахилла ли славного вывести хочешь —
Гневен и бодр, неустанен, к мольбам неподатлив, свои пусть
Знает законы, всего пусть оружием он достигает,
Дикой, упрямой Медею представь, Иксиона коварным,
Ио блуждающей, жалкою Ино, печальным Ореста…
(Пер. А. В. Артюшкова)
Каждый облик четко очерчен в одном слове или в нескольких словах. Черты Ино сведены плачем, ее слова и жесты «слезны» (flebilis), Орест являет зрелище более мужественной скорби (tristis), в чертах Медеи застыла неукрощенная ярость (ferox и invicta), в чертах Иксиона — готовность к вероломству (perfidus)
[36]; не кажется ли нам, что перед нами набор масок, разложенных в ряд? Гораций сжат и односложен, но каждый из перечисленных эпитетов дает твердое средоточие, вокруг которого может кристаллизироваться структура «этоса» и «эйдоса».
Вся внутренняя и внешняя осанка и повадка Медеи должны быть выведены из ее дикости и неукротимости,
весь облик Ореста–матереубийцы должен быть окрашен в тона печали. И ветхозаветные герои имеют свои устойчивые и многозначительные эпитеты, которые, однако, начисто лишены характерологического содержания и дают не облик героя, а его место в бытии, его сан в мировой иерархии. Так, если Моисей именуется «человеком Божьим», то ведь из этого сакрального титула можно узнать лишь о служении Моисея как вестника Бога среди людей, но отнюдь не о нем самом, как носителе тех или иных телесных или душевных черт. Такой эпитет ничего не «рисует», в нем нет «пластичности»
[37].
Из вышесказанного вытекают два следствия, определяющие специфику греческой «литературы» перед лицом ближневосточной «словесности». Следствия эти уже намечены в предыдущем изложении, и нам остается только обстоятельнее их выяснить.
Первое следствие — развитие авторского самосознания. Подходя к интеллектуально наблюдаемым и художественно воссоздаваемым личностям, как к атомоподобным «индивидуумам» и постольку пластично–замкнутым «характерам», античный литератор необходимо должен был усмотреть такой же «индивидуум» и «характер» в своей собственной художнической личности; строя речевую характеристику персонажа, он должен был и свою авторскую речь сознательно оценить как характерную. Понятию индивидуального характера строго соответствует понятие индивидуального стиля; по–гречески оба эти понятия покрываются термином χαρακτήρ: χαρακτήρ τοΰ ανθρώπου («характер человека»), χαρακτήρ τής:λέξεως («характер стиля»
[38]). «Le style с'est I'homme» — «стиль — это человек»; этот афоризм Бюффона уже был в более общей форме высказан Менандром
[39]. Слово выражает индивидуальность автора и потому само индивидуально, оно запечатано авторской печатью (χαρακτήρ); так Дионисий Галикарнасский говорит об особом «напечат- лении», выдающем руку Демосфена, о «примете» или «черте» его манеры — ό Δημοσθένους χαρακτήρ
[40]. Поэтому греческая литература утрачивает ту атмосферу внутренней анонимности, внутри которой работали «писцы», «мудрецы» и «пророки» Ближнего Востока, — даже в том случае, если их имена оставались в памяти потомков
[41]. Само собой разумеется, что представления греков и римлян о правах и обязанностях автора, о новаторстве и каноне, об оригинальности и плагиате весьма существенно отличались от наших
[42]; важно, однако, что у них вообще были такие представления. Уже Феогнид в конце VI в. до н. э. озабочен тем, чтобы его авторское слово не смешивалось ни с каким иным, и надеется, что имя поучаемого мальчика Кирна послужит «печатью» (σφρηγίς), надежно удостоверяющей принадлежность шедевра:
«Кирн» пусть будет печатью на слове моем и сужденьи,
Так не посмеет никто мудрость похитить мою.
Так и никто не подменит речей моих золота — медью,
Всякий узнает тогда: «Вот Феогнидова речь,
Речь Феогнида–Мегарца… »
[43](Пер. А. Пиотровского)
Правда, мы знаем, что упования Феогнида не сбылись, и в сборнике нравоучительных элегий, носящем его имя, подлинное безнадежно перемешано с подложным; равным образом, его современник и товарищ по жанру Фокилид Милетский, начинавший свои элегические и гексаметрические сентенции неустанным напоминанием: καί τόδε Φωκυλί- δου («и это Фокилидово…»), не уберегся от того, что его имя со временем использовали для мистификации, сочинив от его имени назидательную поэму в иудаизирующем духе
[44]. Но вот что характерно: все это происходило именно в той сфере античной литературы, которая была для нее общей с ближневосточной словесностью мудрецов–хаха- мов — в сфере дидактической афористики (недаром те же элегии Феог- нида на закате античности сопоставляли с «Книгой Премудрости Соломоновой»). Напротив, в жанрах, по–настоящему специфичных для литературы греческого типа, подобная размытость границ авторства немыслима. Нельзя же, в самом деле, вообразить себе Девтеро–Софокла, который органично и творчески переработал и дополнил бы «Эдипа- царя», или Девтеро–Платона, который проделал бы то же самое с «Пиром». Как известно, Ксенофонт тематически «продолжил» исторический труд Фукидида, начав повествование с самого 411 г. до н. э., на котором кончил его предшественник, но он ни в малейшей мере не мог и не хотел войти внутрь пластически замкнутой формы фукидидовско- го изложения, чтобы работать внутри нее. Пластически замкнутой формы — в этом все дело. Ибо осознание прав и обязанностей личного авторства стоит в отношениях взаимозависимости к эстетическому императиву художественного «целого» (причем императив этот значим отнюдь не для всех времен и народов!); замкнутое и вычленившееся из жизненного потока произведение есть коррелят замкнутой и вычле- нившейся авторской индивидуальности. То и другое имеется в наличии далеко не всегда. До тех пор пока литературный текст живет всецело внутри общежизненной ситуации, предстающей по отношению к нему как целое, сам он отнюдь не обязан являть собою «целое» — скорее, наоборот: такая гордыня ему противопоказана. Стоит только посмотреть, как начинаются отдельные книги Ветхого Завета! Мало того, что они лишены формально вычленяющего «вступления» (греч. προοίμιον), — их первую фразу зачастую открывает союз w — («и», в передаче Септуагинты και), лишний раз подчеркивая, что подлинное начало текста лежит за его пределами. «Вот имена сынов Израилевых» («Книга Исхода», 1, 1); «И призвал Моисея, и возговорил Йахве…» («Книга Левит», 1, 1); «И воззвал Йахве к Моисею…», («Книга Числ» 1, 1); «Вот слова Йахве…» («Второзаконие», 1, 1); «И случилось после кончины Моисея…» («Книга Иисуса Навина», 1, 1); «И случилось после кончины Иисуса…» («Книга Судей», 1, 1); «И было в те дни, когда судьи судили…» («Книга Руфь», 1, 1); «И было во дни Артаксеркса…» («Книга Есфирь», 1, 1); «И было слово Йахве к Ионе…» («Книга пророка Ионы», 1, 1), — такой «зачин» (нулевой зачин, знак полного отсутствия всякого зачина!) каждый раз квалифицирует текст как еще одно слово в длящемся разговоре, а форму его как открытую. В принципе несущественно, какое слово и какая фраза стоят первыми
[45]. Любопытно, что эти случайные слова, открывающие случайную первую фразу, служили в библейском обиходе для обозначения всей книги в целом: так, первая книга Торы, получившая в греческом переводе столь многозначительное и красивое имя Γένεσις
[46] («Книга Бытия», буквально «Книга Рождения»
[47]), по–еврейски называется просто «В начале» (bere'&t), а вторая книга Торы, в соответствии со своим содержанием именуемая по–гречески «Εξοδος («Книга Исхода»), носит в оригинале ничего не значащее наименование «И вот имена» (или «Имена» — &emot). Разве так приступает к своему делу античный повествователь? Поскольку мы только что цитировали ветхозаветные сочинения по большей части хроникального характера, приведем для сравнения зачины античных исторических трудов:
«Геродот Галикарнассец написал эти разыскания, дабы дела людей не позабылись от времени и дабы не потеряли своей славы великие и удивительные подвиги, совершенные как эллинами, так и варварами, в особенности же то, почему они начали воевать между собой…»
«Фукидид Афинянин написал историю войны между пелопоннес- цами и афинянами, как они вели ее друг против друга; приступил же он к труду своему тотчас же после начала войны в той уверенности, что война эта будет войною важною и самою достопримечательною из всех предшествовавших…»
Как по достоинству оценить, какими словами охарактеризовать всю смысловую весомость этого «жеста» изготовки к долгому рассказу — жеста, в котором рассказчик принимает на себя индивидуальную ответственность за все, что имеет сказать, и постольку обязан обосновать особыми доводами важность своей темы и правомерность своего к ней подхода? Мы сказали: изготовки к
долгому рассказу. Ибо внутренний ритм вступления не безразличен к объему открываемого вступлением текста, он уже предполагает этот объем заранее данным, как замкнутую пластическую величину с четкими контурами, не могущую сжаться или растечься в нарушение своей меры (совершенно так же, как высота пьедестала предполагает строго определенные размеры статуи). Как известно, греки в своей литературной теории
[48] и литературной практике
[49] сумели с полной ясностью осознать эстетическое воздействие фактора объема, и это живое ощущение наперед заданной меры живет уже в первых словах текста, если они обдуманы, рассчитаны, тщательно подобраны, как у греков. Зачин, четко проводя границу вещи в ее начале, постулирует столь же четкую границу в конце. Античное литературное произведение в отличие от ближневосточного в принципе не может ни быть произвольно продолжено, ни оборваться на подразумеваемом «и так далее в том же роде…» (разве не так обрываются книги пророков?). «Из песни слова не выбросишь» — это знали все народы; но только греки стали слагать такие песни, к которым ни слова нельзя
добавить. Мы снова возвращаемся к феномену замкнутости «Эдипа–царя» и «Пира», к которым, как было сказано, никакие Девтеро–Софокл и Девтеро–Платон не могли бы присовокупить сколько-нибудь органично срастающихся дополнений. Итак, лишь позиция личного авторства делает возможным словесный «жест» пройми она, который, в свою очередь, предполагает пластическую замкнутость текста, между тем как последняя по–настоящему обеспечивает права авторства, сообщая им объективно–предметный характер, — и все в целом непреложно вытекает из античной концепции атомарного индивидуума — «характера». Ближний Восток, не знавший этой концепции, вполне закономерно не знал и ее литературных импликаций.
То же самое относится и ко второму следствию специфически эллинского способа подходить к бытию. Если человек есть «индивидуум», создавший дистанцию между собой и миром и через это получивший способность видеть вещи, людей и самого себя «со стороны», если благороднейшее занятие человека — отрешенное, внеситуативное и бескорыстное созерцание, рассматривание, наблюдение всего, что предлежит его физическому и духовному взору
[50], в таком случае, очевидно, существеннейшей частью словесного искусства необходимо признать пластически–объективирующее
описание, «экфрасис». Из трех основных категорий, под которые так или иначе подпадает все, что пишется, — поучение, повествование, описание, — только описание специфично для «художественной» литературы как таковой, между тем как поучение и повествование в такой же мере присущи «нехудожественной» словесности. Поучение устремлено к утилитарному воздействию, повествование спешит к исходу рассказываемых событий, и только описание довлеет себе и покоится в себе; оно «бескорыстно». Поэтому именно оно оказывается конститутивным критерием для литературной культуры греческого типа; недаром и в наше время профаны, не посвященные в таинства этой культуры (например, дети и подростки), распознаются по одному безошибочному признаку — они следят только за фабулой (т. е. за повествованием) и
пропускают описания. До этих профанов еще не успела дойти та переоценка ценностей, которую осуществили греки, выдвинув на передний план описание. Это принципиальное изменение в самом составе словесного искусства поразительным образом совпадает для нас с начальной порой греческой культуры. Уже Гомер проявляет невероятную щедрость на описания, никак не провоцируемые ходом фабулы. Положим, ему нужно сказать, что костров на поле было столько, сколько звезд на небе, — сравнение, которое было бы обычным в эпосе любого народа; но вот что он из этого делает:
…Словно как на небе звезды вкруг месяца ясного сонмом
Яркие блескомявляются, ежели воздух безветрен;
Все кругом открывается — холмы, высокие скалы,
Долы; небесный эфир разверзается весь беспредельный;
Видны все звезды; и пастырь, дивуясь, душой веселится…
(«Илиада», VIII, 555—559; пер. Н. И. Гнедича)
Великолепная картинка звездного неба с ликованием пастуха в придачу нисколько не нужна для рассказа о троянском войске. О Гомере можно сказать то, что О. Мандельштам говорил о Данте: «Сила дан- товского сравнения — как это ни странно — прямо пропорциональна возможности без него обойтись. Оно никогда не диктуется нищенской логической необходимостью»
[51]. Это свойство поэтики Гомера бесполезно объяснять законами эпического стиля хотя бы потому, что ни в поэме о Гильгамеше, ни в «Махабхарате», ни в нордическом эпосе, ни в «Песни о Роланде», ни в «Песни о Нибелунгах» нет ничего подобного. «Эпическое раздолье» Гомера на деле не эпично, т. е. не повествовательно, ибо знаменует как раз преодоление описания через повествование; рассказ останавливается, рассказчик и читатель на время выходят из его потока, чтобы в незаинтересованном созерцании статичной картины пережить свою внеситуативность. Дело не в том, что гомеровские сравнения «развернутые» (что довольно обычно для поэтики фольклорного типа), а в том, что они мгновенно принуждают к позиции внутренней отстраненности и созерцательности. Положим, речь идет о бое тро- ян и ахеян; мы можем быть взволнованы возможным исходом событий, с нетерпением ожидать, что будет дальше, но Гомер изымает нас из ситуации боя, и мы неторопливо рассматриваем предельно спокойную картину мирных трудов бедной женщины:
…Держались
Ровно они, как весы у жены, рукодельницы честной,
Если, держа коромысло и чаши заботно равняя,
Весит волну, чтоб детям промыслить хоть малую плату
Так равновесно стояла и брань, и сражение воинств…
(«Илиада», XII, 432—436; пер. Н. И. Гнедича)
Чистое описание, словесная пластика, экфрасис в духе позднейших риторов справляют у Гомера доподлинный праздник в XVIII песне «Илиады», где изображается щит Ахилла. С Гомера для нас начинается греческая литература классической древности; кончается же она где-то во времена Юстиниана, ознам новавшие собой решительный перелом от античности к средневековью. В эуи времена жил Юлиан Египетский; вот как этот эпиграмматист описывает Филоктета, состязаясь с живописью Паррасия в наглядности образа:
…Волосы вздыбились дико; сухие повсюду свисают
Космы, и стали они разных от грязи цветов.
Кожа его груба, и с виду как будто в морщинах;
Руку поранить легко, если коснешься ее.
Слезы, застывши, стоят на веках его воспаленных,
Знаком того, что без сна мук он терзанья несет.
(Пер. С. П. Кондратьева)
Стоит только вдуматься: страдание дано здесь не как жизненная ситуация страдания, составляющая, скажем, тему «Книги Иова» или многих псалмов, не как стихия боли, захватывающая и читателя, но как зрелище, как объектный предмет наблюдения, созерцаемые со стороны «характер» и «маска» страдальца. С точки зрения библейской поэтики такой подход приходится оценить, пожалуй, как недозволенное «баловство», как греховное злоупотребление инструментом слова. Для греческой литературы способность состязаться с пластическими искусствами
[52] («скульптурничать», как выразился бы О. Мандельштам) есть одна из драгоценнейших ее привилегий.
Как обстоит дело с описаниями в Библии? Легче всего было бы указать на почти полное отсутствие в ней таких «экфрасисов», введение которых не было бы обусловлено чисто утилитарными нуждами повествования или культового предписания (каковы описания Ковчега Завета, Соломонова храма и т. п.). Действительно, те несколько слов, которые «I Книга Царств» посвящает внешности Давида («…и был он рыжеволос, красив и приятен на вид», см. гл. 16, ст. 12) — единственное подобие литературного портрета, которое мы находим во всей ветхозаветной литературе. Когда евангелисты не позволяют себе сказать ни единого слова о внешнем облике Иисуса, они пребывают всецело внутри библейской традиции и вступают в самый резкий конфликт с канонами греко–римского биографизма
[53]. Но дело не только в этом. Как раз тогда, когда ветхозаветная поэзия дает действительно яркое описание, оно в своих глубинных эстетических основах оказывается полной противоположностью античного «зкфрасиса». Вспомним хотя бы прославленные места из «Песни песней» (характерные, кстати сказать, для всей ближневосточной эротики в целом
[54]): «Шея твоя, как башня Давидова, воздвигнутая для оружий; тысяча щитов висит на ней — все щиты ратников; два сосца твои, как двойни юной серны, что пасутся между лилиями… Кудри его — виноградные ветви, черны как ворон; глаза его, как голуби у потоков вод… Пуп твой — круглая чаша, где не иссякает благоуханное вино; живот твой — ворох пшеницы, окруженный лилиями <…> Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, — и сосцы твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблок…» (гл. 4, ст. 4—5; гл. 5, ст. 11 — 12; гл. 7, ст. 3 и 9). В этом мире стан красавицы не просто «подобен» пальме, но одновременно есть ствол пальмы, по которому можно лезть вверх, а сосцы ее груди неразличимо перепутались с виноградными гроздьями. Пусть кто хочет попробует наглядно представить себе каждого из славословимых партнеров сакрального брака, вычитать из стихов «Песни песней» пластическую характеристику, наглядную «картинку»
[55]; ему придется испытать полную безнадежность этого предприятия. Слова древнееврейского поэта дают не замкнутую пластику, а разомкнутую динамику, не форму, а порыв, не расчлененность, а слиянность, не изображение, а выражение, не четкую картину, а проникновенную интонацию. Иначе говоря, это радикальное отрицание греческой поэтики экфрасиса
[56]. Для сравнения вспомним, что и Гомер однажды работал с этими же самыми извечно средиземноморскими мотивами «священного брака» (Ιερός Γάμος), животворящего мир трав и цветов; но что он сделал из этих мотивов!
…Рек, и в объятия сильные Зевс заключает супругу.
Быстро под ними земля возрастила цветущие травы,
Лотос росистый, сафран и цветы гиакинфы густые,
Гибкие, кои богов от земли высоко поднимали.
Там опочили они, и одел почивающих облак
Пышный, златой, из которого светлая капала влага…
(«Илиада», XIV, 346—351; пер. Н. И. Гнедича)
Здесь все дано «ясно», «пластично» и «образно»: лотос и гиакинфы уже не слиты с ликами и плотью божественной четы, они расцветают не на главе Зевса и не на груди Геры, но вокруг их ложа, оказываясь всего–навсего аксессуарами и атрибутами, обстановочной декорацией действия. Чтобы представить мистерию соития богов с полной ясностью и четкостью, пришлось отделить его от той самой вселенской жизни, которую оно должно символизировать. Именно поэтому рисуемая Гомером картина отмечена тонкой фривольностью, которая абсолютно чужда столь, казалось бы, необузданным и страстным излияниям ветхозаветного поэта. «Песнь песней» не то чтобы «серьезна» и «возвышенна» (это греки придумали делить вещи и слова на «высокие» и «низменные»!), но ее топика не отделена от всего, что не есть она, не осознана как особая «эротическая» или какая-либо иная частная топика, а потому не подлежит превращению в безделушку, в тонкую скабрезность. Не случайно на «Песнь песней» тысячелетиями писали мистические толкования: по самой природе своего поэтического слова она открыта для любых интерпретаций предельно конкретного или предельно вселенского, предельно плотского или предельно сакрального характера, ибо ее образность разомкнута и дает жизнь как нечто принципиально нечленимое. Здесь даже нельзя говорить о «всеединстве», ибо всеединство — понятие философское и, следовательно, греческое (ёу και πάν).
А каковы описания мирового целого в библейских псалмах! Холмы там непременно «скачут, как агнцы» (пс. 113/114, ст. 4 и 6), горы «тают, как воск» (пс. 96/97, ст. 5), море «убегает» (пс. 113/114, ст. 3 и 5), Иордан «течет вспять» (там же), небеса «приклоняются» к земле (пс. 143/144, ст. 5), и над всем господствуют образы мрака и пламени (пс. 17/18, ст. 12—13; ср. описание видения в 1–й главе «Книги пророка Иезекииля»). Мир дан в состоянии катастрофы и чуда, выводящих вещи из тождества себе; вместо ясного света, выявляющего очертания, господствует тьма, скрывающая очертания, и огонь, в котором каждая вещь должна сгореть или расплавиться. Свет, в котором все может быть познано, — сквозной символ греческой культуры; огонь, в котором все может обновиться, — сквозной символ библейской культуры
[57].
Различное понимание универсума — вот что стоит за гегемонией повествования в библейской словесности и гегемонией описания в греческой литературе. Греческий мир — это «космос», по изначальному смыслу слова такой «наряд», который есть «ряд» и «порядок»
[58]; иначе говоря, законосообразная и симметричная пространственная структура. Древнееврейский мир — это «олам», по изначальному смыслу слова «век»
[59], иначе говоря, поток времени, несущий в себе все вещи: мир как история. Внутри «космоса» даже время дано в модусе пространст- венности: в сеймом деле, учение о вечном возврате, явно или латентно присутствующее во всех греческих концепциях бытия, как мифологических, так и философских, отнимает у времени свойство необратимости и дает ему взамен мыслимое лишь в пространстве свойство симметрии. Внутри «олама» даже пространство дано в модусе временного движения — как «вместилище» необратимых событий. Бог Зевс — это «олимпиец», т. е. существо, характеризующееся своим местом в мировом пространстве. Бог Йахве — это «Сотворивший небо и землю», т. е. господин неотменяемого мгновения, с которого началась история, и через это — господин истории, господин времени. Структуру можно созерцать, в истории приходится участвовать. Поэтому мир как «кос- мое» оказывается адекватно схваченным через незаинтересованное статичное описание, а мир как «олам», напротив — через направленное во время повествование, соотнесенное с концом, с исходом, с результатом, подгоняемое вопросом: «а что дальше?». Высшая мудрость античного человека состоит в том, чтобы доверять не времени, а пространству, не будущему, а настоящему, и его олимпийцы не могут лучше обласкать своего любимца, как подарив ему сегодняшний день в обмен на завтрашний:
…Зевс, олимпийский блистатель, узрев, как от битв удаленный
Гектор доспехом Пелида, подобного богу, облекся,
Мудрой главой покивал и в душе своей проглаголал:
…Дам я тебе одоление крепкое в брани
Мздою того, что из рук у тебя, возвратившегось с боя,
Славных оружий Пелида твоя Андромаха не примет!..
(«Илиада», XVII, 198—200 и 206—208; пер. Н. И. Гнедича)
Так же точно поступают гомеровские боги, удовлетворяя капризы Ахилла именно потому, что тот все равно обречен на краткую жизнь и лишен завтрашнего дня; но еще Гораций будет поучать: «Лови день, менее всего доверяя следующему!» (Carm. 1, XI, 8). Напротив, сквозной мотив Библии — обетование, на которое не только позволительно, но безусловно необходимо без колебания променять наличные блага. Новозаветный автор «Послания к евреям», прекрасно знавший'и понимавший свою Тору, так суммирует судьбу ветхозаветных патриархов: «Верою Авраам повиновался повелению идти в страну, которую имел получить в наследие, — и он пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования… Все они умерли в вере, не получив обещанного, а только издали видели его, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле… Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава…» (гл. XI, ст. 8—9; 13; 20). Будущее — вот во что верят герои Библии. Многократно повторяемые в повествовании Пятикнижия благословения и обещания, которые вновь и вновь дает Йахве Аврааму и его потомкам, создают ощущение неуклонно возрастающей суммы божественных гарантий грядущего счастья.
В кризисную эпоху пророков этот эсхатологический оптимизм, умозаключающий от бедственности настоящего к благополучию будущего («Ибо, Я пролью воды на жаждущее, и потоки на иссохшее», — обещает Йахве в «Книге Исайи», гл. 44, ст. 3), приобретает вполне сложившийся облик, с которым ему предстоит перейти в христианство. Еще раз сравним греческого Отца Богов и библейского Отца Израилева. Зевс — господин настоящего: прошлое принадлежит Урану и Крону, будущее — неизвестному сопернику, который в силу определения рока отнимет у Зевса власть. Йахве — господин прошедшего и настоящего, но полностью его власть осуществится и его слава воссияет лишь в будущем, с наступлением «дня Йахве», о котором говорят пророки.
Итак, греческий «космос» покоится в пространстве, выявляя присущую ему меру; библейский «олам» движется во времени, устремляясь к переходящему его пределы смыслу (так развязка рассказа переходит пределы рассказа, или мораль притчи переходит пределы притчи). Вот почему поэтика Библии — это поэтика притчи, исключающая пластичность: природа и вещи должны упоминаться лишь по ходу действия и по связи со смыслом действия, никогда не становясь объектами самоцельного описания, выражающего незаинтересованную радость глаз; люди же предстают не как объекты художнического наблюдения, но как субъекты выбора и действия.
Таковы в схематизирующем приближении некоторые наиболее принципиальные различия между античным и ближневосточным способами относиться к миру и к слову. Нельзя не видеть, что наиболее поучителен и содержателен контраст, возникающий при сопоставлении греческой поэтики специально с библейской; не случайно именно Библии суждено было представлять на протяжении тысячелетий все забытое наследие ближневосточного древнего мира и в вечном соперничестве с античной литературой давать все новые импульсы словесному искусству молодых народов. В самом деле, литература, являющая собой лишь род декоративного художества внутри культуры, основной смысл которой выражается внелитературными средствами, может иметь в своем активе сколь угодно высокие достижения; при любом серьезном повороте в судьбах народа она оказывается забытой. Так случилось с египетской литературой. Дело совсем не в том, что в Древнем Египте не писалось прекрасных и глубокомысленных сочинений — таковые были, и в немалом числе; но содержание всенародной жизни выражало себя не в них. Египтяне из века в век, из тысячелетия в тысячелетие возводили здание государства и здания храмов, распахивали пашни и вырезали из базальта статуи, выражая в молчаливой весомости своих трудов суровый пафос безличного порядка; и лишь «между прочим» книжные люди в часы досуга записывали истории и сентенции, сказки и песни. Все это можно было забыть, а поэтому все это забыли. Но когда литература вбирает в себя основной смысл всей культуры в целом, смысл, который не может быть реализован помимо литературы, тогда вступает в действие закон, известный из романа М. Булгакова: «рукописи не горят». Греки, подчиняясь политической власти Рима, а затем духовной власти христианства, не могли позабыть, что у них был Гомер: иудеи в перипетиях своей истории не могли позабыть, что у них был Исайя — ибо для того и другого народа именно слово воплощало те предельные духовные ценности, ради которых стоит жить и умереть, указывало «место человека во вселенной». Конечно, греческий пиетет перед литературной классикой и иудейский пиетет перед Священным Писанием — вещи различные, почти противоположные; но и там, и здесь в центр культуры и жизни ставится то, что выговорено в слове. Вот почему ветхозаветная литература в большей степени заслуживает сравнения с греческой, чем какая бы то ни было иная литература древнего Ближнего Востока.
Словесное искусство Библии и изящная литература Греции успели пережить эпохи высшего расцвета — времена Исайи и Иезекииля, Гомера и Софокла, — так и не успев встретиться. К тому моменту, когда иудеям наконец-то довелось услышать об Еврипиде и Платоне, а эллинам — о Законе и Пророках, оба творческих принципа уже достигли предельной степени четкости и разработанности. Противоположности выяснились; теперь могла начаться драма их взаимодействия.
2. ВСТРЕЧА
И лежащая в Палестине Сирия не чужда кало- кагатии, немалая доля которой досталась многолюднейшему роду иудеев.
Филон, «О том, что каждый честный свободен», гл. 75
Мы, эллины, и впрямь присваиваем то, что заимствуем у варваров, но при этом доводим до окончательного совершенства.
Платон, «Послезаконие», 987 Ε
Возможности для самой широкой встречи между греческой и ближневосточной культурами были открыты благодаря завоеваниям Александра Великого.
Основатель новой эпохи, «Искандер Зул–Карайн», как его некогда назовут на Востоке, сам стал на тысячелетия излюбленным литературным героем для греческих и негреческих писателей. О нем писали историки и поэты, философы и риторы, но едва ли не самый внушительный и весомый словесный памятник сыну Филиппа, явившему в себе весь блеск и всю тщету земной славы, мы встречаем в древнееврейской литературе эпохи эллинизма, а именно в начальных строках «I Книги Маккавеев»:
«И было, когда сразил Александр, сын Филиппов, Македонянин, вышедший из земли Хеттиим, Дария, царя персов и мидян, и воцарился вместо него первый над Элладой;
и дал много сражений, и овладел многими крепостями, и поразил царей земли;
и прошел он до краев земли, и взял добычу от многих народов, и притихла земля пред лицом его, и вознесся он, и возгордилось сердце его;
и собрал он весьма великую силу, и стал править над землями, и над племенами, и над государями, и платили они ему подать.
И после этого пал он на лицо свое, и постиг, что умирает, и призвал верных слуг своих, воспитанных вместе с ним от юности, и разделил между ними царство свое, покуда был еще жив; и процарствовал Александр двенадцать лет, и умер». Этот лаконично–торжественный «некролог» был написан около 135 г. до н. э.
[60] неизвестньщ иудейским автором, которого волновали отнюдь не дружеские чувства к западным завоевателям. Но что делать! Александр, сознательно стилизовавший себя в духе архаического богатырства Ахилла и архаического шаманства Диониса
[61], инсценировавший во вкусе наилучших мифологических образцов сакральный брак Эллады и Персиды
[62], этот выходец из Македонии, полуварварской земли, где Еврипид написал свою песнь ностальгии эллина по варварству — трагедию «Вакханки»
[63], этот звездный царь, жезлом железным пасший замиренную вселенную, неотразимо импонировал мессианскому воображению народов Ближнего Востока, и евреи не составляли исключения
[64]. Они увидели его примерно такими глазами, какими Девтероисайя в свое время видел Кира.
Греки еще со времен Платона тосковали по восточной мудрости, по ее «учению, поседелому от времени»
[65]; теперь они могли повстречаться с ней лицом к лицу. Их ожидали неожиданности. Так, если о мудрости Египта и Вавилонии они знали давно, то само существование таинственной Торы иудеев было принято к сведению греческими философами и учеными только теперь. Во времена греко–персидских войн жители Палестины, пришедшие в рядах разноплеменной рати Ксеркса, запомнились чисто этнографически.
…Вслед за ними пришел народ, непривычный для взгляда,
Звук финикийских словес от уст своих испускавший.
Ратники эти окрест пространного озера жили,
На Солимских высотах, и волосы стригли, а сверху
Кожу с конской главы надевали, высушив дымом…
Так писал в конце V в. до н. э. эпический поэт Хэрил Самосский
[66]. Его не могло интересовать, что за мысли жили в этих головах, укрытых шлемами из конской кожи; сама семитическая («финикийская») речь дана здесь как варварский «лай» пришельцев на чужой земле. Напротив, в начале III в. до н. э. иудеи становятся интересны для греков как носители некоего загадочного учения; они постоянно ассоциируются в эту эпоху с индийскими брахманами, только что вошедшими в моду благодаря походам Александра. Гордые своей духовностью эллины с живейшим интересом узнают об иной, экзотической духовности, причем для начала им все кажутся похожими: и «гимнософисты» Индии, и хахамы Палестины. Мегасфен, дипломат на службе Селевка Никатора, побывавший в Индии между 302 и 291 гг. до н. э., замечает в назидание своим соотечественникам: «Все суждения, высказанные о природе вещей древними, были заявлены также теми, кто философствовал вне Эллады, притом отчасти в Индии брахманами, отчасти же в Сирии так называемыми иудеями»
[67]. Возникает мысль о родстве между индийскими и еврейскими адептами любомудрия, прививающаяся у авторов перипатетической школы. «Иудеи суть отпрыски индийских философов, — утверждает Клеарх из Сол, ученик Аристотеля, — по слухам, философы именуются у индийцев Каланами, у сирийцев же иудеями»
[68]. Для другого перипатетика, Феофраста, иудеи являют собой в целом «племя любомудров»
[69], причем любознательный и вдумчивый автор трактата «О законах» уже знает кое–какие конкретные черты ветхозаветной религиозности, хотя и стилизует их в эллинско–ин- теллектуалистическом духе. Или, может быть, эта стилизация должна быть поставлена в счет иудейским информаторам Феофраста? Мы не знаем наверное, были ли уже в эту эпоху евреи, способные преподносить греку традиции своего народа на греческом языке, сообразуясь с греческими вкусами; но свидетельство того же Клеарха, согласно которому уже Аристотель (в 40–е годы IV в.?) был будто бы знаком с «иудеем из Койле–Сирии», являвшим собой «эллинского человека не только по языку, но и по душе», хотя, по–видимому, верным религии отцов, заставляет задуматься
[70]. Нет никакой возможности положительно
доказать, что рассказ Клеарха — анахронизм
[71]: иудей, о котором он говорил, жил в Малой Азии, а там еще до походов Александра сложилась культурная ситуация, предвосхищавшая эллинизм.
Философски мыслящих эллинов особенно поражало и привлекало в эту эпоху иудейское единобожие. Они только что сумели напряжением философского разума преодолеть мифологический политеизм; и вот они узнают, что существует безвестный народ, который на совершенно иных путях духовной жизни сделал то же самое, и притом, если верить его преданиям, в незапамятные времена! Иудейская пропаганда получает шансы представить изумленному греку веру Моисея как «чистую» философскую религию, или, выражаясь по–кантовски, «религию в пределах одного только разума» (сравнение не означает приравнивания — «разум» Канта и «нус» Аристотеля суть величины несовпадающие). Конечно, это было философское qui pro quo. Библия преодолевала натуралистический магизм отнюдь не для того, чтобы расчистить место отвлеченному религиозному эсперанто платоников, перипатетиков и стоиков, «Бог Авраама, Исаака и Иакова» не походил на «бога философов и ученых». Но недоразумению, выявившемуся во времена Клеарха и Феофраста, предстояла долгая жизнь. Оно будет значимо не только для александрийского еврея Аристобула (II в. до н. э.), верящего в тождество учения Торы и платоновско–аристотелевской доктрины, и не только для грека Нумения Апамейского (II в. н. э.) с его знамениты вопросом: «Что есть Платон, как не Моисей, говорящий по–аттически?»
[72]; в совершенно иной умственной ситуации Нового времени аналогичное переистолкование иудаизма предпримут такие мыслители, как Моисей Мендельсон и Герман Коген. Восторги перед «философским» монотеизмом семитических народов породило оракул, заведомо сфабрикованный в образованных кругах, но отнюдь не непременно иудеями' и во всяком случае благоговейно принятый язычниками–эллинами, как то можно усмотреть из цитаты у неоплатоника Порфирия:
Мудрости дар улучили халдеи одни и евреи,
Те, что праведно чтут самосущего Бога владыкой
[73].
Итак, отношение греков к восточной мудрости было в первые десятилетия эллинизма до крайности заинтересованным и уважительным. Такова одна сторона дела; другая определяется единственной в своем роде языковой замкнутостью греческой культуры. Перед лицом Востока грек мог любопытствовать, домогаться, строить глубокомысленней- шие домыслы и предположения, переживать восторги, но практическое изучение одного из восточных языков представлялось ему в подавляющем большинстве случаев делом немыслимым. Тот же самый Кле- арх, который с таким энтузиазмом повествует о нравственной дисциплине (καρτερία) своего «иудея из Койле–Сирии», в трогательных выражениях жалуется, что название города иудеев до крайности трудно выговорить — «Иерусалим». Наверное, надо быть истинным эллином, чтобы сначала превратить иноязычное «Йерушалайим» в «Иерусалим», явственно включающий в себя греческий корень ιερός, чтобы в результате все же найти получившееся имя плачевно неудобопроизносимым! Не так ли Дионисий Галикарнасский (I в. до н. э.), который жил в Риме, писал о Риме, и восхищался римской державой, отказывается называть в своей «Римской истории» имена италийских богов, чтобы не осквернять эллинскую речь чужеземной фонетикой?
[74] До тех пор пока античная Греция оставалась сама собой, она была фатально невосприимчива к красоте чужого слова
[75]. С греком нужно говорить по–гречески — иначе он просто не услышит.
Условия игры были тверды. Люди Востока, желавшие вынести на всемирный эллинистический рынок идей сокровища своей отечественной мудрости, обязывались предварительно облечь эти сокровища в упаковку греческих словесных форм — и по возможности также мыслительных форм. Время требовало толмачей.
Историку остается только поражаться, с какой быстротой толмачи взялись за дело. Вавилонянин Беросс, или Берос, жрец Бела, принадлежал к поколению, еще видевшему времена Александра Великого
[76]; он успел написать для Антиоха I Сотера (281/0—262/1 гг. до н. э.), взявшего в своей культурной политике последовательный курс на возрождение местных традиций
[77], труд на греческом языке в трех книгах — «Вавилонскую историю»
[78]. Историю своего древнего народа он излагал в формах всемирной хроники, отлично известных нам по Ветхому Завету, но совершенно чуждых классической Греции: первая книга трактовала о событиях от начала времен до потопа, вторая доводила рассказ до Набонассара, третья — до прихода македонян. Огромную роль играли разного рода реальные и фантастические выкладки по хронологии: весь временной универсум истории, исчисляемый Бероссом в сотни тысячелетий, был представлен как единое целое и расчленен на массивные ярусы эпох. Греческая историография Геродота и Фукиди- да не знала этой хронологической архитектоники, оперирующей с тысячелетиями. «Вы снова начинаете все сначала, как юнцы, ничего не зная о том, что совершалось в древние времена в нашей земле или у вас же самих», — говорил греку представитель памятливой мудрости Востока еще в «Тимее» Платона
[79].
Можно, конечно, посмеяться над дутыми сроками вавилонского историка, как это делает Φ. Ф. Зелинский, привыкший к роли адвоката классической древности в ее тяжбе с Азией: «Берос был щедр на нули. По своему научному содержанию халдейская астрономия была не такова, чтобы особенно поразить греческих ученых… — нужно было поэтому раздавить их возражения под тяжестью цифр»
[80]. Дело, однако, обстоит не так просто. Если грек классической эпохи ощущал как нечто реально для него наличное лишь настоящее и недавнее прошедшее, это оберегало его от наукообразного шарлатанства хронологических экстазов, но одновременно закрывало для него возможность пережить и перечувствовать открытую перспективу, широкий простор времени, монументальный ритм сменяющихся мировых периодов. Гениальный Фукидид не предпринял даже минимальных усилий для того, чтобы сделать свою хронологию унифицированной, а тем самым мировое время — просматриваемым, зримо явленным для ума. Здесь эллин был беднее восточного книжника, и Платон сумел увидеть это с большей проницательностью, чем красноречивый филолог XX столетия. Если бы внутренняя форма восточной всемирной хроники не была насущно нужна греко–римскому миру, она не была бы им воспринята с такой жадностью. В самом деле, без ее влияния оказалась бы невозможной уже универсалистская историография Посейдония и его последователей вроде Диодора, не говоря уже о тех основанных на Библии хронологических сводах, которые со времен Юлия Африкана составляют доподлинную манию полигисторов из христианского лагеря
[81]. Семя, брошенное Бероссом, упало на благодарную почву.
У Вавилона был, однако, соперник, споривший с ним о древности национального предания, — Египет. Египетский жрец и «священно- книжник» Манефон поднес Птолемею II Филадельфу (283—246 гг. до н. э.) «Египетскую историю», начинавшуюся, как и у Беросса, с эпохи богов и полубогов и замыкавшуюся опять-таки на эпохе новоявленного полубога — Александра. Вообще предприятие «священнокнижника» из Себеннита представляет собой по своей основной задаче полную аналогию предприятию Беросса. Вот свидетельство Иосифа Флавия: «Манефон был родом египтянин, однако обладал эллинской образованностью; это ясно из того, что он написал на греческом языке историю своего отечества, переложив ее, как сам он говорит, со священных писаний, причем неоднократно уличает Геродота в ошибках, порожденных незнанием египетской жизни»
[82]. Греки уже почти два столетия утоляют свою любознательность пересказами путешественника Геродота — пусть они послушают природного египтянина, предлагающего им знание о своей стране из первых рук, но на их языке! Стоит особо отметить, что ситуация эллинизма придвинула друг к другу не только мир Греции и мир Востока, но и отдельные ближневосточные народы, испокон веку знавшие друг о друге, но теперь обновившие это знакомство. Манефон уже стоит перед необходимостью откликнуться на библейское повествование о Моисее и Фараоне и дать свою версию события «Книги Исхода» с национально–египетской точки зрения: так, Моисей, гордость иудеев, оказывается жрецом–отступником из Гелиополя по имени Осарсиф
[83].
Этому не приходится удивляться. При Птолемее II Филадельфе иудеи уже во множестве населяли отведенную им часть города Александрии между восточными воротами и царским дворцом, пользовались привилегированным положением и, надо полагать, немало злили и без того ущемленных египтян
[84], в каждую пасху вспоминая о посрамлении фараона и об исходе из «земли Мицраим, дома рабства». Именно в царствование Филадельфа и, согласно традиционной версии, по высочайшей инициативе
[85] ими было предпринято столь грандиозное дело, как перевод Библии на греческий язык (так называемый перевод семидесяти толковников, или Септуагинта). Дело это возможно было задумать и осуществить на гребне того раннеэллинистического устремления к межкультурному синтезу, которое стимулировало труды Беросса и Манефона. Но такой грандиозной переводческой работы, как та, которую начали евреи, не замышляли ни вавилоняне, ни египтяне. Правда, немедленно была переведена только основная часть Писания иудеев, включавшая в себя Пятикнижие, или Тору, и, возможно еще какие-то книги; этот перевод был выполнен около 250 г. до н. э. К середине следующего столетия по–гречески уже можно было читать книги Паралипоменон, к 138 г. до н. э. — «Закон, Пророков и прочие книги» (первое очевидно из упоминаний у греко–иудейского автора Евполема, второе — из цитируемого замечания внука Бен–Сиры, или Иисуса, сына Сирахова, которое сделано в предисловии к переводу изречений его деда). «Книга Эсфири», как сообщается в предварении к рукописному греческому тексту, была переведена в 114 г. до н. э. Вскоре на греческом языке существовала уже вся тысячелетняя сокровищница иудейской словесности — беспрецедентное дело было сделано.
Второе рождение Торы — событие такой значимости для верующего иудея, проникнутого представлениями о святости самой словесной и письменной плоти божьего глагола, что его ум оказывался перед выбором: увидеть в совершившемся кощунство
[86] или чудо. Еврейство тех веков предпочло оценить Септуагинту как чудо, как новую манифестацию откровения. Создается легенда, согласно которой над переводом Пятикнижия трудилось семьдесят два книжника
[87], разошедшихся по разным кельям и не имевших никакого сообщения друг с другом; когда они (по прошествии семидесяти двух дней, как прибавляли особенно страстные любители числовой мистики) окончили свой труд и сличили результаты, оказалось, что тексты всех семидесяти двух переводов слово в слово совпадали между собой, являя свое боговдохновенное происхождение. Для иудейских авторов I в. н. э. Септуагинта есть авторитетное «Писание» (Γραφή) во всем религиозном смысле этого слова. За этим стоят серьезные сдвиги в самом духе иудаизма: в эпоху эллинизма и в первые десятилетия нашей эры дух этот был таким универсалистским и широким, как никогда до этого и никогда после. В эти времена достигла своего апогея вера, что близко исполнение обета, данного Йахве Аврааму: «И благословятся в тебе все народы земные» («Книга Бытия», 12, ст. 3; 22, ст. 18). Для того чтобы донести закон Йахве до «язычников» («гойим») превращая их в «проселитов» («гэрим»), необходимо было оторвать этот закон от палестинской почвы и сделать общечеловечески доступным
[88]. Перевод Библии на греческий язык, «мировой» язык средиземноморской цивилизации, язык больших городов, был первым шагом на этом пути. Лишь когда трагедия двух иудейских войн (66—73 гг. н. э. и 132—135 гг. н. э.) покончила с универсалистскими мечтаниями, а раввинским кругам, резко замкнувшимся в своей национальной исключительности, пришлось спорить с наследниками александрийских универсалистов
[89] — христианами, отношение ортодоксального иудаизма к переводу Септуагинты резко меняется. В Талмуде тот день, когда этот перевод был окончен, приравнен к черному дню Ветхого Завета — дню воздвижения Золотого Тельца
[90]. Во II в. н. э. синагога пытается поставить на место перевода семидесяти толковников более дословные переводы Аквилы, Феодотиона и Симмаха, а затем отказывается от самой идеи эллинизировать Тору, оставаясь, и уже навсегда, при древнееврейском подлиннике.
Такое отношение к Септуагинте было не лишено оснований. Перевод Библии на греческий язык уже сам по себе предопределил ряд моментов, которые лишний раз подчеркивают универсализацию иудаизма. На «четверобуквенное» имя Йахве в еврейском обиходе был наложен строжайший запрет, и поэтому при чтении вслух это ketib («написание») подменяли qere («чтением») «Адонаи», т. е. «Господь». Так или иначе, однако в тексте оставалось чтимое и неизрекаемое имя, напоминавшее об исключительности почитателей этого имени. Но при переводе на греческий язык его отбросили совсем, заменив уже в самом написанном тексте на Κύριος — «Господь» (отсюда обыкновение христианских авторов называть своего бога просто «Господом»). Экзотическое для эллинского уха имя исчезло, осталась идея бога как «Господа» вообще, Господа не иудеев, но всего мира. Это многозначительное изменение отнюдь не единственное. Как отмечает русский филолог, «LXX часто не столько переводят, сколько истолковывают»
[91]. Конечно, вольность перевода весьма различна в разных частях: священная Тора переложена с большей благоговейностью, перевод Псалмов часто сбивается на пересказ, и, наконец, почти чистый пересказ, дающий, по сути дела, новое литературное произведение, являет собой греческая версия «Книги Даниила». Переводчики хотели, чтобы их труд живо воспринимался александрийским читателем, кем бы ни был этот читатель — эллином или иудеем. Это стремление к#понятности и наглядности ощутимо уже на уровне реалий: частности палестинской жизни, запечатлевшиеся в тексте Библии, систематически заменяются обстановкой эллинистического Египта
[92]. Более существенно последовательное вытеснение архаически–антропоморфных черт представления о боге, забота о том, как бы не уязвить греческой эстетической впечатлительности слишком резкими образами восточной фантазии. Здесь дело не обходилось без жертв, и дерзкие поэтические выражения часто заменялись более бесцветными отвлеченными оборотами (что связано и с некоей квазифилософской интенцией переводчиков, особенно сказавшейся в работе над последними частями канона). Но в целом перевод Септуа- гинты следует признать незаурядным решением еще небывалой дотоле литературной задачи. При всех уступках греческому вкусу он воссоздает особый строй семитической поэтики, более грубый, но и более экспрессивный по сравнению с рафинированным формальным языком греческой литературы. Столь характерный для Библии синтаксический параллелизм был достаточно известен и греческой риторике, но там он отмечен большей дробностью и как бы коротким дыханием; древнееврейская поэзия работает большими словесными массами, располагаемыми в свободной организации
[93]. Творцам Септуагинты удалось создать довольно органичный сплав греческого и семитического языкового строя; их стиль близок к разговорным оборотам эллинистической «койнэ» и все же неизменно удерживает сакральную остранен- ность. Отныне дорога для творчества в библейском духе, но в формах греческого языка была открыта. Готовые стилистические формы, окруженные ореолом святости
[94], пригодились основателям христианской литературы, стиль которых до предела насыщен реминисценциями перевода «Семидесяти Толковников». Между Септуагинтой и генезисом христианской литературы существует глубокая связь, как между вопросом и ответом, между предпосылкой и осуществлением.
Скажем больше. Именно через Септуагинту и ее новозаветные отголоски в европейский языковой мир — за греческим последовала к IV в. латынь, а затем романские, германские, славянские языки — на все века христианской эры вошли бесконечные лексические «библеиз- мы», являющие собой как бы эхо древнего Ближнего Востока в речи Запада, без которых невозможно представить себе общеевропейскую словесную культуру. Подумать только, что в сонете Шекспира не могло бы говориться о «славных утрах» («glorious mornings»), а в стихотворении Ахматовой — об «облаке в славе лучей», если бы александрийские толмачи не сообщили лексеме «слава» те смысловые обертоны еврейского kbwd (самообнаружение божества в огне, свете и дыме, ср. «Книга Исхода», гл. 16, ст. 10; гл. 24, ст. 16 и др.), которые изначально чужды греческому δόξα и латинскому gloria!
Но всему этому только предстояло совершиться на протяжении двух христианских тысячелетий. Вернемся к античности и спросим: дошла ли Септуагинта до языческого читателя, притом такого, который действительно чувствовал себя как дома внутри своего язычества и не был гоним тревогой изгоя из этого дома в ряды иудейских или христианских проселитов? Была ли Библия оценена эллином не просто как религиозный документ, как Закон евреев, «переданный Моисеем в некоем таинственном свитке», по насмешливому выражению Ювенала (Sat. XIV, 106), но как произведение литературы? Если мы припомним радикальное нежелание всех истинных греков принимать к сведению и эстетически оценивать какую бы то ни было литературу, кроме своей собственной, далеко не «аттикистский» облик Септуагинты, долженствовавший шокировать греческого ценителя, а равно и общую несовместимость иудейского жизнеотношения с греко–римским эстетизмом
[95], нас не удивит отрицательный ответ. В конце концов, даже прошедшие через обращение и крещение адепты античной культуры вроде Августина испытают немало страданий от того, что книга, в святость которой они уверовали, написана столь недемосфеновским слогом! И все же мы встречаем одно исключение, которое являет собой такой историко–культурный парадокс, необычайность которого не может быть переоценена. Чтобы остановиться на нем, нам придется нарушить хронологический порядок изложения и обратиться к одной из самых загадочных книг, которые оставила нам классическая древность: к анонимному (Псевдо- Лонгина) трактату «О возвышенном». Трактат этот относится примерно к 20—50–м годам I в. н. э., к удивительной эпохе, когда все пришло к кризису, все казалось возможным, все границы были размыты и все двери отворены (недаром именно в эти десятилетия на Востоке произошло рождение христианства, а в Риме Сенека–трагик совершенно неантичными словами пророчил о географических экстазах Колумбовой эры
[96]). Греческая литература пребывала в состоянии глубочайшего, явного, черного унижения. Пройдет полвека, и она мало–помалу выйдет из этого унижения к гордыне второй софистики, к самоуверенному культу культуры в духе Элия Аристида и Филостратов, Ливания и Имерия; но в то время даже самые ранние протагонисты «греческого возрождения» вроде Плутарха или Диона Хрисостома переживали детство и юность. Что из написанного на греческом языке за первые три четверти I в. н. э. осталось для будущего? Если не считать той самой одинокой и незамеченной книжицы «О возвышенном», в связи с которой зашла речь обо всей эпохе, то исключительно грекоязычные сочинения евреев — Филона и Иосифа Флавия. Вот до какой степени все перевернулось! Если когда-нибудь самомнение, самодовольство, самозамкнутость греческой словесной культуры могли дать на мгновение брешь, то именно тогда
[97].
Это не значит, что автор трактата «О возвышенном» не проникнут до мозга костей страстным преклонением перед эллинской традицией. Гомер, Сапфо, Пиндар, Софокл, Демосфен — его кумиры; величественная древность, рядом с которой особенно проступает духовная несвобода современности, — его святыня. Но боготворимое им наследие лучших времен эллинства есть для него не «классика», как ее понимает всякий «классицизм» (появившийся в самом раннем из своих обличий как раз тогда)
[98], не собрание непогрешимейших образцов самодовлеющего литераторства, не самовыявление академически понятой «красоты». Его привлекает не столько безупречность красоты, сколько безмерность величия. Вот почему рядом с давно осознанным и выкристаллизовавшимся в эстетической рефлексии идеалом «прекрасного» (τό καλόν) он ставит другой идеал, осознанный им, по сути дела, как корректив к первому: идеал «возвышенного» (τό ϋψος)
[99]. Термин «возвышенное» для нас стерт и легко ассоциируется с безжизненной академичностью, но для Псевдо–Лонгина дело обстояло как раз наоборот: τό ΰψος — это та неимоверность жизненной стихии, те крутизны и бездны духовного мира, которые слишком высоки и глубоки, чтобы уместиться в пределы категории «прекрасного». Эти крутизны и бездны автор тракта «О возвышенном» искал у своих любимых греческих авторов — но не только у них. Ибо в главе IX (§ 9) немедленно после разбора одного пассажа из «Илиады» мы читаем:
«…Так и законодатель иудеев, человек незаурядный, по достоинству постиг и выразил мощь божества, написав в самом начале своих законов: «Сказал Бог». И что же Он сказал: «Да будет свет», и был свет; «Да будет земля», и была земля».
Единственное в своем роде значение этого места не может быть ослаблено тем, что Псевдо–Лонгин цитировал «Книгу Бытия», как мы видим, отнюдь не точно и, во всей видимости, не имел под руками текст Септуагинты, когда писал эти строки. Допустим даже, как это не раз делалось, что цитата вообще заимствована из вторых рук (например, взята из опровергаемого Псевдо–Лонгином трактата Кекилия, по свидетельству Суды, верующего иудея
[100], или сообщена автору Филоном Александрийским во время приезда последнего в Рим в 41 г.
[101]).
Достаточно того, что лапидарность библейской фразы, облеченная «Семьюдесятью Толковниками» в формы греческого языка, теми или иными путями вошла в кругозор столь впечатлительного эллина, как Псевдо- Лонгин, и была оценена им эстетически как монументальность и значительность, как осуществление «возвышенного». В определенном смысле можно назвать эту оценку историко–культурным недоразумением: τό ϋψος «возвышенное» — слишком греческая категория, чтобы адекватно охарактеризовать внутренний склад и строй библейского текста, ибо для этого в ней слишком много эстетизма, культа культуры и пафоса дистанции, совершенно чуждых Библии. Ближневосточное ми- роотношение живет антитезами «жизни» и «смерти», «мудрости» и «суеты», «закона» и «беззакония», оно различает святое и пустое, важное и праздное — только не «возвышенное» и «низменное»; последняя антитеза полагается лишь культурой греческого типа и вне ее лишается смысла. Но в защиту Псевдо–Лонгина следует сказать две вещи. Во- первых, мы имеем здесь дело с недоразумением чрезвычайно тонкого свойства, отнюдь не с грубой и бессодержательной ошибкой ума. Такого рода
недоразумения суть едва ли не обязательное условие
разумения при встрече различных культур; если бы не было взгляда извне, которому все видится несколько иначе, чем взгляду изнутри, не было бы и встречи. Во–вторых, специально это «недоразумение», возродившееся в Европе вместе с возрождением античных норм культуры и эстетики и оживавшее в ренессансной, барочной, романтической поэтизации Библии, оказалось не только чрезвычайно долговечным
[102], но и на редкость продуктивным, создав основу великого культурного синтеза, внутри которого первозданная динамика Библии весьма кстати дополняла уравновешенную статику классического языка форм. Слов нет, все это, говоря словами русского поэта, «домыслы втупик поставленного грека» (перед лицом словесного облика Ветхого Завета европеец всегда более или менее «грек»); но ошибка, способная порождать поэзию Мильтона и Клопштока, Державина и Блейка, заслуживает не столь уж сурового отношения. К тому же любой переход конкретного историко- культурного феномена в сферу общечеловеческих, общезначимых, универсальных ценностей неизбежно есть его отчуждение от собственной конкретности и требует некоторую толику оптического обмана. Такова диалектика всякого «влияния» и «взаимовлияния». Можно утверждать, например, что уже римляне безнадежно извратили суть греческой классики, вполне адекватное понимание которой было возможно лишь на почве самой Греции, и что в последующие тысячелетия каждая новая волна филэллинского энтузиазма (вроде винкельмановско- гетеанского «неогуманизма») сообщала предмету обожания все больше чуждых черт; но столь же справедливо будет сказать, что лишь в руках римлян греческая классика перестает быть «вещью в себе», функцией локальных жизненных условий, одухотворяясь до роли общезначимого культурного ориентира, и что все последующие «рецепции» суть степени этого одухотворения. Как Афины должны были стать «Афинами», так и Иерусалим должен был стать «Иерусалимом», дабы сыграть роль универсального символа в конструктивном процессе становления европейской культуры. Этот-то конструктивный процесс in nuce преформирован в мгновенном событии встречи двух миров, запечатленном словами Псевдо–Лонгина. Быть может, во имя чистого историзма полезно было бы забыть об этой смысловой перспективе, но что делать — мы о ней помним, и она заставляет нас взглянуть на историческую реальность иными глазами.
В той же смысловой перспективе предстают перед нами и попытки эллинизированных иудеев заговорить языком греческой литературы. Что и говорить, попытки эти дали мало цельного и органичного. Наилучший удел избрали, разумеется, те авторы, которые не слишком далеко отходили в своем стремлении к синтезу от родной почвы. Такова, например, знаменитая «Книга Премудрости Соломоновой», написанная александрийским евреем накануне начала нашего летосчисления; хотя книга эта написана на греческом языке и содержит понятия, могущие быть адекватно выраженными лишь по–гречески
[103], хотя она заменяет подлинно еврейское (фарисейское) учение о воскресении
всего человека в будущем веке греческим (платоническим) учением о бессмертии бестелесной души, вселяющейся в тело и затем высвобождающейся из его оков
[104], хотя она обращается со своей проповедью не только и не столько к иудейскому, сколько к эллинистическому читателю, предваряя темы и мотивы христианской «апологетики»
[105], она блюдет верность жанровой форме древневосточной сентенциозной словесности, культивировавшейся «хахамами» (достаточно сравнить ее с чисто палестинской «Книгой Притчей Соломоновых», к которой она примыкает).
Нельзя не признать, что неизвестный александрийский книжник весьма удачно выбрал литературную сферу, внутри которой синтез иудейства и эллинства мог произойти наиболее безболезненно. Во всей иудейской словесности нет ничего, что было бы настолько космополитическим, настолько «мирским», настолько открытым для общесредиземноморских влияний, как афористика «хахамов». Во всей греческой литературе нет ничего, что было бы столь мало специфичным для эллинства, столь связанным с ближневосточной традицией, как афористика «мудрецов» и дидактических стихотворцев вроде Солона, Феог- нида, Фокилида. Расстояние между «Книгой Притчей Соломоновых» и назиданиями Фокилида нельзя и сравнивать с пропастью между аттической трагедией и пророчествами Исайи.
Так обстоит дело на уровне истории жанров. Беря вещи на ином, более существенном, хотя менее поддающемся позитивному анализу уровне, надо сказать, что если сквозь контраст между ближневосточным и эллинским типами человека проглядывает важное сходство, то оно состоит прежде всего в особой предрасположенности к восторгам умствования, к тому, чтобы видеть в «учении» ценность превыше всех ценностей. Перед премудростью должны отступить на задний план и «мужские», воинские добродетели, и простосердечная «душевность»: как ближневосточный человек, так и эллин лелеют не душевное, а духовное
[106].
Слов нет, мудрость, которую искали ученики Сократа, и мудрость, которую искали ученики рабби Акибы, суть вещи разные, в чем-то даже противоположные. Но для тех и для других их «мудрость» есть предмет всепоглощающей страсти, определяющей всю их жизнь, и обладатель мудрости представляется им самым великим, самым достойным, наилучше исполнившим свое назначение человеком. Римлянину импонирует солидная взрослость делового человека, который именно чувствует себя слишком взрослым, чтобы до гробовой доски оставаться энтузиастическим школяром, дышать школьным воздухом и забывать себя в умственной экзальтации; на воображение более молодых «варварских» народов неотразимо воздействуют видения неустрашимой храбрости, силы, широкого великодушия. Еврей, «халдей», грек могут показаться рядом с римлянином заучившимися детьми–вундеркиндами; рядом с варваром, любителем физической силы и физического мужества, они кажутся стариками, постигшими тщету всякой силы и всякого мужества, кроме силы ума и мужества духа. В еврейском трактате «Решения Отцов» («Пиркэ Авот»), возникшем на палестинской почве в римскую эпоху, мы читаем: «Бен–Зома говорил:…Кто есть богатырь? Побеждающий свои чувства, ибо написано, лучше терпеливый, нежели силач, и владеющий духом своим, нежели покоритель градов» (гл. IV, раздел 1). При всей пропасти между восточным книжником и греческим философом оба они — люди, отдавшие свою жизнь для обретения умственной выучки. Поэтому на греческом языке хорошо прозвучал экстатический панегирик Премудрости Божьей, сотканный александрийским анонимом: «Она есть дух разумный, святой, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, влаголюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, неколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все разумные, чистые, тончайшие духи» («Книга Премудрости Соломоновой», гл. 7, ст. 22—23). Разве это плетение словес, в котором золотые нити эллинского философского идеализма украшают восточную ткань, не предвещает уже внутреннюю форму византийского акафиста? Принявшие христианство греки переймут это колыхание нескончаемых эпитетов, мерное, как взмахи кадила, а переняв, «доведут до совершенства», как, согласно похвальбе Платона, они всегда поступают с изобретениями варваров (см. эпиграф ко второму разделу статьи)…
Но «Книга Премудрости Соломоновой», как уже было сказано, непосредственно примыкает к библейским жанровым формам (недаром христиане с полным основанием отнеслись к ней как к канонической книге, полноправной части ветхозаветного предания). Куда менее удачны эксперименты проповедников иудаизма с такими жанрами, которые составляют специфику греческой литературы. К этим экспериментам трудно отнестись иначе, чем к курьезам: они являют собой плоды «псевдоморфозы», почти всегда происходящей там, где достижения одного культурного мира торопливо и поверхностно усваиваются другим. Даже трагедия — едва ли не самая эллинская из всех эллинских литературных форм, органично связанная с почвой Аттики, с культом Диониса, с афинской полисной жизнью, — нашла имитатора среди книжников еврейского квартала Александрии. Им оказался литератор со звучным именем Иезекииль, «сочинитель иудейских трагедий», как называет его Евсевий (Praep. evang. IX, 28), благодаря ученой прилежности которого мы располагаем обширными выписками из одной трагедии под названием «Исход» (время написания, по всей вероятности, II в. до н. э.). Постольку, поскольку опыт Иезекииля представляет интерес любопытнейшего историко–культурного уникума и в то же время мало кому известен, приводим из него несколько выдержек.
Сюжет трагедии следует повествованию «Книги Исхода»; понятно поэтому, что единство времени и единство места в ней невозможны. Начинается она в Египте — Моисей по лучшим еврипидовским образцам произносит пролог:
С тех пор, как бросил землю Хананейскую
И в путь ушел с семьюдесятью душами
Иаков, и в Египте жил и множился
Народ гонимый, бедный и униженный, —
Доныне он все терпит и позор, и скорбь
От злых людей и от руки властительной.
Приметив возрастанье рода нашего,
На нас измыслил злоковарный умысел
Царь Фараон и предал нас мучительной
Беде, велевши бедным смертным маяться
В трудах великих при градском строительстве.
Затем велит ввергать еврейских отроков,
Едва родятся, в глубокотекущее Реки струенье…
Следует рассказ о судьбе самого Моисея, брошенного в корзине на произвол Нила и выловленного египетской царевной. Затем действие переносится в Мидиан, куда герой принужден бежать, убив египтянина; там он встречается со своим будущим зятем Рагуилом и беседует с ним. Там же он удостаивается видения Неопалимой Купины.
Моисей
О, что за дивной купины явление,
Чудесное и смертным непостижное?
Отвсюду купина огнем объемлется.
Но пребывают целыми и ветвь, и лист.
Что ж это? Ближе обозрю чудесное
Видение; с трудом ему поверит ум.
Бог
Остановись, не приближайся дерзостно,
О Моисей, не отвязав сандалии;
Узнай, что место святости исполнено,
Из купины божественный гласит глагол.
Дерзай, о чадо, и реченье выслушай!
Мой лик тебе, как человеку смертному,
Увидеть невозможно; но слова мои
Дозволено услышать средь пустыни сей.
Я — Бог твоих исконных прародителей,
Бог Авраама, Исаака, Иакова;
О них воспомнив и о древних милостях,
Гряду на помощь племени еврейскому,
Рабов моих увидя утеснение.
Ступай же в путь, и слово возвести мое,
Во–первых, всем евреям, роду целому;
Затем царю внуши мои веления,
Дабы народ из чуждой увести земли.
Моисей
Но мне ведь силы не дано витийственной:
Гугнив, косноязычен мой язык, — так мне ль
Возвысить глас перед престолом царственным?
Бог
Пошли же Аарона, брата сродного,
Ему сказав мои реченья в точности,
И встанет он перед престолом царственным:
Тебя он должен слушать так, как ты — меня.
А что в руке ты держишь? провещай скорей!
Моисей
Се жезл; дрожат пред ним четвероногие
[107].
Бог
Низринь его и с места удались тотчас:
Ведь он в дракона обратится дивного.
Моисей
О, что я вижу? Мой Владыка, смилуйся!
Как страшно, как ужасно! Пощади, молю!
От трепета колена подгибаются.
Бог
Не устрашайся, но рукой простертою
Схвати его: жезлом он станет сызнова.
(Пер. С. Аверинцева)
Что и говорить, трагику Иезекиилю далеко до его ветхозаветного тезки! Но его странное сочинение нельзя читать, не вспоминая, что именно с него начинается путь, приводящий к «Самсону–Борцу» Мильтона, к «Эсфири» и «Гофолии» Расина. Александрийские толмачи не решили непосильной для них задачи синтеза «Афин» и «Иерусалима»; будем благодарны им за то, что они эту задачу поставили. Решать ее должна была европейская культура, и притом всем своим существованием.
АВТОРСТВО И АВТОРИТЕТ
1
Оба слова, вынесенные нами в заглавие, имеют схожий облик, и сходство их отнюдь не случайно. У них одно и то же — латинское — происхождение, единая этимологическая характеристика; и если их словарные значения к нашему времени разошлись довольно далеко, то у истоков значения эти неразличимы.
Auctor («автор») — nomen agentis, т. е. обозначение субъекта действия; auctoritas («авторитет») — обозначение некоего свойства этого субъекта. Само действие обозначается глаголом augeo, одним из, говоря по- гбтевски, «Urworte» («первоглаголов») латинского языка, необычайную густоту смысла которых возможно лишь с неполнотой передать в словарной статье. Augeo — действие, присущее в первую очередь богам как источникам космической инициативы: «приумножаю», «содействую», но также и просто «учиняю» — привожу нечто в бытие или же увеличиваю весомость, объем или потенцию уже существующего. «Augustus», «август», самодержец в императорском Риме, — это человек, испытавший на себе подобное действие богов и ставший в результате более чем человеком и более чем гражданином. Но человек и гражданин, при условии своей полноправности, также может быть субъектом этого действия. Ему дано «умножить» силу некоего сообщения, поручившись за него своим именем. Он способен нечто «учинить» и «учредить»: например, воздвигнуть святилище, основать город, предложить закон, который в случае принятия его гражданской общиной будет носить имя предложившего. Во всех перечисленных случаях гражданин выступает как auctor; им практикуема и пускаема в ход auctoritas.
Легко усмотреть два аспекта изначального объема обсуждаемых понятий: во–первых, религиозно–магический, во–вторых, юридический. Для нас это — различные аспекты; для древнего мировоззрения различие едва ли имеет силу. Как бы то ни было, однако, важно, что оба эти аспекта создают весьма специфические условия для выявления идеи личного начала. Не то чтобы эти условия были уж вовсе неблагоприятными. Религиозно–магическое сознание знает понятие личной «харизмы», например, пророческой; что до сознания правового, то оно исторически сыграло совсем особую роль в первоначальном становлении категории «лица», «персоны». Высказывалось достаточно обоснованное мнение, например, что особое место, занимаемое при разработке уже христианского учения о субстанциальности человеческой личной воли Богочеловека мыслителем VI-VII вв. Максимом Исповедником не в последнюю очередь объясняется юридическим образованием последнего, его связью с традицией все того же римского права (точка зрения А. Демпфа
[108]). Однако и религиозно–магический, и юридический концепты
лица все еще очень далеки от мысли об «индивидуальном» в смысле «неповторимого», «неотчуждаемого» и, главное, несообщймо- го. Неповторимое просто не тематизировано архаической мыслью, не представляет для нее интереса. Что до несообщимости, таковая подлежит прямому и сознательному отрицанию. В самом деле: auctor — тот, кто полномочен и правомочен; auctoritas — сама его правомочность, сумма его полномочий; но полномочия суть то, что возможно
делегировать, и как религиозная традиция, так и правовая традиция отрабатывают весьма многоразличные механизмы такого делегирования. «И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа», — читаем мы в Библии (Быт. 41, 42); так передается в вещественном знаке «авторитет» монарха. И еще: «Илия, проходя мимо него [Елисея], бросил на него милоть свою» (III Царств 19, 19); так передается в вещественном знаке «авторитет» пророка.
И культовая, и юридическая обрядность, в совокупности оформляющие и «формализующие» жизнь традиционной общины, не могут обойтись без принятых общиной и постольку легитимных фикций, заменяющих реальное присутствие и реальное действие полномочного лица. Примеры столь многочисленны, столь многообразны и столь известны, что без них благоразумнее обойтись. Для такой фикции знак — эквивалент реальности; прежде всякого иного знака имя, этот особо привилегированный знак, — эквивалент именуемого лица. Как для культа, и религиозного, и магического, так и для права имя — категория из категорий. Но если имя — эквивалент лица, что остается от лица? Не «личность» в смысле «индивидуальности», но лишь некое присущее лицу и делегируемое им через имя достоинство, т. е. та же auctoritas. Для такого сознания имя «автора» есть знак «авторитета»; поскольку же «авторитетом» в конечном счете распоряжается культовая и гражданская община, она правомочна распоряжаться этим именем.
В архаической практике есть случаи, перед лицом которых неудобно говорить о «подлогах» и тем паче о «мистификациях». Возьмем два библейских сборника: Псалтирь (tehillim) и Притчи Соломоновы (mislej-sBlomoh). Нас сейчас совершенно не интересует, как смотрят на проблему происхождения различных частей этих сборников современные исследователи; важно другое — в качестве чего передает их сама традиция? Для традиции Псалтирь в целом — «Давидова»; сборник поставлен под знак имени знаменитого царя Израильско–Иудейского государства в X в. до н. э. Однако в тексте самого сборника меньше половины от общего числа — семьдесят три псалма из ста пятидесяти — связаны с именем Давида (причем нельзя сказать, чтобы характер этой связи был вполне ясен
[109]). А К&К Ж6 остальные? И тут мы замечаем, что в традиционных «надписаниях» псалмов имеются другие атрибуции. Двенадцать псалмов приписаны современнику Давида левиту Асафу (ср. I Парал. 15 и 25); одиннадцать — династии «сынов Корее- вых» (о прародителе династии см. Числа 16). По одному псалму приписано Моисею (89/90), «Этану Туземцу» (в синодальном переводе «Ефа- му Езрахиту»), т. е., по–видимому, этническому хананеянину (88/89), и царю Соломону (126/127), а также Аггею и Захарии (145/146). Ряд псалмов оставлен вовсе без атрибуции.
Согласно вышесказанному, мы оставляем в стороне вопрос об информативности «надписаний»; важно, что они входят в традиционный текст Писания. Есть гипотеза, согласно которой «надписания» указывают не на авторство псалмов, а на корпорацию певцов, имеющую право и обязанность данный псалом исполнять; но даже если это так, невозможность лексического обособления вопроса об авторстве от вопроса об исполнении сама по себе достаточно красноречива. «Книга Притчей Соломоновых» также состоит из различных сборников, которым в самом традиционном тексте приданы разные имена. Два раздела, идущие один за другим, озаглавлены «притчи Соломона» (1—9 и 10—22, 16); следующие два — «слова мудрых» (22, 17—24, 23) и «сказано также мудрыми» (24, 23—34); затем снова — «и это притчи Соломона» (25—29). Но затем следуют сборники, приписанные Агуру, сыну Иа- кееву (30) и Лемуилу (31, 1—9); завершающее книгу похвальное слово добродетельной женщине (31, 10—31) дано анонимно. В обоих случаях атрибуция «главному» автору — соответственно царю Давиду и царю Соломону — относится одновременно ко всей книге и к некоторой ее части. По отношению к авторству, как его понимаем мы, это было бы абсурдно. Однако стоит нам подставить на место авторства — отношения власти, владения, обладания, как все становится на свои места. Все царство в целом принадлежит монарху — общий тезис, нимало не вступающий в противоречие с тем, что некоторые земли, города, поля и дома состоят под управлением или в собственности наместников, вельмож и прочих подданных монарха, а некоторые составляют его особое, непосредственное достояние. Сравнение тем уместнее, что Давид и Соломон — действительно монархи в самом буквальном смысле. Без малейшего ощущения неловкости и несообразности предлагаемая библейским преданием структура двойной атрибуции, когда один и тот же псалом «приписан» одновременно Асафу, или Этану, или еще кому- нибудь, и, в составе сборника в целом, Давиду, когда один и тот же афоризм или цикл афоризмов «принадлежит» одновременно какому- нибудь Лемуилу и, на общих основаниях^ Соломону, — не абсурд, не курьез, не ошибка, но свидетельство о себе сознания, понимающего авторство как авторитет и только как авторитет, т. е. как отношение власти.
В библейском каноне различные книги связаны с различными именами. Иногда это имена героев, персонажей: например, Иисус На- вин, Эсфирь, Иов, Руфь. Иногда это имена действительных или предполагаемых авторов: например, имена пророков. Характерно, однако, что имена одного и другого ряда вводятся совершенно одинаково: «Книга Иова» — как «Книга Исайи». В ряду книг пророков имена пророков нормально суть авторские имена; однако Иона и Даниил — персонажи повествований. Для нашего сознания это представляется странным, смутным, неотчетливым; только в порядке авангардистской провокации Маяковский мог написать трагедию «Владимир Маяковский» («За- главье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья»
[110]). Но для сознания, определившего передачу и фиксацию библейских текстов, это самая естественная вещь на свете. Кто писал про Иисуса Навина? Наверное, он сам и писал, отвечала традиция; впрочем, дело не в том, кто писал, дело в предмете. Иначе говоря, имя, приданное книге, — в принципе не «имя сочинителя», но имя «содержания», имя самого предмета. Те случаи, когда это имя, с нашей точки зрения, авторское, никакого исключения не составляют. Если Книга Иисуса Навина рассказывает, как Иисус Навин завоевывал Землю Обетованную, а Книга Руфи — о том, что сделала моавитянка, дабы войти в родословие Давидовой династии, то Книга Осии повествует о «Слове Господнем, которое было к Осии», как сказано в начальных словах текста, и, между прочим, о символико–семиотических актах, совершенных Осией во исполнение Слова (Осия 1, 2—8; 1—4). А то обстоятельство, что Осия, судя по всему, был также и автором Книги Осии, мыслилось совершенно несущественным, и даже не потому, что он не «сочинительствовал», а передавал Слово Господне, которое было «к нему», — а потому, что никто в ветхозаветном горизонте не спрашивал себя о специфике смысла или формальных особенностей его пророческой речи в сравнении с речью какого бы то ни было другого пророка. Даже тогда, когда эта специфика объективно была достаточно различима, она оставалась, насколько мы можем судить, «вещью в себе». Поэтому ровно ничего не мешало циклизации пророчеств различных и разновременных лиц («Девтероисайи» и «Тритоисайи») в рамках и на основе Книги Исайи; община, практикуя принадлежащую ей auctoritas, поручилась за доброкачественность этих новых пророчеств чтимым именем Исайи (Йеш- айху бен–Амоц), с текстами которого новые тексты связаны не столько «смысловой» или «стилистической» связью, как то и другое понимаем мы, сколько общностью нескольких ключевых слов и образов.
Нелепо было бы говорить о «подражательности» Девтероисайи и Тритоисайи в сравнении с «оригинальностью» Исайи (во многих отношениях как раз у Девтероисайи и Тритоисайи много нового, т. е. «оригинального»
[111], — но сами эти понятия накладываются нами на материал извне и остаются ему чужды, не просто вербально, терминологически, но и содержательно). Кто, спрашивается, тут полномочный и правомочный auctor? Во–первых, Сам Господь; во–вторых, община, в преемственной последовательности поколений совершившая акт рецепции;
в–третьих, упомянутый Йешайху бен–Амоц, иудей VIII в. до н. э., с нашей точки зрения — автор первых тридцати девяти глав Книги Исайи
[112], но с точки зрения архаического сознания — поручитель за книгу в целом, в том числе и за те ее части, которые возникли после его кончины, хотя его поручительство — лишь производное от поручительства Бога и общины.
В этом же смысле Давид, своей царской властью учредивший сообщества певцов и поручивший им благолепие богослужебного обихода (ср. I Парал. 25, 1—31), — поручитель за Книгу Псалмов; и Соломон, при дворе которого впервые для Израильско–Иудейского царства утвердились египетские культурные стандарты, предполагавшие, между прочим, создание и собирание афоризмов (в духе, скажем, «Поучения Птаххотепа», еще из времен Древнего царства
[113]), — поручитель за Книгу Притчей. Нелишне вспомнить, что Птаххотеп, если верить тексту самого древнеегипетского памятника, был хотя и не фараоном, но ве- зиром фараона; другие древнеегипетские поучения приписывались и самим фараонам, например, Аменемхату I. Власть дает особую силу поручительству имени за сочинение; это авторитет в первозданном смысле слова (ср. семантику английского слова «authorities»). Сам Бог велел царю символизировать правомочность Бога и общины. «Auctor» есть сан и титул, аналогичный царскому сану и царскому титулу. Йешайху бен–Амоц так относится к неведомым, безымянным Девтероисайе и Тритоисайе, как царь Давид относится к «Асафу» и «сынам Корее- вым», своим подданным и подданным своих преемников. В известном смысле позволительно сказать, что для архаического сознания «auctor» — понятие институциональное.
Концепция, выражаемая в слове «auctor», стоит в определенной близости к такому явлению, как этиологический миф. Сталкиваясь с тем или иным фактом культурной традиции, архаическое сознание привычно задает вопрос: кто установил, учредил, ввел — кто auctor? Так положено — а кто «положил» положенное? Аристофан уже способен иронизировать над этим сакраментальным вопросом: в его «Лягушках» Дионис спрашивает Геракла, откуда завелся обычай — давать Харону за переезд на тот свет два обола, и получает ответ: «Ввел Тесей» (ст. 142). Много должно было утечь воды, чтобы для Аристофана, хотя и недружественного, а все же современника софистов и Сократа, стала возможной такая ирония. Заметим наперед, что ирония эта отнюдь не отменяет устойчивой психологической установки на санкционирующую «авторитетную» инициативу по образцу этиологического мифа: в культурах совсем иного типа, включая новоевропейские, нетрудно усмотреть ту же установку, и притом не только на уровне народного (позднее — массового) сознания, но и на уровне достаточно сложных идеоло- гем, дававших и дающих «этиологическую» функцию «великим людям» национальной политической и культурной истории. Эта парадигма продолжает работать до сего дня, хотя уже во дни софистов на нее можно было взглянуть извне, т. е. уже существовала внеположная ей ментальная «территория», существовали не органичные для нее контексты и конкурирующие парадигмы. То же, что мы в рамках этой статьи, в соответствии с требованиями ее темы объединяем под названием «архаики», определяется единовластием этиологической парадигмы.
Едва ли есть надобность разъяснять, что употребляемый вышеозначенным образом термин «архаика» объединяет великое множество явлений, весьма и весьма разнородных в отношении, что называется, стадиальном: от самых начальных шагов примитивного словесного искусства, еще теряющихся в доисторической тьме, до рафинированной цивилизации ближневосточных «писцов», культивировавших свою «премудрость» афоризма и притчи. Единственным жестко обязательным признаком, по которому мы решились произвести такое объединение, является признак негативный, а именно, отсутствие эксплицированной, — или хотя бы имплицитной, но достаточно надежно выявляемой, — рефлексии над всем комплексом того, что зовется «авторской манерой»: над индивидуальной характерностью неповторимого выбора лексики, метафорики, вообще «дикции», но также топики, тематики, сознательно внушаемого и сознательно воспринимаемого авторского «имиджа»
[114].
Ради вящей осторожности оговоримся: отсутствие в дошедших текстах. Но едва ли эта оговорка действительно нужна: когда подобная рефлексия имеется, она не может не окрасить всего состава культуры, не может не отразиться косвенно даже в тех текстах, которые непосредственно посвящены совсем другим темам. Уж если мы не можем уловить никакого ее отсвета в таком обширном собрании разновременных текстов, принадлежащих различным жанрам, каков ветхозаветный канон, — естественно предположить, что культура ее не выработала. Заметим, что древние культуры Ближнего Востока знают жанр похвального слова «мудрецам» и «писцам»: назовем хотя бы знаменитый древнеегипетский текст так называемого папируса Честер–Битти IV, внешне напоминающий чуть ли не мотив «памятника» в оде Горация III, 30:
Книга лучше расписного надгробья
И прочной стены.
Написанное в книге возводит дома и пирамиды в сердцах тех,
Кто повторяет имена писцов…
(Пер. А. Ахматовой)
Как нарочно, и «памятник» Горация сравнивается с пирамидами… Но как раз внешнее сходство заставляет острее и конкретнее прочувствовать принципиальное различие. Для древнеегипетской похвалы писцам все без остатка сводится к теме престижа словесного искусства вообще, к теме ценности авторитетного имени, увековеченного через соединение с книгой, но не имеющего никаких коннотаций, кроме хвалы, одной и той же для всех, варьируемой лишь декоративно, не по смыслу. («Есть ли где равный Джедефхору? Есть ли подобный Имхоте- пу? Нет ныне такого, как Нефри или Ахтой, первый среди них. Я назову еще имена Птахемджхути и Хахаперрасенеба… ») Напротив, Гораций начинает там, где древнеегипетский поэт кончает. Безличная тема «памятника» из слов — для него не более, чем отправная точка; действительно важным является то, что он может сказать о себе одном — и более ни о ком изо всех своих предшественников, соперников и преемников:
Первый я преложил песню Эолии
В италийских ладах…
(Пер. Н. Шатерникова)
Слова Горация имеют в виду то, что просто не входило в понятийный арсенал ближневосточных книжников, — неповторимость творческой инициативы и вызванного ею
историко–литературного события. Это и есть категория «авторства» отличная от категории «авторитета» (и лишь заново вступающая с ней во вторичные комбинации). Разумеется, будучи поэтом античным, а не новоевропейским, Гораций самую инициативу описывает в терминах подражания–состязания
[115], соотнося ее с эолийским образцом, редуцируя к достаточно формальному моменту. И все же, несмотря на вопиющие различия, поворот темы у Горация по существу ближе, скажем, к вариациям на эту же тему у Державина и Пушкина, чем на ее разработку у египетского предшественника,.
Библейская традиция находится в этом отношении по ту же сторону границы, что и культура древнего Египта; и она сохраняет верность себе даже и в поздних своих порождениях, хронологически принадлежащих эпохе эллинизма. В заключительной приписке к Книге Екклесиаста похвала мастерству автора воздается в самой общей форме:
Слова у мудрых — как стрекало погонщика,
И как вбитые гвозди — у собирателей пословиц.
(12,11)
И у бен–Сиры описываемый им идеальный книжник читает «древних» вообще, «пророчества» и «притчи» вообще — так, что нельзя даже помыслить о специальном выделении если не конкретных авторов, то хотя бы конкретных текстов:
Только тот, кто посвящает свою душу
размышлению о законе Всевышнего,
будет искать мудрости всех древних
и упражняться в пророчествах.
Он будет замечать сказания мужей именитых
и углубляться в тонкие обороты притчей,
будет исследовать сокровенный смысл изречений
и заниматься загадками притчей…
(39, 1—3)
Следующая у него же похвала славным мужам Израиля (гл. 44— 50) равным образом не содержит ни единого слова, которое позволительно было бы хоть с натяжкой понять как характеристику того или иного автора — для нас сейчас безразлично, фактического или легендарного — из приписываемых ему творений. Да, Давид «после каждого дела своего приносил благодарение Святому Всевышнему словом хвалы» (47, 9), да, Соломон «наполнил землю» своими притчами (47, 17), — но речь идет не о свойствах псалмов, которые отличали бы их от любых других гимнов и молитв, не о свойствах притчей, которые определяли бы их специфическое положение среди всех более или менее аналогичных им текстов, но исключительно о свойствах самих мужей древности: Давид был предан Богу, Соломон был мудр, — причем в обоих случаях важно не то, что выделяет их между всеми иными бла- гочестивцами и мудрецами, но единственно то, что их с этими последними объединяет. Пример особенно важен по двум причинам: во–первых, трудно отрицать, что жанр
поименного восхваления великих мужей давал бы место и повод для характеристики связанного с именами этих мужей литературного наследия, если бы только в такой характеристике ощущалась хоть самомалейшая потребность; во–вторых, текст относится к весьма позднему времени, когда эллинистическая культура обеспечивала мощное распространение вширь стандартов греческой литературной критики, доводимых до сведения в различной этнокультурной и социокультурной среде. Тем более интересно, что автор, укорененный в библейской традиции, этими возможностями не заинтересовался
[116].
Эта констатация, как и вся статья, ограничена в своем содержании пределами историко–литературного подхода. Для обсуждения тем богословских или даже религиеведческих здесь не место. И все же уникальное место, занимаемое Библией в нашем бытии — в жизни верующих и хотя бы в историческом сознании неверующих, — принуждает сказать несколько слов, более или менее посторонних предмету статьи как таковому. Сделаем это с возможной краткостью.
Прежде всего, пример библейской традиции, привлекаемой для рассмотрения вместе с ее поздними, «девтероканоническими» и «апокрифическими» плодами, современными эллинизму, достаточен, чтобы убедить нас: отсутствие теоретико–литературной и литературно–критической рефлексии над феноменом индивидуального авторства характеризует не только стадию развития определенной культуры, автоматически преодолеваемую при переходе к следующей стадии, но в этом случае, как и во многих других, стиль культуры, ее внутренний склад, удерживаемый и на вершинах развития. Есть культуры, которым такая рефлексия явно противопоказана. Автор Евангелия от Луки и
Деяний апостолов, судя по обоим прологам, был носителем греческой школьно–риторической культуры; и если он не позволяет себе ни единым словом охарактеризовать чрезвычайно своеобразный словесный облик притчей и проповедей Иисуса
[117], — это затруднительно объяснить иначе, как живым ощущением неуместности такой процедуры в рамках библейской традиции
[118]. Мысль о мысли и слово о слове — не простое следствие прогресса мысли и слова, но очень специфическое направление этого прогресса. При этом я думаю, что запрет на рефлексию такого рода в Библии обоих Заветов не проистекает непосредственно из мотивов религиозных — у средневековых авторов мы не раз встречаем разбор тех или иных мест Священного Писания в категориях риторической теории стиля
[119], — но обусловлен именно складом библейской культуры (разумеется, все равно опосредующим импульс, в конечном счете религиозный, — однако лишь в конечном счете). Стиль христианского богословия не отторгает теоретико–литературной рефлексии, поскольку сам определяется нуждой в рефлексии, прежде всего экзегетической рефлексии над исходным текстом Писания; чем рефлексия отторгаема, так это стилем самого этого исходного текста — как раз потому, что это текст исходный, предлагающий себя для комментирования всей последующей христианской культуре, но сам себя не комментирующий. По этой же причине в Новом Завете, в отличие от дискурсивно–теологических текстов, почти нет дефиниций
[120], в отличие от назидательно–агиографических сочинений, почти нет оценочных характеристик
[121] и вовсе нет психологических мотивировок
[122].
Что до описанной выше применительно к Ветхому Завету, но более или менее характерной и для Нового Завета ситуации, когда авторитетное имя функционирует как знак, во–первых, верховного авторитета Бога как субъекта Откровения, во–вторых, коллективного авторитета общины как восприемницы Откровения, — важно понять, какой именно компонент этого комплекса является архаическим в собственном смысле слова. С точки зрения прогресса уровня системной абстракции вероучительные тезисы, а позднее догматы о боговдохновенности Писания и о легитимирующем значении его рецепции Церковью являются менее всего архаическими; архаична потребность подкрепить эту сверхземную авторитетность земным авторитетом некоего земного имени. Потребность эта вызывается скорее набожной психологией, нежели доктринальной логикой. Характерно, что в раннехристианской литературе мы встречаем весьма непринужденное обсуждение авторства Евангелий, их устных или письменных источников и т. п.
[123]; это логично, ибо для вероучения принципиально единое Благовестив Иисуса Христа
[124], а не привязка четырех составляющих авторизованный Церковью канон текстов к именам евангелистов. Отход от этой непринужденности, ощутимый к V в., представлял собой явление регрессивное
[125]. По сути своей вторичная средневековая неоархаика культа авторитетного имени, периферийная и необязательная для догматического каркаса христианской доктрины, но стимулируемая варваризацией религиозной культуры, проявилась в обвальном росте количества псевдоэпиграфических текстов, ходивших под именами Отцов Церкви и даже действующих лиц Нового Завета
[126]. В практике православия и католичества, то есть обеих апостольских конфессий, сохранивших непосредственное преемство по отношению к средневековому наследию, эта неоархаика загостилась на правах реликта очень долго: лишь в 1943 г. энциклика Пия XI «Divino afflante Spiritu» безоговорочно разрешила католическим библеистам окончательно распрощаться с сакраментализацией авторитетных имен и подходить к проблеме авторства библейских текстов, основываясь на научных критериях, как уже давно делали их лютеранские коллеги; что до православия, отсутствие в нем централизованного «магистериума» позволяет сосуществовать широкому разнообразию взглядов на вероучительную релевантность традиционных атрибут ций.
История показала, что возможен не только вторичный, но и третичный рецидив «архаики» в понимании авторитета: это происходит на наших глазах в фундаменталистских протестантских сектах, уже никак не связанных обязательствами перед средневековым наследием, но репродуцирующих архаическую установку, так сказать, из самих себя. Обильна такими вторичными и третичными рецидивами и реставрациями история иудаизма (для которого приверженность авторитетному имени, пожалуй, органичнее, чем для христианства, в силу меньшей догматической структурированности доктрины); достаточно вспомнить, с какой осторожностью шифровал в XII в. Авраам Ибн- Эзра свои догадки о невозможности для Пятикнижия Моисеева авторства (основанные, что небезынтересно, на элементарном различении фигур
автора и персонажа, очень легко, как мы уже видели, сливающихся в категории авторитета)
[127]. Сегодня иудаистические фундаменталисты, исходящие, в отличие от фундаменталистов протестантских, из буквальной непогрешимости не только «писаной Торы», но и «неписаной Торы», т. е. сколь угодно широко понимаемой традиции, настаивают на привязке к традиционным именам не только библейских текстов, но также кабалистических псевдоэпиграфов типа «Зогара» и т. п.
С точки зрения религиеведческой типологии можно отметить, что потребность возводить в вероучительный ранг традиционный текст с традиционным именем, как правило, прямо пропорциональна потребности в послушании личному авторитету конкретного наставника типа гуру — «старца», «цадика» и т. п. Самая ортодоксальная вера в Единого Бога иудаизма или в Триединого Бога христианства, приемлющая всю сумму основных вероучительных положений и верность своей общине, т. е. солидарность со своими единоверцами в пространстве и в веках, способна обойтись без абсолютизации человеческих авторитетных имен; абсолютное значение для христианина имеет имя Иисуса Христа, но, скажем, не имена евангелистов
[128]. Но когда в религиозной жизни реставрируется модель древнего отношения ученика к наставнику, сообразно этой модели реставрируется столь же древнее отношение к авторитетному имени как конкретизации и залогу святости текста. Для мистики послушания наставнику послушание догматам вообще и Церкви вообще чересчур абстрактно.
Так обстоит дело с функционированием авторитетного имени в библейской традиции, а также в различных традициях религиозной рецепции библейских текстов. Но напомним еще раз, что параллельные явления встречаются в контексте вполне мирском. С точки зрения истории литературы, имя Эзопа выполняет в применении к басням точно ту же функцию, что имя Давида — в применении к псалмам и имя Соломона — в применении к притчам. И уже после того, как теоретико–литературная рефлексия открывает независимое от модели этиологического мифа понятие авторства в собственном смысле, основанное, во–первых, на растущем интересе к индивидуальной манере, во–вторых, на медленно формирующейся идее литературной собственности
[129], — «вторичные» и «третичные» рецидивы имеют место подчас весьма далеко от сакральных жанров
[130].
2
Каждый помнит, что основополагающие тексты античной культурной традиции связаны с двумя именами: Гомера и Гесиода. Специфика греческой культуры в сравнении с древними культурами Ближнего Востока не в последнюю очередь проявляется в отсутствии специфической связи означенных имен и текстов — с сословиями жрецов и «писцов». Имя Гомера было институционально материализовано корпорацией «гомеридов» — то ли поэтов, то ли рапсодов на острове Хиосе. «Гомериды» — понятие, одновременно аналогичное тем же «сынам Кореевым» в Книге Псалмов и отдаленное от их мира, как образ рапсода далек от образа ветхозаветного левита.
Этот мирской характер авторитета Гомера и Гесиода не мешает тому, что самое древнее упоминание обоих имен в их двуединстве возникает в контексте полемики по религиозному вопросу; конечно, речь идет о знаменитом фрагменте 11 Ксенофана Элейского (VI — нач. V в. до н. э.): «Гомер с Гесиодом приписали богам все, что меж людьми позорно и постыдно: воровство, и блуд, и взаимные обманы». Отстаивая новое, философское понятие о божественном начале против старого, мифологического, Ксенофан вполне в духе этиологической модели представляет мифологию как вымысел Гомера и Гесиода. Получается, что именно Гомер и Гесиод совместно научили эллинов их мифам; что они являют собой в некотором смысле религиозный авторитет, но только — авторитет оспариваемый.
Вот первое, что мы встречаем на историческом пути к рефлексии над авторством: исконное понятие авторитета, но в ситуации спора. Задумаемся, что именно в этом нового. В истории любой культуры время от времени с неизбежностью возникали конфликты — религиозные, политические и всякие иные: скажем, у библейских пророков были антагонисты — «гонители», «лжепророки»; но каждый раз культура выправляла положение, устраняя из своей памяти — из канона — либо одну, либо другую спорящую сторону, либо, наконец, память об их потерявшем актуальность споре. Напротив, протестующий голос Ксенофана никак не мог лишить ни Гомера, ни Гесиода их статуса в греческой культурной традиции, однако и сам оставался в составе последней. Спор философской веры с мифологией поэтов был продолжен самым великим и самым авторитетным из греческих философов — Платоном. Само наличие этого спора хотя отнюдь не покончило с аксиологическим синкретизмом архаики, отказывавшейся уточнять, в каком именно отношении авторитетен авторитет, — греческая культура не раз возвращалась к концепции Гомера как непогрешимо–универсального наставника во всех вопросах, от веры и нравственности до наук, художеств и ремесел включительно
[131], — однако впервые поставило названный синкретизм под вопрос.
Освященные именем Гомера тексты оставались основой и фундаментом древнегреческого, а в значительной степени — и византийского образования. Но в греческой культуре была важная вакансия хулителя Гомера, «Гомерова бича», как называли кинически ориентированного ритора Зоила (IV в. до н. э.), чье имя само стало нарицательным
[132]. Некто Афинодор по пунктам возражал Зоилу; однако авторитет, защищаемый при посредстве таких апологий, необходимо претерпевает уточнение, т. е. дифференцирующее ограничение. Хулители авторитетов для того и нужны культуре греческого типа, чтобы эта культура, не отказываясь от авторитетов, выяснила пределы авторитетности последних. Резко забегая вперед, заметим, что на исходе античности христианские полемисты продолжили дело, которое на заре греческой классики начал Ксенофан.
Вернемся, однако, к Гомеру и Гесиоду. Их имена не просто сопоставлены, но и противопоставлены историей литературы; и противопоставленность эта имеет самое конкретное отношение к движению от концепта авторитета к концепту авторства.
Имя Гомера — авторитетное имя, по своему функционированию сопоставимое, скажем, с именем Эзопа. С полной безоговорочностью мы можем это сказать применительно к Гомеровым гимнам, заведомо принадлежащим разному времени; впрочем, уже античные схолиасты высказывали сомнение в авторстве Гомера, и это само по себе заставляет задуматься. Что касается эпоса — не входя в недра «гомеровского вопроса», отметим, что при институционализации имени Гомера через корпорацию «гомеридов» в культуре ближневосточного типа, наверное, победила бы тенденция ставить под знак имени всю продукцию так называемых кикликов; в греческой культуре тенденция эта, заявив о себе, потерпела поражение, что само по себе весьма знаменательно и симптоматично. Совсем другой вопрос, что мы не знаем и едва ли когда-нибудь узнаем, есть ли у поздно засвидетельствованного предания о некоем аэде по имени Мелисиген, прозванном Гомером и окончившем жизнь на острове Иосе
[133], хоть какая-нибудь фактическая основа. Но за самой по себе идеей противопоставить «подлинного» Гомера — «неподлинному», впоследствии так богато отрефлектированной у Аристотеля
[134], уже стоит некая зачаточная предрефлексия, некая фиксация внимания если не на признаках поэтической материи, то хотя бы, грубо оценочно, на ее качестве. Не будь этого задолго до Аристотеля — не дошло бы дело и до Аристотеля.
И все же имя Гомера, при всех оговорках, — столь же надличный символ эпической нормы «вообще», как и авторитетные имена, рассмотренные в первом разделе статьи. Но вот с Гесиода начинается нечто недвусмысленно новое.
Дело даже не в том, что Гесиод так много рассказал о себе самом — о семейном происхождении из эолийского города Кимы, о жизни в скудном, получающем самые нелестные эпитеты беотийском селении Аскре («Труды и дни», 633—640), об успешном участии в состязании певцов на погребальных играх в Халкиде (там же, 654—657), об отношениях с братом Персом (там же, passim). В конце концов, ветхозаветные пророки порой тоже кое-что сообщали о своем происхождении и других биографических обстоятельствах. Куда важнее, что говорит он о себе в специфическом, надо полагать, отталкивающем от конвенции — хотя, разумеется, тут же порождающем альтернативную конвенцию, — тоне нарочитой воркотни. Едва ли библейский автор стал бы так красочно бранить место своего проживания. Еще существеннее, что у него совершенно сознательно звучит мотив отталкивания от чужого слова, мотив выбора своего пути в словесном искусстве, декларативно противопоставленного некоему иному пути. Недаром он с таким чувством говорит о розни, восстанавливающей не только гончара — против гончара, плотника — против плотника, нищего — против нищего, но и аэда — против аэда («Труды и дни», 25—26); мало того, он отличает от пустой зависти — «благую Эриду» (там же, 24), импульс к состязанию, не дающий человеку покоя. Сознательно преувеличивая, мы могли бы сказать, что Гесиод первым похвалил то, что у Мандельштама именуется «литературной злостью»; но без всякого преувеличения отметим ясную формулировку столь фундаментального для греческой культуры принципа «агона»
[135]. Этот принцип требует от человека искать в словесном искусстве, как и во всем, собственный шанс, что рано или поздно ведет к растущей дифференциации жанров, а равно индивидуальных «имиджей». И вот Гесиод, повествуя в начале «Теогонии» об инициации, которую совершили над ним Музы, дабы превратить из неотесанного пастуха в аэда, сообщает весьма многозначительные слова, сказанные богинями (сейчас же после нарочито, по–мужицки грубого ритуального поношения посвящаемого в ст. 26): «Мы умеем говорить много лжи, подобной истине, но умеем также, если захотим, возвещать правду» (27—28). В словах этих нельзя не видеть вполне тема- тизированного противопоставления «правдивого» дидактического эпоса, которым занимался Гесиод, — «лживому» вымыслу эпоса героического. «Ложь» поэтического вымысла и специально «ложь» Гомера будет бесконечно обсуждаться сквозь всю историю античной культуры — от Солона, по–видимому, цитировавшего Гесиода
[136], через Платона и околоплатоновскую литературу
[137] вплоть до Синесия с его афоризмом: «Не все лжет и Гомер»
[138]. Сама по себе постановка вопроса о «лжи» поэтов, какой бы наивной она нам ни казалась, неизбежно стимулировала дифференциацию ценностей, обособление эстетической проблематики от всякой иной: житейски–прагматической, этической, религиозной, философской, научной и т. п. Поэт, изобличаемый во «лжи», — уже не пророк; но следующий шаг принуждает понять, что он — и не «лжепророк», а именно поэт,
авторитетный в силу, в меру и в пределах своего бытия как
автора, а не наоборот. Он «лжет» постольку, поскольку говорит не «правду вообще», принадлежащую богам и общине, но правду своего искусства (акцент на обоих словах — на «искусстве» и, чем дальше, тем больше, на «своем»). Но мы забежали вперед, описывая дальнейшее движение по пути, на который Гесиод только- только вступил, никоим образом не догадываясь о том, куда этот путь приведет. Суровый пастух из Аскры и не помышлял ни о какой правде искусства; он претендует на то, чтобы говорить самую обычную, житейскую, общезначимую правду, правду богов и общины, — но путь к этому описывает как
альтернативный по отношению к иному, причем, по–видимому, более традиционному. Другие так — а я вот эдак: читатель, научись различать!
Имя Гесиода стоит в начале пути античного дидактического эпоса; имя Архилоха — в начале пути античной лирики. Непродуктивно спорить, являются ли скандальные поношения Ликамба и Необулы, по преданию — несостоявшихся зятя и невесты поэта, а также еще более скандальное признание в грубейшем нарушении кодекса воинской чести — поэт, если верить фрагм. 6D, бежал с поля брани, оставив врагу свой щит, — «спонтанными» излияниями души Архилоха. Нет никакого сомнения, что поэт противопоставляет традиционной условности — фрагмент о щите не случайно пародирует формулы героического эпоса — новую, альтернативную условность. В этом убеждает хотя бы то, что после Архилоха греческие лирики начинают подозрительно часто сознаваться, что и они бежали с поля сражения, не преминув оставить свои щиты
[139]. Через века это общее место будет перенято и развито у Горация в 7 оде II книги; русский читатель вспомнит хотя бы пушкинское переложение:
…Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы…
«Не верю трусости Горация», — замечает у Пушкина изощренный Петроний. Верь — не верь, а цитата есть, конечно, цитата, предназначенная для читателя, способного ее идентифицировать; дело сугубо литературное. Вернемся, однако, от цитаты к первоисточнику. Если у Гесиода мы, сознаваясь в натяжке, искали «литературную злость», — у Архилоха можно со значительно большим основанием усмотреть
литературный скандал, и притом такой, что он способен был провоцировать литературные же реакции в продолжение столетий
[140]. Важно не то, что и в приемах этого скандала была своя условность, в конце концов, как все на свете, имевшая свои фольклорные корни и свои мифологические архетипы, но то, что условность эта — именно альтернативная, с нажимом, с вызовом альтернативная. Как раз в зазоре
между различными системами условности и располагается пространство, потребное для выращивания индивидуального авторства; пионером в этом деле будет тот, кто этот зазор приметит, расширит, использует. Ради такой цели одна условность выдвигается против другой, и стратегия этого акта агрессии уже вполне индивидуальна — в реалистическом, т. е. не столько психологическом, сколько
историко–литературном смысле слова. Даже при сугубо фрагментарном состоянии, в котором дошло до нас наследие Архилоха, видно, сколь настойчиво поэт бравирует своим безразличием к тому, что скажут «люди» — при жизни человека (фрагм. 9D) и тем паче после его смерти (фрагм. 64D); смыслу подобных заявлений нимало не противоречит то, что сделаны они для «людей», а именно, для того разряда людей, который именуется
публикой. Совершенно бесполезно спрашивать, насколько верен лирический автопортрет Архилоха его индивидуальности как факту внелитературному — зато сам по себе этот автопортрет обладает оригинальностью, содержание которого выходит далеко за пределы самоидентичности индивида, выражаемой простым личным именем.
Интересно, что на заре авторской греческой литературы мы встречаем поэтов, чрезмерно увлеченных как раз надеждой на силу личного имени как магического знака литературной собственности. Фон для этих фактов — распространение обычая ставить подписи художников, например, на вазах и прочих изделиях
[141]. Сравнительно жесткий характер греческой просодии порождал иллюзию, что имя, введенное в просодические матрицы — знак, которого нельзя ни стереть, ни подделать. И вот Фокилид монотонно начинал одно стихотворное изречение за другим словами: «и это — Фокилидово» (και τόδε Φωκυλίδου, вариант Φωκυλίδεω). Например: «И это Фокилидово: Леросцы дурны, и не так, что один — да, другой — нет; дурны все, кроме Прокла; но и Прокл — леросец» (фрагм. 1D); «И это — Фокилидово: что толку родиться благородным, если нет прелести ни в словах, ни в мысли» (фрагм. 3D). Другой мастер дидактических двустиший, Феогнид, менее тривиально придал значение «печати», удостоверяющей права его литературной собственности, личному имени любимого им юноши Кирна, сына Поли- пая. «Кирн, когда я умствую, пусть на словах моих покоится печать (σφρηγίς), дабы никто не смог ни украсть их тайком, ни подменить доброе — дурным (19—21). Ирония истории состоит в том, что именно творчество Феогнида и Фокилида породило особенно много подражаний и подделок; «под Фокилида» было уже в первые века нашего летосчисления, не без воздействия иудейской традиции, сочинено пространное дидактическое стихотворение. Происшедшему не приходится удивляться; Феогнид был, с нашей точки зрения, автор яркий и оригинальный, Фокилид — не очень, но оба они работали в жанре поучительного афоризма, с точки зрения истории литературных форм не столь уж далекого от мира «Книги Притчей Соломоновых», вообще от ближневосточной словесности. Жанр этот множеством нитей связан с установкой на авторитет, на циклизацию наличного в традиции и заново входящего в состав традиции материала вокруг символически значимого имени. Хитрость Феогнида, в общем, удалась сравнительно больше; специалисты до сих пор принимают во внимание наличие или отсутствие имени Кирна при обсуждении весьма дискуссионного вопроса об аутентичной части дошедшего под именем Феогнида наследия.
Этот казус очень интересен как пограничный. Поэты вкладывают в употребление имени как «печати» всю остроту новооткрытого пафоса личного авторства; но механизмы традиции отчуждают имя в свою пользу. Эта игра будет повторяться в дальнейшей истории литературы вновь и вновь. Однако ее исход окажется во многом зависящим от свойств жанровой формы. Поэзия метрически организованного афоризма, столь характерная для «вечного» Востока, — по слову Пушкина, «четки мудрости златой», — создает условия, в которых границы индивидуального авторства с трудом прочерчиваются и легко закрываются новыми всходами. Это европейским читателям рубайят Омара Хайяма, изначально прочитавшим их в переводе и в
подборке Эдварда Фитцджеральда, померещилось, будто с их личной характерностью дело обстоит так ясно и просто; но ориенталисты не поощряют иллюзий на сей счет. Довольно безнадежно смотрит наука на возможность атрибуции или хотя бы датировки большого числа греческих дидактических эпиграмм: уж не будем говорить об эпиграммах, дошедших под именами Эпихар- ма и Праксителя, Алкивиада и Сократа, — но что делать, если текст, на котором основаны иные характеристики известного эпиграмматиста III в. до н. э. Посидиппа
[142], принадлежит то ли ему, то ли Платону Комику, то ли Кратету Кинику?
[143] Учительный афоризм имеет свойство быть «ничьим» — как пословица, как острота. Но греческая литература создала совсем иные жанры, где явление крупной авторской личности оказывалось неповторимым и необратимым событием, изменяющим облик жанра: здесь прежде всего следует назвать трагедию. Эсхил,
Софокл, Еврипид — индивидуальность каждого из этих поэтов была лицом определенной стадии развития трагической поэзии; и если исторический срок расцвета жанра был столь кратким, это случилось потому, что в творчестве Еврипида личное начало мощно перевесило весомость канонов жанра, выходя к новым формальным возможностям. Самый объем понятия «трагедия» менялся от Эсхила к Софоклу и от Софокла к Еврипиду: поэтика Еврипида не просто стоит рядом с поэтикой Эсхила, но ее оспаривает — это сумел понять уже Аристофан в «Лягушках».
Пока идеал литературы остается нормативным, авторство есть в некотором роде авторитет — но авторитет, оспаривающий другие, ему подобные, и оспариваемый ими, осознанно пребывающий в состоянии спора, и притом не временного — каким был конфликт пророка и лжепророка в Ветхом Завете, — но длящегося, пока длится бытие культуры.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ КАТЕГОРИИ ЖАНРА: ОПЫТ ПЕРИОДИЗАЦИИ
1
Мы не намерены напоминать, что каждый литературный жанр есть явление историческое, что жанры постепенно приобретают и накапливают свои признаки — необходимые и достаточные условия своей идентичности, затем «живут», разделяя участь всего живого, то есть терпя изменения; иногда «умирают», уходят из живого литературного процесса, иногда возвращаются к жизни, обычно в преобразованном виде.
Говорить об этом — значит ломиться в открытые двери. Например, каждому литературоведчески грамотному человеку без дальнейших слов ясно, что в словосочетаниях: «жанры древнегреческой хоровой лирики», «жанры римской любовной лирики», «жанры русской лирики XIX в.» — не только состав списка жанров, но и объем родового понятия «лирика» в каждом случае иной. Но как быть с объемом понятия «жанр»?
Есть ли категория жанра в ее наиболее общем, обобщенном, абстрагированном виде, некий инвариант, неподвижная точка отсчета, относительно которой можно спокойно рассматривать движение конкретных жанров, или она сама подвижна, подвержена принципиальным, идущим до самой сути изменениям, исторически обусловлена?
Когда вопрос поставлен так, снова спорить еще не о чем: всем в принципе ясно, что к истине ближе не первое, а второе. «Все течет», — сказал Гераклит; «все исторически обусловлено», — гласит принцип историзма. Все — значит, и категория литературного жанра. Даже направление модификаций этой категории, пожалуй, заранее представи- мо. Сначала она, как все на свете, проходит фазу становления, делается определеннее (что совпадает с прогрессирующей дифференциацией конкретных жанров); затем присущая ей нормативная жесткость преодолевается, живой литературный процесс «ломает жанровые каноны».
Это все общие места современного теоретико–литературного сознания, прописные истины… Почему мы не можем ими удовлетвориться?
Во–первых, потому, что движение категории жанра предстает при таком уровне точности κέικ бесформенный эволюционный процесс, без выясненных темпов и сроков, без вычлененных этапов. Категория жанра исторически складывалась — и к какому же именно моменту сложилась? Жанровые каноны «ломаются» — начиная с какого времени? То, что можно было бы назвать профессиональным обыденным сознанием литературоведа, неприметно приучается к мысли, что гении всегда «ломали каноны». Уж так им, гениям, полагается
[144]. Поворотные моменты в истории конкретных жанров, когда за несколько веков или за несколько десятилетий — в перспективе всеобщей истории литературы крайне быстро — жанр утрачивает старую идентичности и обретает новую, выяснены или подлежат выяснению. А поворотные моменты в жизни самой категории жанра как простейшего элемента литературы — они выяснены?
Во–вторых, одно дело согласиться в общем, что категория жанра, «жанровость» κέικ таковая, тоже подвержена изменениям и обусловлена исторически; увы, совсем другое дело — сделать из этого положения конкретные выводы для изучения и описания истории литературы. Хорошо еще, если историк литературы не забудет отметить, что для античной литературы или — тут уж никуда не деться — для литературы классицизма
[145] категория жанра значит гораздо больше, чем для современной. В остальном же слово «жанр» довольно невозмутимо применяется к самым различным явлениям. У фольклора есть жанры; в древнеегипетской литературе есть жанры; в античной и средневековой, в ренессансной, барочной и классицистической литературах есть жанры, в современной литературе есть жанры… Когда историк литературы употребляет столь привычное для него слово «жанр», без которого не построить даже самого элементарного литературоведческого высказывания, смысловое наполнение этого термина обычно мыслится заранее известным. И то сказать, как спрашивать с практика истории литературы, например, с ориенталиста, с головой погруженного в специфические трудности своей профессии, начиная с языковых, чтобы он каждый раз отдавал себе отчет в изменчивом объеме понятия «жанр», когда теория литературы не озаботилась дать ему достаточно четкую сеть координат для измерения этого объема? А потому вторая из двух неурядиц, о которых идет речь, связана с первой, вытекает из нее.
С не столь уже давнего времени, благодаря работам Д. С. Лихачева — о древнерусской литературе
[146], Б. Л. Рифтина — о китайской литературе
[147], А. Б. Куделина — об арабской поэзии
[148], благодаря работам некоторых других отечественных филологов, счастливо совместивших в себе историков и теоретиков литературы, мы по крайней мере привыкли к мысли об особом статусе жанра в традиционалистских литературах. Для этих литератур реабилитировано понятие канона
[149]; оказывается, не всегда единственное назначение канонов состояло в том, чтобы поскорее быть «сломанными». (Здесь уместно вспомнить и о влиянии общеэстетических идей А. Ф. Лосева
[150].) Но на сегодняшний день этого мало. Понятие канона, как и понятие традиционалистской литературы, нуждается в дифференциации. Есть канон и канон, и традиционализм традиционализму рознь.
Возьмем профессиональный опыт, который мне ближе всего, — опыт византиниста. Византийская литература — традиционалистская, и в каждом из ее жанров полновластно господствует жанровый канон. Но что это за жанры? Присматриваясь, мы видим, что одни из них были завещаны античной литературной традицией (например, эпиграмма), между тем как другие были заново созданы для новых нужд, как- то: для христианского культового обихода (например, кондак или стихира). Историки византийской литературы спокойно говорят о «жанре» эпиграммы и «жанре» стихиры, как если бы это были жанры в одном и том же смысле слова — только один мирской, а другой сакральный. Но это не так. Эпиграмма определяется, распознается среди других жанров исключительно по внутрилитературным критериям: это стихотворение небольшого объема, написанное определенным размером — обычно либо элегическими дистихами, т. е. попарно чередующимися гекзаметрами и пентаметрами, либо, что бывало гораздо чаще, теми двенадцатисложными строками с ударением на предпоследнем слоге, какие в силу принятой условности заменяли византийцу ямбические триметры
[151]. Оно непременно основано на некоторой игре ума — остроте, контрасте или парадоксе, а его тема относится к одному из традиционных для эпиграммы разделов, вычленяемых в корпусе «Па- латинской антологии» — эротика, насмешка, афористическое поучение и т. п. Ни одного обязательного внелитературного признака у византийской эпиграммы нет. Напротив, стихира характеризуется не только и даже не столько своими признаками как литературного текста (объем, силлабический ритм и т. п.), сколько своим местом внутри культового комплекса текстов («чинопоследования», или «аколуфии» богослужения), то есть по внелитературному критерию, по которому заодно производится дальнейшая классификация разновидностей стихиры: например, есть «стихиры на хвалитнех» — те, которые поются вслед за стихами, взятыми из последних трех псалмов (где много раз употреблен глагол «хвалить»). Это значит, что стихира — не просто иной, совсем иной жанр, чем эпиграмма, но в другом смысле жанр. Структура византийской литературы была такова, что в ней на разных ее «ярусах» одновременно сосуществовали различные статусы жанра, или, что то же, различные этапы эволюции категории жанра. Заметим вскользь, что игнорирование этого факта приводило к недоумениям, не раз выражавшимся в научной литературе о византийской гимногра- фии еще со времен зачинателей изучения последней Вильгельма Крис- та и Михаила Параникаса, которые более ста лет тому назад пытались разобраться, на каких, собственно, основаниях построена принятая у византийцев гиг^нографическая жанровая система.
Все это тем важнее, что от объема понятия жанра всякий раз зависит не только объем другого фундаментального литературоведческого понятия — понятия авторства, но и реальный объем самого понятия художественной литературы. Мы сказали, что стихира — в ином смысле жанр, чем эпиграмма. Но это и в ином смысле художественная литература (одно логически вытекает из другого). С точки зрения самого византийца эпиграмма и стихира противостоят друг другу не столько как мирская и сакральная литература, сколько как литература и нелитература. Определенные требования (прежде всего «аттический» пуризм лексики, а также принадлежность либо к прозе, соответствующей античному представлению о таковой, либо к квантитативной поэзии, основанной на чередовании долгих и кратких слогов, но ни в коем случае не к силлабической поэзии
[152]), маркировавшие для византийца специфически художественный характер текста, к стихире не предъявлялись.
Этот пример интересен тем, что вскрывает неоднородность статуса жанра в синхроническом разрезе. Но наше внимание должно быть уделено прежде всего диахронической эволюции категории жанра.
2
Коренные изменения, затрагивающие самую суть категории жанра, а значит, и объем понятия художественной литературы, несравнимо более редки, чем изменения в бытии отдельных жанров. И все же они происходят. Вопрос: когда именно и какие именно?
Я уже пытался ответить на этот вопрос, правда, сугубо предварительно, в моем вступлении к коллективному труду «Поэтика древнегреческой литературы»
[153]. Я постараюсь как можно меньше повторять это вступление, хотя не смогу избежать этого абсолютно.
Очевидно, исходная точка всякого историко–литературного развития — синкретическое единство словесного искусства и обслуживаемых им внелитературных ситуаций, прежде всего бытовых и культовых (в условиях, когда быт и культ — более или менее одно и то же). В некоторой ситуации уместно вести себя так, в другой — иначе; и жанры словесного искусства, фольклорной и письменной «предлитерату- ры»
[154] определяются именно из этой внелитературной уместности. Что есть, например, причитание (по–гречески — θρήνος, в Библии — qinah)? То, что выкликается в ситуации коллективной скорби, общинного траура и выкликается с определенными жестами, например, ударами в грудь, с определенными интонациями, например, напевными или речитативными и т. п. Ни ситуации, ни жестов, ни интонаций нельзя выкинуть из характеристики жанра. В быту архаической Греции σκόλιον — песня, которую поет участник застолья, держа в руках передаваемую по кругу чашу или миртовую ветвь; и снова ритуализо- ванная обстановка пира и движение поочередно обходящего участников предмета, указывающее, кому петь, входят в характеристику жанра. Дурак из сказки, который вел себя на свадьбе, как на похоронах, а на похоронах, как на свадьбе, — абсолютный антиидеал традиционного общества, как бы фотографический негатив творимого им типа поведения — а также творимого в нем типа словесного искусства. Последнее больше всего озабочено тем, чтобы вести себя на свадьбе, как на свадьбе, а на похоронах, как на похоронах. Жанровые правила на этом этапе — непосредственное продолжение правил бытового приличия или сакрального ритуала. Именно поэтому они никогда не эксплицируются в теоретической форме.
Таково словесное искусство в пределах фольклора. Таковы же в общем, литературы древнего Ближнего Востока и архаической Греции. Не будучи ориенталистом, не решаюсь привлекать для сравнения то, что было Дальше в восточном направлении; хотелось бы, чтобы ориенталисты восприняли эту статью, как вопрос, обращенный к ним. Лишь относительно Индии у меня есть подозрение, что она уже в древности вышла за пределы такого состояния литературы вообще и жанра в частности; подозрение это будет высказано чуть ниже, вообще же об Индии следует говорить индологам.
Необходимая оговорка: по мере усложнения и утончения словесной культуры возникали и такие жанры, в которых ритуально–бытовой характер не имел густоты и вещественности, присущих ему в том же причитании, но выступал относительно разреженным и развещест- вленным: таков эпос от «Гильгамеша» до «Илиады» и «Одиссеи», таковы циклы дидактических афоризмов от «Изречений Птаххотепа» до «Книги Притчей Соломоновых» и сентенций Семи Мудрецов Эллады. И все же это тексты, жанровая детерминация которых не сводима к реальности самой литературы. Например, стиховой ритм «Книги Притчей Соломоновых» и даже гекзаметры «Илиады» — еще не самодостаточный литературный факт «метрики», но отражение того обстоятельства, что афоризмы Библии жили в церемониальном речитативе «мудрецов», а эпос Гомера — в распеве аэдов. Да, уже на этом этапе «пред- литература» все больше становилась литературой (иначе она никогда не стала бы таковой, и говорить было бы не о чем). Но это была лишь литература «в себе», еще не литература «для себя»
[155], т. е. не литература, которая выработала бы свое самосознание, свою рефлексию, которая взглянула бы на себя самое в зеркало критики и теории, то есть сознательно полагала бы и конституировала бы себя как литературу.
И вот подтверждение тому: стоит на этом этапе жанровой номенклатуре отойти от бытового и ритуального обихода, как в ней становится очень трудно разобраться, и это трудность объективная. Твердые критерии пока даются лишь внелитературной реальностью. Вернемся к нашему примеру: ясно, что есть причитание, поскольку ясно, при каких обстоятельствах оно уместно. Но библейские дидактические афоризмы обозначаются древнееврейским словом masal которое одновременно означало также «притчу», «иносказание», «аллегорию», в конце концов — всякую игру мысли, облеченную в слово, «кончетто». Потребности в четком размежевании жанров нет, потому что еще нет специального мышления в жанровых категориях.
Для литературы, которая уже есть «литература–в-себе», но не «ли- тература–для–себя», привычную нам категорию авторства заменяет категория авторитета (не случайно эти слова этимологически связаны между собой)
[156]. Чтимое имя прикрепляется к чтимому тексту как ритуальный знак его чтимости («Давидовы псалмы», «Гомеровы гимны»), во всяком случае, его традиционной апробированности («Эзоповы басни»). В этой связи нужно подчеркнуть, что категория авторитета действует отнюдь не только применительно к сакральной литературе. Вполне «мирские» традиции в области литературной формы тоже должны быть поставлены под знак авторитетного имени — «сапфическая строфа», «алкеева строфа», — и это по той же причине, по которой этиологический миф возводит любое явление и любое обыкновение к личной инициативе бога или героя. У Аристофана в «Лягушках» Дионис спрашивал о происхождении платы размером в два обола загробному перевозчику Харону: Геракл отвечал: «Ввел Тесей»
[157]. Так на вопрос о происхождении метрической схемы строфы можно было ответить: «Ввел Алкей», «Ввела Сапфо», — и общественное функционирование так ого ответа абсолютно не зависело от того, действительно ли эолийские поэты были создателями этих схем или нашли их уже созданными.
Это состояние литературы я предложил обозначать как состояние
дорефлективного традиционализма[158].В результате аттической интеллектуальной революции V-IV вв. до н. э., завершившейся ко временам Аристотеля, дорефлективный традиционализм был преодолен. Литература впервые осознала себя самое и тем самым впервые конституировала себя самое именно как литературу, т. е. автономную реальность особого рода, отличную от всякой иной реальности, прежде всего от реальности быта и культа. К исходу эллинской классики это самоопределение литературы оформилось в рождении поэтики и риторики — литературной теории и литературной критики; отнюдь не случайно подъему философской гносеологии и логики, то есть обращению мысли на самое себя, отвечает обращение мысли на свое инобытие в слове. Оба события глубоко связаны между собой
[159]. Аристотель, отец европейской логической традиции, — одновременно автор «Поэтики» и «Риторики». (В древней Индии выходу к гносеологической проблеме также соответствовало рождение теории языка и теоретической поэтики.)
Литература остается традиционалистской; но это уже рефлективный традиционализм.
Перед лицом наличия рефлексии или самой возможности рефлексии простейшие компоненты бытия литературы не могли оставаться прежними. Жанр получает характеристику своей сущности уже не из внелитературных ситуаций, но из собственных литературных норм, кодифицируемых теорий. Жанровые правила — словно конституция независимого, суверенного государства. Теоретик выступает в роли законодателя. Каким должен быть герой трагедии? «…Не следует, ни чтобы достойные люди являлись переходящими от счастья к несчастью, так как это не страшно и не жалко, а только возмутительно; ни чтобы дурные люди переходили от несчастья к счастью, ибо это уж более всего чуждо трагедии, так как не включает ничего, что нужно, — ни человеколюбия, ни сострадания, ни страха; ни чтобы слишком дурной человек переходил от счастья к несчастью, ибо такой склад хоть и включал бы человеколюбие, но не включал бы ни страха, ни сострадания, ибо сострадание бывает лишь к незаслуженно страдающим, а страх — за подобного себе, стало быть, такое событие не вызовет ни сострадания, ни страха. Остается среднее между этими крайностями: такой человек, который не отличается ни добродетелью, ни праведностью, и в несчастье попадает не из-за порочности и подлости, а в силу какой-то ошибки, быв до этого в великой славе и счастии…»
[160]Каким должен быть сюжет трагедии? «Необходимо, чтобы хорошо составленное сказание было скорее простым, чем <…> двойным и чтобы перемена в нем происходила не от несчастья к счастью, а, наоборот, от счастья к несчастью, и не из-за порочности, а из-за большой ошибки человека такого, как сказано, а если не такого, то скорее лучшего, чем худшего… С точки зрения искусства лучшая трагедия — это трагедия именно такого склада»
[161]. Знаменательны слова «с точки зрения искусства» (κατά την τέχνην). После того, как законы жанра сформулированы, от произведения требуется как можно более отчетливая жанровая идентичность; по этой логике хорошая трагедия есть «трагичнейшая» трагедия. Определив свою программу, Аристотель заключает: «…на сценах и в состязаниях именно такие трагедии кажутся трагичнейшими»
[162].
Сама номенклатура античных жанров, в своем лексическом составе сложившаяся до этого поворота, а затем энергично переосмысленная под его воздействием, донельзя наглядно фиксирует сдвиг во взгляде на вещи. Например, та же «эпиграмма», по буквальному смыслу слова «надпись» на камне или ином предмете, отныне прежде всего «малая форма», принадлежащая лирическому роду и обладающая определенными характеристиками со стороны ее литературного облика — объем, метр, топика.
Категория авторства отныне соотносится с характерностью индивидуальной манеры, индивидуального стиля
[163]. Автор потому и автор, что не похож на другого автора, и знаток (еще одна новая фигура, порожденная фактом литературно–критической рефлексии) всегда сумеет распознать его руку. И все же категория жанра остается на стадии рефлективного традиционализма куда более существенной, весомой, реальной, нежели категория авторства; жанр как бы имеет свою собственную волю, и авторская воля не смеет с ней спорить. Автору для того и дана его индивидуальность, его характерность, чтобы участвовать в «состязании» со своими предшественниками и последователями в рамках единого жанрового канона, т. е. есть по одним правилам игры. Понятие «состязания» (греч. ζήλωσις, лат. aemulatio) — одна из важнейших универсалий жизни литературы под знаком рефлективного традиционализма
[164]. Она служит важным фактором непрерывности среди смены больших и непохожих друг на друга эпох: эллинизм и Рим, средневековье и Ренессанс, барокко и классицизм.
Для этих эпох сохраняет силу статическая концепция жанра как устойчивых правил игры, в которую можно играть с удаленными во времени партнерами. Это жанр как литературное «приличие» (греч. τό πρέπον) в контексте противоположения «возвышенного» и «низменного», как-то соотнесенное с сословным принципом: но приличие именно литературное, существенно отличное от всякого иного, бытового или ритуального. С такой концепцией жанра неразрывно связаны два других признака рефлективно–традиционалистской культуры:
— неоспоримость идеала передаваемого из поколения в поколение и кодифицируемого в нормативистской теории ремесленного умения (τέχνη);
— господство так называемой рассудочности, т. е. ограниченного рационализма, именно в силу соблюдения фиксированных границ не полагающего собственной диалектической противоположности — того протеста и мятежа против «рассудочности», который заявил о себе в сентиментализме, в движении «бури и натиска», а вполне отчетливо выразил себя в романтизме.
Общий принцип такого рода литературы я позволил себе назвать риторическим, что в предлагаемой терминологической системе равнозначно понятию рефлективного традиционализма.
Разумеется, если такая характеристика относится к такому огромному ряду эпох, а впрочем, даже к какой-либо одной эпохе, но взятой в целом, она требует оговорок. Одна из таких оговорок — указание на то обстоятельство, что переход от дорефлективного традиционализма к рефлективному не может охватить всю сумму жанров и тем более конкретных произведений. Остаются виды словесного искусства, так и не получающие эмансипации от бытового или ритуального контекста, а потому остающиеся на стадии дорефлективного традиционализма. Особенно явственен возврат к этой стадии в культовой литературе христианского средневековья (вспомним сказанное выше о стихире). Последствия рефлексии — это объективные последствия субъективного акта: если литература конституировала себя тем, что осознала себя как литературу, то из этого вытекает, что так называемые низовые жанры (например, «необработанная» проза некоторых мемуарных текстов, «Книга о моей жизни» Тересы де Хесус, 1562—1565, но также шванков и т. п.), с нашей, современной точки зрения представляющие собой подчас весьма интересную и высококачественную литературу, но не осознававшиеся или неотчетливо осознававшиеся как литература, объективно оказались за некоей чертой. Действие риторического принципа в них хотя никоим образом не исключено, однако непоследовательно и необязательно. Они могли дольше всего удерживать признаки предыдущей, дорефлективной стадии; они же послужили для подспудного вызревания и накапливания возможностей следующей, уже не традиционалистской стадии. По пословице, у семи нянек — дитя без глазу, а у этой нелитературы нянек не было вовсе. Низовые жанры были запущены, а потому свободны. Оговорка к оговорке: семь нянек и отсутствие нянек, полное господство школьной жанровой правильности и полное ее отсутствие — логические пределы реальности; но конкретные явления располагаются в середине.
И еще одна оговорка: начиная с Ренессанса, заметны какие-то приметы конца риторического принципа. Выразимся осторожнее: если брать эти явления сами по себе и в перспективе своего времени, они едва ли читаются как предвосхищения нового состояния литературы. Но задним числом трудно прочитать их иначе. Сюда относятся, например, «Опыты» Монтеня, 1580: если Тереса ничего иного не желала, как исполнить свое монашеское послушание и дать в руки младшим сестрам сугубо утилитарную информацию о своем духовном опыте, то Монтень совершенно сознательно избирает безыскусственность и непринужденность как литературную позицию и последовательно осуществляемый способ являться перед читателем. Правда, на это можно возразить, что традиционная риторика была не так проста, чтобы не додуматься еще в античные времена до идеала обдуманной и намеренной небрежности, искусственной безыскусности — αφέλεια. С этим возражением полезно считаться; но так ли много оно значит? Положим, непринужденность Монтеня на некотором уровне сопоставима с риторической αφέλεια Клавдия Элиана и ему подобных; но разве она может быть сведена к этому уровню? Время Монтеня — не время Элиана. Через два десятилетия после первой публикации «Опытов» такие священные для риторической культуры вещи, как условная элоквенция и условная дидактика, неожиданно предстанут у Шекспира в речах Полония как постылый абсурд. Современник Шекспира — Фрэнсис Бэкон, впервые оспоривший тот тип дедуктивного, силлогистического, «схоластического» мышления по образу формально–логической, геометрической или юридической парадигматики, за которым стоит гносеология, принципиально и последовательно полагающая познаваемым не частное, но общее
[165], и который является предпосылкой риторического воображения, тоже идущего от родового к конкретному
[166]. Наконец, примерно через столетие после Тересы явятся «Мысли» Паскаля — книга, оставшаяся незаконченной ввиду смерти автора, но и по каким- то собственным внутренним законам: с точки зрения традиционной концепции жанра книга без жанра, книга несделанная, несостоявшаяся, так сказать, некнига, нелитература, которая, однако, оказалась самым жизненным шедевром века. Паскаль писал: «Истинное красноречие смеется над красноречием». И еще: «Все ложные красоты, которые мы порицаем в Цицероне, находят почитателей, и во множестве» (Pensees sur 1'esprit et sur le style). Для гуманистов культ цицероновского красноречия стоял вне дискуссий; Паскаль пожимает плечами — «ложные красоты», проблема только в том, как это они находят почитателей! Кажется, будто не так далеки времена, когда слово «риторика» и словосочетание «общее место» станут бранными.
Но эти времена были еще не так близки. Настоящие, недвусмысленные признаки нового состояния литературы обнаруживаются лишь во второй половине XVIII в., причем одним из важнейших симптомов был подъем романа, самым своим присутствием, как показал Μ. М. Бахтин, разрушавшего традиционную систему жанров и, что еще важнее, самое концепцию жанра как центральной и стабильной теоретико–литературной категории.
АНТИЧНАЯ РИТОРИКА И СУДЬБЫ АНТИЧНОГО РАЦИОНАЛИЗМА
У слов — своя судьба. Поистине примечательно постоянство, с которым термины определенного ряда тяготеют к негативному переосмыслению. Над этим фактом стоит задуматься.
Самым первым в европейской традиции обозначением профессионально практикуемого и профессионально преподаваемого, а значит, формализованного умения умствовать и говорить было слово « софистика»; и оно приобрело одиозный привкус еще для самой античности
[167]. Впоследствии единое в руках софистов искусство убедительности разделилось надвое. Умение владеть словом с античных времен называлось «риторикой»; формализованная мыслительная работа с соблюдением школьных (scholasticus) технических правил в средние века называлась «схоластикой»
[168]. В Новое время, особенно в XIX в., оба слова широко употреблялись как бранные
[169]; они употребляются так и до сих пор
[170]. Нет причин отвергать общеизвестные объяснения судьбы этих терминов — понятие схоластики стало жертвой новоевропейского натиска на средневековый догматизм, понятие риторики оказалось скомпрометировано «склерозом» позднего классицизма. Все это так, но вот что любопытно: процесс продолжается, он идет дальше, он готов захватывать новые слова, уже не отягченные историческими реминисценциями. Начнем с риторики. Риторический профессионализм замещен в нашей культуре профессионализмом литературным: что же, слово «литература» еще не стало ругательством повсеместно, однако со времен Вер лена
[171] вполне может употребляться как таковое
[172]; а быть обвиненным в «литературности», тем паче в «литературщине»— не лучше, чем в «риторичности». Тот же одиозный ореол легко возникает и около других слов. Скажем, греческому слову «софист», по буквальному смыслу означающему профессионала, чья профессия — «мудрость» («со- фиа»), довольно точно соответствует современное международное слово «интеллектуал»; каждый знает, что по–русски оно употребляется почти всегда с иронией. Положим, права этого варваризма в русском языке по сие время сомнительны; но вот слово «интеллигент»— давно уже неоспоримо русское, несмотря на латинский корень; Бодуэн де Куртэ- не ввел его в четвертое издание словаря Даля, иностранцы употребляют транскрибированное латиницей intelligentsia как намеренный русизм. Сегодня возможность негативного осмысления термина «интеллигент», в общем, отступила — мы как раз переживаем реакцию на десятилетия идеологически мотивированных насмешек над интеллигентами как «хлюпиками» и «нытиками», по своей частотности в языке прессы «интеллигентность» стоит рядом с «духовностью», — однако вот что писал почти семьдесят лет тому назад такой несомненный представитель старой русской интеллигенции в лучшем смысле слова, как М. О. Гершензон, возражая Вяч. Иванову, человеку тоже достаточно «интеллигентному»: «Вы сердитесь: дурной знак <…> Даже браните меня интеллигентом»
[173]. Да и в современном нашем языке «интеллигентный» — похвала, но «интеллигентский» — чаще всего порицание.
Добавим, что слово «рационалист» все чаще употребляется сегодня как эвфемизм для обозначения человека, обвиняемого в расчетливости, может быть, и меркантильности, в цинизме, в холодности и сухости. Уж если «рационалист» — значит, нет ничего святого. Если такое словоупотребление — новшество, то ведь у «разума» (intellectus, Vernunft) еще со времен немецкого классического идеализма был низший двойник — «рассудок» (ratio, Verstand); если быть «разумным» похвально, то быть «рассудочным» дурно. Характерно, что этимология ни в русском, ни в других языках не дает достаточной опоры для оппозиции «разум—рассудок»
[174]; просто понадобился лексический дублер со знаком неполноценности, так сказать, «мальчик для битья» в мире понятий
[175]. В общем, трудно не вспомнить для шутливой параллели приводимые немецким филологом Ф. Дорнзейфом во введении к его лексикологическому труду примеры постепенной компрометации изначально нейтральных обозначений для лиц духовного звания (Pfaffe, ср. рус. «поп») и для лиц женского пола (Weib/Weibsbild, ср. рус. «баба», особенно Dime, ср. рус. «девка»)
[176]… Судьба интересующих нас слов такая же. Слова принуждены расплачиваться собственным «добрым именем» за чрезмерный ценностный ореол вокруг культуры мысли и речи, как они расплачиваются за избыток почтения перед священнослужителем или за избыток обаяния женственности. Это своего рода семасиологическая Немесида.
В такой шутке есть серьезный смысл, но все же шутка остается шуткой. Когда мы пытаемся сделать серьезные выводы, общность судьбы терминов, характеризующих в разные эпохи европейской культуры профессиональный и формализованный подход к мысли и речи, заставляет прежде всего иного задуматься над общностью их значения: «софист» и «схоласт», «ритор» и «литератор» предстают в единстве, в контексте своих типологических и генетических связей. Продумывая все импликации этого большого контекста, мы совершаем ряд объективных, безоценочных суждений. От них мы можем, если захотим, перейти к суждениям оценочным, интерпретируя вышеописанное обращение с терминами, скажем, как необходимую защиту мысли против ее же разросшегося и ставшего непозволительно автономным инструментария, или, напротив, как проявление деструктивной вражды к интеллектуальной дисциплине и к культуре вообще. Беда в том, что в приложении к феномену столь всеобщему, захватывающему языковое поведение людей различных эпох, самые противоположные оценки в равной степени верны и взаимно погашают друг друга. Выбирая ту или иную оценку, принимая позицию «за» или «против» рационализма и риторики, мы имеем шанс сказать нечто содержательное разве что о самих себе, но не об исторической действительности, которая и в этом случае, как в других, не сводится ни к чистому смыслу, ни к чистой бессмыслице. Если такая значительная часть человечества выражала и выражает в языке определенное отношение к определенным вещам, трудно не признать за этим резонов более глубоких, чем наше понимание сразу схватывает: с другой стороны, видеть в этом отношении тот самый глас народа, который глас Божий, — чересчур романтично
[177]…
Поэтому вернемся от оценочных суждений к безоценочным и закончим такой объективной констатацией: происходящее в «софистике», в «риторике», в «схоластике», вообще в «рационализме», рефлективное обращение мысли на себя самое и на свое выражение в слове глубоко, порой даже болезненно противоречит инерции сознания того персонажа, которого называли когда-то естественным человеком.
Последний заявил свой протест у самой колыбели рационалистической традиции — в «Облаках» Аристофана. Между отсутствием формализованного подхода к регуляции мысли и речи и его наличием — различие не количественное, не эволюционное, а качественное и революционное. Это пропасть, через которую нет мостов, которую можно только перескочить.
Как бы ни переосмыслял термины языковой обиход, в научном языке термины могут употребляться (просьба простить тавтологию) лишь терминологически, т. е. прежде всего на условиях исключения эмоциональных обертонов как вредных шумов, нарушающих чистоту звука. Наука не может иметь дело с «рационализмом», заранее редуцируемым до «меркантильного духа» (или, напротив, по старинке мифологизируемым при помощи световых метафор как «заря познания» и т. п.); «рационализм», которым занимается она, это предмет, требующий, чтобы говорили о нем, а не «за» или «против». Сосуществование в общем составе языка чистых терминов и терминов, эмоционально переосмысленных, — для науки досадная омонимия, с которой необходимо бороться, разводя омонимы как можно резче и четче. Всякий текст, допускающий возможность неоговоренной подмены термина псевдотермином, автоматически выбывает из числа научных.
Однако и корректное пользование терминами допускает варианты в расстановке смысловых акцентов; выбор того или иного варианта диктуется нуждами данного направления анализа, в отличие от других возможных направлений. Относительно этого выбора желательно сразу же объясниться с читателем. В наполнении термина «рационализм» нам особенно важен момент системной формализации мыслительного процесса и словесного творчества при помощи таких правил, которые формулируются эксплицитно и в общей форме (в отличие от сугубо конкретной, окказионально формулируемой рецептуры, которая характерна для архаических типов умения и обучения
[178]). Очевидно, что эксплицирование правил предполагает разработку терминов, подлежащих резъяснению в
дефинициях; из этого вытекает энергично высмеиваемый тем же Аристофаном разрыв с инерцией традиционной и бытовой языковой практики
[179], переход к той «критике языка», в которой JI. Витгенштейн усмотрел самую суть всякой философии»
[180]. Такое понимание термина «рационализм» необходимо методически отграничить по меньшей мере от двух других — более широкого и более узкого. Во–первых, более широкого: рационализм, понимаемый так, гораздо уже, чем рациональность, проявляющаяся в ремесленном умении, в донаучном накоплении знаний, в практической сметке, в житейской мудрости, поднимающейся подчас и до критики жизни — но только не методической и не системной критики. Суффикс «-изм» выражает именно опосредование непосредственной рациональности в сознательно применяемом методе. Рациональность человека — древняя, как сам homo sapiens, но рационализм появляется впервые при свете истории, на наших глазах, он характеризует не «вечную» природу человека, а определенные эпохи, в отличие от эпох предшествовавших. Во–вторых, более узкого: рационализм, понятый как характеристика целых эпох, и притом на уровне простейших форм культуры, гораздо шире, чем характеристика частного направления внутри той или иной эпохи. Например, говоря о рационализме в философии, мы имеем в виду не критическое направление в противоположность умозрительному или даже мистическому, но характер правил, в соответствии с которыми высказываются любые мысли, претендующие быть философскими. В этом смысле философия рационалистична как целое, в противоположность любой дофилософской и предфилософской «мудрости», рационалистична постольку, поскольку пользуется техникой дефиниции, силлогизма, приемами «критики языка» и самопроверки мысли, поскольку ставит гносеологическую проблему и т. п. Понимаемый так, рационализм совместим с определенными типами мистики (как это имеет место у Платона и особенно у неоплатоников, соединявших мистические запросы с огромным интересом к формально–диалектической проблематике, а за пределами античности — у средневековых схоластов типа Бонавентуры, подступавших к мистическим материям с навыками «дистинкций»); напротив, он совершенно несовместим с обыденным сознанием, хотя бы сколь угодно «рациональным» в смысле трезвости, практичности и критичности. Еще раз: взгляд на рождающийся рационализм из мира дорационалистической рациональности «человека с улицы» выражен в «Облаках» Аристофана. С этой точки зрения «философское обращение с речью — это какое-то немыслимое соединение равно антипатичных крайностей: легкомысленного баловства словом, достойного шарлатанов, и педантского крючкотворства и крохоборства, достойного сутяг и ярыг»
[181]. Но по критериям самого рационализма не прошедшая культивирования рациональность — это нулевая точка, голое отсутствие культуры
[182]. И еще с чем рационализм, разумеется, несовместим, так это с чистым, равным себе мифом. Подлинный миф имеет собственные законы, ни в одной точке не совпадающие с законами рационализма. Элементы мифа, приведенные в новый порядок, чуждый мифу как таковому, постоянно ложились в основу рационалистических построений, но только преобразованными в своем глубинном существе
[183].
Но мы говорим не просто о рационализме; мы говорим об античном рационализме, т. е. о самом первом воплощении европейского рационализма, искавшем, находившем и утверждавшем себя на своей начальной черте, перед лицом прошедшего, в котором рационализма не было. Последующие эпохи брали инструментарий рационализма из рук греков; но грекам неоткуда было взять его. Хотя бы отчасти этим объяснимы некоторые черты этого рационализма, явившиеся, разумеется, под действием целого комплекса причин, включая характер античного общества, влияние мифологических структур и т. п.
Мы только что отмечали, что для рационализма конститутивно важна разработка терминологии, разъясняемой в дефинициях. Но рационализм греческого типа имеет совсем особое отношение к дефинициям. В акте дефинирования «сущностей», как и в акте их классифицирования и каталогизирования, такой рационализм
утверждает себя. Между прочим, и в античном риторическом теоретизировании оба эти акта занимают место, совершенно не объяснимое из практических нужд обучения известным умениям. Один из наиболее ярких примеров нам уже случалось обсуждать в другом месте
[184]; это классификация возможного содержания писем в эпистолографических руководствах начиная с Деметрия Фалерского (IV-III вв. до н. э.) и до самого исхода античности. Утилитарные цели требуют уж скорее формализации соотношения между корреспондентами, как это и было принято позднее в новоевропейских письмовниках: вот так должен обращаться сын к отцу, а так отец к сыну, так начальник к подчиненному, а так подчиненный к начальнику
[185]. Но для каких утилитарных целей нужно отграничение письма «порицательного» от письма «бранного» и письма «укоризненного», а обоих последних — друг от друга?
[186] Это уже искусство для искусства — бескорыстная и безудержная радость классифицирующего и дефинирующего рассудка, который стремится раздвинуть свои возможности: у Деметрия выделен 21 тип эпистолярного сочинительства, но его позднеантичные продолжатели доводят число типов до 41 и даже до 113. Если мы не заблуждаемся, в этой странной особенности античной риторики отразилась некая родовая черта античного мировоззрения. Для античного рационализма, в отличие от рационализма новоевропейского, классифицирование и дефинирование — не просто служебный, подчиненный момент работы мысли, но одновременно цель мысли: прояснение «сущностей» в их статичном тождестве себе.
Здесь не место для историко–философских экскурсов; важно, однако, что античное мировоззрение в самых разных своих вариантах и в различные периоды, от архаики до порога средневековья, склонно оценивать «тождество» и самотождественность очень высоко. В плане онтологическом «тождество» имеет преимущества перед «инаковостью»; «тождество» первично, «инаковость» — вторична. В плане аксиологическом «тождество» представляет собой ценность: оно само по себе, как принцип высшей степени абстрактности, доброкачественнее, благороднее, чем инаковость. (Разделение онтологического и аксиологического планов соответствует скорее нашему мышлению, чем античному; для последнего онтологическая первичность сама по себе уже есть преимущество в иерархии ценностей
[187].) Максимум «тождества» и нулевая степень «инаковости»— это Единое, центральная тема платонизма и неоплатонизма, подготовленная элеатами. Дефинирование и классифицирование фиксируют для каждой сущности ее тождество себе самой, через которое оно «причастно» Единому. В этой связи стоит заметить, что именно такое понимание сущности, эксплицированное платонизмом, но в той или иной мере очевидное и за его пределами, есть пункт, в котором античный рационализм мог сойтись в мировоззренческое единство особого рода с внерациональными компонентами мировоззрения — с реликтами интеллектуально переработанного мифа, с мистикой. Сюда относится, например, философский миф Ксенофана о едином и недвижимом боге, равномерно наделенном по всей своей целости атрибутами мышления, зрения и слуха
[188], философский миф Парменида о бескачественном и во всех направлениях равном себе ШареСфайросе, заключающем в своей самозамкнутости полноту мирового бытия
[189]; сюда же относится эйдос–идея Платона, но также неделимый атом Демокрита. Неделимость, неразрушимость, несводимость ни на что «иное», неподвластность гераклитовскому потоку, внутренняя однородность, односоставность, замкнутость формы шара и его равномерная распространенность по всем направлениям от центра — все это, употребляя выражение немецкого философа К. Ясперса, «шифры» для выражения одного и того же: момента равенства себе.
Современное сознание находится во власти дихотомии «миф- научность». Бездна архаики по одну сторону — футурологическая бездна по другую; в завороженности этими безднами легко потерять серединное пространство истории, уже цивилизованной, уже отнюдь не архаичной, но своим традиционализмом отделенной от современности, не говоря уже о футурологических перспективах. Но именно это серединное пространство со своими законами — драгоценное наследие нашей памяти, и оно составляет предмет исторического знания. Нам уже приходилось отмечать в этой связи характерную для нашего времени в целом условность мышления гениального Бахтина: последний противопоставил друг другу как сопредельные величины «эпос» (по контексту — гомеровский, т. е. архаический исток традиции) и «роман» (по контексту — разрушение всякой традиции)
[190], полностью отвлекаясь от ряда классических эпох — Еврипида и Вергилия, Тассо и Расина, соединивших в долговечном равновесии рефлексию, чуждую эпосу, и традиционализм, чуждый роману, по крайней мере понятому по–бахтин- ски
[191]. Путь человечества делится не на два — там архаика под властью мифа, здесь современность под знаком науки, — а, по крайней мере, на три: между традиционализмом, не знающим рефлексии, и рефлексией, порвавшей с традиционализмом, лежит синтез обоих начал, который едва ли смог бы просуществовать более двух тысячелетий, будь он основан на простом компромиссе
[192]. Поэтому едва ли благоразумно рассматривать взаимопроникновение системно–рационалистических и вне- рационалистических компонентов зрелого античного мировоззрения в терминах вышеназванной дихотомии — как пережиточное и превращенное бытие все того же мифа или как зачаточную стадию нашей научности. Это мировоззренческий тип особого рода, строго отмежеванный и от мифа, и от новоевропейской научности, подчиненный собственным законам и заслуживающий собственного имени. По–видимому, лучше всего выбрать одно из имен, предлагаемых традицией, — например, термин «метафизика», обязанный, как известно, своим рождением случайности, но за много веков обретший достаточное богатство смысла, чтобы отвечать такой функции. Такие концепты, как концепт недвижимого перводвигателя, столь важный и для Аристотеля, и для средневековых схоластов, — не наука в современном смысле слова, также и не внутринаучное заблуждение, но это и никоим образом не мифы: к их субстанциальным признакам принадлежит уровень абстракции, формально–логический костяк, императив непротиворечивости, совершенно чуждые мифу. Миф не может эволюционным путем (через количественное нарастание коэффициента рационализации) превратиться в метафизику; между мифом и метафизикой — умственные баталии времен софистов, Сократа и Платона, ярость которых отнюдь не была беспричинной. Но и метафизика не может в процессе прогресса переродиться в научность, как мы ее теперь понимаем. Восклицание: «Физика, бойся метафизики!»— прозвучало недаром. Самое слово «метафизика» разделило судьбу терминов, о которых мы говорили в начале статьи: оно стало одиозным. Если в чем согласятся столь несхожие представители новейшей философии, как марксист, позитивист и, скажем, Хайдеггер, так это в том, что метафизика должна быть преодолена. Метафизика есть философия, соответствующая риторическому состоянию литературной культуры: она поднимается и падает вместе с риторикой. Метафизика — нормативистское мыслительное творчество, как риторика — нормативистское словесное творчество.
У самых истоков греческого рационализма, т. е. первого европейского рационализма, — ослепительное открытие уровня
общего, уровня
универсалий. Уже за догадками досократиков, искавших какую- нибудь единую стихию в основе всего сущего, угадывается непреклонная познавательная воля к обнаружению за видимостью — сущности, за многим — единого, за пестротой эмпирии — умопостигаемой простоты. Этот прорыв, отделивший греческий рационализм и от обыденного, и от мифологического сознания, определил его основную тенденцию на многие века вперед. Общее понятие — это неисчерпаемо продуктивная познавательная находка, но одновременно это и некоторая констатация, касающаяся объективной структуры бытия: сразу и орудие познания, и результат познания. Определенная степень так называемого гипостазирования общего понятия при таких обстоятельствах неизбежна. Поэтому одна из предпосылок метафизики — убеждение в примате общего перед частным: иногда примате онтологическом, как в платонизме, но всегда — примате гносеологическом. Поскольку научное знание тем и отделяет себя от ненаучного, донаучного, что работает с общими понятиями, является теория, суммирующая этот опыт, объявляя предметом научного знания именно общее. «Всякое определение и всякая наука имеют дело с общим», — как сказано у Аристотеля
[193]. Познаваемо само по себе лишь общее; частное может быть познано и описано лишь через общее, как «частный случай» общего, «казус». Поэтому рационализм, созданный греками, — это в своей существеннейшей характеристике рационализм
дедуктивный. Знание о конкретном выводится из знания об общем, как вторичный дериват последнего. Поэтому формы знания, которым античность дала их классическую, в определенном смысле непревзойденную разработку, — это аристотелевская логика силлогизма, ведущая от общей посылки к частному суждению; это евклидовская геометрия, выводящая теоремы из аксиом и постулатов, а решения конкретных задач — из теорем; это римское право, где частные определения дедуцируются из общих законоположений, а решение конкретного казуса есть «приложение» определения. По образу и подобию права дедуктивный рационализм строит определенный тип систематической этики «казусов»; этот тип этики, общий для античного стоицизма, для средневековой схоластики и для посттридентинского католицизма, получил наименование
казуистики. Нас не удивит, что слово «казуистика» также разделило судьбу терминов, так или иначе связанных с практикой дедуктивного рационализма, и стало бранным. Но именно казуистика наиболее полно отвечает феноменам метафизики и риторики на уровне прикладного руководства человеческим поведением. За ней стоит уверенность в том, что предельно абстрактные истины даны человеческому рассудку совершенно ясными, и задача состоит лишь в том, чтобы разобраться, какой именно общий принцип приложим в данном конкретном случае. Еще раз: «Всякая наука имеет дело с общим».
«В рамках такого риторического типа культуры, — отмечает по ходу своей блестящей историко–культурной характеристики А. В. Михайлов, — истиной можно играть и над истиной можно смеяться, можно из каких бы то ни было соображений переворачивать истину, но опровергать и отрицать истину, собственно говоря, нельзя, потому что тут, в рамках такого типа культуры, в конечном счете всегда совершенно твердо известно, что
есть истина и
что есть истина, а вместе с тем все истинное еще и морально–положительно, так что можно только как угодно сдвигать веса внутри системы, но изменить самое систему, при которой есть нечто истинное, правильное, доброе, благое, совершенно немыслимо, как и невозможно сделать так, чтобы существовало какое-либо знание, не имеющее морального смысла и т. д.» И заключение: «Такова культура, которая основывается на готовом слове и пользуется только им»
[194].
«Готовое слово» характеризует в общем виде метафизическую, иначе говоря — риторическую, иначе говоря — моралистико–казуистичес- кую культуру, которой предстояло жить очень долго; как раз в Греции, где эта культура родилась, ее слово было менее «готовым», более пластичным и плавким, более связанным с материнским лоном живой жизни, чем где бы то ни было позднее: в Риме или в Западной Европе от средневековья до классицизма включительно
[195]. Но в определенном смысле о «готовом слове» уместно говорить и применительно к греческим истокам метафизико–риторической культуры, потому что фундаментальная установка дедуктивного рационализма предполагает такое отношение к каждой задаче, как если бы готовые решения задач уже находились где-то за пределами мироздания, в некоем умопостигаемом месте.
И здесь мы подходим к парадоксу дедуктивного рационализма как такового: это рационализм, рационалистичность, методичность, научность которого жестко связаны именно с его дедуктивностью, обусловлены дедуктивностью, поскольку лишь дедукция дает полноту формальной доказательности; но дедуктивность требует внерациональных, вненаучных оснований, и притом так, что их принятие предстает не как компромисс, временно допускаемый развивающейся наукой, но как стабильный структурный принцип рационализма. В самом деле, в цепочке умозаключений каждое звено держится на предыдущем, но самое первое, исходное звено, не имеющее предыдущего, должно быть неподвижно закреплено на какой-то опоре, внешней по отношению к цепочке. Вся доказательность евклидовской геометрии зиждется на том, что аксиомы не только не подлежат доказательству, но и не ставятся под вопрос: когда Лобачевскому, Гауссу и Риману пришло в голову экспериментировать с заменой одного из постулатов на противоположный, это означало, что новая научность окончательно рассталась с реликтами культуры «готового слова». Дедуктивный рационализм ревниво охранял свои недоказуемые основания, не позволяя посягнуть на их неприкосновенность. Как велика роль апелляций к «очевидности», исходных по отношению к доказательствам, мы едва ли не яснее всего видим у Аристотеля — именно потому, что Аристотель является самым последовательным представителем дедуктивного рационализма и как бы его олицетворением. Аристотель находил самоочевидным очень многое, что современная наука таковым не считает, но без чего ни аристотелевского космоса, ни вообще аристотелевской метафизической системы невозможно было бы построить: например, невозможность актуально бесконечной величины, невозможность бесконечной причинно- следственной цепи и т. п. О значении для его науки–эпистемэ таких вненаучных предпосылок он сказал очень ясно: «Не всякая наука есть доказывающая наука, но знание неопосредствованных начал недоказуемо. И очевидно, что это необходимо так, ибо если необходимо знать предшествующее и то, из чего доказательство исходит, — останавливаются же когда-нибудь на чем-нибудь неопосредствованном, — то это последнее необходимо недоказуемо. Следовательно, мы говорим так: есть не только наука, но также и некоторое начало науки, посредством которого нам становятся известными термины»
[196].
Конечно, всякая наука принуждена работать с недоказанными или недоказуемыми допущениями; специфика метафизического мышления, во–первых, в особой жесткости и стабильности размежевания между «наукой» и «началом науки», а во–вторых — в увязывании «начала науки» с «неопосредствованными» онтологическими началами. Дедуктивный рационализм по законам своей научности требует в качестве исходной точки некую «догму». Далеко не случайно термин «догма», получивший впоследствии такое применение в истории христианского вероучения, пришел туда из обихода вольных греческих философских школ; мы встречаем его уже в диалогах Платона
[197], весьма часто — у Эпикура
[198] и т. д. Задолго до того, как сложилось христианское словосочетание «догматическое богословие», античный рационализм создал словосочетание «догматическая философия» (δογματική φιλοσοφία
[199]). Дела не меняет то обстоятельство, что о «догматической философии» заговорили в определенном контексте, а именно в связи с выделением скептической школы; в том и суть, что рационализм античного типа жестко предлагает мыслящему человеку на выбор быть догматиком или скептиком, причем самый скепсис греков, отнюдь не похожий на уютное и гуманное вольномыслие какого-нибудь Монтеня, тоже вариант догматизма, негативистский догматизм
[200].
Стоит подчеркнуть, что лишь подъем рационализма делает возможным феномен
догмы в настоящем смысле слова. Не всякая слепая вера, в том числе и религиозная, имеет своим предметом догму: язычник может слепо верить в магическое действие обряда и в могущество того или иного локального или универсального божества стихий, не имея догм; даже подобия вероучительных систем, развивавшиеся там, где жреческая традиция имела особые шансы, будь то в священных городах Египта или Месопотамии, будь то в Дельфах, не порождают сами из себя тот уровень абстракции, который необходим для догмы
[201]. Догма должна быть сформулирована абстрактно, чтобы существовала возможность подключить ее к цепочке дедуктивных выводов как исходный пункт. Поэтому система античного рационализма в ее аристотели- анском варианте, несмотря на все мировоззренческие конфликты, пришлась так кстати для построения богословия всех трех монотеистических религий — прежде всего христианства, особенно западного, но также, благодаря Иоанну Дамаскину, восточного
[202], во вторую очередь — ислама мутазилитов и иудаизма Ибн–Гебироля и Маймонида
[203]. Раз есть нужда в недоказуемых предпосылках всего доказуемого, в авторитарных постулатах, из которых силлогистическим путем, сверху вниз, выводятся интеллектуальные конструкции дедуктивного рационализма, почему бы верующему не взять в качестве таких постулатов «веро- определения» своей религии?
[204] Таков путь «Сумм» Фомы Аквинского, да и вообще всей схоластики. И церковные «вероопределения» годятся для такого функционирования, потому что они, в отличие не только от доктрин языческих жрецов, но и от высказываний Библии обоих Заветов
[205], сформулированы на
языке абстракции, облечены в
тезисную фор му. Не случайно, совсем не случайно получают они имя, заимствованное из лексикона античных философских школ. Не случайно их называют «догмами».
В дедуктивном рационализме, требующем жесткой доказательности от второго, третьего и так далее звеньев рассуждения, но принужденном вовсе отказаться от доказательности в исходной точке рассуждения, как бы зияет некая пустота, требующая заполнения уже не от науки. Этим объясняется симбиоз веры в божественное откровение и авторитет Церкви, с одной стороны, и дедуктивного рационализма, с другой стороны, столь характерный для средневековья. Ранним христианам не по такому уж бессодержательному недоразумению казалось, что структура дедуктивного рационализма от века ждет их проповеди, приглашает их водрузить свою святыню в пустом средоточии древней постройки ума; что античная философия — это загадка о «неизвестном Боге» (Деяния апостолов 17, 23), которую они призваны разгадать.
Вернемся, однако, к языческой античности. Она знала «догмы» философских школ, в той или иной мере авторитарные внутри школьного социума
[206]; в этой связи стоит, пожалуй, вспомнить, что античные философские школы были не просто школами, но сокральными или хотя бы квазисакральными институциями, по нормам обычного права тех времен культовыми сообществами, объединенными почитанием героя–основателя
[207], «героя» в терминологическом смысле. «Божественный» Платон
[208], «божественнейший» Ямвлих
[209] — нечто иное, чем употребление слова «divino», «божественный», как расхожей метафоры для слова «гениальный» в языке людей итальянского Ренессанса
[210]; второе не связано с корпоративно–культовыми реалиями, первое — связано
[211]. Целый ряд внешних форм школьной авторитарности был перенят христианской церковью: кафедра главы школы — кафедра епископа; перечни преемствующих друг другу глав школ («диадохии») как жанровый костяк историко–философского повествования и перечни преемствующих друг другу епископов («диадохии») как жанровый костяк сочинений по истории церкви; термин «гомилия» в приложении к беседе философа и к проповеди священника; даже обязательная борода философа и столь же обязательная борода православного духовного лица, выделяющая и философов, и клириков в особое «сословие» (сколько шуток Лукиана, и не его одного, посвящено социальной семантике философской бороды, помнит каждый; генетическую связь между бородатостью философа и бородатостью греческого священника первым отметил, если не ошибаемся, Виламовиц
[212]). Юлиан Отступник совершенно всерьез пытался создать языческую церковь на основе платонической школы. И все же два очевидных обстоятельства резко отделяют авторитаризм школьный от авторитаризма церковного. Во–первых, сама степень этого авторитаризма весьма колебалась в различных школах и в различные периоды; во–вторых, и это самое важное, школьные авторитеты действовали только внутри школы, были обязательны не для всего общества, а для его части, субординированной целому, для «микросоциума» в рамках «макросоциума».
Наше сознание, сформированное опытом последних столетий, привыкло настолько прочно связывать плюрализм с антиавторитаризмом, что словосочетание «плюралистический авторитаризм» звучит для нашего уха почти как «круглый квадрат» или «деревянное железо». Но принцип античной культуры — именно плюралистический авторитаризм. Здесь не место обсуждать глубокие корни этого принципа в античном мировоззрении, так твердо знавшем права гражданина, но лишь в абстрактнейшей теории допускавшем права «человека вообще» и не имевшем понятия о правах «личности» в либеральном смысле слова; кто имеет права, имеет их не в качестве «личности», а в качестве члена гражданской общины. По сути дела, принцип плюралистического авторитаризма продолжал действовать и в сословном обществе средневековой Европы, но ограниченно, т. е. постольку, поскольку не сталкивался с принципом всеобщности, «кафоличности» христианских норм жизни и мысли, выставленным церковью; «кафоличность» была радикальным пределом плюралистического авторитаризма, но не была и не могла быть его отрицанием. Как бы то ни было, для языческой античности принцип плюралистического авторитаризма действовал неограниченно. Явившись предпосылкой греко–римской философии, обеспечив многообразие философских направлений, богатство реализуемых мыслительных возможностей, он со временем был осознан философией как болезненная проблема совести философии. В самом деле, если философия ставит вопрос об истине, и притом с той жесткостью, которая заложена уже в логических процедурах дедуктивного рационализма, с той догматичностью, которая неотъемлема от метафизики, множественность ответов не может не смутить. Отсюда — агрессивный релятивизм, заявленный на самой заре античного рационализма Протагором и Горгием; отсюда — неожиданные переходы от глубочайшей серьезности к иронии и обратно у такого исторического оппонента софистов, как Платон; отсюда не только скепсис пирронистов, но и эк- лектико–моралистические направления, уходившие от онтологической проблематики к житейской этике, от вопроса об истине к вопросу о пользе; отсюда, наконец, описанное в раннехристианской литературе (например, у Юстина Мученика) разочарование в философии как таковой, увиденной как подмена истины частными мнениями школ.
Но философия на то и философия. На ее почве возможны интеллектуальные драмы, имеющие источником плюралистический авторитаризм; присущая ей внутренняя строгость создает напряжение между двумя аспектами единого принципа — между плюрализмом и принятием всерьез догмы. Риторика — другое дело. Это самая гармоничная, беспроблемная, непротиворечивая реализация плюралистического авторитаризма. Тютчев сказал, что мысль изреченная есть ложь; в основе риторики лежит максима, которую можно сформулировать, вывернув наизнанку тютчевскую максиму, —
мысль изреченная есть истина. Но, конечно, при условии, что «изречена» она не как-нибудь, а по всем правилам риторики. Любое утверждение и любое отрицание, вплоть до игровых парадоксальных тезисов, выставляемых и защищаемых для демонстрации всемогущества ритора
[213], авторитетно и легитимно по действию нормы искусства. Для риторики совпадают полный догматизм (поскольку тезис каждой речи в ее пределах является непререкаемой догмой) и полный адогматизм (поскольку ничто не мешает взять для другой речи противоположный тезис). Внутренние противоречия античной философии — противоречия между традиционализмом и рефлексией, между установкой на «догму» и принципом методической самопроверки, между устремлением к единой истине, стоящей превыше «мнений» и не могущей противоречить себе, и множественностью противоречащих друг другу доктрин об истине, в которых к «знанию» всегда примешано «мнение», — все эти противоречия преодолевались риторикой, да как — победно, триумфально! Там, где философу отказано в окончательной уверенности, ритору эта уверенность не то что разрешена, а вменена в долг. Добавим — в высокий долг, удостоверяющий его превосходство над копушей философом.
Для нас это звучит как ирония. Но вот что без малейшей иронии писал в первой половине III в. один из членов литературного семейства Филостратов, человек вовсе не глупый и убежденный защитник софистов, очерненных Платоном. Воевать с «имиджем», внедренным платоновскими диалогами, не шутка, и тот, кто занимается этим, свои слова взвешивает. Итак, послушаем: «Древнюю софистику следует назвать философствующей риторикой: ведь рассуждает она о tex же предметах, что и философия, однако там, где философы хитрят, мельчат, продвигаются к знанию через дробление вопросов и затем заявляют, что знания так и не достигли, древний софист говорит как знающий. Он так и заявляет в приступах к своим речам: «знаю», или «ведаю», или «давно уже рассмотрел я», или «нет для человека ничего непреложного». Такой род приступа придает речи благородство (έυγένειαν), и вескость, и ясное уразумение предмета»
[214].
Филострат всерьез высказывает два утверждения: во–первых, что ритор и философ, по существу, занимаются одним и тем же делом (по крайней мере, если ритор верен заветам софистов, основателей своего искусства); во–вторых, что ритор занимается этим делом не хуже, а лучше философа. Оставим в покое второе, оценочное утверждение, представляющее ритора аристократом духа, а философа — плебеем духа, жалким и робким крохобором (вспомним, что примерно за шесть с половиной веков до этого Аристофан высмеивал «мелочную попечи- тельность» философов, т. е. то же крохоборство, как признак «нищеты»— λεπτώς μεριμνώντες πένονται
[215]). Тут все более понятно: если задор Филострата покажется читателю странным, пусть читатель вспомнит на выбор одно из двух — либо интерпретируемые в популярных книгах с безоговорочным сочувствием насмешки гуманистов Ренессанса над схоластами отнюдь не только за догматизм и фидеизм, но за то, что последние пренебрегали блеском слова, т. е. той же риторикой, и залезали с головой в хитроумные логические проблемы
[216], либо сколь угодно близкие по времени выпады литераторов и журналистов против «птичьего языка» терминологии, против тяжелодумного «гелертерства» специалистов… Куда более неожиданно и потому куда более интересно для нас первое утверждение Филострата — о существенном
тождестве дела, которым занимаются и философ и ритор (по крайней мере, ритор высшего, «софистического» класса). Подчеркнем, что смысл этого утверждения не сводим к характеристике преходящего, при всей своей важности недолговечного исторического момента древней софистики; Филострат явно понимает явление «философствующей риторики» как вечную, вновь и вновь воплощающуюся универсалию. И разве он так уж неправ? Что такое Цицерон в I в. до н. э., Дион Хрисостом в I-II вв. н. э., Юлиан Отступник в IV в. до н. э., как не «философствующая риторика»? С этими именами не разделаешься, отослав их по ведомству простой популяризации, сиречь «вульгаризации» философии; каждому ясно, что без Юлиана духовная драма исхода языческого платонизма немыслима, но и Цицерона мы не вправе третировать, как это делал в свое время Т. Моммзен, — современный подход все серьезнее оценивает осуществленное Цицероном и воспринятое Августином переосмысление греческих мыслительных мотивов как предпосылку всего дальнейшего пути европейской философии, ни больше, ни меньше
[217]. Но дело даже не в том, как мы оценим конкретные явления «философствующей риторики»— каждое из них по отдельности и все их в сумме. Важно другое. Филострат говорит как ритор, его тенденциозность — тенденциозность апологета риторики. Но с другого берега, берега философии, раздается несравнимо более авторитетный голос — голос самого Аристотеля, описывающего риторику вообще как своего рода логику «мнения» и вероятности
[218], а удовольствие, доставляемое риторикой, как интеллектуальное удовлетворение познавательной потребности
[219]. На таком фоне слова Филострата приобретают большую весомость. В них высказана некоторая истина, касающаяся того, как, собственно, устроена античная культура в целом; и, шире, любая культура рефлек- тивно–традиционалистского типа, основанная на дедуктивном рационализме.
Что такое риторика? По этимологическому смыслу (от ρητώρ — «оратор»), но также и по самому конкретному житейскому смыслу — теория ораторского искусства. И даже если мы добавим, что в античные времена, в отличие, в общем, от наших, эта теория регулировала творчество в области художественной прозы, мы недалеко уйдем от первого ответа, самого простого и самого бесспорного из ответов на заданный вопрос. Но если мы чересчур доверимся его простоте и бесспорности, его подкупающей здравомысленности, слишком многое останется непонятным. Разве теория ораторского искусства или теория художественной прозы может быть всерьез не то соперницей и враги- ней философии, не то ее сестрой–близнецом, ее alter ego? Но античная риторика была для античной философии именно этим — от самого рождения той и другой и до конца античности, более того, до исчерпания и распада созданного античностью типа культуры. Не будем повторяться: нам уже не раз приходилось говорить и о том, насколько сближены были философия и риторика обстоятельствами своего рождения из единого лона архаической «мудрости»
[220], и о споре между философией и риторикой, тянущемся от Платона как оппонента софистов до второй софистики и неоплатонизма (и дальше, до победы «искусств» над «авторами» на переходе от XII к XIII в., до реванша «авторов» в выступлении гуманистов против схоластики, до дискуссии Пико делла Миран- долы с Эрмолао Барбаро)
[221], и об упорных попытках риторов совершить отчуждение мыслительного богатства философии в пользу своего искусства, и столь же упорных попытках философов создать средствами философии «истинную» теорию риторики (Аристотель, стоики, неоплатоники)
[222]. Системная концепция культуры, выработанная античностью и унаследованная рядом последующих эпох, имеет два альтернативных центра — риторический и философский.
Само собой разумеется, что, когда мы говорим об античной риторике в такой связи, мы выходим за пределы самого узкого смысла термина; но мы остаемся на почве античного словоупотребления, не допуская терминологического произвола. Риторика, противостоящая философии, — это, как мы только что сказали, не просто теория ораторской речи или художественной прозы; это, как сказали бы греки, искусство убеждать
[223]. В такой перспективе перестает играть роль противоположение риторики как теории прозы поэтике как теории поэзии: поэтику позволительно рассматривать как «инобытие» риторики, особо выделяемый внутри нее раздел
[224]. И тогда мы вправе сказать, что качество «риторичности» есть инвариантная характеристика теории и практики литературы зрелой и поздней античности в целом. Наивно полагать, что тексты, выдержанные в духе идеала нагой простоты, избегающие украшений (как проза Лисия или Цезаря) или вызывающие у нас представление о безотчетно–спонтанном порыве эмоции (как лирика Катулла), не «риторичны» или хотя бы менее «риторичны», чем другие тексты, в которых на каждом шагу бросаются в глаза орнаментальные приемы и выпирают школьные схемы. Риторика вовсе не так глупа. Простота (αφέλεια) — одна из возможных риторических программ, предусмотренных риторической системой, а Лисий — канонизированный этой системой образец, предмет самого прилежного изучения в риторических школах. Сокрытие грубого каркаса школьных схем — просто–напросто высший класс риторического умения. Что касается спонтанности, она может интересовать литературоведа как литературный факт, ибо факты авторской психологии как таковой находятся вне сферы его интересов и его компетенции; а литературные факты соотносятся с той же самой риторической системой. С тех пор как прогресс рационализма сделал отношение творца к своему творчеству сознательным, рефлективным, риторика как принцип является для античной литературы едва ли не предельно широким понятием. Все контрасты «искусственности» и «безыскусственности», «сухости» и «спонтанности» локализуются
внутри нее. «Безыскусственность» — да, но как осознанная задача для искусства. «Спонтанность» — да, но подчиненная стабильным правилам. Единство сознательного отношения к творчеству, воплощенного в теоретической рефлексии, и ориентации на стабильные правила, опять-таки теоретически кодифицированные, — самая суть риторики. Возврата к дорефлективному состоянию уже не будет
[225]; но романтизм окончит риторический цикл и начнет новый, поставив под вопрос стабильность правил.
Риторика как теория и практика литературы — точное соответствие рационализму дедуктивно–метафизического типа. Ей присуще дедуктивное движение от общего к частному, так что описываемая реальность предстает как частное применение «общего места», а индивидуальный стиль — как неповторимая комбинация бесконечно повторяемых свойств слога, «идей», если воспользоваться терминологией виднейшего ритора II в. н. э. Гермогена
[226]. «Общее место» — со времен романтизма бранное слово, как «риторика», как «схоластика»; но для античной литературы «общее место» — важнейший и необходимейший инструмент освоения действительности
[227]. Индивидуальный стиль — одно из важнейших открытий риторической рефлексии, создавшей для обозначения этого понятия термин χαρακτήρ
[228]; но, как все конкретное, феномен индивидуального стиля в акте познания сводится к абстрактно–всеобщему, а в акте оценки подчиняется абстрактно–всеобщему. Очень важная для рефлективного традиционализма идея «состязания» творцов разных эпох в рамках жанрового канона заставляет рассматривать индивидуальное дарование как единственный шанс в бесконечно длящейся игре по стабильным правилам.
Аристотель имел все основания рассматривать риторику в ее самом существенном аспекте как род пробабилистской, вероятностной логики. Для современного сознания, привыкшего ассоциировать риторику преимущественно с орнаментальными «фигурами речи», не так легко увидеть, как велика была в теориях античных риторов доля логического содержания. Одна доктрина о статусах чего стоит! И это заставляет нас вернуться к намеченной выше теме сродства между риторическим и юридическим подходом к действительности. Связь риторики и юриспруденции непрерывно актуализировалась, разумеется, фактом существования судебного красноречия, но не им одним. Присущая риторике «атональность» ставит не только ритора, но и риторически воспитанного писателя в отношения квазисудебного состязания с соперником или оппонентом, все равно — реальным или фиктивным. Риторический принцип постоянно толкает литературу к интонациям судоговорения. Притом юриспруденция, как мы уже видели, — источник парадигм для дедуктивно–рационалистического мышления вообще. Это сказывается, между прочим, в юридической окраске античного подхода к проблемам морали, порождающего формализованную теорию «казусов совести», которая призвана регулировать поведение индивида в случае конфликта между различными обязанностями и вообще нравственных затруднений, исходя из системы абстрактно формулируемых правил. Казуистика родилась одновременно с риторикой — во времена софистов и Сократа. Казуистический подход неизбежен для этики Аристотеля с ее ценностным плюрализмом и установкой на средний путь («метриопатию»), а также для стоического морализаторства, в особенности тогда, когда последнее искало компромисса с социальной практикой (как у Сенеки). Он оказывался конструктивным принципом, лежащим в основе рассуждений на нравственные темы у тех же судебных ораторов, особенно у Цицерона, а также в других областях красноречия, отлично согласуясь с духом риторики. В большую литературу он нашел путь со времен Еврипида, современника софистов. У Еврипида что ни «агон», то «казус»; на прениях между его героями можно изучать и риторическую установку, и казуистическую установку, как на наглядном пособии.
Заметим, под конец, что строго системный характер античной риторики, находившей себе место внутри целостного метафизического мировоззрения^— наиболее принципиальное ее отличие от риторических проявлений в новоевропейской литературе. Ведь если романтики кляли риторику — «Война риторике, но мир синтаксису!» (Гюго), — то по густоте орнаментальных фигур их произведения, как у того же Гюго, часто более «риторичны» в обывательском смысле, чем тексты античных и вообще старых авторов. Но романтическая и неоромантическая риторика — это риторика, неспособная стать системой, не имеющая достаточно твердых онтологических и гносеологических оснований, а потому неизбежно риторика «с нечистой совестью». Каким бы лицемерием ни выглядело порой романтическое поношение риторики в теории на фоне литературной практики, свои мировоззренческие мотивы для такого поношения были.
«Воскрешение» риторики как подхода к литературе возможно только в сугубо узких академических рамках
[229]. О будущем культурном синтезе, когда мы, не возвращаясь к риторическому прошлому, сумели бы полноценно, с выходами в практику, оценить его здравые резоны, пока можно только гадать.
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ПОЭТИКА И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
Излишне говорить о том, что в истории мировой литературы нет такой эпохи, творческие установки и принципы которой не заслуживали бы быть предметом литературоведческого анализа. Только через конкретное изучение последовательно сменявших друг друга поэтик пролегает путь к решению задачи, в блестящем эскизе поставленной еще А. Н. Ве- селовским, — к построению универсальной исторической поэтики.
Однако поэтика древнегреческой литературы представляет в теоретическом плане совершенно особый интерес. Изучая ее, мы как бы занимаем исключительно выгодный наблюдательный пункт: перед нами происходит отработка и опробование норм, которым предстояло сохранять значимость для европейской литературной традиции в течение двух тысячелетий. Эллинская классика подготовила и осуществила, а позднеантичный эпилог этой классики расширил и упрочил всемирно- исторический поворот от дорефлективного традиционализма, характеризовавшего словесную культуру и на дописьменной стадии, и в литературах древнего Ближнего Востока, и у архаических истоков самой греческой литературы, к рефлективному традиционализму, остававшемуся константой литературного развития для средневековья и Возрождения, для барокко и классицизма и окончательно упраздненному лишь победой антитрадиционалистских тенденций индустриальной эпохи. Существо этого поворота в том, что литература осознает себя самое и тем самым впервые полагает себя самое именно как литературу, т. е. реальность особого рода, отличную от реальности быта или культа. К исходу эллинской классики это самоопределение литературы оформилось в рождении поэтики и риторики — литературной теории и литературной критики; отнюдь не случайно подъему философской гносеологии и логики, т. е. обращению мысли на самое себя, отвечает обращение мысли на свое «инобытие» в слове. Перед лицом заново открытой возможности такой рефлексии фундаментальные компоненты объективного бытия литературы не могли оставаться прежними.
Это относится прежде всего к категории жанра. Если на стадии дорефлективного традиционализма жанр определялся из внелитератур- ной ситуации, обеспечивавшей его бытовую и культовую уместность, — скажем фольклорное причитание (греческий «тренос», библейская «кина») есть то, что нараспев выкликается в ситуации общинного траура, гимн (библейский «псалом») есть то, что с определенными телодвижениями воспевается в ситуации общинного богопочитания, и т. д., — то теперь жанр получает характеристику своей сущности из собственных литературных норм, кодифицируемых поэтикой или риторикой. Сама номенклатура античных жанров, сложившаяся до этого поворота, а затем энергично переосмысленная под его воздействием, с образцовой наглядностью фиксирует смысловой сдвиг: например, «трагедия», по буквальному смыслу ритуальное «козлопение», отныне прежде всего стихотворное сочинение из драматического рода, правила которого сформулированы Аристотелем и которое в принципе может (как то у римлянина Сенеки) стать драмой для чтения; «эпиграмма», по буквальному смыслу «надпись» на камне или ином предмете, отныне прежде всего лирическая «малая форма» с определенными характеристиками, касающимися объема, метра и топики.
Параллельное изменение претерпевает другая категория — категория авторства. Она впервые выходит из тождества архаическому понятию авторитета («изречения Птаххотепа», «псалмы Давида», «гимны Гомера», «басни Эзопа» и т. п.) и соотносится с характерностью литературной манеры; позднеантичные специалисты по риторической теории вроде Дионисия Галикарнасского неустанно сопоставляют «характер», т. е. индивидуальный стиль, одного стилиста с «характером» другого стилиста. Греческое слово χαρακτήρ означало, собственно, либо вырезанную печать, либо вдавленный оттиск этой печати, иначе говоря, некий резко очерченный, неповторимый пластичный облик, который без ошибки распознается среди всех других. Автор потому и автор, что не похож на другого автора, и знаток сумеет отличить его руку.
И все же категория жанра остается куда более существенной, весомой, реальной, нежели категория авторства; жанр как бы имеет свою собственную волю, и авторская воля не смеет с ней спорить. Ибо литература продолжает быть в своем существе традиционалистской, более чем на два тысячелетия соединив с чертой традиционализма черту рефлексии. По логике этого синтеза автору для того и дана его индивидуальность, чтобы вечно участвовать в «состязании» со своими предшественниками в рамках жанрового канона. Понятие «состязание» (греч. ζήλωσις, лат. aemulatio)— одна из важнейших универсалий литературной жизни под знаком рефлективного традиционализма: Аполлоний Родосский «состязается» с Гомером, Вергилий — с Гомером и Аполлонием, представители европейского искусственного эпоса от Стация и автора раннесредневековой поэмы о Вальтарии до «Генриады» Вольтера и «Россияды» Хераскова — с Вергилием; Сенека (в «Федре») — с Еврипидом, Расин (в «Федре») — с Еврипидом и Сенекой и т. д. Примеры можно с равным успехом брать из литератур эллинизма, Рима, средневековья (вспомним «состязание» латинских ученых поэтов XII в. с Овидием), как и Ренессанса, барокко и классицизма: коренного различия не обнаружится.
Греки задали основное направление сознательных литературных исканий очень, очень надолго. Важно подчеркнуть — именно сознательных. В литературе, как во всем, действительность эпохи и богаче, и противоречивее, нежели сознание эпохи. Но это уже другой вопрос
[230]. И еще одна оговорка: иногда, особенно в средневековых условиях, «состязание» с классическими образцами могло быть опосредованным целой цепочкой промежуточных звеньев, не переставая от этого быть вполне реальным. Если, например, византийский аскет (вроде Симеона Нового Богослова в XI в.) по аскетическим соображениям и воздерживался от чтения языческих философов, то найденные Платоном и античными последователями Платона определенные приемы передачи мистического содержания все равно доходили до него далеким, но прямым путем — через Псевдо–Дионисия Ареопагита и других представителей греческой патристики IV-V вв. Другой пример: если русский книжник (как Епифаний Премудрый в XIV в.) и не имел перед глазами текстов античных риторов, то он был включен в ситуацию «состязания» со своими предшественниками — отечественными, южнославянскими и византийскими, через поколения которых линия профессионального преемства, не прерываясь, восходит к «витиям» Эллады
[231].
Нужно совсем далеко отойти от эпохи эллинской классики, чтобы отыскать, наконец, такой поворот в фундаментальных установках литературного творчества, который был бы сопоставим по основательное- ти с тем поворотом. Ибо ни крушение античной цивилизации, ни приход христианства, ни подъем европейского феодализма, ни его кризис, ни духовная революция Ренессанса не смогли изменить столь радикально статуса простейших реальностей литературы, их объема и границ, т. е. «само собой разумеющихся» ответов на «детские» вопросы: «что есть литература?», «что есть жанр?», «что есть авторство?» и т. д. Изживание достигнутой греками стадии рефлективного традиционализма совершается не раньше, чем Новое время окончательно находит себя, чем выявляются те самые «вечное движение» и «непрерывная неуверенность», которые, по известному замечанию в «Манифесте Коммунистической партии», отличают индустриальную эпоху «от всех других»
[232].
Здесь не место описывать или хотя бы перечислять вехи, факторы и симптомы этого второго поворота, замкнувшего начатый греками цикл. Упомянем только одно — победоносный подъем романа, этого «незаконнорожденного» жанра
[233], как бы «антижанра», самым своим присутствием, как убедительно показано в исследованиях Μ. М. Бахтина
[234], разрушавшего традиционную систему жанров и, что еще важнее, восходящую к античности концепцию жанра как центральной и стабильной теоретико–литературной категории. Объем и смысл понятия «жанр» еще раз меняются в корне, о жанре в прежнем значении (а значит, и о поэтике в прежнем значении)
[235] с тех пор говорить просто невозможно. Более того, находит свой конец стоявшая за реальностью аристотели- ански понимаемого жанра мировоззренческая установка на «рассудочное» сведение конкретного факта к «универсалиям», которая была плотью от плоти античной культуры умозрения и сохраняла свою значимость для средневековья, для Ренессанса, да и позднее, но вдруг обернулась бессмыслицей — «риторикой» и схоластикой» в одиозном смысле этих слов. В этой связи стоит вспомнить вышучивание, которому подвергнута в «Тристраме Шенди» подлинно античная традиция философского «утешения», через Боэция так властно воздействовавшая на средневековье и Ренессанс. Мысль, что скорбь родителя о смерти сына или дочери можно врачевать, указывая на общую бренность всех дел человеческих, на участь терпящих упадок городов и народов (как некогда Сервий Сульпиций утешал Цицерона
[236]), предстает как бессердечное и совершенно абсурдное резонерство
[237]. Отныне словосочетание «общее место» (греч. κοινός τόπος, лат. Locus communis) из важнейшего, освященного двухтысячелетним употреблением термина литературной теории
[238] становится чуть ли не бранью
[239].
Этот второй поворот нельзя без остатка прикрепить к какому–либо
V
веку или тем более десятилетию. Пожалуй, он предвосхищается на самом исходе Ренессанса («Дон Кихот», трагедии Шекспира, «Опыты» Монтеня) и в тени барочно–классицистической культуры (принципиальная антириторичность Паскаля), но о таких антиципациях трудно говорить с уверенностью. Совершенно особое значение имеют 60–е годы XVIII в.: «Тристрам Шенди» (1759—1767), «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), «Эмиль, или О воспитании» (1762) — мятеж против рассудочно–традиционалистской «правильности » и эмансипация принципа субъективизма; Макферсоновы «Фрагменты древней поэзии, собранные в горах Шотландии» (1760), «Фингал» (1762), «Темора» (1763) (в один год с «Естественным договором»!), также «Замок Отранто» Уолпола — пробуждающийся, еще незрелый, готовый довольствоваться подделкой, но уже сознающий себя вкус к «варварскому», «готическому», принципиально антиклассическому, к «местному колориту», который имплицировал неслыханный плюрализм одновременно воспринимаемых эстетических «миров»; даже всеевропейская мода на «английский» сад и пробуждавшаяся способность любоваться Альпами
[240], т. е. впервые в истории сознательная эстетизация неоформленности, хаотичности природы. Для эллина, как и для средневекового человека, все это было бы глубоко непонятно
[241].
Итак, в истории литературной культуры европейского круга выделяются три качественно отличных состояния этой культуры:
1) дорефлективно–традиционалистское, преодоленное греками в V-IV вв. до н. э.;
2) рефлективно–традиционалистское, оспоренное к концу XVIII в. и упраздненное индустриальной эпохой;
3) конец традиционалистской установки как таковой.
Различие между этими состояниями — явление иного порядка,
чем различие между сколь угодно контрастирующими эпохами, как- то: между античностью и средневековьем или средневековьем и Ренессансом. Перед лицом глубины этого различия те контрасты необходимо выявляют известное родство — родство в рамках «аристотелевского» цикла.
Принцип риторики не может не быть «общим знаменателем», основным фактором гомогенности для эпох столь различных, как античность и средневековье, а с оговорками — Ренессанс, барокко и классицизм. Общими признаками остаются:
статическая концепция жанра как приличия («уместного», τό πρέπον) в контексте противоположения «возвышенного» и «низменного» (коррелят сословного принципа);
неоспоренность идеала передаваемого из поколения в поколение и кодифицируемого в нормативистской теории ремесленного умения (τέχνη);
господство так называемой рассудочности, т. е. ограниченного рационализма, именно в силу соблюдения фиксированных границ не полагающего своей диалектической противоположности — того протеста против «рассудочности», который заявил о себе в сентиментализме, в движении «бури и натиска» и вполне отчетливо выразил себя в романтизме.
По этим трем признакам и распознается основанная греками и принятая их наследниками поэтика «общего места» — поэтика, поставившая себя под знак риторики. Если же мы обратимся к общей историко–культурной перспективе, то в ее контексте этот тип поэтики предстанет как аналог определенной, и притом весьма долговечной, стадии истории науки (и шире — истории рационализма), а именно стадии мышления преимущественно дедуктивного, силлогистического, «схоластического»
[242], мышления по образу формально–логической, геометрической или юридической парадигматики
[243]. За ним стоит гносеология, принципиально и последовательно полагающая познаваемым не частное, но общее («всякое определение и всякая наука имеют дело с общим» — сказано у Аристотеля
[244]). Познавательный примат общего перед частным — необходимая предпосылка всякой риторической культуры.
Вот поздний, очень поздний пример, живо дающий почувствовать, о чем идет речь. Еще в XVII-XVIII вв., на самом исходе владычества Аристотеля, ученый церковный вития в Греции, а затем — благодаря русскому переводу греческого компендия по риторике
[245] — ив России получал совет трактовать «гордость» и «смирение» как частные виды, выводимые из родовых понятий: греха «вообще» и добродетели «вообще». «Хощет ли ритор уничтожить Гордость, сплесть похвальные слова Смирению, а боится, чтоб у него на языке источники витийственно- го краснословия не изсохли, — читаем мы в самом начале компендия, — то пусть примется за Род, уничтожит с презрением грех, припишет похвалу добродетели, а после да приидет уже до гордости и смирения, кои суть Видами»
[246]. В этой рекомендации буквально каждое слово (за вычетом, разумеется, самой предлагаемой темы с ее специфически христианской окраской) находит текстуальные соответствия в античных учебниках риторики. Греческий священник Филарет Скуфа был очень поздним и не очень значительным, но поразительно верным выучеником Гермогена, Афтония, Феона и Николая Софиста. Как и они, он не мыслит иного пути для воображения, чем от логического рода к логическому виду и лишь от него — к конкретному случаю как случайной «акциденции» этого вида.
Как не вспомнить перед лицом этих фактов, что именно Аристотель, основатель логики как науки, был автором и «Поэтики», и «Риторики », причем в первом из этих трудов он говорил о большей интеллектуальной ценности поэзии (как парадигматики возможного) сравнительно с историей (как описанием эмпирически действительного)
[247], а во втором подходил к риторике как к логике вероятного
[248].
Красочным памятником логизирующего подхода предстают перед нами античные руководства к писанию писем. Вообще говоря, всякая риторическая культура есть непременно культура «письмовников». Во Франции, в быту которой особенно устойчивы фрагменты некогда великой риторической традиции, «письмовники» продолжают издавать до сих пор
[249]. И все же мы привыкли скорее к формализации соотношения между корреспондентами: вот так должен обращаться младший к старшему, так — равный к равному, так — старший к младшему. Но греки с поражающей энергией подвергали формализации само содержание возможных писем. Уже у Деметрия Фалерского (IV-III вв. до н. э.), ученика Феофраста, который в свою очередь был учеником Аристотеля, выделен 21 тип эпистолярного творчества (письмо «дружеское», «рекомендательное», «порицательное», «бранное», «утешительное», «укоризненное», «увещевательное», «угрожающее», «насмешливое», «хвалебное », « советоподательное », « просительное », « вопрошательное », «отрицающее», «иносказательное», «винословное», «обвинительное», «защитительное», «поздравительное», «ироническое», «благодарственное»). Кто хочет, может прочитать у Деметрия, чем именно «порицательное» письмо отличается, во–первых, от «бранного», во–вторых, от «укоризненного»
[250]. Но на этом дело не остановилось, и позднеантич- ные продолжатели Деметрия доводили число различаемых ими типов до 41
[251], до 113… Эти цифры говорят сами за себя, и свидетельство их тем важнее, что именно эпистолярная культура всегда воспроизводит как бы в миниатюре общий облик культуры слова.
Задача этой книги — выяснение круга вопросов, так или иначе связанных с тем явлением, которое мы назвали рефлективным традиционализмом древнегреческой литературы. Этим определено ее не вполне обычное построение.
Хорошо известно, что каждый исторический момент обусловливает специфическую точку зрения на эллинское наследие и выдвигает свои первоочередные задачи перед изучением этого наследия. Наш читатель привык к такому подходу, при котором в центре внимания оказывается, скажем, проблема трагического катарсиса (намеченная, как известно, в одной–единственной фразе Аристотеля и не находящая отголосков во всем дошедшем составе античных литературно–критических текстов). Нет сомнений, что к этой проблеме еще будут возвращаться вновь и вновь. Расстановка акцентов в этой книге иная. Ответственный за нее рабочий коллектив сосредоточил свои усилия на проблемах, которые представлялись ему — в контексте общей научной ситуации — остро–настоятельно нуждающимися в разработке.
Пусть пример пояснит это утверждение. Едва ли нужно доказывать, что работа над построением общей исторической поэтики в нашей стране надолго определена исследованиями Μ. М. Бахтина. Тем более важна лакуна, обнаруживающаяся в построениях покойного исследователя. Он рассматривал роман, т. е. ведущий жанр литературы, порвавшей с традиционализмом и вышедшей на новые пути, на фоне эпоса. «Эпос и роман» — заглавие одной из его блестящих и глубоких статей, но одновременно формула постановки вопроса во всем его научном творчестве в целом. Но какой это эпос — «первичный» или «вторичный», гомеровский или вергилиевский? Судя по всему, первый и только первый. Слова «эпическое прошлое… замкнуто в себе и отграничено непроницаемой преградой от последующих времен»
[252] решительно неприложимы к «Энеиде», вобравшей в себя все историческое время города Рима до Августа включительно. Утверждение об «абсолютном» равенстве себе эпического героя
[253] тоже характеризует Ахилла, но не Энея. Итак, в грандиозной исторической панораме друг другу противостоят лишь два полюса — традиционализм, еще не знающий рефлексии, и рефлексия, уже порвавшая с традиционализмом. Утрачено третье звено — долговечное равновесие рефлексии и традиционализма. Это никак не укор общему учителю целых поколений отечественных литературоведов. Ему для его целей, для первого приближения к реальности нужна была четкость дихотомической антитезы. Но мы не можем останавливаться на этом приближении. По мере наших сил подготавливать заполнение лакуны, ставить вопрос о методологии подхода к промежуточной области рефлективного традиционализма — лучший способ ответить на его плодотворную инициативу.
РИТОРИКА КАК ПОДХОД К ОБОБЩЕНИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Среди риторических разработок Либания (314—ок. 393), в которых с какой-то окончательной, итоговой сгущенностью отложилась на самом пороге средневековья формальная парадигматика античной литературы как завещание иным временам, — среди разработок этих мы находим в числе другого примерный экфрасис битвы
[254]. Представляется нелишним привести из этого описания несколько строк, выбранных на пробу:
«…У этого рука отторгается, у того же око исторгается; сей простерт, пораженный в пах, оному же некто разверз чрево… Некто, умертвив того-то, снимал с павшего доспехи, и некто, приметив его за этим делом, сразив, поверг на труп; а самого этого — еще новый. Один умер, убив многих, а другой — немногих…»
[255] — и так далее, и тому подобное.
«Некто, умертвив того-то…» Просьба к читателю простить вынужденную неловкость нашего перевода; оригинал куда изящнее, но дело в том, что возможности греческого языка по части местоимений гораздо богаче возможностей современного русского языка; между тем чисто местоименный, эмфатически местоименный характер текста должен был оказаться сохраненным во что бы то ни стало. Ведь какую битву описывает Либаний? Сражаются не ахейцы с троянцами, не греки с персами, не афиняне с лакедемонянами, вообще не «свои» с «чужими», не герои, имеющие какое-то имя и происхождение, какие-то свойства и цели. Сражаются «имяреки», абстрактные, как точки А и В в геометрии, как икс и игрек в алгебре, как Кай из школьного примера по логике, цитируемого у Толстого в «Смерти Ивана Ильича»: «Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен». Один воин умерщвлен, умертвив многих воинов, — чисто квантитативный характер этой формулы роднит ее с истинами типа: «целое больше части». Наиболее часто повторяющееся, переходящее из фразы в фразу слово — «некто», τις.
«Некто» лишает жизни «того-то», «сей» — «оного». Эти ситуации битвы очень сознательно и последовательно увидены не как однажды бывшие или могшие быть случаи, но как бесконечно воспроизводимые положения; словно в учебнике логики, положения эти очищены от своих «акциденций» (случайных признаков), т. е. по–нашему от всякой конкретности, и сведены к своим необходимым признакам, к универсальным схемам — к «общим местам». В нашем лексиконе «общее место» (греч. κοινός τόπος) — выражение сугубо нелестное
[256].
Но для античного риторического взгляда на вещи κοινός τόπος есть нечто абсолютно необходимое, а потому почтенное. Общее место — инструмент абстрагирования, средство упорядочить, систематизировать пестроту явлений действительности, сделать эту пестроту легко обозримой для рассудка. Стоит вспомнить, что Аристотель в «Риторике» неоднократно говорит о чисто интеллектуальном удовлетворении как источнике «приятности» риторического искусства
[257]. Вся античная культура воспитывала вкус к общим местам, и названный выше текст Ли- бания интересен лишь как материализовавшийся на наших глазах логический предел этой весьма широкой тенденции.
В экфрасисе Либания поражает этот дух отвлеченного умственного эксперимента, этот уклон к перебору и исчерпанию принципиально представимых возможностей. Дальше идти некуда, разве что в учебнике по логике, или в задачнике по геометрии, или в систематизации юридических казусов. (Заметим на будущее, что логика, геометрия, правоведение — это те области знания, методика которых была разработана еще в античные времена.) Но ведь художественная литература не имеет с рассудочной «сушью» математики или юриспруденции ничего общего; по крайней мере так привыкли думать мы. Ибо в наше время одна из важнейших жизненных функций художественной литературы — компенсировать своим вниманием к единичному, «неповторимому», колоритно–частному разросшуюся абстрагирующую потенцию науки. Тот же несчастный Иван Ильич у Толстого как бы представительствует за всех персонажей литературы этого привычного для нас типа, когда наотрез отказывается применить к себе самому отвлеченный силлогизм о смертности Кая из учебника логики.
«То был Кай–человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, с кучером, с няней, потом с Катень- кой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери?..»
[258]Эта цитата стоит против цитаты из Либания, отмечая какой-то противоположный полюс. «Совсем особенное от всех других существо», конкретнейший запах кожаного мячика — историко–культурная антитеза риторическому «некто», τις, призванному обозначать как раз «вообще человеков». Пафосом выразившегося в смутных мыслях Ивана Ильича протеста против «вообще человека», против «абстрактно- всеобщего» наша художественная литература живет едва ли не с тех самых пор, как она приняла изменившую ее состав гегемонию жанра романа
[259] (уже неизбывное беспутство Тома Джонса у Фильдинга и тем более неизбывное чудачество Тристрама Шенди у Стерна имели «сверхзадачу» — парализовать применение к этим героям готовых силлогизмов, саботировать старые правила характерологической классификации
[260]). Однако непохоже на то, чтобы протест подобного рода был хоть сколько-нибудь известен литературе античности и средневековья; скорее напротив, и текст Либания — яркое тому доказательство. Совершенно бесполезно отводить это доказательство ссылкой на то, что в наших глазах Либаний, мягко говоря, не гений мировой литературы, что его принято было в прошлом веке и отчасти принято по сей день корить за подражательность
[261], за «скудость мысли»
[262], за «расплывчатость, высокопарность и многословие»
[263]. Ведь для своих современников
[264] и для своих византийских наследников
[265] он неизменно был предметом «немалого восхищения», как выражается Евнапий
[266]; в нем видели одного из самых видных мастеров культуры слова и, даже критикуя его мастерство (что бывало редко)
[267], не сомневались, что мастерство это высокое и добротное. Если же из такого «большого» он стал таким «маленьким», это само по себе ставит проблему, выявляя коренной сдвиг в подходе к литературе и скорее повышая, чем понижая, значимость примера Либания для характеристики состояния литературы до сдвига.
Еще бесполезнее утверждать, что риторические экзерсисы Либания не совсем художественная литература в готовом виде, а скорее предварительные заготовки для литературного творчества как талового, эскизы, проба пера. Отправляясь от присущих эпохе Либания представлений о границах художественности вообще и художественной прозы в частности, против этого, пожалуй, можно бы и поспорить
[268], но спорить не стоит. Будем рассматривать текст Либания не как готовую литературу, а как литературу in statu nascendi, как фиксацию акта литературного воображения; тем лучше. Застигнуть это воображение за работой, в пути — для наших целей еще интереснее, нежели созерцать его завершенный продукт. Важно понять самый механизм его движения. Ведь что характерно для античной (как мы увидим, не только античной) литературы в целом, для определенного исторического состояния литературы как таковой, так это не гротескный уровень отвлеченной рассудочности, наблюденный нами в описании битвы у Либания, но резко обнаружившаяся через этот гротеск общая тенденция, которая в других случаях может вовсе не бить в глаза и все же оставаться собой.
Наверное, каждый любитель античной литературы возмутится, если сказать ему, что норма этой литературы — холодные абстракции анти- охийского ритора; и утверждение это — впрямь неправда. Однако то, что было нормой античной литературы, все же «единоприродно» подобным абстракциям, принадлежит в принципе тому же порядку вещей. (Что касается роли эскизов и заготовок как свидетельства о творческой лаборатории мастера, позволим себе аналогию. В живописи Рафаэля, отмеченной преобладанием христианских сакральных сюжетов, нагота встречается не часто, но из рисунков Рафаэля мы узнаем, что каждая фигура, появляющаяся на картине или фреске одетой, первоначально была прорисована нагой, увидена нагой, и это, конечно, детерминирует весь тип рафаэлевского творчества, отделяя его как продукт Высокого Ренессанса от тех типов живописи — средневековой, восточной и т. д., которые никоим образом этого не требовали или даже не допускали. Не так ли экфрасис Либания дает в «обнаженном» виде абстракцию, которая затем могла быть как угодно «одета» воображением античного литератора, продолжая жить под этой «одеждой» своей жизнью, сохраняя свой существенный примат по отношению к конкретизации как вторичному? Это предполагает путь от общего к частному, от универсалии к вещи и лицу, от вневременной мыслимос- ти казуса к реализации этого казуса во времени, т. е. путь, аналогичный пути дедукции, пути силлогизма, этому «царскому пути» рационализма от Аристотеля до Фрэнсиса Бэкона.)
Если тот же Либаний когда-нибудь был совершенно искренним и говорил от полноты сердца, это имело место в его «Монодии на смерть Юлиана»
[269], самом раннем отклике на глубоко потрясшее его событие
[270]. Современный исследователь называет эту речь «в высшей степени личной и глубоко прочувствованной данью покойному»
[271], и таково нормальное впечатление читателя. Казалось бы, здесь-то можно ожидать отхода от поэтики пресловутого силлогизма: «Кай — человек, люди смертны, потому…» Вот, однако, Либаний, столь искренно скорбя о безвременной смерти своего царственного друга (он обращается к нему именно с дружеской интимностью — ώ φίλτατε), начинает размышлять, почему именно смерть эта особенно, исключительно прискорбна. Указываемый логикой путь для оценки исключительности меры какого- либо качества в каком-либо предмете есть возможно более систематическое сопоставление с мерой этого же качества в других заведомо им наделенных предметах (чем предполагается, что качество «прискорбности» понято, во–первых, с непривычной для нас объективностью и предметностью, во–вторых, чисто квантитативно, т. е. измеримо и соизмеримо
[272]). В соответствии с этим Либаний выстраивает ряд
[273] из восьми знаменитых казусов насильственной или хотя бы ранней смерти, взятых из мифологической или исторической древности
[274], и ставится вопрос: по какому именно признаку гибель Юлиана более прискорбна, чем гибель Агамемнона — Кресфонта — Кодра — Аякса — Ахилла — Кира — Камбиса — Александра? Каждый раз Либаний изыскивает по одному признаку: царства Агамемнона и Кресфонта не простирались «от заката до восхода солнца», как Римская империя, и ареал общественного бедствия в случае Юлиана шире; Кодр погиб, повинуясь оракулу и, значит, компенсируя для терявших его подданных горечь утраты обещанным благом, чего с Юлианом не было; Аякс как «малодушный полководец», Ахилл как любострастник и гневливец, Камбис как безумец, даже Александр как человек, «подававший поводы обвинять его», превзойдены Юлианом в добродетели; наконец, Кир оставил сыновей, между тем как Юлиан умер бездетным. Идет перебор классических парадигм, через сопоставление (σύγκρισις) с которыми конкретный казус гибели Юлиана сам собою разнимается, расслаивается на последовательность пяти отвлеченно увиденных смысловых моментов: «он же, (1) от заката до восхода солнца властвуя, (2) душу же имея исполненную добродетели, притом (3) молодой и (4) еще не отец, (5) от руки какого-то Ахеменида умерщвляется»
[275].
Поэтика синкрисиса, игравшая столь важную роль в античной литературе
[276] и столь чуждая современному восприятию, имела своей «сверхзадачей», очевидно, именно этот эффект восхождения от конкретного к абстрактному, к универсалиям. Когда мы говорим «синкри- сис», трудно не вспомнить Плутарха, а потому оглянемся на его «Параллельные жизнеописания»: если в пределах каждой биографии герою еще как-то дозволяется быть самим собой, то, как только дело доходит до синкрисиса, оба героя преобразуются в нечто иное — в двуединый инструмент для выяснения некоторой общей ситуации или общего морально–психологического типа
[277]. Например, Сертория и Евме- на логика синкрисиса закономерно превращает в пару иллюстраций к моралистическому тезису о возможностях и опасностях, поджидающих деятельного человека на чужбине. Деметрий — это Деметрий, Антоний — это Антоний, но Деметрий плюс Антоний внутри пространства синкрисиса дают в сумме сентенцию: «великие натуры порождают не только добродетели, но и пороки великие». Сентенция эта приложима к неограниченному множеству частных казусов, воспроизводимых в любую эпоху и среди любого народа. Конкретный характер предстает в контексте синкрисиса как комбинация абстрактных свойств, перечисляемых по пунктам. Пелопид и Марцелл «оба были (1) храбры, и (2) неутомимы, и (3) вспыльчивы, и (4) великодушны»
[278]. Те же Деметрий и Антоний «в равной мере (1) сластолюбивы, (2) привержены к вину, (3) во всем настоящие солдаты, (4) щедры, (5) расточительны, (6) наглы»
[279]. Примеры могут быть умножены до бесконечности. Что это такое? Это рубрикация — коренная рационалистическая установка на исчерпание предмета через вычленение и систематизацию его логических аспектов.
Достаточно усмотреть связь между рубрикацией и синкрисисом, увидеть роль синкрисиса как катализатора рубрикации, чтобы понять: синкрисис никоим образом не курьез и не причуда того или иного автора, не пустая условность
[280], да и не просто частный прием, но адекватное выражение некоторого необходимого и универсального для античной литературы подхода к вещам, действовавшего и тогда (может быть, более всего тогда), когда синкрисиса как такового перед нами нет. Скажем, греко–римская биография нормального, неплутарховского типа, начиная с «Эвагора» Исократа и «Агесилая» Ксенофонта вплоть до «Двенадцати цезарей» Светония и дальше, обходилась без синкрисиса, но обходилась именно потому, что вся ее рубрицированная композиция представляла собой как бы синкрисис implicite, рассмотрение темы sub specie синкрисиса
[281].
Как разъясняет античная теория
[282], составителю биографии надо было прежде всего вычленить рубрику «происхождение» (γένος) и затем разделить ее на подрубрики «народ» (έθνος), «отечество» (πατρίς) «предки» (πρόγονοι) и «родители» (πατέρες), чтобы трактовать каждую подрубрику обособленно; далее, в рубрике «деяния» должны быть выделены подрубрики «душа», «тело» и «судьба» (τύχη); в первой из них в свою очередь различаются отдельные добродетели или пороки, во второй — отдельные телесные качества, в третьей — наличие или отсутствие благоприятных обстоятельств, каковы власть (δυναστεία), богатство и обилие друзей, и т. п. Каждый из этих пунктов несет в себе самом потенцию синкрисиса: «происхождение» для того и разбито на четыре составляющих, чтобы сразу же усмотреть, что такой-то герой превосходит такого-то по признаку «народа» или «отечества», но уступает ему по признаку «предков» или «родителей»; и то же самое можно сказать и о дальнейших рубриках. Если Светоний описывает нрав и поведение своих цезарей по унифицированной схеме, вся предлагаемая им панорама просматривается как синкрисис: любая рубрика любой биографии логикой композиции сопоставлена с соответствующей рубрикой других биографий. Для стиля античной характерологии все это настолько необходимо, что напрашивается вывод: Плутарх снабжал свои биографии особыми синкрисисами не по особой наклонности своей к тому, что составляло суть поэтики синкрисиса, т. е. к рассудочной, абстрагирующей рубрикации, но, напротив, по совершенно необычному у греческого или римского литератора его эпохи недостатку такой склонности — недостатку, побудившему его ограничить господство рубрикации специально для того выделенными эпилогами (и отчасти прологами) каждой четы биографий, вместо того чтобы распространить это господство на все свое биографическое творчество в целом, как поступил (по примеру греческих предшественников) тот же Светоний.
Однако здесь не место заниматься вопросом, которому мы посвятили немало усилий в другом месте: что отличало вкус Плутарха от вкуса его античных коллег. Сейчас нас занимает совсем иной вопрос: что отличает вкус античности в целом (более того, и некоторых последующих эпох, для которых сохранял свою центральную значимость принцип риторического рационализма) от нашего вкуса; и здесь отношение к синкрисису, к явлению и к идее синкрисиса может служить одним из первостепенных симптомов. Те же синкрисисы Плутарха ничего не говорят ни уму, ни сердцу современного читателя, даже того квалифицированного читателя, который зовется филологом
[283]. Однако Плутарх, человек не только умный и тонкий, но, как уже было сказано, отнюдь не имевший личной приверженности к риторическому рационализму, мог с явным удовольствием заниматься попарной группировкой своих героев для синкрисиса; группировка эта могла иметь успех у читателя, что доказывается подражанием ей у Аминтиана
[284]; наконец, еще в эпоху Возрождения один из самых конгениальных Плутарху его читателей и почитателей — Монтень, как известно, усматривал особую прелесть «Параллельных жизнеописаний» именно в синкрисисах
[285]. Все это заставляет задуматься. Здесь проходит какой-то существенный водораздел всей европейской литературной истории.
Но возьмем специально наблюденный нами у Либания «местоименный» способ описывать жизнь как проигрывание положений между «сим» и «оным», «этим» и «тем», «неким» и «неким». На фоне античной литературы в целом здесь нет ровно ничего курьезного и диковинного. Излюбленная риторическая схема описания выбора (в частности, выбора жизненного пути) такова: некто избирает одно, некто— другое, сей любит то-то, а оный — то-то, я же предпочитаю иное. Схему эту часто употребляли, между прочим, чтобы изобразить исключительность человека с духовными интересами, мудреца или поэта, среди «толпы». В качестве раннего примера можно привести стихотворный фрагмент, принадлежащий знаменитому Критию, софисту и политическому деятелю, одному из «тридцати тиранов». Хотя Критий вошел в историю с репутацией имморалиста, фрагмент носит весьма морализующий характер. Мы даем его в подстрочном переводе:
Виды любви (έρωτες) в жизни у нас многообразны: ведь сей вожделеет обладать родовитостью; оному же не о том попечение, но он желает слыть обладателем богатств великих в дому своем; еще другому любо, никакой здравой мысли отнюдь не высказывая, увлекать ближних худым дерзновением; иные же из смертных ищут постыдной выгоды паче нравственного благородства (τοΰ καλοΰ); таково житейское заблуждение людей. Я же ничего из сих вещей улучить не хочу, но желал бы иметь добрую славу (δόξαν εύκλειαν)
[286].
Так говорил благонравный герой трагедии Крития (воспроизводя, Как видит читатель, те самые общие места характерного для эпохи морализма, которые столь часто пускались в ход против Крития и ему подобных, — чего стоит хотя бы упоминание «худого дерзновения», (τόλμα κακή!). Впрочем, некоторые источники приписывают этот фрагмент Еврипиду
[287], что не может вызвать удивления: монолог одинокого резонера, описывающего свое отличие от всех остальных людей, свое нежелание идти их путями — почти необходимая принадлежность чуть ли не всех еврипидовских трагедий. Индивидуалистическая декларация — «что до меня, я иду не тем путем, что сей или оный, этот или тот» — к лицу обоим этим глашатаям софистической эпохи. Надо сейчас же оговориться: сама по себе схема, использованная Критием или Еврипидом, не раз была опробована задолго до подъема индивидуализма
[288], и формальный ее генезис нетрудно возвести к фольклору (которому очень хорошо известны формулы предпочтения одного предмета другим, специально перечисляемым
[289]). Но лишь в контексте подготовки и осуществления мировоззренческих сдвигов второй половины V — первой половины IV в. до н. э. схема эта получает новый, сугубо цивилизованный характер, удаленный от фольклорной или архаической наивности: во–первых, перебор и описание отклоняемых мыслимых возможностей становятся более систематизированными, логически упорядоченными; во–вторых, схема в целом, как мы отчасти уже видели на примере приведенного выше монолога, получает преимущественное прикрепление к специфическому мотиву одинокого пути избранника среди лабиринта разбредшихся путей толпы.
Одиночество избранника и безумствующая толпа — это антитеза, которая кажется нам очень привычной, ибо автоматически ассоциируется с умонастроением романтизма. Действительно, само наличие этой темы, невозможной для определенных типов культуры, — важный пункт соприкосновения между античной литературой, какой она стала со времен софистов и Еврипида, и новоевропейской, особенно же романтической, литературой. В другой связи нам приходилось говорить об этом
[290]. Неблагоразумно, однако, не отметить сейчас, насколько по–разному трактуется эта тема в античной литературе и у романтиков. В чем романтики решительно не заинтересованы, так это в классификации путей толпы, в их дифференциации, в логическом переборе различных возможностей неромантического, alias «филистерского» образа жизни. Все чуждое видится им как бы с большой дистанции, а потому сливается в неразличимое, нерасчлененное единство — «мир», «свет», «толпа», «они», иногда (в некоем подобии желчной парабасы) «вы»; никакой «тот» не обособлен от «этого», никакой «оный» не противопоставлен «сему». У Лермонтова мы читаем:
Пускай поэта обвиняет Насмешливый, безумный свет… —
у Эйхендорфа:
Da draussen, stets betrogen, saust die geschaft'ge Welt…
(поэт словно бы слышит, но не может и не хочет как следует расслышать смутный, неразборчивый гул, едва долетевший к нему под «зеленую скинию», griines Zelt). Если Фет говорит:
Спи, утомленный
Заботами дня,
Земной страдалец!
Ты не поймешь,
Зачем я бодрствую
В таинственном храме
Прохладной ночи… —
его читатель, конечно, не спросит у него, к какой именно логической разновидности людских типов принадлежит этот «страдалец», воплощение житейской прозы, какого в точности рода его «заботы» (а ведь «виды любви у нас в жизни многообразны», по Критию или Еврипи- ду…). Нет, у него, антипода поэта, есть только одно существенное свойство — не быть поэтом и поэта не понимать; больше о нем сказать нечего. На этом умонастроение романтического и послеромантического артистизма стояло всегда. (Пример поздний и довольно гротескный: в предреволюционном Петрограде завсегдатаи кабаре «Бродячая собака» — поэты, актеры, живописцы и музыканты — окрестили всю ту часть человечества, которая занимается какими-либо иными родами деятельности, а равно и предается праздности, «фармацевтами», причем особенно гордились тем, что не делают ни малейшего различия между статусами министра или кухарки, профессора или кавалерийского офицера
[291].) Многоразличные пути человеческих интересов и страстей, блужданий или хотя бы заблуждений предстают для романтического взгляда как одна–единственная «дорога», по которой движется «толпа»:
Взгляни: перед тобой, играючи, идет
Толпа дорогою привычной…
От этого бесконечно далеки поэты классической древности, не устававшие изощряться в каталогизировании тех самых людских поприщ, от которых они отведены своим поэтическим призванием (или своими убеждениями, вкусами и т. д.). Едва ли не самый яркий и во всяком случае самый известный пример предлагает римская литература: это некоторые пассажи Горация, прежде всего первая ода первой книги
[292]. Это стихотворение об уединенном жребии поэта, которого «отделяют от всех» (secemunt populo) творческие досуги; однако из 36 строк оды 26 стихов отданы неторопливому исчислению и картйнному описанию
[293]всего того, чем увлекаются прочие люди (спорт и политика, земледелие и торговля, праздность, война и охота), поскольку же четыре стиха идут на посвятительные обращения к Меценату в начале и конце, на похвалу тихим радостям вдохновения остается шесть строк.
Этой неутомимой страсти к перечислениям наследники эллинской традиции остаются верны и тогда, когда на самом исходе античной эпохи выступают глашатаями христианского мировоззрения. Особенно характерна интересующая нас схема для творчества Григория Богослова. Вот один из многочисленных примеров:
Пусть другие строят фаланги гоплитов, Пус, ть терпят еще больше зла, чем причиняют, Разя, крича, сражаясь при неверных поворотах Удачи, ценой крови покупая Некое бремя богатства или власть тирана. Еще другие пусть вымеряют лоно земли И неукротимого моря, торгаши злополучные. Другие же пусть прилежно ткут
Судебные определения и противоречивые законы, малой
корысти ради. Мне же ценою всего иного должно стяжать Христа; Как богатство, я несу нищий крест
[294].,
Каталогизирующую энергию, порождавшую пассажи вроде приведенных, мы только что противопоставили отказу романтиков любопытствовать о том многообразии житейских возможностей, на фоне которых поэт выделяет свое собственное бытие. Поспешим, однако, сейчас же подчеркнуть, что коренная установка подобных перечней от софистической эпохи до времен Григория Богослова и далее по меньшей мере столь же непохожа на то, что с XIX в. противостояло романтизму, — на реалистический или натуралистический интерес к «жизни, как она есть», к прозаической «правде» эмпирии.
Конечно, в любви к каталогизированию остро сказывается познавательная, интеллектуалистическая интенция, заложенная в самых основах того, что мы назвали выше риторическим рационализмом; но рационализм рационализму рознь, и познавательная интенция может быть направлена на объекты принципиально различные. Если художники XIX в., века Дарвина, любили уподоблять свой подход естественнонаучному (наряду с бесчисленными авторским декларациями вспомним употребительный некогда в русской литературе термин «физиологический очерк»), то любознательность, стоящая за античными переборами принимаемых к сведению и отклоняемых возможностей, сродни не столько любознательности естествоиспытателя, сколько любознательности логика. Строгая прозрачность, просматриваемость, рассудочная упорядоченность мыслительной панорамы ценятся здесь гораздо выше, чем богатство выхваченного «из жизни» материала (по отнюдь не праздной ассоциации вспомним, что ходовая античная аксиология ставила форму выше материи).
Жизнь от века к веку менялась, но состав перечней не менялся, ибо перечни по самой своей сути были ориентированы на неизменное; в них не больше примет времени, чем в таблице логических категорий. Этот любитель «постыдной выгоды» у Крития или Еврипида, «страшащийся покоя» купец у Горация, «злополучный торгаш», вымеряющий просторы земли и моря, у Григория Богослова — явно один и тот же персонаж; и спрашивать, кто он — финикиец или сириец, эллин, римлянин или левантийский «ромей», — было бы не только бесполезно, но и прямо несообразно (так, Фома Фомич у Достоевского, предвосхищая фольклористов–социологизаторов
[295], спрашивал о «камаринском мужике» из потешной песенки, что это за мужик — «господский ли, казенный ли, вольный, обязанный, экономический?»).
Излишне говорить, что приметы времени неизбежно проступают и в риторических перечнях (как, разумеется, и в потешных песенках), но принципиально важно, что проступают они чаще всего помимо воли сочинителя, так сказать, «между строк», и улавливание их есть дело рискованное, как всякое чтение «между строк». Чтобы не ходить далеко за примерами, вспомним корыстных сплетателей «судебных определений и противоречивых законов» из приведенных стихов Григория Богослова; всякий знаток эпохи Григория без труда свяжет их с действительностью поздней Римской империи, — но ведь жалобы на крючкотворов и сикофантов были еще у Аристофана. Приметы времени очень интересны нам, и мы их выискиваем, то натыкаясь на реальность, то вперяясь в пустоту и подпадая иллюзии; но сама структура традиционалистского литературного творчества докапиталистических эпох существенно определяется тем обстоятельством, что автор такого интереса не разделяет и на него не рассчитывает. Чего нет, того нет.
Один из очень выразительных примеров того, как работает риторическая установка, — античные стихи, посвященные предметам искусства. Современный человек, памятуя, что эллины были несравненными творцами и тонкими ценителями в области скульптуры и живописи и что великое множество греческих эпиграмм посвящено изваяниям и картинам, склонен искать в этих эпиграммах драгоценную фиксацию конкретных впечатлений от конкретных шедевров. И вот тут-то ему приходится разочароваться. Это разочарование ощутимо в интонации отечественного специалиста С. П. Кондратьева, составившего целую хрестоматию античных поэтических высказываний о произведениях искусства
[296], который, процитировав слова Энгельса о важности для греческого восприятия каждого индивидуального объекта, недоуменно спрашивал: «Но почему так скупо описывают поэты «Антологии» эту индивидуальность? »
[297]В подавляющем большинстве случаев перед нами, собственно, вообще не стихи «о» произведениях искусства, а нечто иное— стихи «на» произведения искусства, по поводу их. Вот характерный пример. В так называемом Планудовом дополнении к «Палатинской антологии» есть эпиграмма неизвестного поэта на статуи Диониса и Геракла, стоявшие рядом и, по–видимому, образовывавшие единую скульптурную группу
[298]. Если бы автора сколько-нибудь занимали сами статуи, мы узнали бы из эпиграммы, в каких позах представлены оба божества, каким изображен Дионис — бородатым или безбородым; может быть, услышали бы об эффекте контраста между изнеженным видом Диониса и мужественным обликом Геракла; возможно, даже получили бы хоть смутное представление о композиции группы. Обо всем этом, однако, не сказано ни единого слова. Поэт без остатка поглощен своей умственной игрой — каталогизацией признаков, по которым логически сопоставимы Дионис и Геракл как таковые. Этих признаков он на тесном пространстве шести стихов эпиграммы отыскивает восемь: оба (1) уроженцы Фив, (2) воители, (3) сыны Зевса, (4) их оружие являет аналогию — тирсу отвечает палица, (5) их статуи соседствуют, (6) их одежды и атрибуты также являют аналогию — небриде отвечает львиная шкура, кимвалу — трещотка, (7) Гера была враждебна обоим, (8) оба пришли в мир богов из мира людей, причем не без помощи огня. Это похоже на игру «секретарь», известную российскому образованному обществу во времена Жуковского и состоявшую в том, что надо было найти пункт сходства и пункт различия между двумя возможно менее сопоставимыми объектами, например быком и розой
[299].
Разобранная эпиграмма — отнюдь не единичный случай, напротив, она может представительствовать за множество ей подобных. Прежде всего можно выделить целый класс совершенно таких же эпиграмм «на стоящие рядом статуи». Скажем, Дионис и Афина сопрягаются в одном из стихотворений этого класса по следующим трем пунктам: оба (1) воители, (2) дарователи важнейших культурных растений — оливе отвечает виноград, (3) родились из частей Зевсова тела — рождению из бедра отвечает рождение из головы
[300]. Все же этот класс невелик; но к нему, в порядке концентрических кругов большей или меньшей близости, примыкают другие тематические группы эпиграмм, каждая из которых основана на том же принципе абстрактно–логического сопрягающего рассмотрения несходных понятий через голову всякой конкретности.
Так, в Эпидавре локальный культ потребовал изображения вооруженной Афродиты
[301], которое и было выполнено в IV в. до н. э. скульптором Поликлетом Младшим. Этой статуе посвящено семь эпиграмм
[302], ни одна из которых не дает никакого конкретного и наглядного образа. Настоящая тема всех их — нахождение логического перехода между двумя далекими понятиями: «Афродита» и «бранный доспех». Вот несколько вариантов: Афродита присвоила доспехи влюбленного Ареса по праву победительницы в бою — сопряжение понятий по смежности через гомеровский мотив любви Афродиты и Ареса и одновременно через подразумеваемое традиционно–фольклорное приравнивание любви и борьбы, брачного и бранного «поединков»
[303] (эпиграммы Леонида Тарентского
[304] и Филиппа
[305], отчасти Антипатра
[306]); Паллада (на имени которой перекрещиваются два ассоциативных ряда — мастерства и воинственности, — вызываемые образом доспехов сама довела до совершенства (άπηκριβώσατο) облик вооруженной Киприды, забыв о соперничестве с этой богиней, — сопряжение понятий по противоположности через популярный сюжет суда Париса (дистих Александра Этолийско- го
[307]); в Спарте сама Киприда повинуется законам Ликурга, дабы спартанские жены, творя в брачных чертогах дело Киприды, зачинали воинственных сыновей — сопряжение понятий через их выведение из мифологической плоскости и транспозицию в плоскость гражданской этики (эпиграмма ранневизантийского поэта Юлиана Египетского
[308]).
Это стихи разных времен, разных авторов, различные по художественному уровню; тем более показательно тождество коренной установки. Эту установку можно вновь и вновь узнавать в неисчерпаемом множестве вариантов. Так, рассмотренному выше типу эпиграммы на стоящие рядом статуи несхожих божеств отвечает противоположный тип — эпиграмма на удаленные друг от друга в пространстве статуи божеств схожих. Почему Афродита Праксителя на Книде, а его же Эрос не подле своей матери, а в Феспиях? Антипатр Сидонский отвечает: «таковых божеств изваял Пракситель, каждого в другой земле, чтобы все сущее не было сожжено двойным огнем»
[309]. Этот ответ, данный в заключительном дистихе, подготовлен в двух предыдущих дистихах «огненными» метафорами: Афродита Книдская «зажжет и камень», Эрос Феспийский «заронит огонь не то что в камень, а хоть в хладный адамант». Ни для какой характеристики конкретного облика обоих статуй эти метафоры не оставляют места. Зато ими обоснован изысканный логический ход: именно сходство выступает κέικ мотив разделения в пространстве, т. е. некоторого вида несходства.
Праксителевой Афродите вообще повезло в эпиграмматической поэзии. Посвященные ей 13 эпиграмм
[310], без сомнения, свидетельство восторга, который эта статуя (во многих отношениях, очевидно, предвосхитившая эллинистический вкус) вызывала у ценителей. Но мы были бы просто слепы, если бы не замечали, что само-то реальное содержание эпиграмм стоит лишь в весьма косвенном отношении к каким-либо эмоциям, вызываемым статуей. Что интересует поэтов, так это казус совмещения двух несовместимых логических моментов, где первый момент — априорно предполагаемая недоступность наготы богини для взора смертных
[311], а второй момент — факт представления этой наготы в шедевре Праксителя (причем, как заверяют гиперболы, представления, адекватного своей «натуре», что на следующем уровне гиперболичности выступает как тождество этой «натуре»). Иначе говоря, «Афродита, представленная (=явленная) нагой» стоит по своей логической структуре в том же ряду, что и «Афродита в доспехах». Разумеется, стихи на ту и другую темы отлично можно было писать, никогда в жизни не видав ни той, ни другой статуи. Для поэта достаточно было отправной точки в виде самой идеи несовместимости как таковой; от этой отправной точки расходился целый веер возможных путей. Можно было подчеркивать несовместимость, обыгрывать и заострять ее: Афродита вопрошает, где же это Пракситель подглядел ее нагой
[312], восклицая по этому поводу φε€! φεΰ!
[313] Можно было поставить вопрос так: невозможность для смертного видеть наготу Афродиты — общее правило; случай Праксителя — единственное исключение из этого правила
[314]. Можно было вспомнить о трех смертных, уже бывших такими исключениями, во–первых, о Парисе, во–вторых, о любовниках богини Анхисе и Адонисе, спрашивая, не стоит ли Пракситель в этом ряду четвертым
[315]: через невозможность перекинут мостик прецедента
[316]. Можно было вообще увидеть в ситуации, создаваемой наличием статуи, некую аналогию ситуации, имевшей место во время суда Париса, приравнивая к положению Париса не только положение Праксителя, но и положение созерцателя его изваяния
[317]. Можно было, наконец, подумать не о земном, но о божественном, посвященном в таинство наготы Афродиты, т. е. об Аресе, связав его с Праксителем через медиацию
[318]неодушевленного предмета — железного резца: железо принадлежит Аресу, или по логике мифологической образности есть Арес
[319], а потому резец в руках Праксителя передает Праксителю знание Ареса о наготе Афродиты, сам воспроизводя эту наготу в соответствии со своим знанием
[320]. В разнообразии использованных ходов снова выявляется поразительное единообразие установки. Это ходы в одной и той же игре.
Рассмотренные нами классы эпиграмм на произведения искусства стоят в широком контексте эпиграмматической поэзии вообще, представляя собой в совокупности часть целого, и притом такую часть, которая очень адекватно характеризует целое. Но нам сейчас не так легко выработать непредвзятую точку зрения на эпиграмматику. Наш сознательный или бессознательный отбор того, что нам представляется в ней наиболее «ценным», «ярким» и т. д., во–первых, преувеличивает значение описательных моментов, чувственной наглядности, так называемой пластичности
[321] (которая во многих эпиграммах присутствует или, что чаще, чуть намечается, в немногих — достигает разработки и совершенства, но отнюдь не играет центральной роли в основной массе образчиков жанра); во–вторых, односторонне сосредоточивает внимание на некоторой частной топике (эротико–гедонистической, бытописа- тельской, сатирической, сентенциозной и т. п.), на так называемом настроении эпиграммы, могущем быть характерным для автора, для его эпохи и его круга
[322] (если только это не иллюзорная характерность), но очень мало затрагивающем сущность самого жанра как такового.
Но стоит нам отвлечься от всех попыток отбора по критериям современного вкуса и читать Палатинскую антологию и прочие эпиграмматические сборники попросту подряд, как становится затруднительно не заметить, что чаще всего нам встречаются все-таки не «зарисовки» и не фиксации «настроений», о которых мы так привыкли слышать от историков литературы
[323], но скорее более или менее тонкие упражнения для рассудка наподобие только что описанных стихов на произведения искусства, что-то вроде постановки и решения задач различной сложности по занимательной логике. Такой тип эпиграммы, сильно разочаровывающий современного читателя своей сухостью, может быть назван самым тривиальным, но понятие тривиальности предполагает понятие массовости. На общем фоне эпиграмматического творчества даже те специфические (но при этом достаточно многочисленные) эпиграммы, которые в совокупности складываются в стихотворный задачник по математике
[324] и в сборник загадок
[325], перестают казаться просто курьезом, стоящим за чертой «художественной литературы», и оказываются скорее логическим пределом для очень мощной и влиятельной тенденции жанра в целом. Что до шедевров эпиграмматической поэзии, связываемых традицией с именами классиков жанра и попадающих в кругозор современных изложений истории греческой литературы, то и на них небесполезно взглянуть по–новому с учетом этой тенденции; в контексте жанровой нормы они выглядят несколько по–иному.
Вот один из многочисленных примеров. Об известном эпиграмматисте III в. до н. э. Посидиппе приходится слышать, что его отличительная черта — «склонность к философским рассуждениям с несомненным уклоном в сторону пессимизма», «уныние», которое порождено «упадком общественной жизни в Греции»
[326]. Единственное основание для такой характеристики — десятистишная эпиграмма из IX книги Палатинской антологии
[327]; и вот на ней-то стоит остановиться подробнее. Во–первых, рукописная традиция связывает ее не только с именем Посидиппа, но и с именами Платона Комика и даже Кратета Киника
[328]. Из этого вытекает не только вполне тривиальное затруднение к использованию ее для характеристики специально Посидиппа, но, пожалуй, и нечто иное: ее едва ли вообще можно рассматривать как излияние душевных чувств или выражение образа мыслей ее автора, кем бы этот автор ни был. К модусу ее восприятия и бытования внутри живой антично–византийской эпиграмматической традиции принадлежит некая существенная анонимность
[329]. Во–вторых, структура эпиграммы соответствует этой анонимности: ее «лирический герой» не Посидипп, не Платон и не Кратет, но тот самый τις, с которым мы встречались в описании битвы у Либания.
Перед нами не личная жалоба, но классифицирующий каталог абстрактно мыслимых сторон жизни, жизненных путей и жизненных ситуаций, где каждой возможности отвечает некое характерное для нее зло. Хотя бы для того, чтобы одно зло было равно другому злу, нужно, чтобы каждое зло было взято совершенно отвлеченно; и тогда возникает огорчительная для души, но довольно забавная для рассудка невозможность выбора наименьшего зла, что-то вроде положения Буриданова осла навыворот — с двух сторон маячат не равновеликие вязанки сена, а, скажем, одинаково болезненные бичи. Классификация жизненных возможностей, предлагаемая Посидиппом, шестичленна, а в каждом члене — дихотомична, чтобы зло и уравновешивающее его другое зло снова и снова стояли друг против друга попарно.
Во–первых, жизнь вообще может быть либо (1) публичной, т. е. протекать «на площади», либо (2) приватной, т. е. протекать «в доме», но первой свойственны «склоки и неприятные хлопоты», т. е. отсутствие уюта, а второй — «заботы», т. е. отсутствие выхода из круга бесславных каждодневных дел. Во–вторых, добывание средств к жизни может быть связано либо (1) с земледелием, либо (2) с торговым мореплаванием, но в первом — «вдосталь маяты» (καμάτων αλις), а во втором — риск и тревога (τάρβος). В–третьих, предполагается, что человек может поселиться на чужбине, но там он будет по своему имущественному статусу либо (1) состоятельным, либо (2) неимущим, но первое навлекает опасности, второе — тяготы. В–четвертых и в–пятых, по своему семейному положению, взятому в двух различных аспектах, он либо
1) женат, либо (2) холост, но в первом случае он лишен беззаботности, во втором — страдает от одиночества; далее, либо (1) имеет детей, либо
2) бездетен, но дети — это беспокойство, отсутствие детей — уродство (πήρωσις). В–шестых, по своему возрасту он либо (1) молод, либо (2) стар, но молодость сопряжена с неразумием, а седина с немощью. Эпиграмма заключается строго традиционной сентенцией, цитировавшейся в свое время еще в «Эдипе в Колоне» Софокла и в неизвестной комедии Алексида
[330]: «желать можно одного из двух — или не рождаться, или умереть немедленно по рождении». Это во всяком случае не вопль души и не вывод из конкретного жизненного опыта индивида или целой эпохи, а нечто совсем иное.
Для эпиграмматиста интересно и почетно заключить в метрические рамки элегического дистиха мысль, уже звучавшую в логаэдах Софокла и в ямбических триметрах Алексида. Это удовольствие, чуждое новой поэзии «самовыражения», манило не только авторов бесчисленных парафраз, которыми так богата позднеантичная и византийская литературы
[331], но и побуждало Григория Назианзина самого переписать элегическими дистихами то, что он же написал триметрами, или наоборот
[332]. Эпиграмма тоже предлагает новую парафразу старого текста, возвышает свой голос в состязании. При этом она и сама вызывает на дальнейшее состязание с ней, как бы намечая заранее ход, который может использовать будущий соперник. В самом деле, «пессимистический» текст уже несет в себе как собственную импликацию свою «оптимистическую» обратимость. Так, сказать, что в жизни «на площади» есть неуютность, а в жизни «дома» — тесная безвыходность забот, значит сказать (коль скоро два члена определяются, а значит, и описываются по противоположности друг другу), что уют есть в жизни «дома», а выход из тесноты — в жизни «на площади»; и та же прозрачная логическая операция может быть проделана с остальными пятью парами противоположностей. «Оптимистический» антитезис уже задан в самом «пессимистическом» тезисе. Напрашивающаяся возможность должна была быть реализована, и она была реализована — через семь столетий.
Эпиграмматист IV в. н. э. Метродор, известный как автор математических задач в стихах
[333], написал ответ, разумеется тоже десятистиш- ный и вообще строжайше воспроизводящий логико–синтаксическую структуру образца (формулы типа είν άγορη μεν έν
δε δομόις и т. п. оставлены без изменения и занимают те же самые позиции внутри дистихов); ответ этот дан в Палатинской антологии рядом с первой эпиграммой, чтобы читатель насладился их параллелизмом
[334]. К эпохе Метро- дора упадок общественной жизни в Греции сменился общим кризисом средиземноморской цивилизации; но «пессимистическая» эпиграмма уже была написана
[335], и Метродору просто ничего другого не оставалось, как быть «оптимистом». Как же он пишет свое сочинение на заданную тему είς τον βίον χρήσιμον
[336]? Мы слышим, что, во–первых, (1) в публичной жизни «на площади» есть «слава и разумные дела», т. е. выход из отупляющей узости домашних работ, а зато (2) в приватной жизни «дома» есть «покой» (άμπαυμα), т. е. укрытие от тревожной неуютности площади; во–вторых, (1) земледельцу улыбается «милость Природы» (φύσιος χάρις), а (2) мореплавателю — быстрое обогащение, так что первый избавлен от авантюрных тревог второго, а второй — от монотонных трудов первого; в–третьих, на чужбине (1) состоятельный имеет «известность» (κλεός), а зато (2) безвестность неимущего укрывает его от бесчестия; в–четвертых, (1) женатый имеет «наилучшее устроение дома» (οίκος άριστος), а зато (2) холостяку вольнее живется; в- пятых, (1) дети — предмет любви, а (2) бездетность — жизнь без забот; в–шестых, (1) молодые люди сильны, а (2) седые головы благочестивы. В заключение воспроизводится сентенция, служившая итогом первой эпиграммы, но только с отрицанием: «нет, не нужно желать одного из двух — или не рождаться, или умереть». Так инверсия первой эпиграммы доведена до конца.
Для чего, собственно, мы столь подробно останавливались на этом казусе? Соотношение двух эпиграмм, подобное зеркальной симметрии, представляет собой факт, хотя отнюдь не единичный, не лишенный параллелей
[337], но, конечно, далеко не массовый; однако он обусловлен, более того, вызван к жизни не чем иным, как принципом жесткой логической диспозиции
[338], работая на выявление этого принципа
[339], а последний, как мы убедились на различных примерах (которые могут быть умножены ad libitum), характерен для эпиграмматического жанра в целом. Именно поэтому через рассмотрение пары спорящих друг с другом эпиграмм мы имеем шансы узнать о самом жанре нечто особенно важное, отыскать необходимый корректив к привычному, но одностороннему представлению об эпиграмме как «пластической» фиксации момента и настроения.
Что касается эпиграмматического жанра, то у него есть особые права на представительство за состояние породившей его литературной культуры, и это потому, что он обусловлен ее простейшими, глубоко лежащими, очень стабильными основаниями; само его наличие — это симптом, «необходимый и достаточный признак» литературы, принявшей норму риторического рационализма. Жанр созревает параллельно созреванию риторического рационализма. Как и последний, он проходит свою архаическую фазу во времена Симонида (которые были также временами Гераклита, сыгравшего, как показал Э. Норден, первостепенную роль в подготовке феномена риторики
[340]); как и последний, он обретает равенство себе и устойчивый облик на закате классики, к началу эллинизма, чтобы затем сопровождать греческую культуру на всех ее языческих и христианских путях вплоть до гибели Византии в 1453 г. Другие поэтические жанры уходили из живой литературы (как ушел дифирамб, ушла трагедия, ушла Древняя и Средняя, а затем и Новая комедия), а иногда возвращались в преобразованном виде, чтобы снова уйти до следующего возвращения (как гексаметрический эпос); но эпиграмматическая традиция оставалась на редкость непрерывной более полутора тысячелетий. Есть периоды, когда поэзия только и представлена эпиграммами
[341]. Греки не могли перестать писать эпиграммы, как они не могли перестать сочинять торжественные речи в совещательном, судебном и эпидейктическом роде; утилитарные приложения школьной риторики в парадной прозе и ее же игровые приложения в эпиграмматической поэзии — это, так сказать, минимум данного типа словесной культуры, его скромное ядро, то, без чего невозможно обойтись.
При этом эпиграммы пишут все; умение написать эпиграмму для образованного грека то же самое, что для образованного японца времен Басё умение сложить хокку. Это вопрос школьного умения, вопрос грамотности; Филипп III Македонский, монарх, которому было совсем не до литературы, мог, однако, облечь свою угрозу эпиграмматисту Алкею Мессенскому в правильно составленную эпиграмму
[342]. Либаний был, напротив, мастером слова, но слова прозаического; единственные стихотворные строки, которые традиция связывает с его именем, — строки эпиграммы
[343]. Иногда сочинение эпиграмм напоминает по своей социальной функции что-то вроде домашнего музицирования или игры в шахматы.
И еще одно свойство эпиграмматического жанра — уникальная стабильность его оснований. Разумеется, эпиграммы несут в себе какие- то приметы времени, чаще всего относящиеся попросту к топике, но не сводящиеся к ней; однако в глубине жанровой структуры изменяется поразительно мало. Эпос Аполлония Родосского — в другом смысле эпос, чем гомеровский; и на переходе от Аполлония к Нонну содержание самой этой жанровой категории меняется еще раз. Но эпиграммы Паллада (IV-V вв.), Павла Силентиария и Агафия Схоластика (VI в.), Иоанна Геометра (X в.), Иоанна Мавропода (XI в.), Никифора Григоры (XIV в.) суть эпиграммы точно в таком же смысле, что творения Аскле- пида или Посидиппа (IV-III вв. до н. э.). И этой более чем полутораты- сячелетней временной дистанции мало; если мы перейдем границы гре- коязычной поэзии и обратимся к латинской стиховой традиции, эпиграммы Авзония (IV в.) и поэтов Салмазиева сборника (V-VI вв.), Ве- нанция Фортуната (VI в.) и стихотворцев каролингской поры (VIII— IX вв.), Хильдеберта Лавардинского (XI-XII вв.), но также Анджело Полициано (XV в.), Томаса Мора, Филиппа Меланхтона, Марка Антония Мурета (XVI в.), Юлия Цезаря и Юста Иосифа Скалигеров (XVI— XVII вв.), Гуго Гроция и Каспара Барлея (XVII в.), Лаврентия Ван Сантена (XVIII в.) и так далее, вплоть до таких любопытных анахронизмов, как, скажем, латинская «Надпись к портрету моему» папы Льва XIII на самом исходе XIX в., тоже не знаменуют ни малейшего принципиального сдвига в жанровых установках.
Меняется топика (и то очень мало), но способы ее рассудочного препарирования не меняются. Парадоксы христианской доктрины о вочеловечении Бога трактуются эпиграмматистами совершенно так же, как в свое время трактовался парадокс вооруженной Афродиты. Если тема — вифлеемские ясли, можно сказать, что они обширнее небес: небеса, по Библии, Бога не вмещают
[344], а ясли вместили
[345]. Положим, христианин на свои деньги построил книгохранилище: спрашивается, как связать этот его поступок с догматами его веры? Медиация между понятием «книгохранилище» и понятием «Христос» осуществляется через лексему λόγός («слово»): поскольку христианин верует, что Христос есть Бог–Слово, для него естественно построить жилище для слов, т. е. для книг
[346]. Некогда языческие эпиграмматисты представляли как парадокс изображение наготы Афродиты у Праксителя; но, если смертным глазам недоступна нагота олимпийской богини, им тем более недоступна бестелесность христианских ангелов, изображение которых на иконе христианские эпиграмматисты превращают в такой же логически формализованный парадокс. Другое дело, что на сей раз парадокс совпадает по своему содержанию с совершенно серьезным тезисом византийского богословия иконы. «Сколь дерзостно даровать форму (μορφωσαι) бестелесному, — пишет Нил Схоластик (VI в.), — однако и образ (εϊκών) возводит к умному памятованию о вещах небесных»
[347]. «Будь милостив, обретши форму, о Архангел! — вторит ему его современник Агафий, — ведь твой лик недоступен зрению; но таковы дары смертных»
[348]. «О вера, на какие чудеса ты способна! — продолжает через четыре века Иоанн Геометр, — Как легко даешь ты форму естеству, непричастному форме!»
[349].
В такие построения автор и читатель могут вкладывать сколь угодно много или мало эмоциональной серьезности — от максимума до минимума.
Рассудочность эпиграммы совершенно не оставляет места для прямых заключений о религиозных убеждениях или тем паче чувствах эпиграмматиста. Умственные игры подобного рода вокруг догматов христианской веры мы встречаем и в самых глубоких памятниках византийской «духовности»; с другой стороны, однако, Клавдиан, этот «недруг имени Христова», по свидетельству Августина
[350], «поэт отменный, но язычник самый закоренелый», по свидетельству Орозия
[351], мог сочинять вполне в тон своим христианским коллегам эпиграмматические формулировки парадоксов богосыновства и богочеловечества Христа. Бог–Сын — это, по Клавдиану, «незнаменуемого Отца первонасеян- ный глас»
[352]; младенец Христос — это «новоявленный градодержец, древлврожденный, новорожденный Сын, вечносущий и предсущество- вавший, высший и последний, совечный бессмертному Отцу»
[353]. Конечно, христианские мотивы в поэзии Клавдиана стимулируются положением поэта при дворе христианских императоров, но в них нет ровно ничего вымученного, они разработаны с блеском и отлично вписываются в общую панораму творчества этого «недруга имени Христова». Ибо, как только что было сказано, новая топика не изменила старый внутренний строй эпиграммы. Что касается эпох, куда более отдаленных от античности, то весьма характерно, что между оригинальными творениями тех же Томаса Мора и Гуго Гроция в «антологическом роде» и их же переводами (очень точными) из Палатинской антологии невозможно ощутить существенного различия. Такая однородность эпиграмматической продукции на колоссальном временном расстоянии объясняется лишь тем, что в жанре, особенно беспримесно реализующем принцип риторического рационализма, инвариантные элементы гораздо сильнее и глубже, чем отклики на время или отражения авторской судьбы и души.
ЖАНР КАК АБСТРАКЦИЯ И ЖАНРЫ КАК РЕАЛЬНОСТЬ: ДИАЛЕКТИКА ЗАМКНУТОСТИ И РАЗОМКНУТОСТИ
1
В важных документах эстетической и теоретико–литературной мысли прошлого особенно интересны могут быть фразы, брошенные как бы между прочим и как раз поэтому выявляющие какие-то исходные предпосылки определенного типа общественного сознания — предпосылки, которые специально не обсуждались и даже не формулировались, потому что были для носителей этого сознания аксиоматическими; о том, что само собой разумеется, не говорят, а лишь случайно проговариваются. Таково, между прочим, замечание сделанное Аристотелем в «Поэтике» по ходу обсуждения начальных стадий развития жанра трагедии: «Наконец, испытав много перемен, трагедия остановилась, обретя наконец присущую ей природу»
[354]. Здесь как нельзя более четко и ясно выражено представление о жанре как о сущности, хотя возникающей и постепенно становящейся во времени, однако имеющей вневременную «природу», или, если вспомнить еще один аристотелевский термин, «энтелехию» — внутреннюю заданность, императив тождества себе. Становление жанра — это его приход к себе самому; достигнув самотождественности, жанр естественным образом «останавливается», ему уже некуда идти.
«Поэтика» Аристотеля, первое систематическое обобщение опыта античной литературы, осуществленное одним из самых сильных умов всех времен, не только единственное по глубине выражение античного литературного сознания, его свидетельство о самом себе, но также источник непрекращающегося воздействия на позднейшее литературное сознание и специально на наш способ понимать и описывать античное наследие. Поэтому важно, что «Поэтика» в целом исходит не из какого-либо понятия, а именно из понятия жанра. Знаменитая дефиниция сущности трагедии
[355] едва ли не смысловой центр всего сочинения, по крайней мере его сохранившейся части. Начать надо, по Аристотелю, с дефиниции жанра, т. е. с установления суммы его субстанциальных признаков
[356]; затем именно дефиниция служит мерилом практики, отправной точкой для разрабатываемых рекомендаций — поскольку трагедия определена таким-то образом, из этого следует, какая фабула, какой объем, какие персонажи и т. п. являются для нее оптимальными, наиболее отвечающими ее сущности, ее «природе». Любопытно отметить, что столь же полной и содержательной дефиниции поэзии как таковой в «Поэтике» не имеется; о поэзии сказано только, что это подражание
[357] с использованием ритма
[358], — нет и попытки перебора всех субстанциальных признаков, а отмеченные признаки, будучи необходимыми, но недостаточными, подошли бы и музыке. Очевидно, дефиниция трагедии для Аристотеля нужнее, чем дефиниция поэзии (не говоря уже о дефиниции литературы — во времена Аристотеля и понятия такого не было
[359]).
В этой связи не менее характерно и показательно, что в одном месте Аристотель ставит в ряд поэтические жанры (эпос, трагедию, комедию, дифирамб) и роды музыкального творчества («большую часть авлетики с кифаристикой»), не имея потребности обособить одно от другого
[360]; граница между поэзией вообще и музыкой вообще, хотя бы в определенных контекстах, становится несущественной, а граница между трагедией и комедией всегда очень существенна. И еще один важный симптом — слова, которые употребляет Аристотель для передачи понятия жанра
[361]: разные жанры — это разные «подражания» (μιμήσεις)
[362], разные «искусства» (τέχναι)
[363]. Есть «технэ» трагического поэта, есть «технэ» поэта, работающего в другом жанре, например эпическом или комическом, а есть «технэ» флейтиста или упоминаемого тут же плясуна, и все три «технэ» — разнящиеся между собой предметы, настоящие объекты классификации; а то, что первые два объекта можно в рамках этой классификации сгруппировать и противопоставить третьему как «поэзию», разумеется, интересно и важно, однако лишь во вторую очередь. Первичные сущности — не поэзия вообще и не индивидуальность поэта, чье отношение к поэзии вообще — к «поэтической стихии», как это можно назвать со времен романтизма, — лишь опосредовалось бы жанром. Нет, именно жанры — это и есть сущности. А что, по Аристотелю, дает наиболее ясное представление о сущности? «Тела и то, что из них состоит, — живые существа и небесные светила»
[364]. Запомним это на будущее: здесь такой источник не всегда осознаваемых метафор для описания бытия жанров, который не вполне иссяк и ныне, — говорим же мы о «рождении» жанров, об их «жизни», о «гибридных» жанрах и т. п. Существование жанров мыслится по аналогии с существованием тел, в частности живых тел, которые могут быть в «родственных отношениях», но не могут быть взаимно проницаемы друг для друга.
Не составляет большого труда припомнить обстоятельства литературного обихода времен Аристотеля, побуждавшие ощущать поэтические жанры как разные «искусства». Прежде всего этими «искусствами» занимались разные люди; творческая личность не могла свободно переходить от одного жанра к другому, используя их как возможности самовыражения. Когда под конец платоновского «Пира» Сократ принимается доказывать, «что один и тот же человек должен уметь сочинять и комедию и трагедию и что искусный трагический поэт является также поэтом комическим»
[365], — это, собственно, философский парадокс, имеющий разве что косвенное отношение к литературным реалиям. Равным образом, если у Аристотеля и позднее Гомер предстает как универсальный поэт, соединивший в себе творца серьезного эпоса и мастера юмора (в «Маргите»)
[366], на то он и Гомер, отец всяческой поэзии, всяческой образованности, единственная в своем роде фигура, которая в пантеоне греческой культуры не имела себе подобной
[367]. Исключение только оттеняет норму. Это много позднее на почве римской литературы явятся поэты, совмещающие практику в жанрах эпопеи, трагедии и комедии, например Невий и Энний, а еще позднее молодой Овидий напишет трагедию «Медея» как пробу сил еще в одном жанре. Во времена Аристотеля такого не было. Характерно, далее, то общеизвестное обстоятельство, что за различными жанрами (или отдельными компонентами жанров, например за диалогическими и хоровыми частями трагедии) в классической греческой литературе закреплялись не стилистически окрашенные слои единой лексической системы, как это будет в той же римской литературе или еще позднее, в литературах европейского классицизма, — но, куда радикальнее, различные диалекты. Оды Пиндара написаны не то что в ином «стилистическом ключе», но как бы на ином греческом языке, нежели проза Геродота.
Это и многое другое работало, конечно, на представление о жанрах как тождественных себе самим и непроницаемых друг для друга сущностях. Замечательно не это — замечательно, до чего живучим и устойчивым оказалось это представление. Ведь историю ранней и классической греческой литературы наша наука до самого последнего времени всегда излагала «по жанрам», рассекая для этого цельность движущегося во времени литературного процесса. Возьмем для примера наугад хотя бы трехтомную «Историю греческой литературы», изданную Ин статутом мировой литературы в 1946—1960 гг. Пиндар был современ ником Эсхила, Геродот — современником Софокла, но здесь им повстречаться не суждено: Эсхил и Пиндар разведены по разным разде лам («Лирика», «Драма»), а Софокл и Геродот — даже по разным томам (заглавие первого тома — «Эпос, лирика, драма классического периода», второго тома — «История, философия, ораторское искусство классического периода»). Мы не обсуждаем сейчас, целесообразна ли привычная организация материала и не стоит ли от нее отказаться. Нас интересует то, что она — привычна.
Оглядываясь на путь постижения античного наследия в европейской культуре, мы видим, как различные, соперничавшие друг с другом, сменявшие друг друга направления мысли способствовали консер вации некоторой переоценки самотождественности и взаимной непроницаемости жанров в античной литературе.
В самом деле, со времен поэтик Марко Джироламо Виды (1527 г.) и Юлия Цезаря Скалигера (1561 г.) осмысление античной традиции пошло по пути классицизма, сильно преувеличившего сравнительно с подлинной античностью моменты непререкаемой стройности в размежевании жанров и нормативной жесткости в их разработке. Для классицизма характерна прямо-таки фетишизация жанра, которой в такой мере не бывало ни раньше, ни тем более позднее. Эстетика немецкого классического идеализма, прежде всего в шеллинговском варианте (курс лекций Шеллинга по философии искусства — 1802—1803 гг.), сложилась, казалось бы, в союзе с иенской романтикой, т. е. на гребне умственного движения, оспорившего классицистский нормативизм; однако установка этой эстетики на так называемое конструирование (Konstruk- tion) форм эстетического творчества, т. е. на их якобы самоочевидное выведение из вечных начал духа, не могла не возродить на новой основе абсолютизацию жанров. «Как всякое конструирование, — пишет Шеллинг, — есть представление вещей в абсолютном, то конструирование искусства есть по преимуществу представление его форм как форм вещей, каковы они в абсолютном»
[368]. В особенности противопоставление так называемых литературных родов — эпоса, лирики и драмы, бегло намеченное в свое время у Аристотеля
[369], представало как противопоставление онтологических категорий или моментов диалектического процесса. Для того же Шеллинга, например, сущность лирики — это «потенция особенного, или различимости», сущность эпоса — «потенция тождества», сущность драмы — диалектическая ступень, «где единство и различимость, общее и особенное совпадают»
[370]; для Гегеля эпосу соответствует объект в чистом бытии, лирике — субъект в настроении, драме — синтез объекта и субъекта в волевом действии
[371] — подход, воспринятый
[372], как известно, молодым Белинским
[373]. Наследники немецкой идеалистической традиции в XX в. предпочитали видеть в литературных родах эквиваленты или материализацию не столько старых категорий, сколько «экзистенциалов» Хайдеггера; так, Э. Штай- гер связал эпос с представлением, или настоящим, лирику — с воспоминанием, или прошедшим, драму — с порывом, или будущим
[374].
Здесь не место заниматься критическим разбором подобных построений; их адекватная критика может быть осуществлена только на основе философской эстетики, а не с позиций истории литературы. Заметим только, что подход Гегеля, или Шеллинга, или Штайгера наделяет литературные роды безусловной всеобщностью, присущей противопоставлению субъекта и объекта или различению трех времен — прошедшего, настоящего и будущего; как мышление в категориях времени должно быть одно и то же у всех времен и народов, такая же категориальная общность, универсальность, хотя бы в принципе, приписывается соотношению и взаимодополнению эпоса, лирики и драмы. А это уже противоречит конкретному опыту истории литературы. Не везде эпос, лирика и драма представлены так полно и равномерно, как в греческой литературе, не везде они так логично сменяют друг друга, словно бы и впрямь выявляя какой-то вечный закон, и не везде поэтическая продукция делится на них, так сказать, без остатка.
На смену немецкому классическому идеализму пришла позитивистски ориентированная научность, всемерно отталкивавшаяся от умозрения, дедукции, априоризма, апеллировавшая к факту. Но и она по–своему продолжила некое мистифицирование феномена жанра в античной литературе. Она исходила и продолжает исходить из двух предпосылок, вообще говоря здравых: во–первых, в античной литературе, как во всякой литературе традиционалистского типа, устойчивые жанровые формы играли очень большую роль и целый ряд литературных явлений благоразумнее объяснять не из спонтанности авторского самовыражения, а из них; во–вторых, в деле учета и описания этих жанровых форм полезно во избежание модернизации пользоваться той жанровой номенклатурой, которую нам удается отыскать в самих античных текстах. Возразить нечего ни на первое, ни на второе. Беда, однако, в том, что античное теоретико–литературное сознание выделило, назвало и описало лишь ограниченный круг жанров — все те же эпопея, трагедия, комедия, лирические жанры, риторические жанры. За порогом остается очень много — в особенности для литератур эллинистической и позднеантичной.
Для прочих жанров тоже можно отыскать в античных текстах какие-то обозначения; и вот филологи, со второй половины XIX в. научившиеся проявлять все больше интереса к «младшим» жанрам, начали обшаривать тексты, так сказать, разглядывать их под увеличительным стеклом ради того, чтобы найти подобные обозначения и ввести их в терминологический словарь современной науки. Эта практика оправдана уже тем, что она неизбежна; но она опасна. Опасность связана с тем, что в сеть филолога попадает всякая добыча — и словечки, в определенном контексте могущие содержать некое необязательное, нестрогое, хотя и окказионально понятное указание на какие-то жанровые формы, но терминами не являющиеся; и вообще псевдотермины, мнимая терминологичность которых родилась из недоразумения; и термины, так сказать, неполноценные, терминологичность которых — иной степени, иного качества, чем у вполне настоящих терминов. Последний случай особенно интересен, потому что он связан не с грубым недоразумением, а только с неразработанностью методологии.
Возьмем хотя бы слово βίος — буквально «жизнь»; этим словом греки называли биографии, например «Параллельные жизнеописания»
Плутарха. Является ли это слово термином? Очевидно, да. Но это термин принципиально иного свойства, чем, например, термин τραγψδία (трагедия). Последний — это жанровое обозначение во всей полноте смысла этого словосочетания: в его семантику входит множество необходимых формальных признаков — античная трагедия не может быть написана прозой, не может иметь непомерно малого или непомерно большого объема, ее диалогические и монологические части непременно состоят из ямбических триметров, регламентировано чередование этих частей с хоровыми, число действующих лиц, одновременно находящихся на сцене, и многое, многое другое. Напротив, термин или паратермин βίος не содержит решительно никакой характеристики произведения, кроме тематической: он указывает на то, что произведение либо излагает жизненный путь некоеро–реально жившего человека, либо описывает его нравы и образ жизнй^1/либо совмещает то и другое. Но произведение это может иметь любой объем — от ничтожно малого до монументального, от краткой заметки, сообщающей несколько скудных сведений, до нескольких «книг» в античном значении слова (заметки по нескольку строк представляет себе каждый, кто заглядывал в античные биографии поэтов, а примером монументального жизнеописания могут служить хотя бы восемь книг Филострата о жизни Аполлония Тианского, но даже в пределах одного биографического сборника, например у Диогена Лаэртского, наблюдаются очень разные перепады объема
[375]. Нормально биография написана прозой, но нет ни малейшего препятствия к тому, чтобы написать ее стихами
[376]; что касается биографической прозы, ее стилистика может быть какой угодно — от самого торжественного красноречия до самой крайней безыскусственности, даже необработанности
[377].
Еще раз — формальных характеристик жанра термин βίος не содержит. И здесь начинается самое интересное. Мы говорили выше о том, что представление о жанре как «сущности» подсказывает идею ясной идентичности, тождества себе и отделенности от иного. Жанр — это «литературный вид»
[378]; аналогия с биологическим видом неизбежна. Если живое существо принадлежит к одном виду, оно тем самым не может принадлежать к другому виду. Возможны, конечно, скрещивания и гибриды, но они не снимают, а подчеркивают грань между видовыми формами: в гибриде признаки двух видов могут сосуществовать только за счет того, что ни один, ни другой вид не выступает в полноте и чистоте своей «сущности». Для таких античных жанров, как трагедия, эта аналогия, в общем, имеет смысл. Трагедия, оставаясь трагедией, не может быть никакой другой жанровой формой, и если ее признаки отчасти потеснены какими-то другими, как это происходит в позднем творчестве Еврипида, чуждые трагедии признаки могут войти в нее настолько, насколько ущербляется ее классическая идентичность а трагедия остается трагедией постольку, поскольку она все же не ста новится, скажем, новой аттической комедией, а лишь предвосхищает ее черты. Именно так можно описывать, например, «Иона»; налет сентиментальности, интерес к быту, к семейным драмам, авантюрный сюжет, счастливый конец — все это заставляет вспомнить новую комедию, но на самый простой, «детский» вопрос о жанровой принадлежности произведения существует только один ответ — это трагедия, хотя трагедия в состоянии кризиса.
С такими жанрами, как биография, дело обстоит совершенно иначе. Будучи по своей теме биографией, произведение всегда может быть по своим формальным признакам полноценным образцом какого-то иного жанра, и это ни в какой мере не свидетельствует ни о каком жанровом кризисе, а напротив, соответствует норме. Такие ранние биографии, как «Эвагор» Исократа и «Агесилай» Ксенофонта, являются образчиками эпидейктического красноречия в жанре энкомия, «похвального слова»; «Агрикола» Тацита — специально надгробное похвальное слово. Биографии афинских трагических поэтов, а возможно, и другие части объемистого биографического сборника, созданного в пору раннего эллинизма перипатетиком Сатиром, имели, как это весьма неожиданно выяснилось из папирусной находки начала века
[379], форму диалогов. Биография может, не переставая быть биографией, быть энкоми- ем, диалогом и еще много чем другим. Это совсем не гибридная, промежуточная форма, в которой собственные признаки осложнены и оттеснены наплывом чуждых признаков, причем ни те ни другие не могут проявить себя вполне последовательно. Ничего гибридного в «Аге- силае» или «Агриколе» нет, это вполне биография и вполне энкомий, одно другому не противоречит и не мешает — просто признаки биографии относятся к уровню темы, а признаки эпидейктического красноречия — к уровням стиля и оценочной установки
[380]. Два жанра не просто проницаемы друг для друга, но для их взаимопроницаемости не имеется никаких препятствий. Но это значит, что такие жанры уже не «сущности» и аналогии из области биологических видов к ним неприложи- мы. Тут невозможна недвусмысленная, раз и навсегда установленная классификация, потому что неясно, что брать за единицу классификации, где вид, а где разновидность — в отличие от той же трагедии, идентичности которой не устраняют различия между разновидностями. Мы можем назвать «жанром» идиллию, можем назвать «жанром» буколику; некоторые из идиллий принадлежат сфере буколики, некоторые — нет, но буколика, разумеется, не разновидность идиллии хотя бы потому, что буколическая топика может разрабатываться вне идиллии, например в эпиграммах или в прозе «Дафниса и Хлои». Термин «буколика» опять-таки характеризует иной уровень признаков текста, чем термин «идиллия».
Или возьмем так называемый эпистолярный жанр. Нет ни малейшего сомнения, что написание письма, притязающего быть корректным с точки зрения литературных, т. е. риторических, критериев, было в античном обиходе подчинено достаточно жесткой регламентации; античные письмовники предлагали советы и образцы, которые должны были помочь написать письмо любого содержания по всем правилам
[381]. Об античном эпистолярном жанре говорить можно, более того, необходимо
[382]. И все же — нечто сдвигается уже тогда, когда мы ставим на место греческого έπιστολή (письмо), т. е. бытового слова, означающего некую бытовую реалию, гелертерское, а потому «терминологическое», отделенное от всякого бытового обихода словосочетание «эпистолярный жанр». Когда мы говорим о письме, понятно, что его необходимым признаком является только обращение к реальному или фиктивному отсутствующему адресату; нет ничего странного, что под знак такого обращения может быть поставлен текст, характеризующийся содержательными и формальными приметами любого литературного жанра, например философское рассуждение, «увещание», если угодно, та же биография, — почему бы, в самом деле, не изложить в письме обстоятельства чьей-то жизни? — и так далее, и это отнюдь не жанровый гибрид, не явление «эпистолярного жанра» с отдельными чертами другого жанра, а нечто гораздо более простое — рассуждение, или увещание, или биография в письме: не отклонение от нормы, а норма.
У филологов были серьезные основания дать статус терминов, и специально историко–литературных терминов, таким словам, как «диатриба» или «мениппея». И все-таки полезно помнить, что для античного уха эти слова отнюдь не имели терминологического звучания. Слово διατριβή означало «досуг, времяпрепровождение», т. е. оно было синонимом слова σχολή и претерпело аналогичный семантический сдвиг; у Диогена Лаэртского, Афинея, Евсевия и других поздних авторов оно обозначает философскую школу
[383], и отсюда недалеко было до переноса значения с самой школы на разговоры, которые там ведутся. Поскольку разговоры эти приобретают в стоико–кинической практике новую, характерную окраску и окраска эта очень широко прослеживается в греческой и латинской литературах эллинистической и римской эпохи, понадобился термин, который обозначил бы целую линию античной словесности. Таким термином и стала «диатриба». Любой носитель античной культуры удивился бы, узнав, что это слово — терминологическое обозначение литературного жанра
[384].
Слово Menippaea — прилагательное «Мениппова», которое вместе с существительным satura (смесь) было взято как заглавие огромного сборника Варрона, где по примеру эллинистического писателя Мениппа Гадарского были свободно перемешаны стихотворные и прозаические пассажи серьезного и несерьезного свойства. Варрона читали много, его пример стимулировал возникновение еще нескольких произведений римской литературы, форма которых является смешанной — отчасти стихи, отчасти проза: это «Апоколокинтосис» Сенеки, знаменитый «Сатирикон» Петрония, «Свадьба Меркурия и Филологии» Мар- циана Капеллы, но и абсолютно серьезное «Утешение философией» Боэция. Насколько мы можем судить, их в древности «мениппеями» не называли. Лишь в конце XVI в. словосочетание «Мениппова сатира» было обновлено группой ученых французских памфлетистов, озаглавивших так свое публицистическое сочинение, направленное против Лиги и по античному примеру перемешивавшее стихи и прозу
[385]. Словосочетание употреблялось и на этот раз, в сущности, так же, как и у Варрона, — оба раза это было не обозначение жанра, а заглавие, отсылавшее к образцу: Варрон хотел сказать, что следует примеру Мениппа, французские авторы — что следуют примеру Варрона.
Лишь филологи новейшего времени заговорили без всяких оговорок о «мениппее» как жанре, «геносе»
[386]. Как известно, глубокомысленные размышления Μ. М. Бахтина возвели слово «мениппея» в ранг важнейшей историко–литературной универсалии, более того, историко–культурной категории, если не понятия из области философской антропологии. Получилось нечто в вышей степени яркое, интересное, но отрыв от
txi тичного словоупотребления, уже начатый в профессиональной сфере классической филологии, завершился окончательно. Оказывается, например, что «жанр» мениппеи возник еще до Менип- па
[387] и что единственная конкретная особенность формы, которую имел в виду Варрон, — свободное чередование стихов и прозы — совершенно не является необходимым признаком мениппеи
[388]. У Бахтина мениппея предстает как некая стихия духа («…Например, от отдельных образов и эпизодов «Эфесской повести» Ксенофонта Эфесского явственно веет мениппеей»
[389]). Нет никаких оснований корить замечательного отечественного мыслителя; переосмысление, которому он подверг старое слово, само по себе столь же законно, как законно говорить о «трагическом начале» в жизни и культуре, не думая о жанре трагедии в античной литературе со всеми приметами этого жанра. С другой стороны, однако, всякому ясно, что, когда, например, поэт–символист Вяч. Иванов, хорошо знакомый с настоящей греческой трагедией, приписывал сущность трагедии романам Достоевского
[390], это была метафора. Здесь происходит то же самое. Метафора может быть полна смысла, и смысл ее может иметь конкретное отношение не только к предмету философии, но даже к предмету теории литературы — только ее нельзя понимать буквально. Разница, однако, в том, что если мы вполне ясно знаем буквальное содержание термина «трагедия», то термин «мениппея», как кажется, наиболее плодотворен как метафора. Его исторически верифицируемое содержание исчезающе мало, богаты лишь его побочные, ассоциативные коннотации.
Вернемся к неполноценным терминам, «почти–терминам», вроде слова «диатриба». Каждый знает по опыту своей собственной литературы, что литературная жизнь сама собой порождает в кругах писателей и ценителей словечки, которые, не будучи терминами со строго определенным значением, функционируют как непринужденный жест, указывающий в ту или иную сторону жанровой панорамы. Например, в русском обиходе конца XVIII — начала XIX в. было распространено слово «безделки». Стандартность заглавия «Мои безделки» подчеркивалась возможностью другого заглавия — «И мои безделки»
[391]. Несомненно, что это слово было в ряде типичных контекстов связано с идеей «легкой» поэзии в противоположность оде, эпопее, трагедии, а значит, отчасти терминологизировалось. Стало ли оно, однако, полноценным термином? Очевидно, нет; во–первых, потому, что рядом с ним как его синоним выступает слово «безделушки» («радуюсь, что вам понравились безделушки, в анакреонтическом тоне написанные»
[392]); во–вторых, потому, что в ряде контекстов оно употребляется явно как простое самоуничижение («не переведено ли что-нибудь из моих безделок на немецкий?»
[393]). Мы еще довольно живо это чувствуем, — это наш собственный язык. Но представим себе на месте слова «безделки» какое-нибудь греческое слово, которое звучало бы для нашего уха не только отчужденно и экзотично, но и терминологично, просто по своей принадлежности греческому языку — неисчерпаемому источнику наших терминологических новообразований?
[394] Наши языковые навыки обеспечили бы для него, так сказать, презумпцию терминологичности. Какие благозвучные дериваты образовали бы мы от него, как уверенно оперировали бы с ним в наших литературоведческих построениях! И это не было бы абсолютно бессмысленной, абсолютно необоснованной практикой, ибо определенная мера, так сказать, неполной терминологичности таким словечкам присуща и они ориентируют нас в кругу не вполне самоопределившихся жанровых тенденций. Однако это было бы преувеличением, в высшей степени допустимым как эвристический прием при условии, что мы осознаем этот прием.
Филологи не могут и не должны перестать говорить об « эпистолярном жанре», о «жанре» диатрибы, может быть, и о «жанре» мениппеи. Однако этим нельзя заниматься в состоянии методологической самоуспокоенности. Умственному эксперименту, в котором мы даем статус термина одному из литературных «словечек» античности, для самой античности термином не являвшемуся, должна отвечать острота понимания некоторой условности всей этой процедуры.
2
Достижения античной культуры — настолько необходимый элемент нашего собственного ежечасного культурного обихода, что нам нелегко осознать степень их качественного отличия от всего, что им предшествовало. Так обстоит дело и с античной концепцией литературного жанра. Нужно серьезное усилие ума, чтобы представить себе, какие сдвиги — не только в эволюционном развитии поэтики или риторики как частных дисциплин, но и в революционном становлении нового типа культуры, где все по–иному, чем прежде, — отражает хотя бы дефиниция жанра у Аристотеля
[395].
Очень важно уже то, что Аристотель сознательно описывает жанр как внутрилитературное явление, распознаваемое по внутрилитератур- ным критериям. Эта его установка подчеркнута тем обстоятельством, что как раз трагедия была через театр, через связь зрелища с культом Диониса и т. п. неразрывно связана с внелитературной реальностью. Все это намеренно исключается из рассмотрения. Аристотель вводит впервые тему трагедии, говоря не о «трагедии», а о «сочинении трагедии»
[396]. Примечание М. JI. Гаспарова к этому месту поясняет: ««Сочинение трагедии», а не просто «трагедия» — чтобы отвлечься от ее зрелищной стороны»
[397]. Единственная внелитературная реальность, бегло упоминаемая в аристотелевской дефиниции, — это музыкальное сопровождение, но и этот момент вводится лишь по связи со стиховым метром, т. е. с литературным качеством текста. О зрелищной стороне сказано: «…зрелище хотя и сильно волнует душу, но чуждо нашему искусству и наименее свойственно поэзии: ведь сила трагедии сохраняется и без состязания, и без актеров, а устроение зрелища скорее нуждается в искусстве декоратора, чем поэтов»
[398]. Литературная реальность совершенно четко осознана как реальность sui generis, специфический предмет для мысли, еще на пороге рассуждения отделенный мыслью от всех других предметов.
Как мы имели случай говорить в другом месте, ситуация жанра, которую застала и преодолела греческая культура, была совершенно противоположной
[399]. Ранние фазы словесного искусства характеризуются синкретической неразличенностыо этого искусства и обслуживаемых им внелитературных ситуаций — ситуаций бытовых и культовых, что для архаики более или менее одно и то же. Во избежание недоразумений подчеркнем, что речь идет вовсе не о какой-то исключительной «сакральности» всех форм раннего словесного искусства или об их жесткой регламентированости в равной степени у всех народов и во всех древнейших цивилизациях, что явно противоречило бы этнографическому материалу и историческим сведениям; как удельный вес культурно–церемониального элемента в строгом смысле этих слов, так и регламентация творчества в одних случаях — больше, в других — меньше. Мы хотим сказать другое: как бы с этим ни обстояло дело, обряд в широком смысле слова остается универсальным способом оформления бытия и быта человека в традиционном обществе, и до тех пор, пока словесное искусство не получает своей собственной территории, огражденной от всех остальных жизненных «доменов», обрядовость прямо или опосредованно остается для этого вида творчества почвой — иной почвы просто нет.
Разумеется, сказанное наиболее очевидно в применении к обрядовой поэзии в самом буквальном, узком смысле этого слова, например к культовым песням или к причитаниям: нет нужды разъяснять, что в этих случаях характеристика жанра как такового входит в характеристику обстановки ритуала и наоборот, так что одно, по существу, нельзя отделить от другого. Здесь жанровые правила — непосредственное продолжение правил ритуала и, шире, правил житейского прили чия в их архаическом варианте. Однако mutatis mutandis сказанное продолжает быть верным и в более сложных случаях, там, где нет качества обрядовости в ближайшем, наиболее буквальном смысле, а есть соотнесенность с общим принципом обрядового оформления жизни, пронизавшим весь архаический уклад. Например, речь «пророка», «прорицателя» или «мудреца», украшенная игрой звуков, слов и метафор, не будучи ритуальной в простейшем значении термина, входит в ритуал или церемониал явления перед людьми такого рода маркированного лица
[400]. Как на похоронах полагается причитать, пророку или мудрецу полагается говорить в особой манере. Стиховой ритм «Дхаммапады» или ветхозаветной «Книги Притчей Соломоновых» в контексте эпохи не самодостаточный литературный факт версификации, но отражение того обстоятельства, что общественная условность обязывала «мудреца» говорить речитативом и с ритмическими телодвижениями.
Важно и другое обстоятельство: когда архаическое словесное искусство отходит от бытового и ритуального обихода, жанровая номенклатура становится пропорционально степени этого отдаления менее ясной и четкой: твердые критерии для идентификации жанра даются внелитературной обстановкой, остальные критерии еще не работают. Каждый из жанров обрядовой поэзии получает фиксированное, недвусмысленное обозначение — ясно, чиЗ он такое, потому что ясно, при каких обстоятельствах он является уместным. Но та же самая жанровая форма речи «мудреца» обозначалась на древнееврейском языке словом «машал» (ma. sal)— и слово это буквально обескураживает нас своей семантической неопределенностью: этой «присказка», и «афоризм», и «притча», и «аллегория» вообще. Еще не существует мышления в жанровых категориях, которое определяло бы жанры из самой литературной реальности, и это положение, так сказать, естественно. Только умственная революция может его преодолеть.
Переход к развитой рефлексии о литературной реальности как таковой в Древней Греции V-IV вв. до н. э. и был умственной революцией первостепенной важности, точнее, одним из моментов широкой умственной революции, сделавшей возможными наряду с гносеологией и логикой — обращением мысли на самое себя, и теорию языка, поэтику и риторику, т. е. обращение мысли на слово и словесное искусство. Если бы процесс был эволюционным, а не революционным, атмосфера скандала, овевавшая инициативу софистов, никогда не сгустилась бы до такой степени. Комедия Аристофана «Облака» исчерпывающе показывает нам, что думал отнюдь не глупый и не примитивный афинянин об усилиях кружка умников, покусившихся внести неуемную рефлексию, экстравагантную технику формализации мысли туда, где ничего подобного не было.
Появление теории жанров — это прорыв извечной инерции, победа эллинского рационализма над косностью дорефлективного культурного обихода. Но победа эта состоялась с самого начала на ограниченной территории, а инерция на то и была инерцией, чтобы, как всегда, торжествовать повсюду, где слабел или куда не доходил натиск рационализма.
Теория литературы, созданная в ходе аттической интеллектуальной революции, оформляла себя двояко: как поэтика и как риторика. При этом развивались обе дисциплины в различных условиях. Риторика преподавалась в школах как основной гуманитарный предмет и была неразрывно связана с каждодневной рутиной самовоспроизведения культуры; не только практика, но и теория риторики — для античности хлеб насущный, без которого невозможно обойтись, ощутимое присутствие этой теории — инвариант меняющегося культурного обихода. Трактаты по риторике, прямо или косвенно соотнесенные с учебным процессом, постоянно пишутся заново, а уж их изучение вообще не прекращается. Другое дело — поэтика: ее история прочерчена пунктирной, прерывающейся линией. Гениальный трактат Аристотеля не нашел в пределах самой античности резонанса, не создал традиции. Но так или иначе — двуединство поэтики и риторики исчерпывало возможности систематического теоретико–литературного описания жанров; за пределами этого двуединства можно отыскать только спорадические замечания, признания, декларации, включенные в текст самих литературных произведений, от парабас Аристофана до эпиграмм Мар- циала — материал такого рода очень интересен, однако по самой своей сути не может давать системы, и сама возможность вычитывать из него теоретико–литературный смысл связана с наличием более систематических типов рефлексии.
Какие жанры попадали в кругозор поэтики и риторики? Ответ на этот вопрос ясен. «Поэтика» Аристотеля в своей сохранившейся части рассматривает два центральных жанра греческой классической поэзии — эпос и трагедию, с преимущественным интересом к трагедии; в утраченной, гипотетически реконструируемой части речь шла о комедии
[401]. Послание к Пизонам Горация, построенное по типу диатрибы, т. е. имитирующее разговорные переходы от темы к теме и принципиально исключающее систематичность хотя бы на уровне внешней формы
[402], тоже сосредоточено на драматических жанрах (трагедия и комедия — ст. 153—219, сатировская драма — ст. 220—250)
[403]. Между Аристотелем и Горацием лежит область эллинистических теорий поэтики, но о Неоптолеме Парийском, оказавшем влияние на Горация
[404], мы знаем слишком мало, даже после ряда исследований, спровоцированных осуществленной Хр. Иенсеном публикацией фрагментов Филодема, критика Неоптолема
[405].
Так или иначе, не приходится сомневаться, что в кругозоре античной поэтики находились лишь самые старые, освященные временем, стабильные и канонические жанры. Мы очень плохо знаем, что содержалось в эллинистических трактатах, но можем быть твердо уверены, чего там не было и быть не могло: там не было, например, развернутой теории жанра буколики, как и любого другого из «младших» поэтических жанров. Античная поэтика отдает все свое внимание замкнутому кругу «старших» жанров: на первом месте — гомеровский эпос и рядом с ним, как уже у Аристотеля, трагедия, на втором месте — комедия, сатировская драма, наиболее традиционные и освященные временем среди лирических жанров. Иначе говоря, освещена лишь меньшая часть жанровой панорамы, а большая часть остается в тени. Колоссальная консервативность установки античной поэтики исчерпывающе выявилась на рубеже новой, византийской эпохи, когда поэтика сумела, что называется, в упор не разглядеть феномен нового стихосложения, причем эта слепота так и оставалась затем неизжитой в течение целого тысячелетия
[406].
Что касается риторики, жесткий отбор анализируемых жанров был связан с практикой риторической школы: анализа, теоретического осмысления; нормативистской фиксации удостаивались те и только те жанры, владению которыми эта школа обучала. Что это были 3R Ж&Н- ры? Естественно, прежде всего жанры, принадлежащие к сфере риторики в самом узком и строгом смысле, т. е. к области красноречия — речи торжественные, политические и судебные, разновидности которых до тонкости дифференцировались теорией. На втором месте оказываются прозаические жанры, которые мы не привыкли относить к области красноречия, но которые с точки зрения самой античной риторики непосредственно подлежали ее ведению, например историография, включавшая экфразы местностей и битв, а главное, речи
[407], «жанр более всего ораторский», как выражался Цицерон
[408]. Развернутую теорию такого поэтического жанра, как гимн, мы находим не в античной поэтике, но в античной риторике, а именно у ритора Менандра Лаоди- кийского (III в.); эта кажущаяся аномалия объясняется тем, что в позд- неантичной литературе гимн был аннексирован прозой и рассматривался как один из частных видов эпидейктического красноречия. Итак, все это исключения, которые подтверждают правило: риторика занимается только строго определенными прозаическими жанрами, как поэтика занимается строго определенными поэтическими жанрами. В обоих случаях жанры эти можно перечислить и список окажется замкнутым. В него чрезвычайно трудно, практически невозможно включить жанр, которого в нем не было изначально. Современная филология может, конечно, косвенным путем вычитывать из античной риторики нечто, чего там непосредственно нет, например теорию греческого романа
[409]. Это занятие вполне дозволенное, но при одном условии: тот, кто им занимается, должен ясно отдавать себе отчет в его специфике. Явление греческого романа как жанра имеет конкретное отношение к категории «вымысла» (πλάσμα), но к этой категории не сводится. Античная риторика отлично знает категорию «вымысла», но греческий роман как жанр для нее не существует.
Что вытекает из сказанного? Подъем теоретической поэтики и риторики как форм систематической рефлексии о литературном творчестве создал для некоторых поэтических и риторических жанров принципиально новый статус. Эти жанры подверглись дефиниции по правилам формальной логики; для них было отыскано место на жанровой панораме; их обозначения стали, наконец, терминами в настоящем смысле слова; наконец, их оптимальный, т. е. соответствующий дефиниции, облик был фиксирован в наборе практических рекомендаций. Вспомним еще раз приведенные выше слова Аристотеля: «…испытав много перемен, трагедия остановилась, обретя, наконец, присущую ей природу». Жанры, на которых было сосредоточено внимание античной теории литературы, должны были «остановиться»; почему, собственно? Для этого императива обнаруживается два основания: одно — метафизическое, другое — практическое, причем за практическим, как это часто бывает, стоит не меньше «метафизики», т. е. общих мировоззренческих предпосылок, чем за метафизическим.
Метафизическое основание — та по сути своей телеологическая концепция совершенства как изначальной заданности, которая наилучшим образом выразилась в аристотелевских понятиях «целевой причины» и «энтелехии», но в более диффузном виде встречается далеко за пределами прямого влияния философской доктрины Стагирита. С ней связаны упоминавшиеся выше биологические метафоры, как явные, так — что особенно важно! — и подразумеваемые, имплицитные, даже не осознанные в своем качестве метафор. Куда они ведут? Организм с самого своего зарождения стремится осуществить некую программу, детерминированную, как мы теперь скажем, его «генетическим кодом» и постольку первичную по отношению к его собственному эмпирическому существованию; полнота осуществления этой программы — его биологическая зрелость, когда он максимально приближается к своему идеальному облику; а когда предел приближения достигнут и пройден, последовать может только отдаление, так что зрелость закономерно сменяется дряхлением организма. И вот предполагалось, что таким же образом дело обстоит и с жанрами. У жанра есть, по Аристотелю, «природа» — идеальное задание, первичное по отношению ко всем конкретным реализациям, из которых слагается его история. Анализ трагедии в той же «Поэтике» Аристотеля основан, разумеется, на анализе конкретных образцов, но не будем обманываться — он ориентирован на выяснение «природы», вневременной программы. Как развитие зародыша и детеныша стремится к состоянию взрослой особи, так уже первые опыты в области трагической поэзии были подчинены цели — «обрести, наконец, присущую ей природу». И для Аристотеля, и для Горация, но также для какого-нибудь заурядного носителя той культуры, выражающегося куда менее отчетливо, литературный процесс телеологичен. Когда же цель достигнута, двигаться дальше можно только от цели, т. е. в направлении упадка. Чтобы «прекрасное мгновение» продлилось подольше, эволюцию жанра лучше в нужный момент остановить. Эта концепция сохраняла вполне цельный и равный себе характер от Аристотеля до классицизма, а затем была оспорена более новыми умонастроениями, неблагоприятными как для принципа нормативизма, так и для принципа телеологии. Здесь не место обсуждать и оценивать ее; заметим только, что дело с ней обстоит не так просто и полностью обойтись без нее или хотя бы без ее реликтов пока что не удается. В числе таких реликтов могут быть названы употребительные до сих пор биологические метафоры: «жизнь» жанра; его «рождение», его «зрелость» и «кризис» — триада, вызывающая мысль о традиционной аллегории Трех Возрастов. Старая концепция не устранена из нашего мышления, а только оспорена и осложнена, т. е. лишена той завидной чистоты и ясности, той непротиворечивости, какую имела когда-то.
Что касается практического основания для «остановленного» бытия жанровых форм, то оно состоит в назначении правил жанра служить стабильными правилами некоей длящейся игры, в которую автор играет со своими предшественниками и преемниками на сколь угодно большой временной дистанции. Ибо теоретико–литературное сознание, сложившееся в Греции, а затем обслуживавшее ряд эпох, твердо стоит на том, что суть творчества есть подражание как состязание (μίμησις, ζήλωσις), т. е. деятельность, при которой самовыявление неповторимой характерности индивидуального начала обеспечено именно неизменностью правил, дающих всему личному опору и точку отсчета
[410]. Личному позволено быть личным не вопреки тому, а именно потому, что правила безличны и надличны; его неповторимость осознается, ценится и культивируется именно потому, что правила создают вечно повторяющуюся, вечно воспроизводимую ситуацию состязания. Индивидуальная авторская манера — для античной литературной теории ценность, может быть — высшая ценность
[411], но она является ценностью в качестве единственного шанса на выигрыш в длящейся игре со многими участниками.
Нет нужды останавливаться на социальных предпосылках статичной концепции жанра. Нам уже случалось отмечать и соотнесенность взгляда на жанр как на литературное «приличие» (греч. τό πρέπον) с сословным принципом
[412], и значение идеала передаваемого из поколения в поколение ремесленного умения (τέχνη)
[413]. Есть еще одна важная социокультурная аналогия — явление литературного языка, сознательно консервируемого средствами рефлексии, т. е. при помощи фиксированных правил, в противоположность текучести и поливариантности языка бытового, необработанного. Как раз античность добилась не только в практике, но и в «идеологии» литературного языка таких результатов, которые отбрасывают тень на много веков вперед: для литературного аттического диалекта IV в. до н. э. был создан статус, позволивший снова и снова возвращаться к нему в практике позднеантичного и даже византийского аттикизма, последствием чего и в наше время является языковая ситуация Греции, разводящая «кафаревусу» и «димо- тики»; латынь Цицерона, объективно явившаяся и субъективно осознанная как вершинная реализация возможностей языка, была нормой еще для гуманистов Возрождения.
Итак, под взглядом теоретической поэтики и теоретической риторики облик жанров обретает фиксацию и стабильность; присутствие литературной теории само по себе — мощный фактор стабилизации жанровой панорамы, устойчивого распределения между канонизированными жанрами функций, тем, мотивов, лексических «пластов» языка и т. п. Но эта констатация допускает логический поворот на 180°: установка античной литературной теории требует от жанровой панорамы статичности — как непременного условия ее, этой панорамы, просматриваемое™ и описуемости. Что в кругозоре теории — стабильно, но что нестабильно, в ее кругозор не попадает. Заново являющихся «младших» жанров, жанровых «гибридов» и прочих нарушений однажды освоенной жанровой панорамы ни поэтика, ни риторика, как правило, в упор не видят; исключения по сути своей таковы, что подтверждают правило
[414]. Полноправным предметом поэтики и риторики до конца античности (и даже много, много позднее
[415]) продолжали быть те стихотворные и прозаические жанры, которые античная литературная теория застала наличными при своем собственном становлении. Новые жанры оставались, так сказать, «беспризорными». Но из этого вытекает интересное обстоятельство: на них не распространялись или, точнее, не вполне распространялись специфические условия, созданные для канонизированных жанров присутствием теоретико–литературной рефлексии, в их бытии проявлялись черты более ранней, дореф- лективной поры.
Стоит вспомнить, что за порогом рефлексии с самого начала оставались фольклорные и полуфольклорные, низовые жанры и что многие из новых литературных жанров более или менее простодушно или, напротив, изысканно перерабатывали топику и мотивы фольклора и низовой словесности; этс прежде всего очевидно в отношении буколики, вновь и вновь идущей от картин пастушеского быта к имитации пастушеской песни, но может быть без труда прослежено и в отношении так называемого позднеантичного романа. Самое позднее, пришедшее после того, как двери теоретико–литературной рефлексии закрылись, оказывалось в соседстве с самым древним, с тем, что предшествовало всякой рефлексии и не вошло в ее двери. Разумеется, поскольку античная литература оставалась в своей основе традиционалистской, и для новых жанров, как для жанров дорефлективных, существовали свои жанровые каноны, во многих случаях, однако, достаточно расплывчатые; но к самому существу объективного статуса (а не просто субъективного осознания) этих канонов относится то, что они не были фиксированы усилиями литературной теории. В этих областях действует скорее «неписаный закон», литературный аналог обычного права, нежели кодифицированные правила поэтики или риторики. То есть последние тоже принимаются во внимание новыми жанрами, но лишь постольку, поскольку они касались вообще всякой литературы, желающей быть «художественной», всякой «изящной словесности», а не в более четком и обязательном варианте, специально приданном жанру, как это было, скажем, с трагедией или с эпидейктической речью. Правила регулируют — если у автора хватает для этого выучки — построение фразы, структуру периода, вообще фактуру словесной ткани, а также частности вроде разработки какого-нибудь описания («экфрасиса»); но жанровую идентичность в масштабе всего произведения обеспечивают не они.
С жанровой идентичностью, а потому и с жанровой номенклатурой как описанием этой идентичности дело может обстоять в отношении новых жанров античной литературы не проще, чем в дорефлективных литературах. Мы уже говорили выше о поражающей — с нашей точки зрения — полисемии древнееврейского «термина» ma sal. С ней контрастирует точность и однозначность жанровых обозначений, которые мы встречаем в греческих и римских риторических руководствах, не говоря уже о «Поэтике» Аристотеля. Но как обстоит дело с новыми жанрами античной литературы, в частности с тем жанром, который мы называем романом? В арсенале риторической теории были термины διήγημα (повествование) и πλάσμα (вымысел)
[416]; в совокупности они обозначают некое родовое понятие, в которое роман входит как одна из частных возможностей, ввиду чего практику позднеантичных романистов в известной мере приходится объяснять из теоретических рекомендаций, касающихся нарративного вымысла вообще, того, что по–английски называется fiction
[417]. Но также очевидно, что полнота жанровых признаков греческого любовно–авантюрного романа (идеально прекрасная чета в качестве героев, любовь с первого взгляда, непременные скитания и приключения, испытания верности, бракосочетание в счастливом финале) никоим образом не покрывается общим понятием нарративного вымысла; соответственно она не предусматривается и не может предусматриваться теорией последнего.
Теории, по–настоящему подходящей жанру, не существует по той же причине, по которой не существует по–настоящему подходящего ему терминологического обозначения; одно связано с другим. Позднее роман все чаще называют словом «драма» или дериватами от него (δραματικόν, σύνταγμα δραματικόν, έρωτικων δραμάτων υποθέσεις), что, если верить ритору III в. Афтонию, выражает все ту же идею «вымысла»
[418]; однако параллельно употребляются дериваты от слова «история», так что в итоге получается немалая терминологическая путаница. Термин «история» корректно употребляется в риторических текстах как противоположность термина «вымысел» (повествования бывают «мифические», «исторические», «прагматические», т. е. судебные, и «вымышленные»), но в применении к роману он несколько напоминает ненаучное словоупотребление персонажей фонвизинского «Недоросля» («А далеко ли вы в истории?»— «Какова история. В иной залетишь за тридевять земель, за тридесято царство»). С другой стороны, она может иметь какое-то отношение к имитации в романной литературе приемов историографии (специально исторической новеллистики, процветавшей со времен Геродота). Вывод: нет возможности говорить ни об абсолютном отсутствии жанровой номенклатуры, ни о ее нормальном функционировании. Жанр существует de facto и даже признан de facto, но его бытие принципиально отличается от бытия жанров, получивших признание de jure.
Конечно, эта картина характерна отнюдь не для одного романа. Изучение «младших», «гибридных», вообще полупризнанных жанров всегда очень важно для истории литературы, потому что эти жанры особенно пластичны и подвижны; в них закладываются основы более поздних жанровых явлений. Панорама вершинных достижений литературной эпохи еще может без них как-то обойтись, но реалистический подход к литературному процессу, к литературе как процессу без их учета немыслим. Но это как-то странно объяснять после Тынянова и Бахтина. Хотелось бы подчеркнуть другое: как раз в приложении к античной литературе исследование таких жанров представляет особый теоретический и методологический интерес. Во–первых, античность впервые открыла принцип теоретико–литературной рефлексии; важно выяснить, как этот принцип, распространенный отнюдь не на всю литературную продукцию, выступал порой в неполном, как бы диффузном виде, сосуществуя с наследием дорефлекторного подхода, опосредуя его и будучи им опосредуем. Во–вторых, в античной литературе с присущей ей строгостью жанрового традиционализма дистанция между статусом жанра de jure и de facto была куда больше, чем в более близкие нам времена. В–третьих, как мы уже указывали в начале статьи, временная даль может помешать и уже не раз мешала серьезным исследователям обособлять от жанров, признанных de jure, жанры, существовавшие de facto. Последние должны быть внимательно изучаемы, но иными методами, чем первые. Всякая путаница в этом пункте может только вести к недоразумениям и плодить псевдопроблемы.
ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ В АНТИЧНОЙ И ВИЗАНТИЙСКОЙ РИТОРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Достижения и завоевания античной культуры настолько органично вошли в состав простейших структур нашего собственного ежечасного культурного обихода, что это, как кажется, психологически затрудняет для нас осознание их беспрецедентности, качественного отличия от всего, что им непосредственно предшествовало. Понятия, которыми мы пользуемся на каждом шагу, никак специально не фиксируя на них нашего внимания, — «индивидуальный стиль», «индивидуальная манера», по–гречески ό χαρακτήρ του δείνα, τά Ιδιόοματα του δείνα, — начинают казаться нам принадлежностью «вечной» человеческой природы. Нужно интеллектуальное усилие, чтобы представить себе, какие сдвиги, и не только в эволюционном развитии риторической теории как частной дисциплины, но в революционном становлении нового типа культуры как целого, стоят за такими, например, пассажами: «…какой манерой в речах он пользуется и какие качества речи вносит, в чем превосходит своих современников и в чем оказывается слабее… я попытаюсь сказать теперь» (Dion. Hal. Lysias I, p. 454); «Слог [Исократа] имеет такой характер: он чист не меньше, чем у Ли сия… в метафорическом способе выражаться несколько отличается от Лисиева и соблюдает равномерное смешение… притом он не округленный, но скорее неспешный и обильно изливающийся, отнюдь не такой сжатый, но даже тощий и медлительный сверх меры» (Dion. Hal. Isokrates 2, p. 538), — число примеров может быть сколь угодно умножено, из подобных характеристик состоит почти весь текст литературно–критических заметок Дионисия Галикарнасского, очень значительная часть текста «Библиотеки» Фотия и многое, многое другое.
В том-то и дело, что подобный способ установления специфики авторской манеры через сопоставление с другой авторской манерой является столь же обычным, даже тривиальным для зрелой и поздней античной культуры и для византийской культуры, сколь и невозможным, например, для высокоразвитых культур древнего Ближнего Востока. Чтобы категория личного авторства приобрела полноту своего теоретико–литературного содержания, недостаточно, чтобы текст перестал быть анонимным. Например, в вавилонской литературной традиции очень важные тексты передавались в сопровождении некоторых имен; правда, не так уж ясно, не имена ли это редакторов или даже заказчиков, но весьма вероятно, что это имена реальных создателей литературных произведений
[419].
Равным образом нет оснований сомневаться в том, что значительная часть древнееврейской «Книги Исайи» (гл. 1—39) действительно написана или продиктована человеком, которого звали Йешайаху бен- Амоц и который работал над своей книгой между 746 и 701 гг. до н. э.
[420], и аналогичным образом дело обстоит с большинством «пророческих» книг библейского канона
[421]. Разумеется, объективно и тогда существовали определенные различия между способом того или иного «книжника», «писца» или «пророка» пользоваться возможностями языка; но эти различия не попадали в поле зрения культурной рефлексии, а потому, строго говоря, не становились фактами культуры, а сохраняли статус чисто житейских фактов наряду с особенностями телесной конституции. Последние тоже могут превратиться при определенных обстоятельствах, т. е. при наличии биографического предания, портретной экфразы и т. п., в факты культуры (например, для той же античности одухотворенное безобразие и обузданная чувственность «силе- новского» облика Сократа — один из важнейших значащих образов, принадлежность истории философии). Но телесный облик ветхозаветного «пророка» безразличен для культуры, его породившей, и совершенно так же, по сути дела, безразличны для нее особенности его дикции, его idiomata. Пусть людей, которые написали так называемую «Вавилонскую теодицею» и «Эпос об Эрре», на самом деле звали Эса- гил–кин–а-Уббиб и Кабти–илани–Мардук
[422]; важно, что шумеро–вавилон- ская литературная культура была внутри себя устроена таким образом, что не предполагала «ценителя», специально заинтересованного в отличиях индивидуальной манеры одного от индивидуальной манеры другого, как и устройство древнееврейской литературы исключало рефлексию над индивидуальным стилем того же Йешайаху в сопоставлении с индивидуальным стилем, скажем, Йиремйаху бен–Хилкийаху (Иеремии). Для явления индивидуального стиля как эстетической ценности, в перспективе имманентной Rezeptionsasthetik ближневосточных литератур, не было места
[423].
В этом отношении, как и во многих других, литература, живущая во взаимодействии с литературно–теоретической и литературно–критической рефлексией, «на глазах» у этой рефлексии, существенно отличается по своей внутренней организации от литературы, развивающейся в отсутствие рефлексии. Ибо рефлексия не просто прибавляется как новое явление к уже существующему явлению литературной практики, не просто подстраивается к нему — она его перестраивает. Субъективность рефлексии вмешивается в объективное бытие литературы, и вмешивается вполне объективно. Поэтому греческая интеллектуальная революция VI-IV вв. до н. э. не просто «открыла» феномен индивидуального стиля, как путешественник «открывает» остров, существовавший и до него и нисколько не нуждавшийся для своего существования в том, чтобы быть открытым, так что заново происходит его принятие к сведению — и все. Нет, в определенном смысле она основала этот феномен как эстетическую реальность, эстетическую ценность, и это, разумеется, нисколько не противоречит тому, что разные люди всегда, с незапамятных времен первобытного словесного искусства сочиняли по–разному. Эмпирический факт сам по себе еще не несет эстетического содержания, а лишь пустую возможность последнего, которую может реализовать и наполнить не «человеческая природа», а лишь культура в строго определенный момент своего развития. Греческая интеллектуальная революция и была таким моментом. Пока нет рефлексии над индивидуальным стилем, а стало быть, и культуры индивидуального стиля, едва ли можно говорить об «авторстве», об «авторской литературе»; имеет место лишь прикрепление некоторого имени к некоторому тексту, и с функциональной точки зрения не так уж важно, является ли это имя простой условностью (когда, например, некоторые шумеро–вавидонские тексты приписаны тому или иному божеству
[424]) или отвечает вполне конкретной эмпирической реальности: в обоих случаях дело идет не об авторстве, а об авторитете
[425], не о том, кто выразил в тексте свою индивидуальность, а только о том, кто поручился за доброкачественность текста. Чтимое имя прикрепляется к чтимому тексту как ритуальный знак его чтимости — процедура, которая понятным образом наиболее характерна для текстов более или менее сакральных или воспринимавшихся как таковые («Давидовы псалмы», «Книга Притчей Соломоновых»), но ими никоим образом не ограничивается. Если имя эмпирически подлинно, как с той же первой частью «Книги Исайи», это лишь частный случай такой процедуры.
Постановка вопроса об индивидуальном стиле была в высшей степени революционным деянием эллинской культуры, знаменовавшим переход эстетического восприятия на принципиально новую ступень. Масштаб этого перехода опасно недооценить и едва ли возможно переоценить.
Важно и другое: это деяние было с самого начала связано не с какой-либо иной сферой греческой культуры, но именно со сферой риторики — риторической теории, риторического обучения. Без риторической теории было бы немыслимо само открытие проблемы. Без риторической системы образования не состоялось бы закрепление раз произошедшего открытия. Теперь, когда учеников в риторских школах учили разбирать сочинения поэтов и прозаиков, вычленяя черты индивидуального стиля каждого, судьба этого открытия была надежно обеспечена. Вместе с риторической системой образования оно было донесено до конца античности и сдано с рук на руки византийской культуре. Исключительная влиятельность риторической традиции в Византии сделала там возможным даже неожиданный, на первый взгляд, разбор сакральных текстов в терминах теории индивидуального стиля. Два критических эссе Михаила Пселла, ориентирующихся как раз на пример цитированного выше Дионисия Галикарнасского, посвящены разбору сочинений «отцов церкви» — Григория Богослова, а также Василия Великого и Иоанна Златоуста, и еще Григория Нисского
[426]. Но этого мало: анализ не останавливался и перед новозаветными текстами, перед Писанием. Такой представитель византийского православия, но и византийской литературной критики, как патриарх Фотий, разбирал в категориях риторики стиль апостола Павла
[427]; он же пытался приложить аттикистские критерии к одному месту из I послания апостола Петра
[428]. Это не единственный пример
[429]. Возвращаясь к Михаилу Псел- лу, отметим, что он особенно подчеркивает в своих похвалах стилю Григория Богослова неповторимость индивидуальной манеры, невозможность свести ее к сумме традиционных, заимствованных приемов: «Великий же Григорий, точно он первый изобрел такой род речи… довел этот жанр до совершенства»; «При помощи некоторых приемов, открытых им самим, Григорий расчленяет свою речь и сочленяет, складывает и раскладывает»
[430]; «Он смешивает фигуры речи не так, как Платон, который использует их не во всех частях своих сочинений, не так, как Лисий, который опускает большинство из них, и не так, как Демосфен… и не как Исократ… и не как Аристид… Григорий смешивает фигуры всегда по–своему»
[431].
Едва ли есть надобность упоминать, что как в античной, так и в византийской культуре понятие индивидуального стиля не имело и не могло иметь всех тех смысловых моментов, какие были ему даны в контексте Нового времени (достаточно вспомнить учение Канта о гении как инстанции, через которую «природа дает правила искусству»
[432]). Но, как бы ни переосмыслила, ни расширила, ни углубила это понятие европейская романтическая и послеромантическая эстетика, оно было воспринято именно из рук риторической теории, пережившей целый ряд эпох и явившейся первостепенным фактором, что называется, «континуитета» в пользовании понятийным аппаратом — после Курциуса говорить о такой роли риторической теории едва ли имеется надобность
[433].
Здесь возможно некое недоумение. Перечисленные факты представляются находящимися в противоречии с самим духом риторики. Созданная античностью и унаследованная рядом последующих эпох, до классицизма включительно, риторическая установка обращена: в аналитической части — на выявление стилистических универсалий, которые со времени Гермогена Тарсийского (II в.) стали называть ϊδέαι, а в рекомендациях — на нормативные правила, т. е. в обоих случаях — на общее и постольку внеличное, надличное, безличное. Установка эта связана с характерным для античного типа рационализма убеждением в гносеологическом примате общего перед конкретно–частным. «Всякое определение и всякая наука имеет дело с общим», — сказано у Аристотеля («Метафизика», XI, 1, 1059В, пер. А. В. Кубицкого
[434]).
Современный исследователь склонен постулировать борьбу между риторической установкой и вниманием к индивидуальному стилю: «старое», т. е. риторическая установка, теснима якобы прорывающимся вопреки ей «новым», т. е. интересом к индивидуальности. Например, у
Пселла Я. Н. Любарский усматривает «противоречие традиционности, подчинения общему, нормативному, и идеи индивидуальности художника»
[435] (в другом месте сказало: «С одной стороны, Пселл еще усугубляет нормативность позДнеантичной риторической теории, с другой — высказывается за свободу индивидуального проявления творческой личности»
[436]). Однако противоречие это — едва ли не мнимое. Уже Гермо- гена установка на классифицирующее описание универсалий не делала слепым к неповторимой оригинальности авторского стиля как эстетической ценности и высшей цели усилий ритора. Совсем наоборот, — но Гермоген отказывается делать эту оригинальность как целое предметом своей мысли. Ритор в качестве систематизатора некоего «ремесла» (технэ) принципиально занимается тем, что может быть систематизируемо и преподаваемо, т. е. повторимо; неповторимое есть предел его анализа, предмет чрезвычайно выразительных эмоциональных излияний, но в рациональном описании оно, естественно, сводится к комбинации повторимых черт (так, еще Дионисий Галикарнасский в пассажах, приведенных в начале нашей статьи, сопоставляет индивидуальные стили по признаку большего или меньшего присутствия того или иного общего качества — Исократ так же пуристичен, как Лисий, однако более метафоричен и пространен, менее сжат и ровен, — как бы редуцируя качественное различие к количественному «больше — меньше»), а сама неповторимость как таковая от анализа ускользает. Она «алофатична», как апофатичны мистические категории; Гермоген выражает аналогию между тем и другим средствами любопытной аллюзии.
Каждый образованный человек в грекоязычном мире знал слова Платона о высшем божественном начале: «…отыскать его нелегко, а найдя, невозможно поведать о нем для всех»
[437]. Гермоген перефразирует эти слова, применяя их к сущности индивидуального стиля: «…трудно и отыскать ее, и ничуть не менее трудно, отыскав ее, сообщить о ней нечто ясное»
[438]. Гермогену почти дословно вторит анонимный ритор V в., толкуя о ключевом для всей послегермогеновской литературной критики понятии «смешения (μΐξις) идей» в феномене конкретного шедевра: «Отыскать смешение идей затруднительно, а уж отыскав, затруднительно высказать словами»
[439]. В том же духе выдержаны многочисленные позднейшие высказывания византийских теоретиков; например, самое главное, что имеет Михаил Пселл сказать о стиле восхваляемого им Григория Богослова, это констатировать «неописуемость» красоты, рождающейся из некоего специфического сочетания «идей»
[440]. Неизъ- яснимость, неизреченность оригинальной комбинации описуемых лишь по отдельности и в абстракции риторических универсалий — поистине один из важнейших и употребительнейших топосов византийской литературно–критической словесности. Риторы вновь и вновь возвращаются к этому общему месту. Будучи исключено из круга проблем их анализа, конкретно–неповторимое, творчески–оригинальное тем более становится предметом их декламаций, их характерно риторического «изумления» и «восторга». (Отлично известно, что риторика, как античная, так и византийская, рассматривает все, что ни есть на свете, так сказать, с презумпцией изумительности, как качества, присущего едва ли не любому предмету. Ритор принужден находить то, о чем он говорит, изумительным, иначе он просто не может говорить. Но в данном случае осанка изумления имеет причины вполне серьезные.)
Нет ни малейшей возможности полагать, будто риторическое мышление о литературе в античности и в Византии отличается от нашего в первую очередь полной неспособностью вообще догадаться о самом существовании такой эстетической ценности, как индивидуальная и в индивидуальности своей неповторимая творческая потенция; будто бы для мастеров риторики рассудочные своды правил были последним словом, а то, что превышает рассудок, попросту не существовало. Факты опровергают такое представление. Но показательно, что риторы начиная с Гермогена дословно переносят на индивидуальное и неповторимое в словесном искусстве формулу Платона о трансцендентном божественном начале. Как раз неподражаемое, единожды удавшееся «смешение идей», будь то у Демосфена (как для Гермогена), будь то у Григория Богослова (как для Пселла), и оправдывает в конечном счете — не только в наших глазах, но и в глазах самих риторов — существование риторики; оно представляет собой самый центр системы риторических ценностей, но только центр, трансцендентный школьному умению, и потому метафизической системы Платона и неоплатоников. Предмет риторики — то, чему можно подражать; перед лицом неподражаемого, перед лицом конкретного она в конечном счете «апофатич- на», как апофатична платоническая метафизика перед лицом божественной сущности. Факт поддается описанию лишь как комбинация общих категорий, что мы видели у Дионисия Галикарнасского. Что касается византийской риторики, необходимо возразить не только против недооценки, но и против переоценки ее внимания к индивидуальному (последнее заметно, например, у Кустаса, усмотревшего здесь важнейшее отличие византийской теории от античной
[441]). Как кажется, современный исследователь настолько не ждет от византийского ритора какого бы то ни было интереса к индивидуальному, что, обнаружив этот интерес на уровне эмоциональном выраженным очень ярко, склонен говорить об «открытии» индивидуальности. Но открытие предмета в качестве апофатического есть тем самым его «закрытие».
Мыслительные навыки, воспитанные историей культуры Нового времени (прежде всего — борьбой романтизма против классицизма), соблазняют нас видеть противоречие там, где его не было. То, что мы описывали, не кратковременный компромисс, не эклектическое, неустойчивое равновесие «старого» и «нового» (где «старое» — верность генерализирующим категориям риторики, а «новое» — якобы только- только пробудившийся и как следует еще не осознанный восторг перед индивидуальным и неповторимым). Перед нами — не противоречивая коллизия взаимоисключающих принципов, но антиномия, лежащая в основе риторической культуры и требуемая как раз ее принципом во всей чистоте последнего. Не вопреки тому, а в силу того, что риторическая мысль занимается общим, познает общее, учит об общем, она так заворожена инаковостью, непознаваемостью, неизъяснимостью особенного. Цель подражания — создание неподражаемого, т. е. собственно индивидуального, которое описывается через отрицание возможности его описать. Исключительно высокая эмоциональная оценка индивидуального и познавательно–дидактическая установка на универсалии — взаимодополняющие моменты единой системы.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕОРИИ В СОСТАВЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО ТИПА КУЛЬТУРЫ
Прежде чем говорить о литературных теориях византийского и латинского средневековья, необходимо энергично подчеркнуть значение того простого факта, что в средние века вообще были литературные теории. Зная покуда только это и ничего больше, мы уже узнаем нечто очень важное о характере всего «ученого», «книжного» пласта средневековой культуры в целом и о его отношении к античной культуре.
Было бы грубой ошибкой полагать, будто наличие литературной теории при всякой литературе, едва она поднялась над уровнем фольклора и простой недифференцированной письменности, само собой разумеется; будто литературная теория — как бы тень литературы, неотступно за нею следующая. Это не так. История знает великие литературы, которые жили, разумеется, какими-то невыговоренными представлениями о сущности, целях, задачах, нормах и приличиях словесного искусства, однако обходились без их теоретической экспликации. Такими были, например, все литературы древнего Ближнего Востока, достаточно богатые, чтобы подарить нам поэму о Гильгамеше, Книгу Иова, Песнь песней и другие шедевры, которыми мы наслаждаемся по сей день. Такой была поначалу и греческая литература: у греков уже были Гомер и Гесиод, Алкей и Сапфо — а на литературную теорию не было и намека. Во времена Эсхила и Пиндара ей лишь предстояло сложиться; во времена Софокла и Еврипида она складывалась. Но пришли времена Аристотеля, она явилась, наконец, в сложившемся виде, как теория стихотворных жанров («Поэтика») и теория художественной прозы («Риторика»)
[442], — и это был поистине поворотный момент в истории мировой культуры. Его последствия не ограничены даже пределами европейской традиции, чья связь с античностью наиболее очевидна: и в мире ислама, очевидно, не писапи бы поэтик, если бы их раньше не писали греки
[443]. Что касается европейской традиции, в ее кругу под формирующим, определяющим воздействием события, произошедшего в Греции к IV в. до н. э., стоит длинный ряд больших историко- литературных эпох, каждая из которых имела теорию литературы, и не какую-нибудь, а непременно по античному образцу
[444]. Первая из этих эпох — средневековье, связанное с образцом особенно непосредственной, неопосредованной школьной преемственностью.
Но для того, чтобы понять, какие навыки мышления получило средневековье от античности и зачем они были ему нужны, приглядимся пристальнее, что, собственно, случилось, когда литературная теория явилась на свет.
Трудно представить себе время, когда люди абсолютно ничего не говорили бы друг другу, например, о качестве только что выслушанной или сообща спетой песни и т. п. Но отнюдь не всякое осмысленное высказывание, имеющее предметом словесное искусство, есть факт литературной теории. Никогда не излишне напомнить: правила экономичного, хозяйственного распоряжения терминологическим запасом требуют, чтобы нормально (т. е. вне особо оговоренного расширительного переосмысления) термины употреблялись возможно строже и ог- раничительнее. Пословица «Беседа дорогу коротает, песня работу», приведенная у Даля, — конечно, не литературная теория, хотя она вполне реально констатирует функцию трудовой песни. В заключительной приписке к библейскому Экклезиасту образно сказано о высоком мастерстве вошедших в нее афоризмов:
Слова у мудрых — как стрекало погонщика,
И как вбитые гвозди — у собирателей пословиц
[445], —
но и это не литературная теория. В «Одиссее» мы встречаем глубокомысленное, пространное и красивое рассуждение Телемаха:
«Милая мать, — возразил рассудительный сын Одиссеев, —
Как же ты хочешь певцу запретить в удовольствие наше
То воспевать, что в его пробуждается сердце? Виновен
В том не певец, а виновен Зевес, посылающий свыше
Людям высокого духа по воле своей вдохновенье.
Нет, не препятствуй певцу о печальном возврате данаев
Петь — с похвалою великою люди той песне внимают,
Всякий раз ею, как новою, душу свою восхищая»
[446], —
но даже и это не литературная теория, хотя бы примитивная, а явление принципиально иного ряда.
Сравнивая русскую пословицу, древнееврейское изречение и гомеровские гекзаметры, мы обнаруживаем у них нечто общее: они не говорят о самом поэтическом произведении как таковом, а предпочитают говорить о том, что в причинно–следственном ряду идет за ним — о его эффекте, о его воздействии на человека. Песня делаем менее томительными часы работы; афоризмы врезаются в ум, поражая его своей пронзительной остротой; эпос доставляет душе переживание высокого восторга… Наряду с этим приведенный выше отрывок из «Одиссеи» говорит и о том, что в причинно–следственном ряду предшествует поэтическому произведению, т. е. о вдохновении. Но что он говорит? Вдохновение — от Зевса, и знать о нем — не дело человеческого ума.
Иными словами, предмет этих высказываний — не песня, не афоризм, не эпос, а человек, который поет песню или вчитывается в афоризмы, или сказывает эпос и внимает эпосу.
Но дело не только в этом.
Без сомнения, древнегреческий эпический поэт архаических времен, который был по своему общественному статусу «демиургом», т. е. мастером–ремесленником, обслуживающим общину, как всякий мастер, держал в голове сугубо практические секреты своего ремесла и мог передать их ученику. Как передать? Прежде всего, наверное, примером: «Делай, как я!», — но хотя бы в какой-то мере и словом. Жаль, что мы никогда ничего не узнаем об этих разговорах между учителями и учениками. В них уж, наверное, речь шла не о высоких материях — о Зевсе, посылающем вдохновение, и о восхищении, нисходящем на души слушателей, — а о деле и только о деле: о том, как сделать эпическую песнь. Но и это не было литературной теорией, хотя бы наивной, и вот почему.
Гончар, умеющий делать амфоры и пифосы, умеет более или менее связно пояснить словами своему ученику, κέικ сделать амфору или как сделать пифос. Но если бы мы попросили у него логически правильную дефиницию амфоры или пифоса, он очень долго не понимал бы вопроса, а если бы в конце концов понял, то был бы до глубины души возмущен его ненужностью и усмотрел в нем забаву праздных людей и глумление над простым человеком. (Именно на такую реакцию афинских гончаров и прочих полезных тружеников безошибочно рассчитано пародирование искусственно усложненного и утонченного языка ранней науки в «Облаках» Аристофана.)
Совершенно так же эпический поэт архаики, практик своего ремесла, не сумел бы дать дефиницию эпоса. Ему просто не пришло бы это в голову. Мы сказали, что ничего не знаем о содержании его профессиональных бесед с учеником. Мы не знаем, что там было, зато достоверно знаем, чего там не было, — того, с чего начинается любая теория: определения предмета.
А теперь вслушаемся в слова, составляющие смысловой центр «Поэтики» Аристотеля и задающие тон трактату как целому: «…Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, производимое речью, услащенной по–разному в различных ее частях, производимое в действии, а не в повествовании, и совершающее посредством сострадания и страха очищение подобных страстей»
[447]. Почти каждое слово, входящее в эту дефиницию, расшифровывается в цепочке цепляющихся друг за друга дефиниций. Например, понятие «законченного» действия поясняется через понятие целого, а последнее вызывает такое рассуждение: «Целое есть то, что имеет начало, середину и конец. Начало есть то, что само не следует необходимо за чем-то другим, а, напротив, за ним естественно существует или возникает что-то другое. Конец, напротив, есть то, что само естественно следует за чем-то по необходимости или по большей части, а за ним не следует ничего другого. Середина же — то, что и само за чем-то следует, и за ним что-то следует»
[448]. Введение терминов тоже требует неукоснительных дефиниций. «Простым действием я называю такое действие непрерывное и единое (как сказано выше), при котором перемена судьбы происходит без перелома и узнавания; а в сплетенном перемена происходит с узнаванием, с переломом, или и с тем, и с другим»
[449]. «Завязкой я называю то, что простирается от начала трагедии до той ее части, на рубеже которой начинается переход к счастью от несчастья или от счастья к несчастью; развязкой же — всё от начала этого перехода и до конца»
[450]. В сущности, именно наличие дефиниций дает нам действительное право называть теоретико–литературные термины «Поэтики» терминами; ибо термин отличается от бытового слова, непосредственно данного традицией языка, между прочим, тем, что опосредован через наличное или хотя бы подразумеваемое определение. Термин — то, для чего всегда законно потребовать дефиниции.
В «Поэтике» дефиниции — господствующая форма изложения. Мало того, что их плотность в общем объеме текста исключительно высока; все то, что остается, если вычесть дефиниции, с большим или меньшим правом воспринимается то как введение к очередной дефиниции либо как поясняющий переход между двумя дефинициями, то еще в какой-либо служебной по отношению к дефинициям роли; оно, так сказать, композиционно подстраивается к дефинициям, лепится к ним, а интонационно их продолжает. А самая главная дефиниция, как мы видели, — это определение большой жанровой формы, т. е. в данном случае трагедии.
Нам не так уж легко понять это упоение дефинирующего разума. Мы предпочли бы побольше послушать про «совершаемое посредством сострадания и страха очищение подобных страстей», про столь знаменитый у нас и вообще в Новое время (но не у древних) аристотелевский катарсис, а вместо этого на нас обрушиваются такие схоластические разъяснения о том, что есть начало, середина и конец! Но мы решительно ничего не поймем в обстоятельствах, при которых литературная теория впервые стала самой собой, если не вникнем в мировоззренческие и гносеологические причины этого увлечения дефинициями.
Положим, Аристотель — человек рассудочный, основатель науки логики; но ведь и его учитель, «божественный» Платон, которого можно обвинить в чем угодно, но которого, кажется, еще никто не обвинял в сухости и бескрылом педантизме, поистине испытывает наше терпение, с непостижимой для нас неутомимостью упражняясь в расчленении и уточнении понятий. «…Тебе надо сейчас начать исследование, как мне кажется, прежде всего с софиста, рассматривая и давая объяснение, что он такое. Ведь пока мы с тобою относительно него согласны в одном только имени, а то, что мы называем этим именем, быть может, каждый из нас про себя понимает по–своему, между тем как всегда и во всем должно скорее с помощью объяснения соглашаться относительно самой вещи, чем соглашаться об одном только имени без объяснения. Однако постигнуть род того, что намерены исследовать, а именно, что такое софист, не очень-то легкое дело»
[451]. Кто не поленился проштудировать диалог «Софист», знает, через сколько предварительных частичных определений, через сколько аналогий, через сколько дихотомий, через какую грандиозную диалектику бытия и небытия ведет Платон читателя, как к конечной цели всех усилий, к дефиниции софиста: «Этим именем обозначается основанное на мнении лицемерное подражание искусству, запутывающее другого в противоречиях, подражание, принадлежащее к части изобразительного искусства, творящей призраки и с помощью речей выделяющей в творчестве не божественную, а человеческую часть фокусничества»
[452]. Ради этой добычи и велась, если использовать любимую метафору самого Платона, вся охота.
Современная наука начинает с дефиниции предмета: прежде, чем рассуждать, необходимо договориться, о чем, собственно, мы рассуждаем. Дефиниция — как бы пограничный знак, маркирующий переход от вненаучного знания к научному, вступление на территорию науки. Античная наука тоже с этого начинала; но, кроме того, она нередко и кончала дефиницией, подходила к дефиниции, как к своему венчающему итогу. Дефиниция была для нее не только вратами научного знания, но и самой центральной — наряду с силлогизмом — формой, в которой это знание являлось. Что в вещи самое главное? Ее «сущность» (ούσία), ее «чтойность», как по примеру схоластической латыни А. Ф. Лосев передает аристотелевское τό τΐ ήν είναι (в переводе А. В. Ку- бицкого — «суть бытия»); а как специально поясняется в VII книге «Метафизики», этому аспекту вещи соответствует именно дефиниция. «Суть бытия имеется только для того, обозначение чего есть определение»
[453]. Что «суть бытия» — в плане онтологическом, то дефиниция — в плане эпистемологическом. С античной точки зрения, когда мы определяем предмет, мы говорим о нем то, что является самым важным.
Именно готовность античной мысли удовлетвориться дефиницией принято называть в учебниках ее «созерцательностью». Действительно, «суть бытия» через дефиницию предлагает себя интеллектуальному созерцанию, и созерцание это имеет оттенок самоцельности. Но сейчас нам предстоит сосредоточиться на контрасте античного рационализма не с тем, чему предстояло прийти через два тысячелетия, т. е. с более динамическим и практическим подходом, характерным со времен Фрэнсиса Бэкона для новоевропейской науки, но с тем, что ему, античному рационализму, непосредственно предшествовало и обступал о его со всех сторон в виде донаучного сознания, чуждого культуре дефиниции. Ближний Восток накопил импонирующую сумму наблюдений и практических навыков, по отношению к которой греки очень часто выступали скромными учениками; но обработка сведений и рабочих рецептов не была теорией, ибо не была основана на специфической строгости мысли, обеспечиваемой отработкой дефиниций. Вавилоняне уже знали, например, теорему Пифагора: однако они так и не создали систему дефиниций, на которой покоится изложение геометрии у Эвк- лида. Религиозные и нравственные идеи, нашедшие выражение в Ветхом Завете, доказали свою исключительную продуктивность в тысячелетней истории культур, стоявших под знаком христианства и ислама: но мы не найдем в Библии ни определений сущности Бога, ни определений ключевых нравственных понятий, например «праведности» (цэ- дэк), «милосердия» (хэсед) и т. п., и даже отчетливая формулировка доктрины о сотворении мира «из ничего» встречается, как известно, впервые лишь в грекоязычном иудаистическом тексте, возникшем в лоне эллинистической словесно–умственной культуры около 120 г. до н. э.
[454] Наконец, литературная культура Ближнего Востока через тот же Ветхий Завет оказала сильное воздействие на литературы Средиземноморья по мере христианизации последнего — достаточно упомянуть роль псалмов как образца для христианского молитвенного, гимногра- фического или медитативного текста; но во всей Библии мы не найдем ничего похожего на дефиницию псалма.
Напротив, зрелая античная мысль обрела в дефиниции такой мощный механизм сохранения накопленного опыта, возникших идей, обеспечения общеобязательной однозначности употребляемых терминов — чтобы «имя» не понималось «каждым по–своему», согласно предупреждению Платона, — какого не имела ни одна из более древних интеллектуальных традиций. Сжатая, толковая, заранее приспособленная к тому, чтобы быть предметом заучивания и растолковывания в школе, дефиниция — словно легкое, покрытое твердой оболочкой зернышко, которое переживет породившее его растение. Ученость египетских и месопотамских книжников обречена была подпасть забвению вместе с древними цивилизациями Египта и Месопотамии. Но античные дефиниции можно было продолжать передавать из рук в руки, пока оставалась хоть одна школа. Вспомним, что даже для современного школьника преподавание столь центральных дисциплин, как грамматика родного языка и геометрия, начинается с дефиниций частей речи, а также точки, прямой линии и т. п., которые в конечном счете восходят соответственно к Дионисию Фракийцу и Евклиду: вот где самая простая, элементарная, осязаемая сторона того обстоятельства, что качество нашей связи с античной культурой через школьную традицию всех промежуточных эпох — принципиально иное, чем для культур более древних. Организованные системы дефиниций, внутренняя установка на системность, заложенная в структуре каждой отдельной дефиниции, — единственный в своем роде фактор выживания итогов умственной работы античности в изменившейся общественной и духовной обстановке, при переходе к средним векам.
Здесь нужно отметить один факт первостепенной важности. Борьба христианства с язычеством повлекла за собой во многих областях жизни и культуры частичное вытеснение греко–римских навыков поведения и осмысления жизни библейскими; но это никак не коснулось роли дефиниций. Выше говорилось о том, что Ветхий Завет не знает дефиниций; для новозаветных текстов они тоже нехарактерны. Слова, употребляемые в евангельских афоризмах — «царство небесное», «Сын человеческий» и т. п., — это не теологические термины, разъясняемые посредством определений, но многозначные, заведомо не поддающиеся логическому определению символы. Во всем каноне Нового Завета есть только одна одиноко стоящая дефиниция: «Вера есть осуществление чаемого и уверенность в невидимом», — и не случайно мы находим ее в памятнике, выделяющемся своей близостью к эллинистическим нормам стиля
[455]. Ни один читатель Евангелий не может ни на минуту вообразить, чтобы Иисус, так часто представленный молящимся, научивший учеников молитве «Отче наш», преподал им заодно дефиницию молитвы; это исключается всей атмосферой целого. Но такой типичный завершитель и кодификатор патристического богословия, давший наиболее общезначимый, общеобязательный образец школьного бого- словствования византийскому и не только византийскому средневековью, как Иоанн Дамаскин (ок. 675 — ок. 750), начинает свое рассуждение о Иисусе как молитвеннике именно с дефйниции: «Молитва есть восхождение ума к Богу или испрашивание потребного от Бога»
[456]. Таково нормальное начало раздела в трактате Иоанна «Источник знания».
Вот еще несколько примеров. «Философия есть познание сущего, поскольку оно сущее, то есть познание природы сущего. И еще: философия есть познание вещей божественных и человеческих, то есть видимых и невидимых. Далее, философия есть помышление о смерти, как произвольной, так и естественной. Ибо о жизни можно говорить в двояком смысле: во–первых, это естественная жизнь, которой мы живем; во–вторых, произвольная, которой мы страстно привязываемся к настоящей жизни. Так же двояка и смерть: во–первых, естественная, то есть отделение души от тела; во–вторых, произвольная, то есть презрение к настоящей жизни и устремление к будущей. Далее, философия есть уподобление Богу. Уподобляемся же мы Богу через мудрость, которая есть истинное познание блага; и через справедливость, которая есть нелицеприятное воздаяние каждому должного; и через праведность, которая превышает меру справедливости, иначе говоря, через милость, когда мы благотворим нашим обидчикам. Философия есть искусство искусств и наука наук, ибо философия есть начало всякого искусства; через нее изобретаются всякое искусство и всякая наука… Далее, философия есть любовь к мудрости; истинная же мудрость есть Бог, а потому любовь к Богу есть истинная философия»
[457]. «Душа есть сущность живая, неразложимая, бестелесная, по природе своей незримая для телесных очей, бессмертная, наделенная разумением и умом, вида не имеющая; она пользуется телом как орудием, телу же сообщает жизнь, возрастание, чувства и способность порождения, обладая умом не как чем-то отличным от себя, но как чистейшей своей частью»
[458].
Христианство, изменив облик жизни и культуры, не поколебало, а упрочило роль логической дефиниции. Чем более ортодоксальной, регламентированной, стабилизированной становится церковная доктрина, тем охотнее она выражает себя в системных дефинициях. От века к веку кристаллизуется характерный стиль катехизиса, руководства по догматическому богословию, по моральному богословию и т. п. Мало того, не нужно считать, что господство дефиниции ограничивается сферой школьного рассудочного теологизирования — схоластики в наиболее широком смысле слова. На противоположном полюсе средневекового христианства, у мистических авторов, писавших для монашеской среды о своем интимном, «неизъяснимом» внутреннем опыте, мы неожиданно встречаем то же увлечение дефинициями. Если в свое время новозаветный текст
[459] мог обстоятельно говорить о духовной «любви» (αγάπη), никак не определяя своего предмета, то Максим Исповедник в VII в. начинает свои афоризмы («Первая сотница глав о любви») такой формулой: «Любовь есть благое расположение души, ничего из сущего не предпочитающее богопознанию»
[460].
Дефиниция как содержательная форма мышления — один из самых очевидных симптомов «континуитета», непрерывного преемства элементарных форм культуры на переходе от античности к средневековью. Благодаря ее гегемонии можно с известными оговорками говорить о некотором уровне однородности античной и средневековой культур. Господство Аристотеля продолжается. В условиях этого господства мысль авторитетна и общезначима постольку, поскольку выражена на языке дефиниций. Мы видели, что даже христианская вера могла сделать себя пригодной для новой социальной роли в качестве верховной санкции средневекового порядка, в качестве принятого всеми, обязательного для всех авторитета, обращающегося уже не к душам новообращенных, как в первохристианские времена, но к обществу как целому, лишь став теологией, т. е. переведя себя на язык дефиниций. Язык этот — поистине общий язык, на котором могли объясниться между собой различные сферы средневековой культуры — теология, право, риторика.
Это можно наблюдать с наивной наглядностью на примере «Риторики» Алкуина, которую читатель найдет в нашей книге
[461]; изложив собственно риторические сведения, автор с чрезвычайной легкостью переходит к дефинициям и классификации предметов нравственного богословия. «Приведи, однако, философские определения добродетелей и прежде всего скажи, что есть собственно добродетель?»
[462] В этой фразе характерно, между прочим, то, что работа дефинирования движется сверху вниз, от предельно общего к частному: сначала надо сказать, «что есть собственно добродетель», затем дать дефиниции четырех «кардинальных» добродетелей, после чего произвести разветвление подвидов каждой из них, определить каждый подвид и таким образом исчерпать тему. Такой способ изложения воспринимается как убедительный, научно корректный, рациональный, но одновременно он действует на средневекового человека своей иерархичностью: общее понятие — «начало», ему принадлежит в традиции платонизма онтологический, а в традиции аристотелизма хотя бы гносеологический приоритет, связанный, между прочим, опять-таки с формой дефиниции: «всякое определение и всякая наука имеют дело с общим», по слову Аристотеля
[463], — «всякая наука» именно потому, что «всякое определение».
Но обратим внимание еще на один аспект проблемы, соблюдая необходимую осторожность, чтобы избежать вульгарного социологизма. Как-никак, наше слово «начало» недаром одного корня со словом «начальство»: по–гречески то и другое обозначается одним и тем же словом άρχή, вне двузначности которого невозможна влиятельная в средние века теология иерархии, разработанная в V в. Псевдо–Дионисием Ареопагитом. Предельно общее — аналог верховного суверенитета, «монархии» (еще одно слово, имевшее для позднеантичного и средневекового сознания не только политический, но и онтологический смысл — в самом бытии есть «единоначалие», единство истока и принципа). Если более частное предстает κέικ дериват по отношению к более общему, здесь трудно не увидеть параллели тому, как низший держатель полномочий получает их от высшего, и от престола императора священной державы в правильной последовательности истекают вниз по ступеням эманации власти и достоинства. Именно так у Алкуина понятие «памяти» есть производное от понятия «мудрости», а последнее — производное от понятия «добродетели вообще»; соответственно каждое конкретное явление памятливости есть, так сказать, конечный предел нисхождения, ниже которого нет ничего
[464]. По этому принципу позднеан- тичная и средневековая риторика описывала все на свете, в том числе и самое себя: например, индивидуальный авторский стиль — никоим образом не первичная реальность, но, напротив, дериват целого ряда стилистических качеств, обозначаемых в гермогеновско–византийской терминологии как «идеи». С платоновскими идеями они сходны постольку, поскольку им приписывается некое подобие самосущего бытия, первичного по отношению к какой бы то ни было литературной эмпирии.
Поэтому нисходящая система дефиниций, стройно движущаяся от первопринципа к родовому понятию, от рода к виду, от вида к подвиду, от подвида к конкретному явлению, была не только единственно научным способом приводить материал в логический порядок, но одновременно репрезентативным, парадным оформлением мысли, отвечавшим идеализированному образу общественной иерархии; она апеллировала и к рационализму эпохи, и к авторитаризму эпохи. Но парадокс рационализма как авторитаризма и авторитаризма как рационализма очень важен для духовной и психологической атмосферы средневековья; в нем — самое существо феномена схоластики. О схоластике в строгом смысле лучше говорить лишь применительно к латинскому Западу; но Византия тоже знала аналогичные явления. Недаром одним из важнейших импульсов для складывания схоластического метода явился перевод на латинский язык уже цитировавшегося выше компендия Иоанна Дамаскина
[465]. Вера нуждалась в логике не вопреки тому, а как раз потому, что она была авторитарной: на «принудительность» дефиниций и силлогизмов были возложены примерно те же надежды, что на прямое принуждение насилием, на религиозное законодательство и репрессивные меры. Стоит вспомнить, что на Западе на исходе средневековья одному и тому же ордену доминиканцев была поручена и отработка форм церковной доктрины в дефинициях и силлогизмах для дис- путального отстаивания последней, и организация насильственной борьбы с ересью: это орден схоластов — и орден инквизиторов. И шире — не только перед лицом противника и в споре с ним, но и в кругу ортодоксального единомыслия дух догматизма, страшащийся даже невольных отступлений, занимал умы поисками безупречных дефиниций и непогрешимых логических выводов из заданных авторитетом внелогических посылок; эта, как говорили византийцы, «акривия», или «ак- ривология», была идеалом теологизирующего рассудка в продолжение всего средневековья.
Идеал, выставленный в сфере теологии, т. е. в самом центре средневекового идеологического комплекса, не мог не оказывать своего воздействия и за пределами этой сферы. Падающий от него отсвет ощущается в самых разных областях мысли, подчас там, где его трудно ожидать. Но уж что никак не могло избежать его влияния, так это риторическая теория. Соединительным звеном между теологией и риторикой была логика, или, как предпочитали выражаться в средние века, «диалектика». О логическом оснащении богословия только что шла речь; но связь логики с риторикой восходит к самому зарождению той и другой. Мы говорили выше об Аристотеле как о мыслителе, в чьих трудах — «Поэтике» и «Риторике» — завершилось становление риторически организованной теории литературы; но этот же самый Аристотель был основателем логики как науки, и как раз для средневековья его логические труды стояли на первом месте
[466]. То, что он занялся риторикой, было вполне последовательно, поскольку риторика была в его глазах не чем иным, как логикой мнения (δόξα), логикой вероятного
[467], как бы некоей паралогикой — так сказать, продолжением логики иными средствами. И риторика, и «диалектика» учили столь необходимому для церкви умению спорить и убеждать, ни без первой, ни без второй не могло осуществлять себя церковное «учительство»; в эпоху патристики, т. е. в переходную пору становления основ средневековой культуры на исходе античности, ведущие церковные деятели, мыслители и писатели, вошедшие в историю как «отцы церкви», как Василий Кесарийский и Григорий Назианзин на греческом Востоке, Аврелий Августин на латинском Западе, непременно совмещали фило- софско–логическую — и риторическую культуру. А позднее, у наследников патристики в каролингскую эпоху, общее культурное оскудение сделало оба вида учености просто неразличимыми; поэтому Алкуин пишет свою «Риторику» одновременно как трактат об основах догматики и этики («о добродетелях»).
Попробуем установить некоторые точки соприкосновения между риторикой и богословско–вероучительной сферой. Теология требует от человека готовности к славословию как единственно правильного ответа на величие божие, но «похвальное слово» — одна из специальностей риторики. Теология проникнута пафосом изумления перед непостижимостью божьих дел; но осанка априорного изумления перед любым предметом, так сказать, презумпция непостижимости его (отлично уживающаяся с рассудочностью) — необходимая черта ритора. И теология, и риторика идут при рассмотрении мира сверху вниз, от абстракций через уточняющие дистинкции к эмпирии; человек для них — прежде всего «человек вообще», «человек некий», отвлеченная субстанция, по отношению к которой любая конкретность пола, возраста, места в обществе и т. п. суть онтологически вторичные акциденции, то, что Аристотель называл τά σνμβεβηκότα. В основе как теологии, так и риторики лежит силлогистически–дедуктивное мышление, сформированное античным типом рационализма, но в средние века дополнившее собой веру в «откровение», — последнее воспринималось как источник аксиом, из которых выводятся цепи умозаключений по типу теорем. Наконец, если культ вместе со всей совокупностью служивших ему литературных форм (гимн, проповедь) стремился представить любое событие «священной истории» как вновь и вновь возвращающееся настоящее -ν- византийские песнопения на любой церковный праздник с особой настоятельностью подчеркивают, что все происходит «днесь», σήμερον, — то подобное отношение к категории времени также находило полное соответствие в риторическом принципе «наглядности», ενάργεια, также узурпировавшем права прошедшего и отчасти будущего для вечного настоящего, вечного «днесь». Для риторики нет временной дистанции, нет ничего, что по заклинающему слову ритора не являлось бы перед глазами здесь и сейчас.
Таково сквозное единство культурного типа, проявляющееся в том, как отвечают друг другу, идут друг другу навстречу самые, казалось бы, несхожие составные силы культуры.
ВИЗАНТИЙСКАЯ РИТОРИКА ШКОЛЬНАЯ НОРМА ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА В СОСТАВЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
1
Когда мы пытаемся разобраться, как сами византийцы видели свою собственную литературу, по каким критериям оценивали произведения различных жанров, но прежде всего, в какую перспективу может быть сведена вся наличная сумма таких оценок, мы оказываемся перед препятствием несколько необычного свойства.
Сразу же подчеркнем: речь пойдет не о том тривиальном обстоятельстве, что в рамках любой традиционалистской культуры, над которой господствуют канон и норма, будь то культура античная, средневековая, одна из культур восточного круга и т. п., не в чести спонтанные реакции на что бы то ни было, а особенно на литературное слово, и между уровнем de jure, отражающемся в гласных оценках, и уровнем de facto, негласно определяющим реальное поведение писателя и читателя, существует разрыв, причем докопаться до второго уровня сквозь толщу первого нелегко. Это бы еще полбеды. Ситуация византиниста сложнее.
Пояснить, в чем дело, проще всего конкретным примером.
Знаменитый гимнограф Роман Сладкопевец был современником эпохи Юстиниана и умер около 560 г.; таким образом, его фигура стоит в самом начале исторического пути Византии, и почти девять последующих веков византийская культура жила уже с его наследием. У византийцев было время, чтобы подумать и высказаться о его творчестве; и предмет стоил того, чтобы о нем подумали и высказались. По крайней мере, для нашего историко–литературного сознания значение Романа стоит вне споров. В прошлом столетии его называли «величайшим поэтом византийской поры»
[468], сравнивали с Пиндаром
[469]; и если в наше время разве что греко–американская исследовательница Э. Гата- фийоту–Топлинг разрешает себе такую цветистую и откровенно восторженную манеру говорить о Романе
[470], в то время как ее коллеги, например X. Гродидье де Матон, описывают поэтический облик гимнов Сладкопевца подчеркнуто трезво и сдержанно
[471], это скорее вопрос стилистики научной прозы, чем расхождение в оценках. Никто в наше время не сомневается, что Роман — большой поэт, занимающий почтенное место в истории литературы. Но это в наше время — а вот что думали о литературном качестве его произведений сами византийцы? Спрашивается, был ли он для них «классиком» литературы, стоящим в ряду других «классиков»?
На этот вопрос мы получаем сразу три ответа — или, если угодно, ни одного.
Первый ответ — отрицательный: во всей сумме тех доселе опубликованных византийских текстов, которые можно с известной долей условности, но с достаточным основанием назвать теоретико–литературными и литературно–критическими и которые все относятся к области риторического теоретизирования, ни сам Роман Сладкопевец, ни доведенная им до совершенства жанровая форма так называемого кондака
[472], ни, наконец, сам по себе феномен неантичного, тонического стихосложения в гимнографии (согласно латинской терминологии, «ритмы» в противоположность «метрам») не упоминаются
ни разу, точно их и не было
[473]. Этому когда-то, на заре научного изучения византийской поэзии, сумел удивиться Э. Буви. «Что нам представляется совершенно непостижимым, — писал он о Романе, — так это молчание, которым окружили его имя и его славу. Одна только церковь сохраняла память о его существовании… Но книги, школы, все вообще литературные предания молчат о его памяти»
[474]. Замечание Буви остается неопроверг- нутым.
Второй ответ — положительный: византийская церковь чтила Романа, и притом не только как аскета, обладавшего личной святостью («преподобного», όσίου), но и специально как идеал «боговитии», θεορρή- τορος
[475], вдохновенного свыше певца, чудесно получившего дар песен от Богородицы
[476], из-под языка которого истекали мед и млеко
[477], от которого по всему миру расцветали «услады сладкопения», γλυκύσματα μελωδίας
[478]. Эти похвалы, даже со скидкой на условную гиперболику, необходимо им присущую по жанровым законам, что-нибудь да значат
[479].
Но третий ответ — снова отрицательный: на словах восхваляя Романа и его дар, та же византийская церковь не оставила в конце концов ни одного его гимна в своем обиходе
[480]. Только одна–две вступительные строфы (так называемый кукулий, т. е. строфа–зачин, да иногда еще идущий за ним первый икос, т. е. рядовая строфа) остались на своих местах в богослужебном комплексе как абстрактный знак отвергнутого богатства, глухое напоминание о нем
[481]. Центральным жанром византийской гимнографии с VII в. к IX в. становится, а в последующие столетия остается канон
[482]. И вот примечательный факт, отчасти относящийся к литературной критике в лоне церкви, а не просто к церковному обиходу: в стихотворном каталоге гимнографов, составленном в начале XIV в. церковным историком Никифором Каллистом Ксан- фопулом, присутствуют только имена сочинителей канонов — имени Романа мы там не находим
[483].
Подведем итоги. Мы видим, что (1) для византийской риторической теории и критики Роман Сладкопевец как явление литературы не существует; (2) для византийской церкви в теории он — идеал гимно- графа; (3) для той же самой церкви на практике он — гимнограф почти что отвергнутый. Картина получается озадачивающая и как раз поэтому поучительная. Озадачивает вовсе не то, что три ответа на один вопрос столь резко разноречивы: мало ли как могут спорить потомки о наследии поэта! Но ведь как раз отношения спора между тремя ответами не существует. Каждый из них стоит вне спора. В самом деле, очевидно, что святость Романа как лица канонизированного, распространявшаяся и на его гимны, не была для православного византийца дискуссионной, и богослужебная практика, после того, как ее приняли и к ней привыкли, — тоже. О таких вещах не спорят. Менее общепонятно, но для нашего рассуждения более важно, что первый ответ, данный не авторитетом религии, а авторитетом риторики, тоже ни малейшего обсуждения не допускает. Недаром он дан не в форме высказывания, которое может быть оспорено и само всегда оспаривает действительно наличное или хотя бы логически мыслимое обратное суждение, но в форме полного молчания.
Чтобы уяснить значение этого факта для характеристики византийской литературной культуры, необходимо увидеть его на фоне других фактов.
Мы могли бы вообразить, что гимны Романа не разбираются византийской риторической теорией именно потому, что это тексты сакральные, а Роман причислен к лику святых. Легко показать, что это не так. Византийская культура не знала табу на применение приемов литературной критики к святым авторам и сакральным текстам. Крайний случай — разбор стиля апостола Павла в категориях риторической теории у такого центрального представителя византийской культуры вообще и специально византийской литературной критики, как патриарх Фотий (ок. 820 — ок. 893)
[484]; он же пытался приложить аттикист- ские лексические критерии к одному месту из I послания апостола Петра
[485]. В «Эклоге» Фомы Магистра — поздневизантийской коллекции древнеаттических речений (первая половина XIV в.) — несколько раз разбираются примеры библейского словоупотребления, причем один раз констатируется его варварский, риторически некорректный характер
[486]. Что касается «отцов церкви», то два критических эссе Михаила Пселла (1018—1096 или 1097), ориентирующихся на образец анализа манеры древних афинских ораторов у позднеэллинистического ритора Дионисия Галикарнасского и ближе всего подходящих к тому, что мы назвали бы литературной критикой, специально посвящены стилистическому разбору сочинений Григория Богослова, а также двух других «великих святителей» византийской церкви — Василия Великого и Иоанна Златоуста, и еще Григория Нисского. Григорий Богослов был предметом гораздо большего церковного почитания, чем Роман Сладкопевец; это отнюдь не мешало применять к нему сугубо профессиональные критерии и технические термины риторической теории: «Связывает ли он речь, расслабляет ли ее или разрушает соединение, собирает ли ее в периоды или растягивает дыхательными тактами, заканчивает ли ритмы анапестами, придает ли речи размеренность ионийскими сопряжениями, втискивает ли свою мысль в тетраметр, растягивает ли ее до гексаметра…»
[487] При таком рассмотрении Григорий оказывается в одном ряду с мастерами аттического красноречия — Лиси- ем и Демосфеном, Исократом и Платоном
[488], и подход критика к нему точно такой же, как к тем. В сокращенной стихотворной парафразе позднеантичного руководства по риторике (конец II в.) тот же Пселл заменяет примеры из речей Демосфена примерами из проповедей Григория Богослова и Иоанна Златоуста, выполняющими совершенно идентичную функцию
[489].
Мы имеем право заключить: сакральный характер текста, освященное церковным почитанием имя автора — отнюдь не помеха для нормального действия критериев риторической теории. Почему же, спрашивается, критерии эти не могли быть применены к гимнам Романа Сладкопевца?
Ответ на этот вопрос, во–первых, почти до обидного прост и, во всяком случае, не имеет отношения к противоположностям «языческое — христианское», «мирское — сакральное» и прочим глубокомысленным антитезам истории идей; во–вторых, он чрезвычайно поучителен для уяснения самой сути того взгляда на литературу, который вырабатывался в Византии школьной традицией. Чтобы описывать, анализировать и оценивать произведение, византийская риторическая теория должна была для начала найти для него место в одной из рубрик и подрубрик заимствованной у античности формально–жанровой номенклатуры. Повторяем, номенклатура была заимствована у античности, никакой другой не было. И вот в этом отношении тексты Григория Богослова или Иоанна Златоуста никаких трудностей не представляли: сразу было понятно, что это такое и какие мерки к ним прилагать. Григорий Богослов писал на досуге стихи, остающиеся в целом в пределах традиционной античной метрики
[490] и по языку тоже такие, какими привыкла видеть образцы соответствующих поэтических жанров классическая древность; остальные произведения, принадлежащие ему, а также Василию Великому, Иоанну Златоусту и Григорию Нисскому, — нормальная риторическая проза
[491]. Притом это проповедь; а проповедь недаром обозначается по–гречески словом «гомилия» (ομιλία, откуда русский семинарский термин «гомилетика»): слово это широко применялось и к языческой философско–риторической увещательной «беседе», будучи близким по значению к терминам «диатриба» (διατριβή) и «парэнеза» (παραίνεσις), выступая как их дублирующий синоним. Например, знаменитые беседы стоика Эпиктета, записанные Ар- рианом, — это «диатрибы», но и «гомилии»
[492]. Терминологическое преемство указывает на преемство жанровое. К художественной, риторически отделанной проповеди
непосредственно, без всяких модификаций и сдвигов приложимы правила, нормы и критерии отчасти «совещательного» рода красноречия (когда проповедник увещевает верующих), отчасти «эпидейктического» рода (когда он восхваляет какой- либо священный предмет и стремится наглядно представить его перед глазами). Совсем иное дело — гимны, какие писал Роман Сладкопевец. Это новая жанровая форма, не имевшая прецедента в античной литературе и постольку не существовавшая для античной, а значит, и византийской литературной теории.
Уже самый первый вопрос: стихи или проза? — применительно к гимнам Романа оставался без ответа, делая невозможным какой-либо дальнейший разговор о них в школьных риторических терминах. Эти гимны — не проза, потому что у них слишком очевидна жесткая и четкая стиховая организация: текст членится на строго равные друг другу по количеству слогов строфы с повторяющимся рефреном, строфы единообразно слагаются из отрезков текста с фиксированным количеством слогов, вполне аналогичных стиху, в общем выдерживается схема, по которой внутри каждого из этих отрезков распределяются тонические ударения. Но признать их поэзией, оставаясь на точке зрения византийской школьной теории, тоже было невозможно, коль скоро в них отсутствовал даже намек на нормы античной метрики, основанной на счете долгих и кратких слогов. Как известно, эта метрика, разошедшаяся к эпохе Романа со звучанием живой речи, еще много веков спустя, до самого конца Византии и даже позднее, продолжала искусственно воспроизводиться в традиционных поэтических жанрах, например в эпиграмме
[493], а главное, продолжала оставаться в теории
единственной метрической системой; о тонике просто не говорили
[494]. Притом лексика гимнов Романа, система примененных им риторических приемов — все это гораздо ближе к практике прозы второй софистики
[495], нежели к тому, что допускалось в каком-либо из жанров античной поэзии. Значит, гимны эти — ни стихи, ни проза, а какой-то невозможный гибрид того и другого
[496], явление, непроницаемое для мысли византийского ритора и постольку для нее несуществующее. Ни признанная церковью святость Романа, ни восторг перед его даром песнопевца, выразившийся в легендах о таинственной помощи Богородицы, — ничто не могло ему помочь и дать его поэзии легальный статус в глазах теоретиков. Византийская риторическая школа была ничуть не менее авторитарной, чем византийская церковь, и в замкнутой сфере ее компетенции действовали свои неуступчивые законы.
Подчеркнем еще раз: творчество Романа отвергнуто риторической теорией как нечто, не просто не отвечающее таким-то и таким-то требованиям, но именно несуществующее — то, чего не может быть, потому что его быть не может; форма такого отвержения — тотальное замалчивание. Византийскому критику просто не о чем говорить, он не находит предмета для профессионального разбора. Здесь мы могли бы вообразить, будто молчание риторической теории связано со страхом перед авторитетом церкви, с невозможностью бранить то, что санкционировано этим авторитетом (тогда это был бы случай столкновения двух юрисдикций — церковной и школьной). Однако дело обстоит, судя по всему, не так. У риторической теории была возможность, никак не задевая освященного церковью имени Романа, описать или хотя бы упомянуть новый способ стихосложения как новшество, полезное в церковной жизни для практических нужд вразумления «простецов», хотя со школьной точки зрения абсолютно незаконное, существование которого, впрочем, любопытно отметить… Это никому не было бы обидно — ни Роману, ни античным авторитетам, ни церкви, ни школе. Однако именно любопытства, потребного, чтобы зарегистрировать принципиально новое хотя бы на правах курьеза, у византийских теоретиков не обнаружилось. В этом пункте они отличались от своих западных современников и собратьев. Оценим контраст: на Западе царила тяжелая разруха «темных веков», и все же ко временам Альдхельма (ок. 640—709) уже была отработана латинская терминология, четко выделявшая наряду с прозой и с поэзией старого типа (метрами) еще поэзию нового типа, т. е. силлабику (ритмы). Для Альдхельма carmen rythmicum — устоявшееся понятие
[497]; и когда один из его поклонников писал другому: «Умоляю тебя, соблаговоли прислать мне какие-либо творения епископа Альдхельма, будь то проза, будь то метры, будь то ритмы»
[498], — он рассчитывал на то, что тройственная классификация всякого литературного текста без дальнейших слов понятна его корреспонденту. Напротив, в Византии традиция риторических школ и риторического теоретизирования переживала почти непрерывный расцвет, которому Запад «темных веков» мог только завидовать; но термина, соответствующего латинскому «ритмы» и отражающего опыт гимно- графии Романа, по–гречески так и не создали до самого конца византийского тысячелетия
[499].
Мы сказали, что византийская литературная теория была авторитарной; но сказать так — еще недостаточно. В конце концов литературная теория бывает авторитарной в той мере, в какой она нормативна. Авторитарна литературная теория западного средневековья. Довольно авторитарна литературная теория гуманистов Возрождения, особенно позднего
[500]. Что до литературной теории классицизма, уж она была настолько авторитарна, что сделалась притчей во языцех как «школьная ферула», и прочая, и прочая. Во всех этих случаях, однако, авторитарность не мешала посмотреть на противника — хотя бы краешком глаза и свысока; не мешала упоминать то, что отвергалось и выводилось за пределы «правильной» словесности, а значит, называть его каким-то именем — хотя бы насмешливой кличкой. Иначе говоря, это каждый раз авторитарность
в ситуации спора.Так обстоит дело не только в истории литературных программ, но, шире, в общей истории культуры, служившей для них контекстом. Что, спрашивается, может быть авторитарней ортодоксальной схоластики? Но ведь она просто не выходила из ситуации спора. Как известно, Фома Аквинский в «Сумме теологии» начинает обсуждение любой проблемы выставлением тезиса, обратного тому, который ему предстоит доказывать; например, доказательства бытия Божия начинаются словами: «представляется, что Бога нет». Иначе говоря, каждый ортодоксальный тезис дан как антитезис своего антитезиса, явленный на свет под знаком спора. «Весьма противно доказывать то, что противно противному», — шутил Сергей Бобров в книге о математике для детей «Волшебный двурог»; но Аквинат, можно сказать, только тем и занимался, что доказывал противное противному, и в этом выразила себя какая-то фундаментальная парадигма, не потерявшая своего значения для западноевропейской культуры с концом средних веков.
Именно поэтому историку так легко и удобно описывать историю авторитарных теоретико–литературных концепций на Западе — словно вести драму с выигрышным сюжетом, по всем правилам разыгрывающуюся во времени, от одного акта к другому. Новый спор сменяет старый спор, и его завязка дает четкую временную веху. Ряд больших дискуссий, каждая из которых острохарактерно и с очевидной для всех наглядностью определила содержание целой эпохи: борьба artes и аис- tores в средние века, описанная ниже в разделе «Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грамматики и риторики»
[501]; конфликт гуманистов и схоластической культуры в эпоху Возрождения; «спор Древних и Новых» во Франции XVII в.; наконец, столкновение позднего классицизма с романтизмом — вот фон для этого особого типа авторитарности. Как раз резкость проявлений последней — агрессивные выпады, пренебрежительное третирование того, что не умещалось в рамки правил, вызывающе нетерпимое формулирование собственной позиции — все это порождалось ситуацией спора и ее лишний раз подтверждало.
А как обстояло дело в Византии? Сказать без оговорок, что там картина была противоположной, нарисовать эффектный контраст, выстроить ряд соблазнительно четких антитез — на одном полюсе непрерывные диспуты, на другом полюсе отсутствие таковых — было бы насилованием фактов. Никакого эффектного контраста не получается; но попытки рассматривать историю византийской литературной теории под тем же углом зрения, с теми же готовыми представлениями, с которыми мы рассматриваем историю литературных теорий западного средневековья, тоже оказываются не совсем верным путем. Конечно, византийцы не так мало спорили за тысячелетие своей истории. Сейчас же хочется сказать: и все же диспут не стал у них таким центральным самовыявлением культуры, как это было на Западе, где он составил, между прочим, тему одного из важнейших шедевров пластики — яростно жестикулирующих фигур пророков в споре на хорах Бамберг- ского собора (ок. 1230 г.); и любой византийский теолог, даже самого рационалистического образа мыслей, очевидно, почел бы за кощунство начать раздел своего труда шокирующими словами: «представляется, что Бога нет»
[502]. Византийское «прение» — это просто спор; но западный диспут — это институция и обряд, праздник и торжество, самое средоточие умственной жизни. Схожие факты оказываются несхожими в зависимости от того, занимают ли они место внутри культуры как целого ближе к центру или дальше от центра. Но повторим еще раз: спорили в Византии немало. В составе теологической литературы велик процент полемических сочинений против ислама, иудаизма, католицизма. Что касается споров
[503], разыгравшихся внутри самой византийской культуры, можно упомянуть по меньшей мере две дискуссии, каждая из которых составила эпоху: это столкновение между иконоборцами и иконопочитателями в VIII-IX вв. и столкновение между паламитами и антипаламитами в XIV в. Даже и здесь есть культурно- типологический контраст с Западом: в обоих случаях каждая из сторон просто анафематствовала другую, они не могли, продолжая спорить, совместно оставаться внутри православия — в отличие от западных споров между доминиканцами–томистами и францисканцами–скотис- тами, где обе стороны оставались внутри католицизма, и спору не было причин приходить к концу. Но нас сейчас интересуют не теологические дискуссии, а борьба теоретико–литературных концепций; и вот здесь византинист находится в трудном положении.
Конечно, из наличной суммы риторических и околориторических текстов, которые оставила нам Византия, могут и должны быть извлечены какие-то элементы полемики, какие-то косвенные, прикровен- ные проявления конфликта противоположных взглядов. Этого там не может не быть. Чего там нет, так это дискуссий, так сказать, с большими контурами, в которых противоположные позиции выявляются с наглядной, парадигматической отчетливостью, так, чтобы не оставалось сомнений, о чем, собственно, велся спор. Когда речь идет о византийских дискуссиях, слишком многое приходится вычитывать между строк, а это занятие всегда небезопасное. В начале XIV в., в лучшую пору палеологовского расцвета, жили в Константинополе два литератора, эрудиты с энциклопедическим кругозором — Никифор Хумн и Фе- одор Метохит; последний принадлежит к числу самых значительных и оригинальных писателей за всю историю византийской культуры, да и Хумн — автор заметный. Оба они принадлежали к течению так называемого византийского гуманизма
[504], и не так давно в них видели единомышленников
[505]; эта иллюзия рассеялась после блестящей работы И. Шевченко, введшего в оборот неопубликованные материалы
[506]. Выяснилось, что эти ученые (выступавшие также в качестве соперников на поприще политической и придворной жизни) спорили буквально обо всем на свете — по вопросам философии, астрономии, физики, отчасти поэтики и т. п. Казалось бы, полемика таких людей должна быть важным явлением культурной жизни, обнаружением некоей духовной поляризации. Но в чем принципиальная противоположность их позиций? В каждом отдельном пункте различие взглядов прослеживается довольно ясно: но слагается ли сумма этих различий в цельную, связную картину? Может быть, торопиться с отрицательным ответом опрометчиво; но для характеристики ситуации историка византийской культуры вполне достаточно того факта, что дать положительный ответ очень и очень нелегко.
В одной из глав III тома вышедшей в нашей стране «Истории Византии» мы читаем: «В противовес Метохиту, увлекавшемуся Платоном, Хумн был сторонником философии Аристотеля
[507]; однако в следующей главе этого же издания мы встречаем фразу: «Нельзя считать Хумна аристотеликом, а его противника Метохита платоником»
[508]. Это не недосмотр редакции издания и не расхождение во взглядах между авторами глав
[509]. Неясность лежит в самом объективно данном положении вещей. Действительно, в полемике с Хумном Метохит систематически цитирует Платона; однако это не мешает Хумну заявить торжественный протест против отступлений Метохита от космологии Платона и выбранить своего оппонента «врагом» Платона
[510]. С другой стороны, в специальном трактате «О том, что ни материя не существует прежде тел, ни эйдосы не существуют обособленно, но то и другое выступает в единстве» сам же Хумн критиковал платоновские диалоги «Тимей» и «Парменид». Кто тут был, кто не был платоником? Недаром выводы, к которым подводит читателя анализ, проделанный Шевченко, несколько разочаровывают; и это не вина исследователя. А ведь Метохит и Хумн как центральные фигуры византийского гуманизма по своему масштабу сопоставимы с такими представителями итальянского гуманизма, как Пико делла Мирандола и Эрмолао Барбаро; но такого стройного, значительного спора, каков был спор между Миран- долой и Барбаро
[511], у них не вышло. Или, может быть, это византинистам все еще недостает информации и понятливости, чтобы уловить сквозную связь в дробной россыпи полемических стычек двух византийских ученых? Что ж, мы обязаны считаться и с этой возможностью. Но если такая связь есть, ее приходится не читать, а исключительно вычитывать — брать на себя, как мы уже сказали выше, риск чтения между строками. Что мы при этом вправду найдем в данности материала, а что нам примерещится от интерпретаторской натуги? Как раз там, где речь идет не об общекультурном контексте литературной теории, как это все еще было в примере с Метохитом и Хумном, а вплотную о самой литературной теории, все эти вопросы научной совести стоят особенно остро.
Вот пример тому — и пример убедительный. Михаил Пселл (1018 — ок. 1078 или ок. 1096) — не только большой писатель и универсальный деятель византийской культуры, один из самых характерных представителей ее светской линии, чье имя стало чуть ли не символом так называемого Македонского ренессанса; этому острому уму принадлежат сочинения, в необычной для Византии мере близкие к тому, что мы называем сейчас литературной критикой. Здесь его можно сравнить только с Фотием как автором «Библиотеки». Выше уже шла речь о двух его эссе, посвященных стилю Григория Богослова как в отдельности, так и совместно со стилем Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Нисского. Кроме того, ему принадлежит «Сравнение Еври- пида и Писиды» (точное название — «Вопросившему, кто писал стихи лучше — Еврипид или Писида»), «Похвальное слово Симеону Мета- фрасту»
[512], опыт синкрисиса «О Ахилле Татии и Гелиодоре» и россыпь замечаний в письмах; сюда же примыкают энкомии и эпитафии современникам (Иоанну Мавроподу, Иоанну Ксифилину и т. п.). Если у кого другого из византийцев — у Пселла должна была быть позиция в теоретико–литературных контроверзах эпохи.
Отечественный исследователь Я. Н. Любарский задался целью реконструировать эту позицию именно как позицию, т. е. в ее противоположности каким-то иным позициям и в ее оригинальности
[513]. Анализ, произведенный Любарским, отличается в выгодную сторону от среднего уровня разработки подобных тем в научной литературе. Тем более примечательна скудость результатов там, где они бесспорны, — и их зыбкость там, где они несколько богаче. В одном письме Пселла упоминается конфликт между ним и какой-то компанией риторов
[514]. На беду письмо очень невнятно: сам Пселл выступает в нем то как противник Гермогена (о роли этого позднеантичного ритора для византийской традиции нам еще придется говорить ниже), которого за это «не хотят слушать», то, в следующей же фразе, напротив, как верный приверженец Гермогена, которого недруги последнего хотят «оттащить за нос» от гермогеновских творений
[515]. По–видимому, следует принять точку зрения Я. Н. Любарского, предположившего порчу текста и выдвинувшего соблазнительную конъектуру
[516]. Тогда получится непротиворечивый смысл: Пселл защищал Гермогена — но против кого же? «Может быть, в настоящем письме речь идет о рядовом соперничестве риторических школ, сопровождавшемся переманиванием учеников, широко известном из истории византийского школьного дела», — осторожно замечает исследователь, но продолжает: «Вероятней, однако, что дело касается проблем более серьезных. К сожалению, письмо рождает больше вопросов, чем существует ответов, которые на них можно было бы дать»
[517]. Как говорится, дело ясное, что дело темное. Может быть, из-за неумения прочитать информацию, содержащуюся в эгом письме, мы теряем возможность узнать о какой-то византийской дискуссии, сопоставимой со спорами между сторонниками artes и auctores. Но факт остается фактом: ни из этого письма, ни иЗ других текстов Пселла мы ни о чем подобном не узнаем. В остальном же Я. Н. Любарский на каждой странице отмечает «двойственность теоретической позиции Пселла», «разнохарактерность конкретных критических оценок»
[518]', «уже ставший обычным парадокс»
[519]: «Почти каждый тезис, устанавливаемый в отношении мировоззрения столь противоречивой натуры, как Пселл, тут же нуждается в ограничении и корректировке»
[520], его чуть ли не приходится брать назад.
Где можно провести хоть одну отчетливую линию, отделяющую литературно–теоретические взгляды Пселла от взглядов его византийских коллег? Любарский усматривает нечто специфическое для позиции Пселла в его отзыве об Иоанне Итале: «Пусть простится Италу, если он прекрасен не во всем: он мастер своего дела, но красота не дается ему. Он небрежет о слушателе, его откровенная речь неприятна, ведь она приготовлена и составлена из предисловий, тогда как речь тщательно отточенная не бывает нестройной и сбивчивой. И речь его не льет усладу в душу, но заставляет размышлять и держать в уме сказанное, она убеждает не болтовней, не наслаждением (не уловляет она харитами), не пленяет красотой, не уловляет сладостью, но как бы насильно покоряет рассуждениями»
[521]. Можно ли вместе с нашим виднейшим специалистом по творчеству Пселла видеть здесь похвалу
стилю Итала за его «нестандартность»?
[522] Пселл хочет сказать едва ли больше того, что Итал — хороший философ, но ритор просто никакой, а потому его сочинения подлежат оценке философской, а не литературно- критической. Ведь и для нашего сознания Иоанн Итал — факт истории византийской философии, а не истории византийской литературы. Положим, какой-нибудь литературный критик первой половины прошлого века замечает, что господин Гегель пишет темно и неудобочитаемо, но ради глубины его мысли стоит продираться через все трудности его текста; разве мы имели бы право заключить, что критик говорит нечто положительное о Гегеле как стилисте и противопоставляет его стиль как пример своеобразной красоты конвенциональному вкусу? По утверждению Я. Н. Любарского, «рассуждения об Итале заканчиваются защитой права оратора — и Итала в том числе — на особую индивидуальную характеристику его стиля»
[523]. На деле они кончаются иначе, и притом по меньшей мере двусмысленно.
«Ведь это я родил вас, и я, ваш праотец, не стану ненавидеть потомка, каким бы он ни был, даже если у него голова приплюснутая, рука согнутая, колено вывихнутое, радушно приму я поскользнувшегося и приложу к речи свое повивальное искусство, обмою и сразу «вылеплю», как сказали бы вы по–ученому. Выкидыш я верну к жизни и обласкаю даже вывихнутое. Я не более жесток к своему детищу, чем та аттическая жена… о которой вот что рассказывают: когда она была беременна, отец будто бы не позволял ей стать матерью и хотел убить младенца, едва тот появится на свет. К этому он тайно подговорил повивальную бабку. Но та по–иному исполнила волю отца. Она спрятала у себя на груди змею, и когда после мук родился младенец, то она унесла его прочь, а на его место положила змею и показала ее роженице со словами: «Увы! Посмотри, какое чудо: вместо ребенка родилась змея!» А роженица с нежностью на это: «Мамушка, приласкай ради меня змею, она мне все равно, что жизнь». И взяв змею обеими руками, поцеловала ее. Я тоже аттик, я тоже чадолюбив, и даже больше, чем она, так как родил вас в муках души и люблю ваших словесных детей. Пусть они мужают, пусть руки их крепнут. А вы пока что рождайте для меня. Ведь ничто не может преуспеть, не родившись сначала»
[524].
Вот смысл заключения, довольно странного для энкомия: во–первых, уж раз Итал — ученик Пселла, его «дитя», чувства доброго «родителя»
[525] не позволят Пселлу совсем уж худо отнестись к сочинениям
Итала, даже если последние с риторической точки зрения представляют собой отменных уродов или, хуже того, змей, подложенных на место младенцев, т. е. нечто несообразное; во–вторых, Пселл берется выправить стиль этих сочинений в соответствии с нормами риторики, заново «вылепить», так сказать, довести до кондиций. От этого далеко до «защиты права оратора на особую индивидуальную характеристику его стиля»
[526]. Но если так, в чем предполагаемая «полемичность» констатации того факта, что у Итала «нет того, что является обязательным для стиля прославленных ораторов»?
[527] Нет — и тем хуже для него: младенец, уродившийся с членами искривленными и вывихнутыми, или подменившая младенца змея — сравнения, мягко говоря, нелестные. Только способности в области философии и логики, т. е.
вне области художественной литературы, а главное — приятельски- ученические отношения с Пселлом и обещанные усилия последнего, которые должны помочь делу и восстановить риторическую норму, — вот что может поправить беду. Пселл готов пособить Италу подняться до риторической нормы: он готов и на другое — по дружбе и за философские заслуги простить Италу, что последний не поднялся, не сумел подняться до риторической нормы. (Именно к прощению, к великодушному снисхождению приглашены слушатели Пселла.) Но что до стиля Итала, каков он есть, то он — если убрать декоративные, иронически вводимые и тут же дезавуируемые оговорки — описывается чисто негативно, как голое отсутствие стиля. Кончим тем вопросом, которым мы начали: где тут специфика литературно–критической позиции Пселла, в чем она?
Разбирая это место, Я. Н. Любарский, в частности, замечает: «Нестандартность мысли Пселла сказывается в данном случае в нестандартном метафорическом способе ее выражения: Итал «насильно покоряет рассуждениями» (τυραννεί δε ώσπερ και βιάζεται τοις νοήμασι)»
[528]. Но так ли это? Обратимся к тексту. В нем можно выделить два смысловых момента. Первый — это приравнивание убеждения к насилию: общее место, старое, как сама греческая риторика. Ведь еще один из «отцов» последней, Горгий Леонтинский, вопрошал: «Что же мешает и о Елене сказать, что ушла она, убежденная речью, ушла наподобие той, что не хочет идти, как если бы незаконной силе она подчинилась и была бы похищена силой. Силе убеждения она допустила собой овладеть; и убеждение, ею овладевшее, хотя не имеет вида насилия, принуждения, но силу имеет такую ж»
[529]. Слово άνάγκη, стоящее в том же синонимическом ряду, что Пселловы слова τυραννεΐ и βιάζεται, совершенно нормально, без осознаваемой метафоричности, употреблялось и в античном, и в византийском греческом языке для обозначения логической необходимости, а по связи с этим — как формула согласия с доводом в споре: например, в платоновских диалогах вновь и вновь повторяется реплика, состоящая из одного слова άνάγκη — мне деваться некуда, ты меня припер к стенке и загнал в угол. В одном анакреонтическом стихотворении говорится: ρητόρων άνάγκας διδάσκειν, «учить искусству риторов понуждать слушателя»
[530]. Что может быть тривиальнее? Второй смысловой момент: Пселл противопоставляет риторическое «обольщение», риторическую «ласку» (χάριτες) логическому «принуждению». Что же, антитеза воздействия лаской и воздействия принуждением — не новость со времен басни Эзопа «Борей и Солнце»: а перенесение этой антитезы на контраст между красноречием и принудительным логическим доказательством непосредственно подсказывается хотя бы Платоновым «Горгием»
[531]. Пселл соединил оба топоса не без изящества; но «нестандартность мысли» и «нестандартность метафорического способа ее выражения» — не очень удачно выбранные слова. Если под «стандартностью» разуметь тупое, механическое использование общих мест, Пселл весь «нестандартен»
[532], потому что в глупости его, кажется, никто не обвинял. Но если под «нестандартностью» нужно понимать прорыв замкнутого круга общих мест и готовых представлений, оспаривающее их и само готовое к оспоренности слово в споре, здесь это найти трудно. Материя реальной теоретико–литературной полемики уходит сквозь наши пальцы в момент, когда мы готовимся ее схватить.
Цель нашего затянувшегося отступления — не возразить Я. Н. Любарскому, а дать читателю понятие, с каким материалом имеет дело историк византийской литературной теории. Еще раз — зрелище поучительное: на наших глазах очень квалифицированный исследователь направляет все свои усилия на то, чтобы выявить теоретико- литературную позицию Пселла именно как позицию, т. е. по возможности позицию в споре, отмежевав ее от других мыслимых для эпохи позиций, отыскав ей определенное место на панораме современных ей течений и направлений, описав по противоположности, по контрасту к чему-то иному, — и результат поражает даже не своей скудостью, это бы еще куда ни шло, а прежде всего своей глубокой ненадежностью, зыбкостью, двусмысленностью. Может быть — так, а может быть — не так; и вина за это лежит не на исследователе, а на материале, на его внутреннем качестве.
Вот еще один — и последний — пример. Пселл однажды обратился к своему наставнику и старшему другу Иоанну Мавроподу с письмом, в котором сначала утверждает, что его корреспондент так воспарил духом, что «презрел природу» и если восхищается чувственной красотой сочетаний слов, то лишь затем, чтобы перейти к «отрешенному эйдосу и умопостигаемой гармонии», а затем все же приглашает его: «вкуси отдохновения на лугу моих писем»
[533]. Вывод Я. Н. Любарского: «Таким образом, взгляды Пселла противостоят позиции Мавропода… Оба они «христианские гуманисты» в вопросах эстетики, но ученик явно идет значительно дальше своего учителя»
[534]. Идет значительно дальше — как явствует из контекста — в реабилитации чувственной красоты слова, в отходе от так называемого византийского спиритуализма
[535]. С другой стороны, в похвальном слове Симеону Метафрасту Пселл порицает «сверхмудрецов», брезгующих общепонятной христианской дидактикой этого агиографа
[536]. Я. Н. Любарский заключает из этого: «Среди современников Пселла были, видимо, интеллектуалы, занимавшие еще более радикальную позицию, чем наш философ <…> Пселл, таким образом, оказывается между гонителями светской литературы и «сверхмудрецами», для которых Метафраст оказывался чрезмерно нравоучительным»
[537]. Казалось бы, выяснена локализация Пселла среди его современников, классифицируемых по признаку их отношения к литературе, — что и требовалось. Возражать тут нечего; естественно заранее предположить, что Пселл, как водится, был радикальнее одних и умереннее других, вообще от одних отличался в одном направлении, а от других — в противоположном, имел противников «справа» и «слева». Но вытекает ли такой априорно правдоподобный вывод именно из этих двух текстов? Возьмем письмо к Мавроподу. Как отличить в нем настоящую иронию от эксцессов бытовой учтивости, сдобренных «пикировкой» (мол, хоть ты выше этого, снизойди к моему письму)? Пикироваться эти два человека, по–видимому, любили
[538]. Но даже если это ирония в полном смысле слова, она ведь может относиться не только к идее, но и попросту к человеку, к биографическому факту, известному или неизвестному нам
[539]; полная неясность на этот счет здесь задана интонацией и словесным выражением. Присутствует здесь принципиальный спор или отсутствует, в специфической атмосфере пселловско- го текста не разобрать.
Что касается похвального слова Метафрасту, ведь это именно энко- мий со всеми жанровыми обязательствами энкомия. В сборниках риторических упражнений, так называемых прогимнасм, энкомий идет в паре с псогосом (хулой); псогос есть вывернутый наизнанку энкомий, но и энкомий есть обращение псогоса, и хороший ритор должен уметь сочинить на любую тему и энкомий, и псогос. Вполне понятно, что Пселл, как и приличествует автору похвального слова, не только приписывает своему предмету, в данном случае житиям Метафраста, все возможные добродетели, в данном случае красоты слога, но также имеет перед умственным взором некий псогос, который ему нужно опровергать. Псогос этот может быть воображаемым и может быть совершенно реальным, но внутри энкомиастической установки это не имеет значения; когда псогос действительно реален, он как бы
становится воображаемым, отражаясь в зеркале энкомия, и наши шансы узнать о его реальности из энкомия очень малы, обескураживающе малы. Вот как это происходило на чисто игровом уровне: «Похвальное слово зиме», которое мы находим в позднеантичном или ранневизантийском сборнике прогимнасм, приписанном Николаю Софисту (V в.)
[540], открывается словами: «Не знаю, что это такое с людьми сделалось, что они зиму бранят», затем продолжается в нарочито серьезном тоне мнимой полемики, чтобы завершиться суровым приговором: «Пусть же не имеют доли в благах зимы зиму не почитающие»
[541]. В том же сборнике «Хула лету» и «Хула винограднику» оформлены как спор с «хвалителями» того и другого
[542]: псогос так же требует «хвалителей», как энкомий — «хулителей». Ибо риторическая установка предполагает некий агон; но это не агон дискуссии, в котором выясняются и размежевываются точки зрения, а всего лишь агон состязания. Позиции «хвалителя» и «хулителя» взаимозаменимы, как шахматист может сегодня играть белыми фигурами, а завтра — черными. Как нам уберечься от смешения двух видов агона, когда мы рассматриваем энкомий Пселла Симеону
Метафрасту? Конечно, это не школьное упражнение Николаева сборника: но ведь это тоже энкомий, сработанный по той же схеме.
Свойства византийской литературной теории, затрудняющие ее изучение и в особенности мешающие четко представить себе ее разви тие во времени, коренятся отчасти в специфике исторического пути самой византийской литературы, отчасти же в специфике отношений между византийской литературной практикой и византийской литературной теорией.
О первом здесь не место говорить подробно. Сразу же отметим, однако, одну примечательную особенность, имеющую значение симптома: хотя византийская литература на сегодняшний день, сколь бы многое не оставалось неопубликованным, находится в нашем распоряжении в виде внушительного количества исправно изданных текстов, хотя история ее вовсе не так плохо документирована, в сравнении, например, с литературой эллинизма, — диахроническое изменение стиля все еще настолько мало выяснено, что датировка текста по внутренним, стилистическим критериям, наталкивается на необычные трудности. Сколько здесь эффектных, поистине поражающих воображение казусов! Две речи Фомы Магистра (первая половина XIV в.) вплоть до 60–х годов нашего столетия принимались за произведения позднеан- тичного ритора Элия Аристида, жившего почти двенадцатью веками раньше
[543]. Византийскую трагедию «Христос страждущий» научный консенсус давно и довольно уверенно относит к XII веку
[544], но до сих пор раздаются голоса, всерьез настаивающие на авторстве Григория Назианзина (ок. 330 — ок. 390)
[545]; таким образом, диапазон колебаний — около восьми столетий
[546]. «Взятие Фессалоники» Иоанна Каме- ниаты датировалось началом X в.; однако авторитетные специалисты предлагают перенести датировку на полтысячелетия позднее
[547].
Количество таких примеров может быть умножено
[548]. Следует отметить, что они взяты не из полуфольклорной, но, напротив, из «высокой», «ученой», ориентирующейся на античные образцы, короче говоря, сугубо «литературной» литературы. С чем, спрашивается, можно сравнить такую ситуацию? В датировке так называемых романов и гекзаметрических поэм поздней античности есть разноречия, но их амплитуда несравнимо скромнее. Кое–какие созданные гуманистами имитации античных текстов давно выявлены. Положение с византийской литературой — единственное в своем роде, по крайней мере, внутри круга европейских литератур. Лишь отчасти оно может быть списано на счет отсталости византийской филологии, только в последние десятилетия выходящей к полноценному стилистическому анализу
[549]; едва ли можно отрицать, что в нем резко выявляется особый характер византийской литературы в ее отношении к историческому времени, особый строй ее судеб. Вспомним, что это литература, чей путь не знает никакого подобия «рождения»; она сделала свои первые шаги как совершенно непрерывное продолжение тысячелетней традиции античной греческой литературы. Вспомним, далее, что применительно к ее пути привычные понятия «архаика», «классика» и «декаданс» в соотнесенности сукцессивного ряда сразу же теряют всякий смысл. Если в Византии была «архаика», то она была всегда — не как изживаемая стадия, не как фаза, через которую приходится раз и навсегда пройти, но как постоянно присутствующая или регулярно возвращающаяся возможность, как один из полюсов византийской словесной культуры (примитив хрониста в противоположность утонченности историка, примитив Иоанна Мосха в противоположность утонченности Иоанна Да- маскина и т. п.). «Классично» уже то, что встречает нас на пороге византийского тысячелетия (проза Иоанна Златоуста, поэзия Романа Сладкопевца); но в самом конце этого тысячелетия снова стоит «классика», на сей раз палеологовская. Из того, что приходится между начальной и конечной порой, македонская и комниновская эпохи, каждая по–своему, тоже могут претендовать на ранг центральной, «классической» фазы, «золотого века». Наконец, свой «декаданс» Византия переживала в качестве постоянной угрозы, выявленной с самого начала и заново преодолеваемой впоследствии
[550]; ведь ее цивилизация начала с того, что ощутила на себе бремя позднеантичного упадка.
Повторим слова, сказанные нами в другом месте: «Не будучи ни «неподвижной», ни «нетворческой», византийская культура представляется уже с самого начала в некотором смысле слова существенно «готовой»; ей предстоит тончайшее варьирование и всесторонняя реализация изначально данных возможностей, но не выбор себя самой. Она подвержена тончайшим дуновениям моды и являет весьма динамичную смену периодов, но не эпох, которые отличались бы друг от друга по своей глубинной идее, как романская и готическая эпохи; а если мы будем рассматривать все византийское тысячелетие в целом как одну великую эпоху истории культуры, нас должно поразить полное отсутствие чего-либо похожего на плавную траекторию, идущую от зарождения стиля к его расцвету и затем упадку <…> Положительно, историческое время византийской культуры не так необратимо, как время античной культуры или культуры средневекового Запада… Литература и искусство Византии используют щедро отмеренное им тысячелетие не столько для неотменяемых решений, сколько для постепенного развертывания своих возможностей…»
[551]Но если византийской литературе присуще некое свойство, противоположное началу исторической динамики, то с наибольшей отчетливостью, осязаемостью, с наибольшей чистотой оно воплощено в византийской литературной теории. Последняя поистине «антиисторична», и притом не только в том смысле, в котором о ее «антиисторизме» говорил применительно к Пселлу тот же Я. Н. Любарский. Последний имел в виду вещь сравнительно выясненную — «утилитарно–риторический подход к литературе»
[552], при котором исключается фактор исторического времени, игнорируется хронологическая дистанция и тексты разных эпох предстают, если использовать выражение Д. С. Лихачева, «одновременными» либо «вневременными»
[553]. «Великолепный пример «антиисторизма»»
[554] — если Пселл сопоставляет стих Еврипида и стих Писиды так, κέικ если бы эти поэты, разделенные более нежели тысячелетием, принадлежащие с нашей (но не византийской!) точки зрения двум разным литературам и культурам, были друг другу современниками
[555]. Такого рода «антиисторизм», как верно отмечено тем же Любарским
[556], есть норма для всякого средневекового сознания. Более того, он определяет, вопреки блистательным, но редким исключениям, теоретико–литературную мысль длинного ряда эпох, в который наряду со средневековьем входят античность, особенно поздняя, а также Ренессанс и классицизм. Если бы это было не так, аттикисты не й&дея- лись бы стать литературными «современниками» Лисия и Демосфена, а гуманисты — такими же «современниками» Цицерона и Вергилия. На «антиисторизме» зиждется значимая для всех этих эпох идея
со стязания сменяющих друг друга творцов в рамках неизменного формального канона: если Пселл заставил Писиду выступать соперником Евриии. ы, это ничуть не более странно, чем состязание Элия Аристида с Демосфеном, Вергилия — с Гомером, Тассо и Мильтона — с Вергилием. Но «антиисторизм» византийской литературной теории — это и нечто иное, куда более специфическое.
Сколь бы ни была литературная теория той или иной эпохи субъективно антиисторичной, т. е. сознательно ориентированной на вневременную норму жанра и стиля, она остается объективно историчной в той мере, в которой следует за движущимся опытом литературы, сопровождает литературу на ее путях, откликается, хотя бы с запозданием и выборочно, на новые явления. Уж на что нормативен Буало, но он утверждает свою норму в резкой полемике против прециозности Коте- на, против гротесков Скаррона и т. п., а значит, включает в горизонт своего теоретического мышления отвергаемую им практику французской литературы 1630–х годов. Пока литературная теория не выходит из роли свидетеля, осмыслителя и ментора литературной практики, какой-то минимум историзма гарантирован ей самим фактом литературного процесса. Но как обстоит дело с византийской теорией риторики?
Мы начали с констатации отсутствия в теоретико–литературных текстах византийцев какого бы то ни было отклика на рождение тонически организованной церковной поэзии и даже термина для обозначения последней — грекоязычного аналога латинскому термину rhythm i. Этот пример достаточно ярок, потому что игнорируемое явление очень значительно по существу и одновременно очень заметно в панораме византийской словесной культуры и попросту византийского быта: византийский ритор, который в жизни был христианином, не мог не слышать новых гимнов в церкви, ему в самом буквальном смысле некуда было от них деваться — кроме как в сферу риторической теории, удалясь в которую он немедленно забывал о слышанном. Однако на этот пример еще можно было бы возразить, что гимнография просто не входит в круг профессиональных забот риторских школ. Что безусловно входило туда, так это искусство ритмического оформления художественной прозы. И здесь мы подходим к нашему второму примеру, менее яркому, менее эффектному, но в некотором смысле более доказательно свидетельствующему о том же самом — о странном отчуждении между литературной теорией и литературной практикой византийцев.
Речь пойдет о так называемом законе В. Мей ера
[557]; как установил этот немецкий филолог, на рубеже IV и V вв., т. е. на самом пороге византийской эпохи, в практике грекоязычной риторической прозы укореняется норма, требовавшая, чтобы между двумя последними ударениями фразы лежало либо по два, либо по четыре безударных слога
[558]. Античные риторы, как известно, всегда заботились о тщательно выверенном — на наш вкус несколько искусственном и педантичном — ритме прозы
[559], и особый их интерес относился к замыкающим клаузулам
[560]; но если у них во внимание принимались, как и в античной просодии, только долгие и краткие слоги, то теперь ритм клаузулы строится на новом факторе — экспираторном ударении. Это действительно новый прием, знаменовавший собой глубокие изменения в языке как инструменте и материале ритора; с другой стороны, это прием, казалось бы, без всякого сомнения относящийся к ведению традиционно понимаемого искусства риторики. Очевидно, в риторических школах должны были обучать подобным хитростям. Тем поразительнее, что в наличной сумме теоретических сочинений и ранневизантийского, и последующих периодов мы не находим никаких ясных указаний на эту практику. В том, что касается клаузулы, византийские трактаты отказывают в той информации о вкусе реального византийского ценителя и реального византийского ритора, которую применительно к римскому вкусу и обиходу так щедро дают — чтобы сослаться на самый общеизвестный пример — трактаты Цицерона
[561]. По–видимому, для византийского теоретика под запретом были все вообще новшества, связанные с изменением акцентного строя греческого язь! ка: античная теория, сложившаяся ранее этого изменения, не выработала для таких тем понятийного и терминологического аппарата, а потому им приходилось и в византийские века оставаться как бы за порогом теоретического осознания. Новшества эти применялись, но не обсуждались. Описанный В. Мейером прием — лишь одно из них
[562].
Все сказанное не означает, конечно, что мы должны перестать искать в византийской литературной теории отклики на византийскую литературную практику. Мы обязаны их искать — памятуя, однако, что это задача исключительной трудности и что приступающий к ней должен относиться к собственным результатам с разумным скепсисом. Чем больше разочарований, тем больше причин надеяться, что мы, по крайней мере, не обманываем себя. Связь византийской теории с византийской литературой — предмет не то чтобы несуществующий, но в эмпирической реальности то и дело сводимый на нет, исчезающий, ускользающий между пальцев. Понять это — значит подготовить себя к рассмотрению истории византийской теории. Конечно, последняя при всем своем «антиисторизме», глубину которого мы пытались сейчас выяснить, имела временное измерение, имела историю. Но не следует ждать от рассмотрения ее истории тех результатов, которые удовлетворяют наш ум при рассмотрении истории теоретико–литературных воззрений античности или западного средневековья. Само слово «история» как бы имеет применительно к византийской риторической теории принципиально иной объем, чем в приложении к иным предметам, по своей природе более «историческим».
Сделав такие оговорки, мы переходим к краткому историческому очерку.
2
У византийской риторической теории был родоначальник, патриарх, первоучитель. Его труды воспринимались как исчерпывающая энциклопедия риторики, «наиболее полно объявшая все части этого искусства», как выражается Михаил Пселл
[563]. Львиная доля византийской теоретико–риторической работы вылилась в комментарии, схолии, толкования, лепящиеся как пристройки к корпусу этих трудов. Его комментировали так много, что в конце концов стали делать с толкованиями на его тексты то же самое, что делали с толкованиями на библейские тексты: выписки из различных комментаторов, снабженные именами последних, собирали в так называемые «катены», или сводные комментарии, расположенные в порядке последовательности интерпретируемых мест
[564]. По замечанию известного словаря «Суда» (вторая половина X в.), он был в «руках у всех»
[565]. Без него невозможно представить себе панораму византийской риторики, но сам он не был византийцем и жил еще во II-III вв.; речь идет о Гермогене Тарсийском
[566].
Авторитет Гермогена утвердился не сразу. На рубеже античной и византийской эпох имело место столкновение двух риторических традиций, одна из которых возводила себя к Минукиану Старшему (II в.)
[567], которого Гермоген критиковал за недостаток ясности и четкости
[568], а другая — к Гермогену
[569]. Любопытно, что в этом столкновении участвовали неоплатонические философские школы. К. Кустас, посвятивший влиянию Гермогена очень интересные страницы своей истории византийской риторики
[570], настаивает на некоем, так сказать, избирательном сродстве гермогеновского наследия и неоплатонизма в целом. «Гермоген, неоплатоники и христиане работали в том же направлении, потому что перед ними стояла одна проблема»
[571]. Однако факты, по большей части собранные самим же Кустасом, говорят о том, что ситуация была более сложной. Неоплатоник Порфирий комментировал не Гермогена, а Минукиана
[572]. Позиция Порфирия была перенята афинской школой; напротив, александрийские неоплатоники приняли сторону Гермогена, а когда, наконец, и в Афинах обратились к Гермогену, это произошло благодаря усилиям Сириана (первая половина V в.), выходца из Александрии. Кустас постулирует связь между неоплатоническим мистицизмом и эстетической позицией Гермогена
[573]; очень естественно, что оба явления как-то увязаны внутри предвизан- тийского синтеза, но в эстетике Гермогена как таковой нет ничего специально мистического. Притом как раз александрийское направление неоплатонизма было в вопросах Мистики относительно сдержанным
[574]. Вот Ямвлих — это, конечно, концентрированное выражение неоплатонического мистицизма: но интерес Ямвлиха к риторике Гермогена, предполагаемый рядом специалистов
[575], остается недоказанной гипотезой.
Едва ли можно сомневаться, что спор между приверженцами Минукиана и приверженцами Гермогена имел важное значение для каких-то основ византийского риторического творчества. Но тексты Минукиана утрачены, и понять, что именно потеряла или приобрела риторика, предпочтя Гермогена, достаточно трудно. В глазах О. Шисселя потери были велики: победа Гермогена над Минукианом однозначно истолкована им как победа безответственной софистики над философской риторикой аристотелевского типа
[576]. Некоторое основание для этого — то обстоятельство, что приверженцы Минукиана из числа неоплатоников ставили в вину Гермогену небрежение к логике
[577]. Кустас поменял плюс и минус местами: для него Гермоген — аутентичный выразитель духовных запросов новой эпохи, находящийся в добром согласии с самыми продуктивными и перспективными философскими течениями
[578]. Заметим, что обе точки зрения, резко контрастирующие по своей оценочной окраске, может быть, не так уж безнадежно исключают друг друга: поздняя античность — на то и переходный период, чтобы характеризующие ее явления и процессы то и дело представали нашим глазам в двояком качестве — как разрушение античного строя мысли (так называемого античного рационализма) и одновременно как конструктивный вклад в строительство грядущего византийского синтеза
[579]. В пользу Шисселя говорит то, что ближайшие поколения видели в Гермогене теоретика, дальше отошедшего от аристотелевской концепции риторики как прикладной логики
[580], чем его соперник. В пользу Кустаса говорит то, что выбор в пользу Гермогена был сделан не только «софистами», чуждыми настоящих философских интересов, но также адептами самой высокой философской культуры. К примерам Кустаса (см. выше) можно добавить яркий пример, приводимый Г. Хунгером
[581], — «протеорию» (вступление) к жизнеописанию Исидора Александрийского, написанному Дамаскием, последним схолархом Афинской школы неоплатонизма, на рубеже V и VI вв.
[582]; это не что иное, как практическое приложение доктрины Гермогена об «идеях» (в риторическом смысле слова), о которой нам придется говорить ниже. Однако важнейшим доводом против Шисселя остается то, что нельзя мерять Гермогена, величину известную, мерой Минукиана, т. е. величины неизвестной. Довод против Кустаса — то, что сам он, так энергично декларировавший связь Гермогена с неоплатоническим фоном, в конечном счете не сумел пойти дальше деклараций и не раскрыл содержания этой связи. Рассматривая сами тексты Гермогена, каковы они есть, мы убеждаемся, что с какой бы то ни было философией они могут быть связаны лишь косвенно, опосредованно, но не прямо. Для начала разумнее рассмотреть победу Гермогена не на философском, а на собственно риторическом фоне, и притом сопоставляя его не с Минукианом, которого мы не знаем, но с его предшественниками и коллегами, которых мы знаем.
В византийское время имел хождение гермогеновский корпус, состоявший из пяти частей — во–первых, сборника прогимнасм, т. е. образцовых риторических упражнений, а во–вторых, в–третьих, в–четвертых и в–пятых, трактатов «О нахождении», «О статусах», «О идеях» и «О том, как достичь мощи» (περί μεθόδου δεινότητος). Интересующий персонаж — не Гермоген как деятель культуры своего времени, но Гер- моген как отец византийской риторической традиции; поэтому для нас безразличен дискуссионный вопрос о принадлежности ему первой и второй частей корпуса
[583]. Для нас достаточно того, что для византийца корпус существовал как целое; это и было то «Искусство риторики» (Τέχνη ρητορική), которое, по цитированным выше словам «Суды», пользовалось такой популярностью
[584]. Он сложился не позже начала VI в. (хотя Сириан веком раньше имел дело еще не с ним)
[585], и затем он в неизменном составе сопровождал византийскую культуру, как ее, что называется, вечный спутник, вплоть до палеологовской эпохи, когда был заново «издан» трудами виднейшего поздневизантийского филолога Максима Плануда (1260 — ок. 1310) с пролегоменами, схолиями и приложениями
[586] и в этом виде оказывал воздействие на риторическую мысль заката Византии
[587]. Для византийской риторической традиции гермогеновский корпус — почти аналог библейского канона. Какую же норму давал он этой традиции?
Сборник прогимнасм по составу и порядку отклоняется от единственного известного прообраза — учебника Феона Александрийского (I— II вв.): так, в новом руководстве наряду с «хрией», т. е. назидательным анекдотом, обычно (в нормальном случае так называемой смешанной хрии
[588]) включающим в себя подготовленную им и венчающую его сентенцию
[589], выделена в особый раздел еще и чистая сентенция, или «гнома»
[590]. Тенденция к возрастающему дроблению классификации типов риторической словесности характерна для эпохи: если Деметрий Фа- лерский (IV-III вв. до н. э.) в свое время выделял 21 тип эпистолярного красноречия, то его позднеантичные или византийские продолжатели различали 41 тип или даже 113 типов
[591]. Произведена легкая модификация номенклатуры прогимнасм: термин «прозопея», означавший у Феона не «олицетворение», но (как и у Гермогена в трактате «О нахождении»!
[592]) фиктивную речь, составленную от имени некоего мифического, исторического или бытового персонажа («какие слова сказало бы такое-то лицо при таких-то обстоятельствах?»), заменен привычным для нас в этом значении термином «этопея»
[593]. Именно гермогеновский или псевдогермогеновский перечень прогимнасм был перенят и окончательно канонизирован в IV в. антиохийским ритором Афтонием (в «порядке реализации вышеназванной тенденции к дроблению классификационных единиц разъявший на отдельные пункты «утверждение» и «опровержение», «похвалу» и «порицание», которые у его предшественника выступали как неразделимые пары соотносительных противоположностей, каждой из которых было посвящено по одной рубрике
[594]).
Так родилась четырнадцатичленная схема, господствовавшая над всем византийским тысячелетием: (1) басня, (2) повествование, (3) хрия, (4) гнома, (5) утверждение, (6) опровержение, (7) общее место, (8) похвала, (9) порицание, (10) сравнение, (11) этопея, (12) описание, (13) рассмотрение вопроса, (14) внесение закона
[595]. О значении прогимнас- матических сборников как некоего откровенного признания позднеан- тичной и византийской риторики о собственной сути, некоей материализации простейших оснований вырабатывавшегося в риторических школах подхода к литературному творчеству, нам уже приходилось говорить прежде
[596] и еще придется говорить в этой статье. Если византиец где-то выдавал себя и почти непроизвольно проговаривался о том, к чему же вела его соображение риторическая культура, то именно в прогимнасмах. Поэтому едва ли можно упускать их из виду, описывая византийскую литературную теорию: они, так сказать, непосредственная действительность этой теории. (Здесь мы спешим наперед оправдать обстоятельный разбор прогимнасм Никифора Хрисоверга в конце византийского раздела нашего коллективного труда
[597].)
За прогимнасмами в гермогеновском корпусе следовал трактат «О нахождении». Эта часть корпуса, внутри себя построенная довольно непропорционально (о вступлении и о теории доказательства говорится много, о такой важной части речи, как повествование, διήγησις, — мало, о заключении — вообще ни слова
[598]), была, как кажется, для византийской традиции менее важной, чем остальные. Характеризуя два русла, по которым потекло движение риторического творчества после конца античности, Кустас утверждает: «Если Запад поставил εΰρεσις (inventio) превыше λέξις, применительно к Византии верно противоположное»
[599].
Следующим шел трактат «О статусах» (Περί στάσεων). Понятие статуса было в античные времена сугубо практическим и принадлежало обиходу судебного красноречия
[600]. Гермоген передал Византии в модифицированном виде старую доктрину о статусах ритора II в. до н. э.
Гермагора
[601]; знамением времени было, во–первых, увеличение числа специально выделяемых статусов
[602], во–вторых, подготовленный всей атмосферой второй софистики переход от практической установки — к литературной, от учета возможностей и трудностей, с которыми оратор имеет шансы повстречаться в конкретной юридической ситуации, — к такому уровню условного, стилизующего обобщения, при каком все конкретные реалии действующего права становятся попросту безразличны. Как отмечает Хунгер, «Гермоген, перейдя от общей характеристики к рассмотрению каждого отдельного статуса, начинает работать с воображаемыми законами и, по сути дела, выстраивает перед читателем ирреальный мир тем для декламаций»
[603]. При этом трактат Гермогена вытеснил из обращения более ранние учебники по теории статусов
[604]; в продолжение византийского тысячелетия адепты риторической культуры мыслили о статусах именно по Гермогену.
Пожалуй, во всем гермогеновском корпусе интереснее всего, оригинальнее всего и богаче всего содержанием стоящий на четвертом месте трактат «Об идеях» в двух книгах. Недаром Кустас, стремящийся к реабилитации Гермогена, к признанию его одним из эстетических теоретиков всеевропейского значения, подчеркнуто выделяет именно этот трактат
[605]. Действительно, если где у Гермогена происходит преодоление границ школьной риторики и выход к общеэстетическим проблемам, то именно в его доктрине об «идеях», которую даже тюбинген — ский филолог Г. Гоммель, в противоположность Кустасу оценивающий оригинальность Гермогена более чем скептически, называет «грандиозно задуманной попыткой создать для сферы стиля такую же всеобъемлющую систему, какой для сферы «нахождения» была теория статусов»
[606]. Известную симметрию между классификацией статусов и классификацией «идей» отрицать трудно. Термин «идея» (греч. ιδέα в первозданном, доплатоновском смысле — «обличив, форма, разновидность») употребляется в гермогеновской традиции примерно в том же смысле, в котором некогда последователи перипатетика Феофраста (IV-III вв. до н. э.) говорили о «достоинствах» (άρεταί) стиля или еще о «типах» (χαρακτήρες) стиля. «Идеи»' — это, во–первых, простейшие, фундаментальные ценности, реализовать которые стилист стремится всегда или почти всегда, каковы, например, «ясность», «чистота» слога, даже — на грани собственно литературных категорий и категорий этики еловесного высказывания — «правдивость»; во–вторых, это образующие систему оппозиции разновидности стилистического задания, как бы дорожные ориентиры, указывающие стилисту, стоящему на распутье, путь либо в одну, либо в другую сторону, принуждающие его к выбору, каковы «пространность», «полнота» — и «сжатость»; «шероховатость»
[607], «напряженность», «пронзительность» —и «приятность». Очевидно, что быть «чистой» или «правдивой» — для речи всегда достоинство: но уже если речь «сжатая», она не может быть «пространной», и ритору следует подумать, какую задачу он себе ставит, какого выбора требуют от него соображения «уместности» (τό πρέπον).
Вот перечень «идей» речи по учению Гермогена и его византийских последователей.
| Качества речи в традиционной терминологии комментаторов Гермогена |
| Основные |
Дополнительные |
| ясность (σαφήνεια) |
чистота (καθαρότης); отчетливость (ειλικρίνεια) |
| высота и величавость слога (αξίωμα λόγου καί μέγεθος) |
важность (σεμνότης); суровость, шероховатость (τραχύτης); напряженность (σφοφότης); блеск (λαμπρότης); нарастание (άχμή); обильность и полнота (περιβολή και μεστότης) |
| изысканность и красота (έπιμέλεια καί κάλλος) |
|
| сжатость (γοργότης) |
|
| нрав (ήθος) |
|
| правдивость (αλήθεια) |
простота (άφελεία); сладостность (γλυκύτης); пронзительность и острота (δριμύτης και όξύτης); приятность (έπιείκεια) |
| мощь (δεινότης) |
вескость (βαρύτης) |
Перечень этот требует двух замечаний. Первое из них — оговорка относительно пределов точности при передаче греческих терминов. Помимо тривиальных затруднений, связанных с тем, что в русском языке нет полных соответствий категориям греко–византийской риторической мысли, мы далеко не всегда уверены, что правильно понимаем значение термина; так, слово επιμέλεια мы условно переводим «изысканность», следуя пониманию Кустаса
[608]; существует, однако, серьезная
попытка доказать, что оно означает специально «благозвучие», «ритмическую гармонию»
[609]. Второе замечание: система, воспринятая Византией из трактата Гермогена «Об идеях», строится как бы по двум перпендикулярным осям координат, причем на горизонтальной расположены собственно «идеи», задающие ритору цель («ясность», «важность», «простота», «вескость», «мощь» и т. п.), а на вертикальной — уровни реализации «идей», дающие ритору средства для достижения цели (например, «мысль», «слог», «ритм» с его разновидностями и т. п.). Правда, принцип координат употребляется в дело ровно настолько, чтобы сделать картину более легко обозримой: до педантической утрировки он не доведен. «Нам не приходится иметь дело с двадцатью различными типами каденции, каждый из которых был бы специально соотнесен с семью основными идеями и их тринадцатью подразделениями. Вместо этого Гермоген неоднократно повторяет, что один и тот же тип каденции может обслуживать некоторое множество идей. То же верно для Других категорий»
[610]. Вообще говоря, установка на классификацию типов не делает Гермогена слепым к неповторимой оригинальности авторского стиля. Совсем наоборот: только Гермоген отказывается делать эту оригинальность предметом своей мысли, в отношении нее он агностик. Ритор в качестве ритора, т. е. систематизатора и преподавателя некоего «ремесла» (технэ), принципиально занимается тем, что может быть систематизируемо и преподаваемо, т. е.
повторимо; неповторимое есть предел его анализа, предмет эмоциональных излияний, но не рационального описания. Любопытно, как Гермоген и его наследники это выражают. Каждый образованный человек грекоязычного мира знал слова Платона о высшем божественном начале: «отыскать его нелегко, а найдя, невозможно поведать о нем для всех»
[611]. Гермоген перефразирует эти слова, применяя их к сущности индивидуального стиля: «трудно и отыскать ее, и ничуть не менее трудно, отыскав ее, сообщить о ней нечто ясное»
[612]. Гермогену почти дословно вторит его ранневи- зантийский последователь, толкуя о ключевом для всей послегермоге- новской литературной критики понятии «смешения (μιξις) идей» в феномене конкретного шедевра: «Отыскать смешение идей затруднительно, а уже отыскав, затруднительно высказать словами»
[613]. На той же линии стоят многочисленные позднейшие высказывания византийских теоретиков; например самое главное, что имеет Михаил Пселл сказать о стиле восхваляемого им Григория Богослова — это констатировать «неописуемость» красоты, рождающейся из некоего
особого сочетания «идей»
[614]. Неизъяснимость, неизреченность оригинальной комбинации описуемых лишь по отдельности и в абстракции риторических первоэлементов — один из важнейших и употребительнейших топосов византийской литературно–критической словесности. Риторы вновь и вновь обращаются к этому общему месту. Будучи исключено из круга проблем их анализа, конкретно–неповторимое, творчески–оригинальное тем более становится предметом их декламаций, их характерно риторического «изумления» и «восторга»
[615].
Здесь стоит задуматься: дело идет не о меньшем, как о реалистическом взгляде на самое существо византийской риторики. Препятствие такому взгляду — два крайние представления, по видимости противоположные (поскольку первое связано с очернением и принижением византийской риторики, второе — с ее идеализацией), но способные переплетаться между собой и взаимно стимулировать друг друга. Первое исходит из того, что риторическое мышление о литературе в античности и тем более в Византии якобы отличается от нашего в первую очередь полной неспособностью вообще догадаться о самом существовании такой ценности, как индивидуальная и в индивидуальности своей неповторимая творческая потенция; будто бы для мастеров и учителей риторики их любезные правила, рассудочные своды этих правил были последним словом, а того, что превышает рассудок, попросту не существовало. Что верно, то верно — как без рассудочности, так и без нормативности риторика не была бы риторикой; эти два свойства иногда принято называть сальерианскими («…Музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию…»); но ведь в кругозоре пушкинского Сальери присутствует Моцарт, хотя бы как тревожащий предел этого кругозора, а нам предлагают поверить, будто адепты византийских риторских школ принципиально отрицали музыку, не поддающуюся вивисекции, и алгебру, не сводимую к алгебре. Это решительно не так. Тексты византийских теоретиков словесного искусства и отца их Гермогена буквально вопиют о противоположном. Слово «вопиют» здесь очень уместно, ибо их тон, когда они заговаривают о вышеназванном предмете, всегда более или менее патетичен, более или менее ориентирован на витийственное славословие, приличествующее «неизреченному». Тот же Пселл находит у Григория Богослова «невыразимые красоты и прелести» и описывает свой опыт общения с его творениями при помощи фраз типа: «…я исполняюсь несказанной красотой и прелестью»
[616]. И здесь нам стоит вспомнить, что риторы, начиная с Гермогена, буквально переносят на индивидуальное и неповторимое в словесном искусстве слова Платона о запредельном, трансцендентном божественном начале. Как раз неподражаемое, единожды удавшееся «смешение идей», будь то у Демосфена (как для Гермогена), будь то у Григория Богослова (как для Пселла), и оправдывает в конечном счете — не только в наших глазах, но и в глазах византийцев — само существование риторики; это самый центр системы риторических ценностей, но центр трансцендентный и потому непознаваемый, как трансцендентен и непознаваем центр метафизической системы Платона и неоплатоников.
Предмет византийской риторики — то, чему можно подражать, и перед лицом неподражаемого, перед лицом конкретного она в конечном счете
«апофатична», как апофатична теология Псевдо–Ареопаги- та перед лицом божественной сущности. Апофатичность эта имеет самые серьезные основания, поскольку гносеологическая установка позд- неантичного и средневекового идеализма принципиально полагала познаваемым не частное, не особенное, но общее, а особенное — лишь через дедукцию из общего (увидеть конкретное произведение как «смешение идей» — значит увидеть факт как комбинацию общих категорий). «Всякое определение и всякая наука имеют дело с общим», — сказано еще у Аристотеля
[617].
Как нам приходилось отмечать в другом месте, «познавательный примат общего перед частным — необходимая предпосылка всякой риторической культуры»
[618]. Поэтому необходимо возразить не только против недооценки, но и против переоценки внимания византийской риторической теории к индивидуальному, встречающейся, например, у Кустаса. Вообще, современный исследователь настолько не ждет от византийского ритора какого бы то ни было интереса к индивидуальному, что, обнаружив этот интерес на уровне
эмоциональном выраженным очень ярко, склонен говорить об «открытии» индивидуальности
[619]. Но разве «открытие» предмета в качестве предмета апофатического не есть одновременно его «закрытие»? Я. Н. Любарский усматривает здесь «противоречие традиционности, подчинения общему, нормативному, и идеи индивидуальности, самостоятельности художника», характеризующее специально Пселла («с одной стороны, Пселл еще усугубляет нормативность позднеантичной риторической теории, с другой — высказывается за свободу индивидуального проявления творческой личности»
[620]). Впрочем, сам он констатирует, что аналогичное положение вещей наблюдалось и до Пселла у его предшественников — например, у Фотия
[621]. Представляется оправданным пойти в поисках прецедентов подальше в глубь времен: противоречие, о котором говорит исследователь, присуще всей византийской риторической мысли в целом, включая ее предысторию в трудах Гермогена и специально в трактате «Об идеях». У Пселла оно разве что выявилось несколько резче, нагляднее: различие не качественное, а количественное. И еще вопрос: впрямь ли это противоречие? Пожалуй, и да, и нет — в зависимости от избираемой нами перспективы.
Мыслительные навыки, воспитанные историей культуры Нового времени, принуждают нас видеть противоречие там, где для самих византийцев его не было. Важно подчеркнуть, в каком смысле описываемая позиция заведомо не «противоречива»: это не кратковременный исторический компромисс, не эклектическое, неустойчивое равновесие «старого» и «нового» (где «старое» — верность генерализирующим категориям риторики, а «новое» — восторг перед индивидуальным и неповторимым). Чего нет, того нет. Перед нами не временная коллизия взаимоисключающих принципов, но антиномия, лежащая в основе смысловой структуры византийской риторики и властно требуемая как раз ее принципом во всей чистоте последнего. Не вопреки тому, а в силу того, что риторическая мысль занимается общим, познает общее, высказывается об общем, она так заворожена инаковостью, непознаваемостью, неизъяснимостью особенного.
Читатель не должен сетовать на нас за то, что столь важная характеристика определенной черты византийской риторики вводится как бы «по поводу», по ходу описания четвертой и самой важной части гермогеновского корпуса (к которой, поспешим сказать, чтобы больше к этой теме не возвращаться, примыкает по своему содержанию пятая и последняя часть корпуса — трактат «О том, как достичь мощи», специально разрабатывающий частную проблематику одной из «идей» на примере творчества Демосфена). В композиции нашего изложения мы только отдаем дань объективному положению вещей, воспроизводя исторический путь самой византийской риторики, которая весьма часто выражала наиболее существенные свои мысли в форме схолий и толкований на Гермогена.
Первых комментаторов Гермогена мы знаем только по именам, в лучшем случае — по случайным фрагментам
[622]. Особенно охотно комментировали трактат «О статусах»; традиция толкований была уже богатой, когда вслед за неким Афанасием Александрийским (IV или Vb., не смешивать со знаменитым богословом!) ее обобщил на рубеже V и VI вв. ритор Зосим Аскалонский
[623]. Зосим стоит на пороге византийского тысячелетия; на исходе этого тысячелетия его труд еще представлял актуальный интерес для филолога Константина Ласкариса, который переписал его собственной рукой
[624]. Неоплатоник Сириан, о роли которого в популяризации гермогеновского корпуса говорилось выше, тоже написал комментарии к трактату «О статусах»; важнее, однако, что он был первым автором специального комментария к трактату «Об идеях»
[625]. Вплоть до конца ранневизантийской эпохи Гермогена толковали много; некоторые комментарии утрачены
[626], другие до сих пор остаются неопубликованными
[627], но общая картина преемственной работы поколений, непрерывно расширяющей и округляющей свои результаты, ясна
[628].
Затем наступают так называемые «темные века» (VII-IX вв.). Вопрос о том, в какой мере они действительно были «темными» и в какой мере они представляются нам таковыми по причине недостатка наших сведений о них, — одна из самых дискуссионных проблем византинис- тики
[629]. Косвенные данные указывают на то, что нить гермогеновской традиции не прерывалась: например, о знакомстве с рекомендациями Гермогена и его комментаторов свидетельствует литературный характер проповедей патриарха Германа I (815—830 гг.)
[630]. Но прямых данных о риторической литературе этого времени недостает. Комментаторский труд, дошедший от начала IX в., посвящен не Гермогену, а прогимнасмам Афтония (впрочем, как мы, видели, занимавшим в составе византийской культуры место непосредственно рядом с текстами Гермогена, почти внутри гермогеновского корпуса); он принадлежит митрополиту Иоанну Сардийскому, корреспонденту Феодора Студита
[631], и оказал на позднейшую риторическую литературу Византии довольно заметное влияние.
К концу IX в. положение существенно меняется. Наступает новая эпоха, которую принято называть по воцарившейся с 867 г. Македонской династии «Македонским возрождением». В начальную пору этой эпохи очень многое определялось инициативой, примером, педагогическим воздействием одного человека — патриарха Фотия (ок. 820 — ок. 893). Имя Фотия принадлежит церковной и политической истории, истории богословской мысли и лексикографической учености. Здесь не место говорить обо всем этом; но благодаря своему «Мириобиблио- ну», т. е. собранию конспектов и характеристик 279 античных и византийских сочинений (другое заглавие — «Библиотека»
[632]), Фотий — центральная фигура в истории византийской литературной критики
[633].
«Мириобиблион» — труд, уже по своей форме необычный для византийской риторической литературы. Автор проявляет в оценках свой личный вкус решительно и определенно, не прячась за спину Гермогена или другого школьного авторитета. Его голос не похож на голоса толкователей Гермогена, так часто переписывавших друг друга. Это трезвый, отчетливый, суховатый голос, не склонный к интонации условного недоумения перед неизъяснимостью феномена индивидуального стиля. Как раз индивидуальный стиль и есть предмет Фотия; но характеризуется он через разложение на все те же общие категории, в основном на «идеи» Гермогена. Если обычное теоретико–литературное сочинение византийского ритора указывает ему путь от познаваемого общего к непознаваемому или труднопознаваемому индивидуальному, Фотий, напротив, вычленяет в индивидуальном моменты общего и через это делает его для себя и своих учеников и читателей познаваемым: это встречные направления, но они отнюдь не исключают, а скорее взаимно требуют друг друга. И для Фотия общее гносеологически первично. Вообще говоря, «Мириобиблион», никак не являясь комментарием к текстам Гермогена, от этого ничуть не менее органически принадлежит гермогеновской традиции (кстати говоря, самым своим существованием лишний раз свидетельствуя о непрерывности этой традиции в непосредственно предшествовавшую пору «темных веков»). «Всестороннее знакомство с Гермогеном, очевидное в «Библиотеке», — замечает Кустас, — создает впечатление, что Фотий вполне у себя дома в мире гермогеновских концепций и ожидает от своих читателей того же самого»
[634]. Несмотря на некоторые преувеличения и натяжки
[635], Кустасу удалось показать, до каких мелких, специальных, не сразу улавливаемых деталей доходит воздействие на Фотия взглядов Гермогена на отдельные «идеи» и на их соотношение между собой
[636]. Концепции Гермогена определяют для Фотия состав наиболее элементарных предпосылок его критического суждения.
Вот несколько примеров того, как работал Фотий–критик.
Предмет стилистического сопоставления — три полемических сочинения с одним и тем же заглавием, посвященных одной и той же богословской контроверзе второй половины IV в.:
«…прочтено сочинение Феодора Антиохийского «В защиту Василия, против Евномия», в двадцати пяти книгах. В слоге Феодор блеском не отличается, но в мыслях и доводах весьма густ, и счастливо избыточествует свидетельствами от Писания. Опровергает же он Евномия почти слово за словом…
Одновременно прочтено сочинение Софрония «В защиту Василия, против Евномия». Софроний яснее Феодора и много более краток; и опровергает он не все подряд, но изощряется и выходит с изобличением противу того, что кажется ему главными частями Евномиева лжеучения; манерой же он пользуется афористической, и слог его, в общем, непринужденный и обходящийся без союзов, однако не лишенный изящества, и притом еще цветущий логическими доводами.
И еще прочитано сочинение Григория Нисского, также «В защиту Василия, против Евномия». В слоге своем он блистателен не менее никого другого из риторов и доставляет уху приятность. Однако он также не опровергал написанное Евномием во всем объеме, и сочинение его короче Феодорова, хотя пространнее Софрониева, весьма изобилуя эн- тимемами и примерами. Со всей откровенностью позволительно сказать, что он настолько же превосходит Феодора красотой, блеском и сладостью, насколько уступает ему в полноте и основательности доводов»
[637].
Тексты такого богослова, как Афанасий Александрийский, тоже становятся предметом чисто стилистической оценки: «… прочтены различные письма Афанасия, в число коих включены и те, что содержат некое оправдательное слово в защиту приключившегося с ним бегства; составлены они хитроумно и блистательно, и при всем этом ясно, и цветут убедительностью, соединенной с приятностью. Удовольствие — внимать такому оправдательному слову»
[638].
Либанию посвящена критическая заметка, заставляющая вспомнить, что на первом месте в Гермогеновом перечне «идей» стоит
ясность: «Прочтен Либаний в двух книгах. Он полезнее для изучения в своих речах, написанных на вымышленные поводы, для упражнения, нежели в прочих, где чрезмерное усердие и трудолюбие омрачило природную и, если позволительно так выразиться, бесхитростную (αύτοσχέδιον) прелесть и приятность слога и повело к неясности, проистекающей то от затемняющих излишеств, то от сокращений, которые не щадят и необходимого. Однако же он являет собою в речах своих мерило и образец аттического красноречия. Отменен он и в своих письмах. Упоминают и другие его сочинения, обильные и разнообразные»
[639].
Эта же гермогеновская иерархия ценностей заставляет Фотия высоко оценить стиль Лукиана, который вообще был, как известно, одним из любимых авторов для византийца: «…что до его языка, здесь он был отменен: слогом он пользовался внятным (εύσήμω), употребляя слова в их основных значениях и достигая замечательной выразительности, никому не уступая в любви к прозрачности и чистоте речи, соединенной с блеском и правильно отмеренным величием. Соединение слов у него таково, что читателю кажется, будто это не речь, но какая- то сладкая песнь, ласкающая уши слушателей даже без явной мелодии. И в целом, как мы уже сказали, речь его отменна и несоразмерна предметам (ϋποθέσεσιν), которые он желал вышучивать и делать смешными…»
[640]Как всякий литературный критик риторического типа, Фотий исходит из фундаментальной педагогической установки: он ищет
образцов того, чему должно следовать, и того, чего должно избегать. Поэтому индивидуальное явление Лукиана как бы расслаивается в его глазах: скепсис и цинизм этого автора, его насмешка, для которой нет ничего святого, — пример скорее отрицательный
[641], но его слог — это образец для подражания, потому что он ясен. Склонность рассекать творчество языческих авторов на предосудительное содержание и похвальную форму — распространенная черта риторической культуры, поставленной под знак средневекового христианства (вспомним для сравнения, что и в Европе Нового времени в пору господства классицизма авторитеты католической моральной теологии поясняли, что запрет на чтение опасных для морали книг смягчается в случае античных текстов, если они служат предметом серьезного изучения с целью усовершенствовать стиль). Что касается ясности, стоит повторить еще раз, что это качество стоит для Фотия, как и в Гермогеновом списке «идей», на первом месте. Нет ничего, что бы он так часто хвалил — даже у авторов, которых ему больше хвалить не за что; есть сочинения, о стиле которых только и сказано одно–единственное слово, что он «ясен»
[642]. Нет ничего, отсутствие чего он порицал бы так резко. Выразительный пример последнего — характеристика еретика Евномия, того самого, против которого были написаны три сочинения, заметки о которых были только что приведены. Фотий особенно рад найти у «лжеучителя» литературное качество неясности. Неясность ассоциируется для него с ересью, как аналог ереси в словесном плане. Выходит что-то вроде уравнения: неясность так относится к ясности, как ересь — к ортодоксии. Вот что мы читаем о Евномии:
«…итак за нечестие свое он был наказан; что до его словесной манеры (ό του λόγου χαρακτηρ), он даже не приблизился к знанию того, что прелесть и приятность вообще существуют, но с честолюбивым рвением домогался некоего чудовищного громогласия и неблагозвучной звучности (δύσηχον ήχον), проистекающей от назойливых созвучий, от неудо- бовыговариваемых речений, пустозвонных и принадлежащих к слогу поэтическому, вернее же сказать, к дифирамбическому роду. Соединение слов насильственно, слова стиснуты и с шумом ударяются друг о друга, так что читающий принужден с натугою поражать воздух своими губами, если желает, чтобы отчетливо прозвучало то, что сочинитель обузил, перетянул, сдавил, перемешал и подверг усечению. Длинные его периоды подчас несоразмерно растянуты, и по всему, что он написал, разлиты темнота и неясность, дабы казалось, будто он ускользает от понимания толпы благодаря качеству мощи (δεινότητος); провалы мысли, которых у него немало, он силится затенить непонятностью и непостижимостью, сокрывая таким образом слабые места своих рассуждений…»
[643]Этот пассаж примечателен не только своей единственной в своем роде выразительностью, и характеризует он не только личный вкус Фотия.
Во–первых, он характерен для всего направления риторической мысли, связанного со школой Фотия и во многом определившего облик византийской культуры до самого конца последней. Фотий и его ученики возродили интерес к античности; но в составе античного наследия можно было найти разные вещи. Выбор Фотия отчетлив и последователен: его привлекает, во–первых, то, что полно рассудочности и рассудительности, что удалено от экстаза и безрассудных крайностей; во- вторых, то, что приносит непосредственную, осязаемую утилитарную пользу жизни риторских школ, постановке преподавания словесности. Поэтому он (заодно с Иоанном Дамаскином до него и православным изобличителем платонизма в XII в. Николаем Мефонским после него
[644], не говоря уже о западной схоластике) решительно предпочитает трезвого и суховатого Аристотеля мифотворцу, языческому мистику и творцу поэзии в прозе Платону. Всякая мистика, кроме ортодоксально христианской, с его точки зрения не может принести истинной вере ничего, кроме вреда, между тем как толковая и не претендующая, что очень важно, на самостоятельную религиозную ценность логика Стагирита способна оказаться для христианина полезным подсобным инструментом. Платон был подозрителен уже по своей связи с неоплатониками, последними защитниками язычества
[645]. В плане словесности Платон повинен в поэтизации прозы, за что его корили еще в античные времена
[646]; мы только что видели на примере разбора Евномия, что к этой вольности Фотий относится очень нетерпимо — никаких слов из «поэтического слога» и «дифирамбического рода» в честной прозе! Ученик Фотия Арефа Кесарийский обвиняет в 907 г. Льва Хиросфакта, любителя античности, отошедшего от фотиевской линии, не только в измене православию, но и в отступничестве «от наилучшего в эллинских учениях»
[647]; «наилучшее»— это аристотелизм, между тем как Платон в этом памфлетном обращении к Хиросфакту назван «вашим мудрецом»
[648], да еще не без иронии над платоновским мифотворчеством.
Далее, и Фотий, и его ученики выбирают из античной литературы почти исключительно ораторскую прозу как практический пример для ритора, а за пределами прозы — Гомера, без которого эллинской словесной культуры все равно невозможно помыслить, и дидактических, нравоучительных поэтов типа Феогнида; лирика более страстного характера, а также трагедия им явно неинтересны. Причины все те же: поэзия драматического рода, любовная и хоровая лирика, во–первых, не имеют прямого отношения к нуждам обучения искусству говорить придворные речи и писать по всем правилам письма и потому бесполезны; во–вторых, несут в себе «греховную» патетику и однозначные ассоциации с языческими культами и мифами и потому опасны. В полемике против Хиросфакта Арефа не без остроумия обыгрывает миф об Афине, проклявшей экстатическую, дионисийскую флейту, которая исказила ее ясный лик. «Дуй, пожалуйста, во флейту, если только тебе позволит это достолюбезная Афина… После этого прибегни к театрам, к мимам, к лицедеям и ко всяческой подобной мерзости, с ее помощью выводя мудрость на позорище, если уж угодно тебе ликовать с Дионисом и бесами!.. Им ты принесешь в жертву, не таясь, порождения твоих словес и будешь править оргию вместе со всем фиасом, с силенами, с сатирами, с менадами, с вакханками»
[649].
Выбор Фотия и приверженцев Фотия ясен. Из сокровищницы античной культуры нужно взять то, что стоит под знаком девственной, трезвой, рассудительной Афины, и отвергнуть то, что стоит под знаком хмельного Диониса; первое как-то совместимо с христианством, второе — нет. И один из смыслов этой антитезы: Афина — то начало, которому специально в риторике соответствует принцип ясности; Дионису соответствуют сознательные отступления от ясности.
Во–вторых, позиция Фотия в большой мере характерна для византийского литературного вкуса вообще. Необходимо все время помнить, что вкус этот в немалой мере сформирован именно влиянием фотиан- ского направления. Именно в поколениях Фотия и Арефы совершался выбор на века вперед, вплоть до самого конца Византии. И здесь очевидны некоторые дополнительные моменты. С любовью византийской риторической теории к принципу ясности дело обстоит не так просто. Именно ясность давалась византийской литературе вообще с большим трудом, и энергия, с которой выставлялось теоретическое требование ясности, отчасти компенсировала недостаток этого качества — этой «идеи» — в литературной практике.
Мы не можем, конечно, вернуться к точке зрения классической филологии давно минувших времен, которая мерила византийскую литературу меркой античной литературы и воспринимала языковые и стилистические «аномалии» византийских текстов как их окончательную эстетическую дисквалификацию
[650]. Исторически объективный взгляд на литературу каждой эпохи, как на явление, имеющее свои собственные законы, — завоевание научной мысли, которое никому не дано взять назад. С другой стороны, нельзя отрицать, что старая филология при всей узости своего кругозора и пристрастности своего суждения обладала таким непосредственным и живым чувством языкового материала, что от ее реакции на византийские тексты нельзя попросту отмахнуться.
Повторим еще раз: византийскую литературу нельзя мерить меркой античной литературы; но ведь сама она, в той мере, в которой сознательно строила себя именно как художественную литературу, по всем правилам риторики, по всем канонам аттикистского пуризма, мерила себя именно этой меркой! Это не относится к церковной и монашеской словесности, куда менее «причесанной»— ни к «Лугу духовному» Иоанна Мосха (VI-VII вв.), ни к гимнам и беседам Симеона Нового Богослова (X-XI вв.); но ведь ни Иоанн, ни Симеон не собирались заниматься литературой, как ее понимало их время, а потому могли себе позволить ничего не знать или по крайней мере ничего не думать о лексике аттических ораторов. Они писали на живом языке — если не на языке улицы, то на языке каждодневного церковного обихода, представлявшего собой в условиях средних веков необходимую часть народного быта. Поэтому они писали очень ясно. По причинам, рассмотренным в начале этой главы, ими не занялся ни один представитель византийской риторической теории; но если бы ему случилось кинуть на них взгляд, он принужден был бы сознаться, что у этих авторов, стоящих с его точки зрения вообще вне художественной литературы как таковой, столь остро нужная последней «идея» ясности наличествует в избытке. Со временем, уже в поздневизантийскую эпоху, развивается низовая мирская словесность на народном языке, еще дальше ушедшая от заветов аттикизма
[651] — и соответственно из поля зрения теоретиков. Там тоже не так трудно было достичь ясности — хотя бы ценой примитивности, синтаксической и всякой иной.
Но языковая ситуация той литературы, которая единственно и считалась в Византии художественной, была затруднена. Здесь легко впасть в ошибку и рассудить примерно так: аттикистский греческий язык в Византии в своем качестве «мертвого» литературного языка представлял аналог латыни на Западе — что один «мертвый» язык, что другой. На деле язык песен вагантов, «Действа об Антихристе», францисканских секвенций XIII в. «Stabat Mater» и «Dies irae»— отнюдь не «мертвый» язык, каким была бы для их эпохи латынь Цицерона, но самый что ни на есть живой язык церковного, школьного, государственного обихода, обладающий свойством всего живого — изменяться. Иначе говоря, это соответствие не греческому языку аттикистов, но греческому языку Симеона Нового Богослова, и степень ясности в обоих случаях примерно одна и та же. С другой стороны, когда гуманисты, зло трунившие как раз над новациями «кухонной» латыни, комически спародировавшие их в «Письмах темных людей», взяли курс на систематическое восстановление лексики, грамматики и синтаксиса Цицерона, они помогли латыни впрямь стать «мертвым» языком (одновременно стимулировав развитие национальных литератур на новых языках, ибо с неслыханной дотоле выразительностью акцентировали культурный смысл оппозиции «латынь — volgare»); но уж зато они довели свою программу до конца, возродив вместе с иными, более внешними атрибутами дикции «золотого века» также и присущую ей прозрачность. Поэзия Марулло и Полициано, проза Эразма Роттердамского неоспоримо ясны. Типы языкового поведения латинских авторов средневековья и гуманистов Возрождения антагонистичны и взаимно исключают друг друга, но для каждого из них возможна высокая степень последовательности — а потому и ясности. Иное дело — то, что называется византийским гуманизмом.
Типичным примером характерной для столь многих представителей последнего неуверенности, неустойчивости, невыясненности позиции в отношении к языку, на котором создается литературное произведение, может служить историк Георгий Пахимер (1242 — ок. 1310). Пример тем интереснее, что это автор совсем не слабый. Он был не только многоопытным, искушенным церковным и государственным деятелем, но и одним из самых образованных людей своего времени; специально в области риторической культуры он был прямо-таки профессионалом — ему принадлежат сборники прогимнасм и декламаций. Чуткий Крумбахер находил у него проявления оригинальности и остроумия
[652]. Тем более поражает неспособность выбрать логичную линию поведения в лексическом оформлении его исторического труда. С одной стороны, он доводит подражание своим древним образцам так далеко, что вместо понятных каждому византийцу наименований месяцев солнечного юлианского календаря употребляет давно забытые имена лунных месяцев аттического календаря — «элафеболион», «гамелион» и т. п. С другой стороны, он вводит варваризмы — заимствования из западных языков, противные духу греческой традиционной языковой нормы: принц называется у него «принцис», рыцари (кавалеры) — «ка- валларии», граф, итал. «конте»— «контос», и т. д. и т. п. Вот так: на одном полюсе — патриарх назван «верховным совершителем жертвоприношений (πρωτοθύτης), к православной церкви применено слово, означавшее языческое святилище, текст кишит редкими речениями из древних поэтов; а на другом полюсе — «принцис» и «кавалларии». Пахимер пишет не на живом языке своего времени, но — в отличие от гуманистов Возрождения — и не на языке своих образцов
[653]. Его язык — даже и не компромисс между теми двумя языковыми нормами, но и подавно не обыгрывание контрастов, а просто диковинная амальгама, запутанное смешение без воли и выбора, без ощущения несовместимости несовместимого. К этому надо добавить, что многолетняя деятельность составителя официальных документов приучила его к непрямому способу выражаться, к околичностям. Приходится ли удивляться, что в итоге получается проза, на редкость лишенная «идеи» ясности?
Каждый, кто читал Пахимера в подлиннике, подтвердит, что это испытание тяжелое
[654]. Об этом не стоило бы так пространно говорить, если бы он был или бездарностью, или сознательным любителем стилистических темнот, изысканных вывертов. Но дело обстояло иначе; Пахимер отнюдь не стремился быть непонятен, и у него хватило бы сил добиться понятности, если бы не препятствия, вытекавшие из его языковой, социальной и культурной ситуации. Препятствия эти характерны отнюдь не для него одного; они возникали в той или иной мере перед всяким византийским автором «гуманистической» ориентации. Только авторы вроде Симеона, вообще не имевшие литературного честолюбия, их не ведали.
Современный византинист, несколько склонный эпатировать своих коллег, так говорит о византийской литературе:
«Первое, что мы замечаем относительно этой литературы, — что она написана на мертвом языке и по этому признаку может быть сопоставлена с теми упражнениями в переводе на греческий и латынь, какими трудолюбиво занимались неисчислимые поколения наших школьников и студентов… Я хочу подчеркнуть то обстоятельство, что когда пишешь на мертвом языке о современных событиях, эффект дистанцирования возникает неминуемо. Я знаю это по собственному опыту, потому что мой учитель греческого иногда заставлял нас переводить передовицы из газеты «Скотсмен». Наш перевод, который должен был оказаться понятным для афинянина V в. до н. э., не только изобиловал вставками — «как можно было бы выразиться», «как это называют», — не только заменял специфически современные понятия и термины их ближайшими классическими эквивалентами, тем самым лишая их как раз их специфики, но в целом делался похож на один из тех этнографических экскурсов, какие встречаются у античных историков, словно бы мы описывали диковинные обычаи какого-нибудь чуждого и экзотического племени. Именно это можно видеть в высоколобой византийской литературе уже начиная с V и VI столетий»
[655].
Конечно, мы имеем дело скорее с эпиграммой в прозе, чем с научной характеристикой; несколько ядовитое остроумие оплачено односторонностью. Но какая-то сторона феномена византийской литературы здесь, что ни говори, схвачена, и византинист будет заниматься иллюзорным, фиктивным предметом, пока не увидит эту сторону достаточно отчетливо. Языковая ситуация литературы в Византии не была непреодолимым препятствием для ясности, отчетливости, резкой акцентировки смысла; но для того, чтобы все-таки преодолеть это препятствие, будучи автором «гуманистического», антикизирующего направления («высоколобым», по выражению С. Манго), надо было быть тем же Фотием или по меньшей мере Никифором Влеммидом, или (только в лучших, далеко не во всех произведениях) Михаилом Пселлом. «Идея» ясности — для византийской литературы редкое, драгоценное качество, скорее исключение, чем правило. Тем энергичнее требуют ясности теоретики, и прежде всего — Фотий. Он не был бы гермогени- анцем, если бы при всей своей любви к простоте не придавал большого значения эмфазе
[656]; но его идеал — эмфаза, соединенная с ясностью, равновесие того и другого
[657].
Труд Фотия — во многих отношениях непревзойденная вершина византийской литературной критики. Позднее мы не найдем ничего, что сравнилось бы с ним по толковости, конкретности, точности характеристик, по прямоте взгляда на предмет, оставляющей мало места околичностям и ничего не говорящим общим словам. По ходу дела и очень просто Фотий умеет выразить византийское отношение к литературе в целом, коснуться очень существенных проблем. Вот пример, выбранный почти наугад. Выше нам приходилось говорить о том, что тексты сакральные по содержанию и по внелитературной функции, но антикизирующие по форме и, главное, находившие себе место в античной классификации поэтических и риторико–прозаических жанровых форм, с византийской точки зрения подлежали критическому разбору наряду с мирскими, прежде всего античными, языческими памятниками. Это создавало для них ситуацию одновременной принадлежности к двум разнородным рядам. Притязающая на художественность, подчиненная законам аттикистского пуризма проповедь в своем качестве проповеди входит в богослужебный комплекс наравне, скажем, с гимнами Романа Сладкопевца, но в отличие от них может стать объектом такого же профессионального разбора, какому подвергались речи Ли- сия, Эсхина и Демосфена, Элия Аристида и Либания, а вот гимны Романа подвергнуться не могли. Едва ли это, так сказать, двойное гражданство культурного факта может быть выражено на чисто словесном уровне проще и точнее, чем у Фотия, когда к одним и тем же текстам знаменитого «отца церкви» Иоанна Златоуста прилагаются два термина — «проповеди» (όμιλίαι) и «речи» (λόγοι)
[658].
Предлагаем читателю без всяких пояснений еще пример того, как работает теоретико–литературная мысль Фотия, воспитанная на Гермо- гене, пользующаяся гермогеновской сеткой координат, но с похвальной ясностью выражающая запросы именно фотиевской эпохи.
Жизнеописание неоплатонического философа Исидора Александрийского, написанное учеником его Дамаскием, последним схолархом Академии, — памятник, менее всего нейтральный идеологически. Фотий вполне верно видит в нем документ антихристианской полемики «последних язычников».
«Мнения его о вещах божественных, — отмечает он, — до крайности нечестивы; ум его и его сочинение полны диковинных басен, достойных старушечьего легковерия; нередко у него можно видеть и нападки на святую нашу веру, правда, трусливые и выраженные с лукавою скрытностью»
[659]. Но это и на сей раз, как всегда, не умаляет интереса Фотия к чисто литературной стороне произведения Дамаския.
«Что до его слога, он в большинстве употребляемых им выражений не удаляется от ясности. Проявляются у него и другие идеи, определяющие выбор слов; это прежде всего идея суровости, сообщающая звукам — жесткость, а голосу — широту, и временами, хотя и редко, допускающая приближение к поэтической манере. И тропы входят в облик его речи, не принося с собою ни вычурности, чуждой музам (άμουσον ψυχρολογίαν), ни натужных оборотов, но по большей части способствуя изяществу и приятности. Будучи ясен почти во всех употребляемых им выражениях, он не сумел, однако, остаться таковым же в общем построении целого; композиция — не столько композиция, сколько одно оригинальничанье (καινοπρέπεια), и обильность, то и дело становясь докучной, затемняет ясное и разрушает то, что достигнуто работой над слогом. Поэтому сочинение, которое могло бы быть изящным, по причине вышеназванных пороков лишается той меры изящества, какой достигло бы, будь эти пороки исправлены. И обильность его не связана с силой мысли, очарования в ней тоже нет, как и живости; впрочем, он мог бы похвалиться этими свойствами, но лишь в самом общем и поверхностном виде, они не являют даже в зачатке ничего необходимого для пользы и для обстоятельств. Что до фигур речи, то если бы не помеха от многословного растягивания периодов, ни их пространность, ни отсутствие разнообразия не могли бы разрушить в них действие уравновешенного смешения качеств и чувств уместного. В его слове имеется напряженность и острота; однако это бывает ослаблено, не по причине смешения и слияния разных идей, что само по себе как раз отлично, но по причине насилия от опущения как раз тех речений, которые могли бы придать силу и весомость, и других составляющих (μέρων) той же энергии. Такое случается со многими, развившими у себя такую же своеобычность (ίδιοτροπιον); но не за что похвалить того, кто поднял на плечи ношу не по силам, но не сумел ее донести. Все вышесказанное относится к слогу и только к нему. А об авторе как биографе можно бы и еще сказать немало. Что ему за нужда в облике реки, притязающем на величавость? Ведь это же язык законодателя и повелителя! К чему такое напряжение, такое изобилие, столь непривычное построение? »
[660]Содержательные и формальные моменты оцениваемого текста отчетливо обособлены и рассматриваются каждый сам по себе. Ранневи- зантийский теолог и философ Максим Исповедник (ок. 580—662) был в глазах Фотия святым, «мужем божественным», одним из непререкаемых авторитетов церкви; однако уважение к нему нисколько не смягчило оценки его трудного, риторически не обработанного слога, и ему сильно достается от Фотия за недостаток все той же «идеи» ясности. «Что до его слога, он прилежит к непомерным периодам, любит перемену обычного порядка слов, увлекается обилием и не заботится о собственном значении каждого слова; потому сочинение его страдает неясностью и трудно для понимания. Применяя в построении и в паузах (αναπαύσεις) суровость и важность, он вовсе не старается произвести нечто приятное для слуха. Метафорическое употребление слов у него не имеет целью ни изящества, ни пленения нас как бы волшебством (γεγοητευμένον), но вводится совсем просто и без особой заботы»
[661]. Эта критика была бы мелочной, если бы в горизонт Фотия не входил вопрос о Максиме как мыслителе, о том действии — отнюдь не риторическом, — на которое рассчитано разбираемое сочинение и которое оно вызывает в том читателе, для которого предназначено. С одной стороны, и на уровне мысли ждут затруднения, аналогичные тем, которые встречались на уровне слога. «Утомить он может даже рьяных своих почитателей, — замечает Фотий о Максиме, — ибо предлагаемые им решения слишком далеки от буквального смысла толкуемого места, от истории, какой мы ее знаем, да и от самого исходного затруднения»
[662]. За темнотами стиля указываются темноты смысла, как это было в более резкой форме сделано для еретика Евномия. С другой стороны, на уровне мысли открывается подход, для которого все аномалии формы и содержания — скорее достоинство, чем недостаток. «Для ума, любящего восходить на вершины созерцания, не найти ничего более разнообразного, более продуманного»
[663]. Это едва ли не лучшее, что есть у Фотия — его способность по своему выбору то сосредоточиваться на риторической точке зрения, отвлекаясь от всего, что является для нее посторонним, то отходить от нее и смотреть на предмет с другой стороны, и притом делать то и другое совершенно сознательно, в каждом случае ясно отдавая себе отчет, Где он стоит сейчас.
У своих истоков античная риторика была до неразличимости близка к философии
[664]; позднее она разошлась с философией, но так, что отношения между ними оставались невыясненными, а их сферы — неразмежеванными. Платон бранил софистов, Аристотель — Исокра- та, а риторическая сторона не оставалась в долгу, но в то же время философы, как Аристотель и стоики, чувствовали себя призванными создавать в противоположность риторике риторов свою собственную, «настоящую» риторику, а риторы стремились снять содержание философии в собственном творчестве, приспособить это содержание к законам своего ремесла, своей «технэ», приручить его
[665]. У философии как будто было внутреннее задание — стать впридачу еще и риторикой, у риторики — стать впридачу еще и философией.
В Византии положение стало еще менее ясным. Оно осложнилось, между прочим, и в силу того, что рядом с философией, получившей богословское направление уже в руках языческих неоплатоников, встала христианская догматика, христианская доктрина. Византийцы отказались, в отличие от схоластов зрелого западного средневековья, от рационалистического, как бы юридического урегулирования отношений между этой доктриной и философией
[666]; философия у них — не столько «служанка теологии», имеющая фиксированные обязанности и фиксированные права в отношениях со своей госпожой, сколько двойник теологии — в одних ситуациях ее alter ego, в других ситуациях ее соперница и противница. Что касается риторики, она перед лицом христианской доктрины попадала за одни скобки с философией, возвращалась к первоначальному единству с ней и разделяла выносимый ей приговор. Когда новозаветный автор говорил, что призван возвещать свою веру «не в мудрости слова» (ούκ έν σοφία λογον)
[667], он в четырех словах отказывался сразу и от философии, и от риторики, как от единой системы «витийства». В ранневизантийском гимне VI или VII в. подряд «любомудры», т. е. философы, названы «немудрыми», а «краснословы», т. е. риторы — «бессловесными» перед лицом христианской тайны
[668].
С другой стороны, свою положительную оценку и свой статус в качестве необходимого инструмента церковной проповеди философия и риторика тоже получали вместе, в единстве. И если мы только что назвали философию в комплексе византийской культуры двойником теологии, то риторика оказывалась другим ее двойником. Риторы Иоанн Сикели от (X-XI вв.) и Иоанн Доксапатр (XI в.) прилагают к риторике слово «таинство» (μυστηριον), очень весомо звучавшее для византийского уха; искусство красноречия попадало, таким образом, в соседство церковных «таинств» и «тайн веры»
[669]. Фотий очень верно отмечает, что в знаменитых ранневизантийских сочинениях, известных под именем Дионисия Ареопагита, сама мысль автора неразрывно связана с риторством, со словесной игрой — настолько неразрывно, что если его бого- словствование и философствование есть дар небес и явление горней премудрости, таким же даром свыше и таким же раскрытием премудрости приходится признать и его риторство
[670].
Все это ставит исследователя византийской риторики в довольно сложное положение. С одной стороны, мы обязаны учитывать, а для этого попросту видеть и понимать связь риторики со всем комплексом византийского мировоззрения, прежде всего — с философией и теологией. С другой стороны, сами византийцы не потрудились эксплицировать для нас свои представления об этой связи; они, как правило, недостаточно отделяли сферу риторики от философско–теологической сферы, чтобы их сознательно сопрягать. Фотий, который сам был перворазрядным теологом и большим философом, — блистательное исключение из общего правила. Поэтому для историка византийской литературной теории так драгоценно не столь уж, казалось бы, сложное рассуждение Фотия о Максиме Исповеднике. Вот где уровни четко разделены, разведены, размежеваны, — но и соотнесены в реальном жизненном единстве, и притом совсем просто и непринужденно. Весь авторитет святости и глубокомыслия Максима не служит помехой для довольно низкой оценки стиля Максима по риторическим критериям, потому что ни святость, ни глубокомыслие не имеют к сфере действия этих критериев никакого касательства. Но зато и весь авторитет риторических критериев не мешает признать, что для читателя, находящегося в подлинном духовном контакте со смыслом сочинений Максима, их затрудненный, шероховатый, риторически некорректный стиль может оказаться не препятствием, а скорее побуждением к особо напряженной работе ума и сердца. Объективная диалектика уровней византийской культуры, их автономии в принципе и взаимоперехода в жизни, с редкой адекватностью отражена в субъективном восприятии современника самой этой культуры.
«Темные века» — хотя, как было сказано выше, не перерыв, но все же затишье в истории византийской гермогеновской традиции. Краткая пора Фотия и Арефы, положившая новое начало, определившая направление дальнейшего пути, — интересная, богатая содержанием интерлюдия. Затем все возвращается на круги своя, и начиная с X в. нормальной формой теоретико–литературного мышления в Византии опять становится комментирование пяти частей того самого гермоге- новского корпуса, структуру которого нам уже приходилось описывать.
По цитатам у позднейших комментаторов видно, что в этой преемственной работе поколений принимал участие видный поэт X в. Иоанн Геометр, он же Кириот, комментарий которого утрачен. Затем комментаторскую деятельность продолжали на рубеже X и XI вв. Нил, основатель греко–итальянского монастыря в Гроттаферате, и уже упоминавшийся Иоанн Сикелиот; в XI в. — также упоминавшийся Иоанн До- ксапатр; в XII в. — Григорий Коринфский, Иоанн Логофет и некто Христофор; в XIII-XIV вв. — знаменитый ученый палеологовской эпохи Максим Плануд
[671]. Эти авторы варьируют один и тот же тип комментария, немало заимствуют из сложившегося фонда дословно или почти дословно, но и обогащают этот фонд. К комментариям примыкают систематические сочинения по риторике, которые обильно и без указаний на источник — как сказали бы мы нынче, «без кавычек» — эксцерпи- руют Гермогена, попросту списывают у него. Такого рода труды продолжают возникать до самого падения Византии и даже позднее
[672]. Казалось бы, зависимость, несамостоятельность доведена в них до самой крайней степени — до плагиата. Однако дело обстоит несколько сложнее. Приемы и формулы анализа они переносят на иной материал. Исподволь, постепенно формируется новый канон непогрешимых образцов в каждом жанре, где древних авторитетов все больше теснят позднеантичные и чисто византийские прозаики и отчасти поэты. Уже так называемая Rhetorica Marciana, анонимное сочинение, относящееся к XII или XIII вв.
[673], заменяет фигурировавшие у Гермогена цитаты из Демосфена такими же нормативистскими по замыслу иллюстрациями, почерпнутыми у Григория Назианзина. Что это — следствие давления церкви, наивная попытка придать ремеслу ритора набожный облик? Нет, по–видимому, потребность обновить образцы, взять их из более близкой хронологически и духовно эпохи, шла изнутри эстетического восприятия искусства слова.
В самом деле, обратимся к «Риторике» Иосифа Ракендита (1280 — ок. 1330), ученого–энциклопедиста палеологовской поры. Роль образцовых авторов у него играют Иосиф Флавий и Филострат, Синесий, Либаний и Фемистий, сочинители позднеантичных любовных романов, а не только «отцы церкви», как Григорий Назианзин, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст; из собственно византийцев наряду с агио- графом Симеоном Метафрастом в пример приведены не только Пселл, но и так называемый Птохо–Продром (Нище–Продром) имя, под которым имел хождение целый ряд потешных стихотворений. Мы видим, что ничего особенно благочестивого в этом списке нет. Он лишний раз подтверждает положение, высказанное нами выше: для византийской риторической теории существенно было отнюдь не различие между религиозной и мирской, «сакрально» и «профанной» литературой — в расчет принимались иные критерии. Читая Ракендита, мы видим, насколько ясно было Византии, что она имеет свою собственную, византийскую классику — вот проза Пселла, вот мастерские ямбы Птохо- Продрома. Но и здесь в полной мере выявляются внутренние границы теоретико–литературной мысли в Византии, о которых шла речь в самом начале, — классичность этой классики оценивается точно в меру возможности механически перенести на нее готовые понятия, разработанные Гермогеном больше тысячи лет тому назад. Перенести — еще не то слово; творения византийской прозы и поэзии должны войти в те ниши, которые были когда-то устроены для античных образцов. Все, что в них не входит, как бы оно ни было велико, не станет для ритора- теоретика достойным упоминания.
3
А теперь посмотрим, как византийская риторическая теория работала, на что она ориентировала литературную практику. Благодарный материал для этого — так называемые прогимнасмы, т. е. примерные образцы разработки простейших форм.
Среди простейшего выберем наипростейшее, элементарное, исходное. Всякий прогимнасматический сборник, и античный и византийский, всегда начинался с образчиков жанра басни, т. е. с развертывания сюжетов Эзопова сборника в риторической прозе и по всем правилам последней; это демонстрация обязательной для ритора установки на претворение «необработанного» текста в «обработанный» на простейшем материале. Такая демонстрация дает, пожалуй, более ясное понятие о существе византийской риторической нормы, чем любой теоретический трактат, прежде всего потому, что последний умалчивает о моментах, которые молчаливо подразумевались сами собой для каждого византийца — и κέικ раз поэтому особенно трудно уловимы для человека иной культуры.
В начале сборника прогимнасм Никифора Хрисоверга (ум. после 1203 г.)
[674] стоит переработка эзоповской басни LX/XC. Сюжет этот не раз использовался в европейской басенной традиции вплоть до Лафон- тена и Крылова, так что мы получаем заманчивую возможность рассматривать подход к теме византийского ритора на оттеняющем фоне текстов, более близких нам по времени и привычных с детства, но притом — это относится прежде всего к Лафонтену — не настолько далеко отошедших от античных риторических норм, чтобы сопоставление стало вовсе уж беспредметным.
Любопытные вещи начинаются уже с заглавия. У Эзопа басня называется «Старик и Смерть», и оба баснописца Нового времени сохраняют ту же структуру заглавия: у Лафонтена — «Смерть и Дровосек», у Крылова — «Крестьянин и Смерть». Никифор Хрисоверг дает заглавие совершенно иного типа: «О том, сколь властительно жизнелюбие» (cm άναγκαστικόν τό φιλόζωον). Так — не очень по–басенному, но зато очень по–риторически — озаглавлены все пять басен в сборнике Хрисоверга: «О том, что не должно бороться против силы судеб»; «О том, что ничего доброго Хула не оставит без порицания»; «О том, что опасное дело зависть»; «О том, что нет пользы сребролюбцам в стяжании, когда не имеют они оному употребления».
Подобные заглавия имеют очень простой и конкретный практический смысл: они превращают басенный материал в заготовки примеров для речей и проповедей, указывая наперед контекст, в который басне предстоит войти. Служебная роль басни как примера подразумевается в любом прогимназматическом сборнике, будь то античном, будь то византийском; но заголовки Хрисоверга обнажают эту роль до конца. Никифор не побоялся даже нарушить исповедуемый античной риторикой и хотя бы на словах признаваемый риторикой византийской принцип «уместности» (τό πρέπον), в силу которого для басни приличны «простота», «ясность» и «приятность» слога; ибо, конечно, тяжеловесные, изысканные, сугубо «умственные» слова άναγκαστικόν и τό φιλόξωον — менее всего образец басенного слога! Но зато с самого начала заявлен примат общего — над частным, абстрактного — над конкретным, тезиса — над повествованием. В нормальной, не прошедшей через руки византийского ритора басне мораль, как известно, выводится из рассказа: познание идет путем житейской, бытовой «индукции». В обработанной басне у Хрисоверга, напротив, рассказ выводится, дедуцируется из общих тезисов, и недаром ему предпослан опять-таки общий тезис, которому, казалось бы, полагается служить замыкающей моралью.
Вот текст басни:
«Человек некий имел бедность сопутницею жизни своей и с нею состарился. Однако для него помощью, для бедности же его противовесом служило ремесло; и было то ремесло дровосека. Ведь умеют мужи, бедностию теснимые, простирать руки свои на ремесло и призывать на подмогу себе труд. Итак, всю жизнь свою рубил он дрова, срубленное же на всякую нужду себе употреблял. Из сего проистекали для него как всякие прочие тяготы, так и нижеследующие; ибо не односоставна была маята его, и не единообразна мука. Досаждал ему и топор, часто по древу ударявший, ладони ему натиравший, жил его состав утомлявший; досаждал груз дерев срубленных, на плечи его возлагавшийся и угнетавший их немилосердно. Ибо даже и скота подъяремного не дала старцу бедность, но преклонила под ярем его же выю. И вот однажды, пресытясь тяготами, зараз и обремененный, и в конец истощенный, зовет он Смерть. И немедля Смерть к нему приступает, и о причине, коей ради призвал он ее, вопрошает. Но тотчас является на свет жизнелюбие, от начала в засаде таившееся, и, переменив образ мыслей старца, подучает его перетолковать причину. «Не для того зову я тебя, — говорит он, — чтобы ты меня забрала, но дабы в трудах моих мне подсобила и, хоть немного бремя мое поднеся, вздохнуть мне позволила.
Так-то готовы мы труды все и скорби принять на себя по причине врожденного нашего жизнелюбия».
Первое, что обращает на себя внимание, — это способ, которым обозначен герой басни: «человек некий» (άνθρωπος τις). В Эзоповом сборнике он называется «старик», у Лафонтена — «бедный дровосек» (un pauvre bClcheron), у Крылова — тоже «старик» (и тут же у обоих — наглядный образ: у Лафонтена — «весь заваленный ветками», у Крылова — «иссохший весь от нужды и трудов»). У Хрисоверга он еще будет ниже именоваться γέρων, «старец», но изначально он представлен читателю предельно абстрактно — человек вообще. С вершины абстракции начинается иерархический спуск по ступеням конкретизации, вокруг субстанции («человек») выстраиваются акциденции («бедность», «старость»). При этом мы не должны забывать самой простой и прозаической, для нас — но не для византийца! — несколько даже забавной стороны дела: разъять «старика» на «человека», который, между прочим, «состарился», весьма способствует многословию (в терминах Гермогена — «полноте и обилию»), т. е. выполнению задачи растянуть (έκτείνειν) басенный рассказ. Как раз по отношению к басне византийская риторика особенно щеголяла умением произвольно увеличивать и уменьшать объем повествования: пересказы басен в прогимназматичес- ких сборниках — примеры первого, резюме басенных сюжетов в ямбических четверостишиях, столь характерные для византийского версификаторства, — примеры второго. И все-таки мы увидим, что дело не только в этом. Вышеназванное разъятие, расчленение цельного житейского понятия «старик», создание зазора между субстанцией и акциденцией, между субъектом и предикатом, задает логическую структуру, необходимую для дальнейшего движения мысли ритора; и еще важнее для него абстракция, предельная отвлеченность как исходная точка пути, идущего от более общего к более частному.
Отделенные от субъекта предикаты дают предпосылки для логического (или псевдологического) выведения дальнейших предикатов. «Человек вообще», оказываясь беден, в качестве следствия из этого оказывается еще и трудолюбив. Это обусловлено генерализирующим утверждением: «умеют мужи, бедностью теснимые, простирать руки свои на ремесло». Перед нами не что иное, как схема силлогизма: большая посылка — «умеют мужи» и прочая; меньшая посылка — «муж», о котором идет речь, беден: вывод — следовательно, он тоже «умеет простирать руки свои на ремесло», и притом вовсе не как индивид, а как член логического класса. Мы могли бы возразить Хрисовергу, что уж ему-то в его Константинополе, несомненно, не один раз доводилось видеть людей, теснимых бедностью, однако «простирающих руки» не на ремесло, а на воровство или за подаянием. Это была бы с нашей стороны бестактность, нарушение правил игры, задаваемых тем «пробабилизмом», который лежит в основе особой риторической гносеологии. Хрисоверг мог бы напомнить нам о различии между силлогизмом принудительным и силлогизмом вероятностным, т. е. тем, что Аристотель называл энтимемой
[675]. Филострат, как известно, усматривал именно в оракульской авторитетности, даже авторитарности риторики доказательство ее внутреннего аристократизма сравнительно с философским сомнением и философским аргументированием
[676]; несколько заостряя констатацию, можно было бы сказать, что для ритора, в противность Тютчеву, «мысль изреченная», как раз потому, что она «изречена», и притом по всем правилам «изрекания», принципиально не может быть ложью. Но правила эти абсолютно непохожи на то, что мы назвали бы «условиями правды искусства» или как-нибудь еще в этом роде; они всегда находятся в очень тесном отношении с законами логики
[677], хотя мы, конечно, вольны находить отношение это ложным или превратным…
И здесь стоит представить себе еще одно возражение, которое сделал бы нам Хрисоверг. Он ведь не сказал: «умеют люди», άνθρωποι, — он сказал: «умеют мужи», άνδρες. Смысловой оттенок, различающий эти существительные, весьма внятен для греческого уха. Воришки и попрошайки — не «мужи», а всего лишь «люди»; для обедневших мужей честный труд и впрямь остается единственной логической возможностью. Так что же происходит на наших глазах? Сначала Хрисоверг в имплицитной форме возвел своего «человека некоего», человека вообще, в почетный ранг «мужа», а после этого выстроил новое умозаключение, применительно к «мужу» вполне безупречное. Незаметно введена еще одна акциденция — свойство быть «мужем» — и она участвует в дедуцировании необходимости для героя практиковать ремесло.
Когда слово «ремесло» вводится в первый раз, это абстрактное ремесло; лишь при повторении этого слова ремесло получает уточняющую квалификацию — это ремесло дровосека. Даже в такой мелочи пунктиром дан путь от общего к частному.
Занимаясь своим ремеслом, старик мучился. Хрисоверга нимало не интересуют эмоциональные возможности этой темы, так привлекавшие обоих баснописцев Нового времени: у Лафонтена — «охающий и согбенный, продвигающийся вперед неуверенными шагами»; у Крылова — «тащился медленно к своей лачужке дымной, кряхтя и охая». Византийский ритор дает тему усталости старика не через наше впечатление от его охания и кряхтения, согбенности и старческой походки, но как сугубо объективный перечень, каталог, классификацию его многообразных тягот, могущих быть по одной дедуцированными из заданного условия — его ремесла. Классификация эта идет по двум этапам.
На первом этапе производится дихотомия: 1) тяготы самой рубки дров; 2) тяготы переноса дров. Эту дихотомию Хрисоверг цепко держит в уме и отнюдь не упускает из виду в далыпейшем: через некоторое время оказывается, что старик при переносе дров страдает и потому, что он «обременен» (переносимыми дровами), и потому, что он «истощен» (предшествовавшей рубкой).
Первая группа тягот расчленяется на три пункта: 1) непрерывный стук топора; 2) натертые ладони; 3) утомление в «жилах» всего тела. Вторая группа расчленяется надвое: 1) усилие взваливания дров на плечи; 2) ощущаемый плечами груз. Отсутствие у бедняка осла (для русских условий в крыловской басне — лошади) у Эзопа, Лафонтена и Крылова молчаливо подразумевается; у Хрисоверга оно специально эксплицируется как еще одно логическое умозаключение от факта бедности, причем конкретный «осел» совершенно последовательно заменен абстракцией «скота подъяремного». «Старик» или «дровосек» может иметь или не иметь осла, но «человек некий» — только «скота подъяремного».
Процедура ясна: ходячие и «естественные», но именно поэтому логически сложные понятия разговорного языка весьма «искусственно» разлагаются на свои компоненты. Действительность разложена на свои составные части и заново собрана из них. С этим связан и эффект абстрагирования, достигаемый тем, что все конкретные данные — имена исторических лиц, место и время и прочая — избегаются в декламациях того же Хрисоверга на исторические темы, как это делалось и при обработке агиографического материала в «высокой» византийской литературе. Например, когда Никифор излагает эпизод античного прошлого, из императора Марка Аврелия закономерно получается безликое множественное число — «императоры»
[678]; это параллель все тому же «человеку некоему».
ХРИСТИАНСКИЙ АРИСТОТЕЛИЗМ КАК ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ЗАПАДНОЙ ТРАДИЦИИ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
<…> Отправной точкой для моцх размышлений по необходимости служит современная духовная ситуация моей Родины, России. Наконец освобожденная, благодарение Богу, от идеологического рабства вчерашнего дня, Россия ищет путей к своему, часто идеализируемому, прошлому, забывая, что в одну реку, по мудрому слову Гераклита, нельзя войти дважды. Одновременно она пытается усвоить опыт Запада, недостаточно отдавая себе отчет в наличии у этого опыта исторического измерения. В России сегодня слишком много хвалят Запад, или, реже, бранят его, слишком мало пытаются понять его как сложный баланс сил, возникших достаточно давно. И неославянофил, и поклонник Запада имеют в виду исключительно Запад современный, технический, рационалистический; но ведь и этот Запад, именно он, есть феномен сугубо исторический.
Когда же мы обращаемся к общим истокам Запада и России, в числе другого мы видим перед собой панораму греческой философии. В самом центре этой панорамы, как в самом центре «Афинской школы» Рафаэля, возвышаются две фигуры: Платон и Аристотель, Учитель и его критичнейший Ученик, продолживший и одновременно оспоривший его. Оба они очень много сделали для формализации мысли, подготавливая этим западный рационализм, а косвенно — западный техницизм: Платон — своей работой над уточнением понятий, И особенно Аристотель — созданием логики как «органона» мысли, то есть, по буквальному смыслу слова, ее технического инструментария. Оба они были религиозными мыслителями первого ранга, мимо которых никак не могла пройти мысль Отцов и Учителей Христианской Церкви; Платон является едва ли не самым мистически одаренным среди всех протагонистов универсальной истории философии, между тем как Аристотель не только создал концепт Неподвижного Перводвигателя, приводящего все в движение силой любви, тот концепт, о котором говорит последний стих «Божественной Комедии»:
L'amor che move il sole e l'altre stelle
[679], —
но и разработал систему доводов, без которой догматические контроверзы патриотической эпохи невозможно представить. И, наконец, оба они в своей ментальности были истинными эллинами, для которых человек немыслим вне Государства. У обоих политические проблемы занимают исключительно важное место. Но подходили они к этим проблемам по–разному.
Как известно, Платон — первый по времени и едва ли не самый важный по рангу в ряду утопических мыслителей Европы. Современный мир, и уж во всяком случае современная Россия, имеют причины относиться к духу утопии резко враждебно. Однако справедливость повелевает признать, что искушение утопизма есть необходимая, неизбежная стадия на пути мысли, как только мысль обретает достаточную независимость по отношению к жизни, чтобы поставить последнюю под вопрос. Предпосылки утопизма Платона лежат очень глубоко: на онтологическом уровне — в его концепте «истинно сущего», на аксиологическом уровне — в максималистском, аскетически окрашенном противопоставлении нравственных понятий текучей эмпирии, на гносеологическом уровне — в очень высокой оценке геометрии как образца всякого знания. Во всем этом заложено известное презрение к данностям опыта. Об основных компонентах человеческой социальной и культурной жизни Платон ощущает себя вправе ставить вопрос: имеют ли они право на существование? Вердикты выносятся и самостоятельной риторике, и автономной поэзии, и автономной семье.
Если Платон — первый утопист, Аристотель — первый мыслитель, который посмотрел в глаза духу утопии и преодолел его. На уровне онтологическом он отверг то, что понимал как разделение между миром идей и миром вещей (мы не касаемся сейчас сложнейших вопросов адекватности его критики, нам важна ее тенденция). На уровне аксиологическом он отказался от противопоставления нравственных ценностей внеморальным благам жизни, рассматривая те и другие как необходимые компоненты Счастья и тщательно держась середины между гедонизмом и аскетизмом. На уровне гносеологическом он восстановил права опыта и конкретного наблюдения и обратил мысль от исключительного занятия геометрическими истинами, например, к биологическим феноменам. Занимаясь проблемой Государства, он подвергает дескриптивно–аналитической обработке собранный с помощью учеников огромный эмпирический материал, касающийся истории конституций ста пятидесяти восьми городов–государств эллинской ойкумены (сохранился, как известно, лишь очерк истории конституции Афин). Затем он предлагает классификацию типов государственного строя (монархия, аристократия, полития) с параллельной классификацией негативных двойников этих типов (тирания, олигархия, демократия), рассматривая, какие факторы стимулируют в каждом из этих типов его благие и злые возможности, а также тенденции к сохранению или к распаду. Речь идет не об абсолютном благе, не об элиминировании зла, но о выборе наидостовернейшего блага и наименьшего зла. И так во всем. Аристотель не ставит вопроса, оправдывает ли наша абстрактная мысль риторику; он пишет «Риторику» в трех книгах, рассматривая внутреннюю логику самого феномена. Он не обсуждает, не изгнать ли поэтов из идеального государства; он пишет «Поэтику». Вопрос не в том, быть или не быть феномену, а в том, каковы объективные законы этого феномена, и как, ориентируясь по этим законам, извлечь максимум блага и минимум зла.
На фреске Рафаэля, как все мы помним, рука Платона указывает на небеса, между тем как жест Аристотеля чертит в ответ горизонталь. Вертикаль и горизонталь, пересекаясь, образуют крест — символ христианства. Христианство также указывает на небеса, но его небеса другие, чем небеса Платона; и оно молится о воле Божией на земле, как на небе. Его отношения с обоими языческими наставниками не могли не стать сложными.
У Апологетов и Отцов Церкви работа по переводу содержания своей веры с языка Библии на язык философии поначалу устремляется в русло платонизма. Заметим, что то же самое произошло при решении аналогичной задачи с Филоном Иудеем. У Платона, именно у Платона можно было найти готовые доводы в пользу спиритуализма, аскетизма, «презрения к миру», надолго вошедшие в сокровищницу христианской культуры. С другой стороны, однако, после Плотина платонизм все больше усваивается в форме неоплатонического синтеза, включившего в себя аристотелевскую компоненту. Недаром термины великих контроверз патристической эпохи берутся из арсенала Аристотеля: «усия», «ипостась» и многие другие. Пусть ортодоксальные оппоненты еретика IV века Евномия усматривали у последнего аристотелевскую технологию, подменившую собой теологию; не только еретикам, но и ортодоксальному христианству Аристотель был нужен как учитель техники мышления. Ситуация контроверзы заставляет спорить, а спорить нельзя без техники, то есть без логики.
После патристической эпохи пути западного и восточного христианства постепенно расходятся. Формируется дуализм католической и православной культур. Когда мы подходим к этому дуализму, своевременно поставить вопрос: верно ли то, что утверждал Иван Киреевский в прошлом столетии и Алексей Лосев в этом столетии, а именно, что аристотелианским может быть только католицизм, но никак не православие?
Едва ли можно полностью согласиться с утверждением этих авторитетных мыслителей. Исторический опыт Византии показывает, что в принципе едва ли существует какая-то несовместимость между православием и наследием Аристотеля. Скорее сложности были с Платоном, поскольку Платон вместе с философией как таковой предлагал свою мистику, отличную от христианской, свои символы, свою мифологию. Аристотелевская техника мысли более нейтральна по отношению к религии, чем платоновский экстаз. Такой кодификатор православной нормы в богословии, как Иоанн Дамаскин (VII-VIII вв.), предпослал своему главному теологическому труду «Источник знания» логико–философское введение, основанное на Аристотеле и его неоплатонических и христианских интерпретаторах. Не раз возникала ситуация, когда защитник православия выступал как аристотелик против еретического платоника: например, Николай Мефонский в середине XII века призывал себе на помощь аристотелевскую критику теории идей против гетеродоксального учения Сотириха Пантевгена; на самом исходе исторического бытия Византии, уже в XV веке, последний враг византийского православия, загадочный неопаганист Георгий Гемист Плифон, был ярым платоником, а его оппонент, первый патриарх Константинополя после пленения последнего турками, по имени Геннадий
Схолярий — убежденным аристотеликом. Что до виднейшего православного мистика XIV века Григория Паламы, то он, вообще говоря, выступал против допущения какой бы то ни было языческой философии в зону теологической работы; и все же недаром он выступал почти подростком при дворе с рефератом по аристотелевской логике, — та пара терминов «усия» и «энергейя», при посредстве которых он решает проблему соотношения между трансцендентностью и имманентностью Божества и обосновывает столь характерную для православия доктрину исихазма, заимствована у Аристотеля.
Имея в виду хотя бы эти важнейшие факты, трудно утверждать, что все православное должно быть непременно враждебно Аристотелю, а все аристотелевское — враждебно православию. Постановления V Вселенского собора и Константинопольского собора 1076 года строго осуждают эллинские учения о предсуществовании и переселении душ и об идеях — доктрины Платона, не Аристотеля.
Но, конечно, христианская переработка Аристотеля на Западе оказалась несравнимо шире и глубже, чем в Византии. И это несмотря на языковые препятствия, которые отделяли латиноязычного западного читателя от подлинных текстов Аристотеля и которых не существовало для византийца. Аристотель на Западе был настолько необходим, что он не мог не стать предметом грандиозной переводческой работы.
Эта переводческая работа началась уже на рубеже античности и средневековья, когда потомки римлян начали терять знание греческого языка. «Последний римлянин» Боэций, автор популярнейшей на протяжении всего средневековья трагической диатрибы «Утешение философии», человек, больше кого бы то ни было, исключая разве что Августина, заслуживший имя Отца Западной цивилизации, был остро заинтересован в наследии Аристотеля. С какой эмфазой персонифицированная Философия цитирует у него «моего Аристотеля»! У Боэция были самые грандиозные планы относительно полного перевода и комментирования всего корпуса сочинений Аристотеля; он успел перевести самое необходимое, самое важное для Запада — логические сочинения (вместе с «Введением» Порфирия к «Категориям»), и снабдить их комментариями. Эти переводы и комментарии вместе с оригинальными трактатами Боэция по логике были задолго до первых шагов Схоластики заложены в ее основания. Как известно, к Порфирию в переработке Боэция восходит постановка знаменитого вопроса об универсалиях, разделившего «реалистов» и «номиналистов». Да ведь и тезис Аристотеля о любви к Первому Двигателю как источнике космического движения, звучащий в приведенной выше заключительной строке поэмы Данте, был известен достославному Поэту и его ученым современникам в формулировке, отчеканенной Боэцием.
Для Схоластики заново открытый ею Аристотель становится просто Философом, Философом par excellence и с большой буквы. Его называли еще более неожиданно: «praecursor Christi in naturalibus», «Предтеча Христов в том, что касается вещей естественных». Это поразительное выражение очень интересно. Христос явился, как Учитель Откровения, Благодати, то есть Сверхъестественного. Но до него некто достиг совершенства как учитель Естественного. А что такое Естественное?
Чисто мистический взгляд на вещи склонен делить бытие надвое. Это не обязательно связано с так называемым дуализмом в узком смысле слова, какой можно видеть, например, у манихеев. Христианство не является в этом смысле дуализмом; но в Иоанновом корпусе мы находим беспрестанные дихотомии — свет и тьма, жизнь и смерть, Дух Божий и дух антихриста и т. п. В определенной мере это деление бытия надвое неизбежно для всякого аутентичного христианства, поскольку христианство учит, что любой человеческий путь в конце концов непременно приводит либо к Раю, либо к Аду, и третьего не дано. С другой стороны, однако, различный философский климат может либо акцентировать и заострять, либо, напротив, осложнять и опосредовать эту дихотомичность. Первое делает платонизм, ориентированный на абсолютные принципы; второго не может не делать аристотелизм.
Западное христианство восприняло традицию Платона прежде всего через Августина. В его Soliloquia есть следующий диалог между самим Августином и его разумом: «Что ты желаешь знать? — Бога и душу. — И более ничего? — Совершенно ничего». Если все существенное для мысли разыгрывается между Богом и душой, дихотомичность неизбежна, поскольку для души существуют лишь два пути — ведущий к Богу и ведущий от Бога.
Поднимающийся к XIII веку христианский аристотелизм западной схоластики застает предшествовавшее ему нераздельное господство августинизма. Оспаривая это господство, он вносит ни с чем не сравнимый вклад в становление специфики Запада. Сугубый интерес к технике силлогизма, стимулируемый аристотелизмом, далеко не случайно совпал по времени с энергичным возрождением римского права. Логическая корректность, как и юридическая корректность, в этом мире необходимы. Но в дихотомическую схему эти ценности цивилизации не влезают, поскольку они — естественные. Расставшись с чистым ав- густинизмом во времена Аквината, католическое мировоззрение в его господствующей форме делит бытие не надвое — «свет» и «тьма», — а натрое: между небесной областью сверхъестественного и инфернальной областью противоестественного до конца этого эона живет по своим законам, хотя и под властью Бога, область естественного. До конца времен земля — еще не Рай и еще не Ад. Именно области естественного принадлежит, в частности, государственная власть; только еретик может видеть в ней устроение диавола, но попытки неумеренно сакрали- зовать ее, предпринимавшиеся идеологами чистого абсолютизма, тоже неуклонно пресекались католической теологией. В области естественного господствует сформулированный Аристотелем закон правильной меры, в соответствии с которым добродетель есть средний путь между двумя порочными крайностями. До тех пор, пока христианская этика не хочет, по слову Августина, знать ничего, кроме Бога и души, единственная правильная мера для отношения души к Богу, для любви души к Богу — это безмерность, как отмечал еще святой Бернард.
Чтобы быть справедливым к Аристотелю, отметим, что и для него добродетель является «серединой» лишь в определенном измерении, а именно, онтологическом; в аксиологическом измерении добродетель есть «крайность». И все же характеристика добродетели как правильной меры очень важна для построения социальной этики. В этом пункте аристотелизм сотрудничал с римским правом, и совокупное действие этих факторов создавало первостепенное достижение Запада: построение отмеренной дистанции между индивидами в пространстве внелич- ного закона. То есть, разумеется, для христианина источник закона есть личный Бог, но сам по себе закон внеличен, нейтрален по отношению к индивидам, которых он объемлет, как нейтрально по отношению к телам пространство Ньютона. Индивиды — падшие, грешные, и потому их необходимо защитить друг от друга; вокруг каждого должна быть зона дистанции, создаваемая социальной конвенцией, а их отношения регулируются договором.
Когда русский читает старые католические книги по моральной теологии, «го поражает, как подробно там оговариваются границы права ближнего на свои личные секреты, не подлежащие разглашению под страхом греха, и тому подобные загородки вокруг территории индивидуального существования, и насколько часто там употребляется одно важнейшее, привычное для нас отнюдь не в сакральных контекстах слово: «договор». Ведь даже идея Общественного Договора как источника полномочий власти, сыгравшая памятную всем роль у Руссо и в идеологии французской революции 1789 года, восходит к трактатам иезуитов XVI-XVII веков, споривших с учением о божественном праве королей, и далее, к христианскому аристотелизму Схоластики. Далеко не случайно Достоевский, яростный обличитель Запада, ненавидел самый дух морали контракта, в котором угадывал суть западной мен- тальности, считал его безнадежно несовместимым с христианской братской любовью и даже поминал в связи с ним весы в руке Третьего Всадника Апокалипсиса — образ скупой меры, отмеривающей ровно столько и не больше. Пожалуй, святой Бернард, оспаривавший первые шаги Схоластики, его бы понял. Но со времен схоластов зрелого средневековья Католическая Церковь неуклонно учила, что «закон справедливости», иначе «естественный закон», кодифицированный Аристотелем, — это необходимый по условиям грешного мира нижний этаж, на котором стоит верхний этаж «закона любви»: как без контракта, имеющего санкцию в Боге как гаранте справедливости, защитить падшего человека от чужой и собственной греховности? Этот принцип католической традиции требует, чтобы ради ограждения одного личного существования от другого субъекты воли были, подобно физическим телам, разведены в «ньютоновском» моральном пространстве, где их отношения регулируются двуединой нормой учтивости и контракта, не допускающей, вполне по Аристотелю, ни эксцессов суровости, ни эксцессов ласковости.
Разумеется, это лишь один уровень, уровень поверхности. И у западной духовности всегда был другой уровень, более глубокий и более существенный: тот уровень, на котором субъект воли отрекается от своей воли, на котором держатель прав добровольно жертвует ими. Если брать этот уровень, без которого христианство перестает быть христианством, изолированно, западная и восточная духовность представляют больше всего черт сходства. Но на Западе глубинный уровень выступает со времен Фомы Аквината и тем более со времен Франциска Сальского в систематически проводимом и теоретически легитимируемом опосредовании поверхностным уровнем учтивости и договора.
В России все было по–другому. История русской культуры сложилась так, что от Крещения Руси до наших дней христианская рецепция Аристотеля даже в византийских масштабах так и не произошла. В самый ранний период ей помешало отсутствие теологических контроверз и диспутов, столь мощно стимулировавших в Византии и тем более на Западе использование аристотелевской логической техники. Имевшие хождение на Руси переводы Иоанна Дамаскина и других носителей традиции Стагирита не пробуждали достаточно утилитарного интереса, оставаясь простым реквизитом учености. А с XV века «аристотелевы силлогизмы» становятся особенно однозначными в ходе конфронтации с католической Схоластикой. Это вполне ощутимо уже у Максима Грека, который сетует на западных теологов: «Увидишь, что никакой догмат не считается у них за догмат, если не будет подтвержден аристотелевыми силлогизмами»
[680]. Краткая интерлюдия украинско- русской провинциальной и запоздалой схоластики XVII века не могла изменить общей картины. Традиционная позиция русского Православия была обновлена в XIX веке славянофилами, прибегавшими к языку немецкого идеализма. По словам Ивана Киреевского, «система Аристотеля разорвала цельность умственного самосознания и перенесла корень внутренних убеждений человека, в нравственном и эстетическом смысле, в отвлеченное сознание рассуждающего разума»
[681]. Он же утверждал, что философия Аристотеля, «подкопав все убеждения, лежащие выше рассудочной логики, уничтожила и все побуждения, могущие поднять человека выше его личных интересов»
[682]. Достоевского мы уже упоминали выше. Он не называет имени Аристотеля, но его протест против этики контракта лежит на той же линии.
В Древней Руси сочинения Платона и Аристотеля были равно недоступны иначе, как в извлечениях, цитатах, то аутентичных, то апокрифических, и в пересказах. В России XIX-XX столетий были, разумеется, специалисты по философии Аристотеля, как и специалисты по философии Платона. Но контакт национальной культуры, взятой как целое, с той или иной философской традицией, взятой опять-таки как целое, — это особая проблема. Возьмем на себя смелость сказать, что с Платоном русская культура встретилась, и не раз. В Древней Руси эта встреча происходила при посредничестве платонизирующих Отцов Церкви. В России XIX-XX столетий посредниками были Шеллинг и русские шеллингианцы, включая великого Тютчева, затем Владимир Соловьев, Владимир Эрн, отец Павел Флоренский, Вячеслав Иванов. Античной философией занимались оппоненты позитивизма и материализма, более или менее романтически настроенные; и естественным образом они брались не за скучные трактаты Аристотеля, а за поэтические диалоги Платона. Но встреча с Аристотелем так и не произошла. Несмотря на деятельность упомянутых выше специалистов, Аристотель не прочитан образованным обществом России до сих пор.
Человек Запада может никогда не читать Аристотеля; может никогда не слышать этого имени; может считать себя убежденным противником всего, что связано с этим именем. И все же он в некотором смысле является «аристотелианцем», ибо влияние аристотелианской Схоластики за столетия определило слишком многое, вплоть до бессознательно употребляемых лексических оборотов. Поэтому человек современности хорошо сделает, если чаще будет думать об аристотелизме как внутренней форме западной цивилизации. Западному человеку это дает шанс найти равновесие между технико–рационалистическими компонентами своего мира — и другими, теми, например, которые отражены в процитированной выше строке Данте; ведь те и другие восходят к одному и тому же Аристотелю. Русскому это дает шанс, избегая изоляционизма славянофильства, сделать свое отношение к Западу более глубоким.
ДВА РОЖДЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РАЦИОНАЛИЗМА
1
Важнейший символ духа Нового времени — издававшаяся Дидро и Д'Аламбером «Энциклопедия» («Encyclopedie, ou Dictionnaire Raisonne des Sciences, des Arts et des Metiers, par une Societe des Gens des Lettres», 1751 — 1780). Ее заглавие, привычное для нас, ибо вошедшее в обиход с легкой руки все тех же Дидро и Д'Аламбера, но вовсе не столь обычное для их времен
[683], заставляет для начала вспомнить о греческом языке. Оно хочет быть греческим. Чтобы отдать дань педантизму классической филологии, заметим, что Εγκυκλοπαίδεια (в одно слово) — это ошибочное чтение вместо εγκύκλιος παιδεία, встречающееся в некоторых рукописях и старинных изданиях Квинтилиана
[684]. Что до словосочетания έγκύκλιος παιδεία, само оно появляется лишь поздно, у авторов римской эпохи, начиная с Дионисия Галикарнасского (I в. до н. э.)
[685], но выражаемая им идея восходит к временам древних софистов и специально Гиппия Элейского (2–я пол. V в. до н. э.), который, по свидетельству диалогов Платона, преподавал именно то, что впоследствии стало называться έγκύκλιος παιδεία — «энциклопедические» знания
[686].
Παιδεία — это «воспитание», «образование», «культура». Точное значение прилагательного έγκύκλιος много обсуждалось в классической филологии
[687]; итоги дискуссии позволяют выделить два дополняющих друг друга смысловых момента — во–первых, полноты и завершенности «цикла» дисциплин, во–вторых, широкой доступности, экзотерич- ности в противоположность эзотерике специалистов
[688]. То и другое хорошо подходит для характеристики программы «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера. Первое отчетливо сформулировано в известном «Предварительном рассуждении» Д'Аламбера: «Как энциклопедия труд наш должен излагать, насколько возможно, порядок и последовательность человеческих знаний («l'ordre et I'enchainement des connaissances humaines»)»
[689]. Второе находит соответствие в решимости энциклопедистов обращаться через голову ученой касты к всеевропейской публике образованных светских людей — той публике, которая, собственно, и была творима их усилиями. Эта черта популярности и популяризатор- ства объединяет философскую пропаганду энциклопедистов с философской пропагандой софистов, к эпохе которых недаром прилагали иногда имя античного «Просвещения»
[690]; и в одном, и в другом случае закономерно и необходимо возникала атмосфера вызова и скандала — весь тот шум, отголоски которого слышны, скажем, в «Облаках» Аристофана, но и в инвективной литературе XVIII в. Сам по себе шум — в данном случае отнюдь не пустое и не внешнее обстоятельство истории мысли, но содержательная характеристика процедуры интеллектуальной революции. До софистов были Гераклит и Парменид, до энциклопедистов — Ф. Бэкон, Декарт, Спиноза; но интеллектуальная революция становится из возможности фактом не тогда, когда открыт новый способ мыслить, а тогда, когда этот способ мыслить доведен до сведения всех носителей данной культуры.
Попутно отметим дальнейшее сходство позиционных отношений. Реакция на движение софистов породила для начала то, что современники и потомки вычитывали из личного образа Сократа; затем пришли классические системы греческого идеализма, причем Платон предложил более интенсивный тип синтеза, Аристотель — более экстенсивный. Реакция на движение энциклопедистов породила для начала то, что современники и потомки вычитывали из личного образа Руссо
[691]; затем пришли классические системы немецкого идеализма, причем наблюдается аналогичное соотношение между систолой этого идеализма в системе Канта и его диастолой в системе Гегеля
[692]. Но в обоих случаях все последовавшее только подтверждало необратимость происшедшей революции. Образ Сократа как антипода софистов эффективно воздействовал на воображение современников не вопреки, а именно потому, что Сократ был человеком софистической культуры; и таково же отношение Руссо к энциклопедистам. Философская культура Платона и Аристотеля предполагает дискуссии века софистов как данность культурного быта, предмет отталкивания, но и точку отсчета; и таково же отношение немецкого классического идеализма к умственным битвам эпохи Просвещения.
Вернемся, однако, к слову «энциклопедия». Во французском языке оно впервые появляется у Рабле: речь идет о «кладезях и безднах энциклопедии», puytz et abysmes de encyclopedic
[693]. Само собой разумеется, что оно не имеет никакого отношения к идее словаря, «dictionnaire raisonne». Важнее, что оно не предполагает также идеи более широкой — принципа «порядка и последовательности человеческих знаний», «l'ordre et I'enchainement des connaissances humaines», как говорил Д'Аламбер; того просветительского пафоса, который выражен в заглавии женевского и лондонского изданий «Философского словаря» Вольтера: «Разум в алфавитном порядке»
[694]. В эпоху Ренессанса идеал экстенсивной полноты знания характеризовался скорее переливающимся через край изобилием — «кладези и бездны», — чем жесткой внешней упорядоченностью. Этот контраст заставляет подумать о возможности классифицировать культуры наряду с другими путями классификации также и по следующему различительному признаку: требует ли культура более или менее всеохватывающей организации корпуса наличных знаний на основе императива «порядка и последовательности», или она обходится без такой организации, даже, может быть, избегает ее? Несовместимые со складом мысли Платона, «порядок и последовательность» совершенно необходимы для Аристотеля. Будучи в значительной степени платоническим по типу своего вдохновения, Ренессанса, в общем, избегал формализованного порядка. Темы «Опытов» Монтеня по своей широте могут показаться своего рода разрозненной энциклопедией; нельзя, однако, зная Монтеня, вообразить, чтобы сам он пожелал увидеть разрозненное собранным. Так вот, если проводить классификацию по вышеназванному признаку, энциклопедисты, видевшие в том же Монтене своего предшественника, довольно неожиданно оказываются вовсе не в его обществе, но в обществе ненавистных им создателей средневековых схоластических сводов, какими были, например, Винцент из Бове, автор «Великого зерцала», или Фома Ак- винский с обеими своими «Суммами». Лучше, впрочем, держаться конкретных историко–культурных реалий и подумать о том, что могло вправду попасть в поле зрения великих антиклерикалов XVIII в., и тогда придется вспомнить о таком актуальном для них явлении, как капитальная морально–теологическая система «пробабилиориста» Альфонса Лигуори
[695], родившегося в 1696 г., т. е. за год до выхода в свет бейлевского словаря, и умершего в 1787 г., т. е. тремя годами позже чем Дидро. Функция авторитетного учительства, «магистериума», вполне естественным образом стимулирует тяготение к «порядку и последовательности». Статья в энциклопедии отличается от статьи в журнале и от любого полемического текста тем, что ставит себя вне спора: не убеждает читателя, а поучает, «просвещает» его, предлагает ему принять нечто к сведению. Энциклопедический жанр сам по себе преобразует спорное в бесспорное. Это своего рода антиавторитаристский авторитаризм: спор идет о праве учить, как учит проповедник с кафедры. Не говорит ли одна эпиграмма Экушара–Лебрена, что Век Просвещения «побуждает проповедовать всюду, только не в церкви» («faitpre- cher partout, hors a 1'eglise»)?
Параллели между аттической интеллектуальной революцией V— IV вв. до н. э. и всеевропейской интеллектуальной революцией второй половины XVIII в. как в области мысли, так и в области эмоциональной атмосферы вокруг мысли бывают очень яркими. В качестве примеров дословных совпадений можно назвать некоторые общеизвестные тексты. В «Сновидении Д'Аламбера», этой фантазии Дидро, продолжающей «Разговор Д'Аламбера с Дидро», развиваются любопытные соображения о тождестве рождения и смерти:
«Живя, я действую и реагирую на действие (j'agis et reagis) всей массой; после смерти я действую и реагирую на действие в молекулах… Родиться, жить и перестать жить — это значит менять формы (Naitre, vivre et passer, c'est changer des formes)»
[696].
Интеллектуальный вызов, мятеж и протест против силы внушения, исходящей от простейших универсалий человеческого бытия — «родиться», «умереть», — против эмоциональной магии, заключенной в самих этих словах, стремление поменять местами и через это как бы взаимно погасить их коннотации, заставляет вспомнить знаменитую фразу Еврипида, насыщенную софистическим духом и как раз в качестве образчика такого рода спародированную в «Лягушках» Аристофана
[697]. Фраза эта восходит к утраченной трагедии, возможно, к «Поли- иду» или к «Фриксу», и обычно приводится в таком виде:
τίς δ' οίδεν εί το ζην μέν έστι κατθανείν,
τό κατθανείν δε ζην κάτω νομίζεται;
(«Кто знает, быть может, жить — то же, что умереть, а умереть почитается у дольних
[698] жизнью?»)
[699].
Разумеется, у сходства есть границы. Аргументация в духе механического материализма, апеллирующая к движению молекул, чужда Еврипиду и заставляет вспомнить из древних уж скорее атомиста Лукреция. Но сам интеллектуальный аффект, заключенный в этом страстном и насильственном разрыве с автоматизмом естественного восприятия фактов жизни и смерти — один и тот же, и он оба раза выражает себя сходным образом в риторической эмфазе, в игре антитез и антонимов
[700].
Другой пример — наверное, самые известные слова Вольтера, которые только существуют: афоризм из стихотворного послания «Автору книги «О трех обманщиках»».
«Si Dieu n'existait pas, il faudra l'inventer»
(«Если бы Бога не было, его следовало бы изобрести
[701]).
Нас занимает в данном случае не двойственность позиции Вольтера перед лицом утилитарно–социального функционирования религии, давно ставшая предметом анализа. Нас интересуют линии широких историко–культурных связей, расходящиеся по меньшей мере в три стороны.
Во–первых, самый глагол inventer звучит как буквальный перевод греческого έξευρεΐν, которое уже было употреблено в приложении к вере в богов в одном важном тексте софистической эпохи. Речь идет о фрагменте сатировской драмы, иногда приписывавшейся тому же Еврипиду, но принадлежавшей, по–видимому, знаменитому софисту и политическому деятелю Критию, одному из «тридцати тиранов»
[702]. Происхождение религии трактуется в этом монологе Сизифа следующим образом. Когда-то в отношениях между людьми господствовала непереносимая анархия; тогда умнейшие догадались и установили «карающие законы», чтобы «правосудие было госпожою, а дерзость — рабою». Однако этот первый законодательный акт поправил дело лишь наполовину: злодеи перестали творить преступления явно, но продолжали творить их тайно. Потребовался второй регулятивный акт: некий «мудрый и мощный мыслью муж», πυκνός τις καΐ σοφός γνώμηνάνήρ, счел целесообразным «изобрести, έξευρειν, страх перед богами»
[703]. Это рассуждение не менее амбивалентно, чем рассуждение Вольтера: адепт софистического просвещения отвергает религиозную традицию как свидетельство об истине, однако восторгается ей как «изЪбретением». В перспективе традиционного мировоззрения бог как человеческое «изобретение» — это кощунство; но в перспективе апофеоза рационалистической социальной «архитектуры» — применительно к эпохе Вольтера вспомним о строительной символике масонов!
[704] — вещи выглядят по- иному: изобретение само по себе есть нечто великое. Автор «Сизифа» не просто «разоблачает» дело мудреца, «изобретшего» религию, он восторгается этим мудрецом и смотрит на него как на своего собрата. Религия как традиция и данность — препятствие для интеллектуальной революции, но религия как «изобретение» — аналог ее собственных «изобретений». Примером аналогичной двойственности в просветительской литературе XVIII в. может служить хотя бы роман Виланда «Ага- тодемон»
[705]; герой романа, неопифагорейский кудесник из времен поздней античности Аполлоний Тианский, представлен как расчетливый мистификатор с чертами Калиостро или Сен–Жермена, но в его внутреннем уединении и в его замысле, направленном на возрождение упавшей морали современников, есть нечто, бесспорно импонирующее скептическому автору. В «Волшебной флейте» Моцарта, этом музыкальном манифесте Века Просвещения, та же черта расчетливой таинственности, которая доказывает злокозненность Царицы Ночи, свидетельствует о благожелательной мудрости Зарастро; что компрометирует одну, удостоверяет добродетель другого
[706].
Во–вторых, представление о Боге как
функции законодательствующего разума во Франции XVIII в. получает дополнительную окраску, какой оно не имело в Греции V в. до н. э., а именно: оно предстает как своеобразная пародийная инверсия или переориентация католического порядка, делающего жизнь верующих объектом догматической и канонической регуляции со стороны папской власти. В этой связи можно вспомнить, например, заметку «Сагёте» в «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера, где не без эмфазы, выводящей нас за пределы церковной истории, упомянуто, что по некоторым данным великий пост «был установлен не кем иным, как папою Телесфором около середины II века»
[707]. Как имя, так и дата подсказывают читателю: за безличным авторитетом закона ищи личный умысел законодателя. Католицизм, из которого оказывается «вычтен» инспирационизм, т. е. учение о божественном руководстве церковью, предоставляет как бы пустую рамку, способную послужить для просветительской утопии. Если можно «установить» пост и многое, многое другое, нельзя ли «установить» Бога? Хорошо известно, что Робеспьер пытался сделать именно это… Но если перефункционирование католической концепции officium docendi и есть принадлежность Нового времени, то сам рационалистический миф о «законодателе», νομοθέτης, или «изобретателе», εϋρετής, лепящем по произволу своего разума жизнь народов, очень характерен для античной мысли. Достаточно вспомнить, как авторы вроде Плутарха рисуют персонажей вроде Ликурга или Нумы Помпилия
[708]. Даже эллинизированные иудеи приспосабливали к подобным понятиям образ своего Моисея
[709]. Это философское переосмысление древней мифологической фигуры, известной у специалистов под именем «культурного героя»
[710]. Как правило, «культурный герой» носит черты «трикстера» — плута, обманщика, артистического шарлатана. Эти черты отнюдь не отнимают у него величия, напротив, они входят в его величие, сообщая ему специфическую окраску. Но и философский миф о законодателе тоже не чужд плутовской атмосферы, совсем напротив. Плутарх, автор благочестивый и высоконравственный, уверен, что Нума Помпилий инсценировал свои мистические беседы с нимфой Эгерией, чтобы произвести должное впечатление на народ, и хвалит за это мудрость таких, как он: «выдумка, спасительная для тех, кого они вводили в обман», — вот его приговор
[711]. Если, однако, плутовская атмосфера сгущается, она требует разрядки в бутаде. Приведенный выше монолог из «Сизифа» имеет некоторые черты бутады, а стих Вольтера — и подавно бутада.
В–третьих, если мы снимем этот налет внешней агрессивности, оспаривание религии у Вольтера обнаруживает знаменательное сродство с утверждением религии у Канта; Бог, который «нужен»
[712] и которого поэтому необходимо «изобрести», не так уж далек от Бога, который является постулатом практического разума. Разница, конечно, в том, что немецкий философ переносит в глубины индивидуальной совести вопрос, бывший для Вольтера делом общественной регуляции. Впрочем, и Кант, как известно, думал в связи со своим «категорическим императивом» о «принципе всеобщего законодательства»
[713], будучи хотя бы в этом сыном Века Просвещения. Но связь с идеей законодательства деградировала у него почти до ранга простой метафоры, понятие «практического разума» приобрело характер интровертивный и приватный — черта протестантская в противоположность антипапистскому «папизму» француза. В этом пункте Вольтер гораздо ближе не только к автору «Сизифа», но и вообще к духу классической греческой философии, который был публичным, отнюдь не приватистским. Заглавие капитального труда Платона — «Законы», заглавие капитального труда Монтескье — «Дух законов». Эта перекличка заглавий имеет значение символа и симптома.
2
Увидеть отношения симметрии между греческой интеллектуальной революцией V-IV вв. до н. э. и европейской интеллектуальной революцией XVIII в. н. э. — дело не трудное и не очень новое. Попробуем теперь сказать несколько слов о смысле этой симметрии.
Революции бывают разные. Переход от античного язычества к христианству — это чрезвычайно глубокий и широкий духовный переворот, предполагавший решительную переоценку ценностей, затрагивавший самые основы ориентации человека по отношению к другим людям и к самому себе, порождавший совершенно новые социальные структуры власти, авторитета, общений, необходимо влекший за собой долговременные, многообразные, подчас неожиданные или даже парадоксальные последствия для культурной деятельности, в том числе и самой «мирской»
[714]. Этому перевороту сопутствовал выход на историческую арену новых народов, чья активность нередко находила себе стимул или санкцию перед лицом гордыни носителей старой культуры именно в христианстве
[715]; и фоном для всего названного было крушение античного порядка и подготовка, а затем становление феодализма. Перемены, что и говорить, серьезные. Чего, однако, не произошло, так это коренного изменения объема простейших, элементарнейших категорий культуры. Средневековая литература в целом непохожа на античную
[716], но это литература именно в том смысле слова, в котором была таковой зрелая античная литература
[717], но вовсе не в том, в котором мы говорим, с одной стороны, о древнеегипетской или древнееврейской литературах, с другой — о современной литературе. Данте есть автор «Божественной Комедии» в том смысле, в котором Вергилий есть автор «Энеиды», но не в том, в которой Исайя — автор «Книги Исайи», а также не в том, в котором Лев Толстой — автор «Войны и мира»; от Исайи его отделяет сознательное культивирование авторской манеры, от Льва Толстого — вера в стабильные и неизменные правила творчества, превращающие деятельность автора в нескончаемое «состязание» (ζήλωσις, aemulatio) со своими предшественниками и преемниками
[718]. Далее, как бы ни был рационализм потеснен христианской мистикой и церковной верой в авторитет — в тех пределах, которые указаны рационализму средневековой жизнью, он остается по своим наиболее общим основаниям таким, каким его создала античность
[719].
В Афинах IV в. до н. э. под насмешки стародумов вроде Аристофана с его «Облаками», в азартных и педантических спорах о понятиях, запечатленных в диалогах Платона, была выработана культура дефиниции, и дефиниция стала важнейшим инструментом античного рационализма. Мышлению, даже весьма развитому, но не прошедшему через некоторую специфическую выучку, форма дефиниции чужда. Можно прочесть весь Ветхий Завет от корки до корки и не найти там ни одной формальной дефиниции; предмет выясняется не через определение, но через уподобление по типу «притчи» (евр. ma sal). Освященная тысячелетиями традиция построения высказываний продолжена и в Евангелиях: «Царство Небесное подобно» тому-то и тому-то — и ни разу мы не встречаем: «Царство Небесное есть» то-то и то-то. Единственная дефиниция на весь Новый Завет недаром встречается в Послании к евреям (гл. 11, ст. 1), которое очень выделяется в новозаветном корпусе своей сообразованностью с некоторыми греческими нормами построения текста, как энергично отмечал в свое время Э. Норден
[720]. Так вот, средневековое богословие, начиная с отцов церкви, единодушно идет в этом пункте не за библейскими, а за греческими учителями. На каждой странице Иоанна Дамаскина или Фомы Аквинского — дефиниции, мысль движется от одного формального определения к другому. Самым последним продуктам вырождения схоластического способа мыслить, вплоть до какой-нибудь бурсацкой премудрости, присуща тяга к сакраментальной процедуре дефинирования. За специфической культурой дефиниции стоит, с одной стороны, обязательство выверять представление о любом предмете на земле или на небесах через логическую формализацию, делать представление «ответчивым»
[721] — в отличие от того, что было
ранее, т. е. от донаучной «мудрости»; с другой стороны, метафизическая вера в стабильную сущность, субстанциальную форму, иерархически вознесенную над акциденциями — в отличие от того, что пришло
позднее, т. е. от новой научности. Обе эти родовые черты являются общими для рационализма античного и средневекового — а также и ренессансного: Возрождение дало рационализму новый контекст, но еще не изменило принципиально его сущности. Тот первый тип европейского рационализма, который был подготовлен досократиками, шумно и с вызовом заявил о себе во всеуслышание у софистов и окончательно выяснил собственные основания в творчестве Аристотеля, затем сохранял фундаментальное тождество себе до времен Декарта и далее, до зари индустриальной эры.
Что это был за рационализм? От всех предшествовавших ему состояний мысли и форм познания его резко отделяло наличие
методической рефлексии, обращенной, во–первых, на самое мысль, во–вторых, на инобытие мысли в слове. Рефлексия, обращенная на мысль, дала открытие гносеологической проблемы и кодификацию правил логики; рефлексия, обращенная на слово, дала открытие проблемы «критики языка»
[722] и кодификацию правил риторики и поэтики
[723]. Одно связано с другим: не случайно Аристотель, великий логик, написал также «Поэтику» и три книги «Риторики», и недаром древнеиндийская мысль, дошедшая до гносеологической проблемы, создала также теорию слова, между тем как на пространствах, разделяющих географически Индию и Грецию и явившихся ареной древних цивилизаций, не было ни первого, ни второго. Итак, мы вправе назвать рационализм, унаследованный средневековьем от античности,
логико–риторическим. Далее, разрабатываемая им логика есть прежде всего техника силлогизма, т. е. дедукции — иерархического движения сверху вниз, при котором общее мыслится первичным по отношению к частному: первичным прежде всего гносеологически, т. е. более познаваемым, более достоверным
[724], но по большей части и онтологически, т. е. более реальным. Риторика как техника «общих мест» есть необходимый коррелят такой логики
[725]. Итак, мы вправе назвать этот рационализм также и
дедуктивным.Классические образцы дедуктивного рационализма — геометрия Евклида, выводящая теоремы из аксиом, и римская юриспруденция, выводящая казусы из законоположений. Спиноза построил свою философию more geometrico, но многие христианские мыслители эпохи патристики, особенно поздней, ориентировались на форму юридического рассуждения
[726]. Легко заметить, что подобная интеллектуальная процедура требует достаточного набора стабильных, не подлежащих пересмотру аксиом, которые сами не могут быть добыты из рассуждения. Цепь силлогизмов нельзя вести в бесконечность, она должна быть на чем-то неподвижно закреплена. В виде аналогии можно вспомнить, сколь самоочевидным представлялось для этого типа мышления, что факт цепной передачи движения от предмета к предмету сам по себе непреложно свидетельствует о наличии перводвигателя, который сам не движется, — умозаключение, известное по своей роли у Фомы Аквинско- го
[727], но восходящее к Аристотелю
[728]. Рационально осмысляемая чувственная эмпирия, а также интуиция, за которой и наш век признает рациональный характер, доставляли, разумеется, некоторое количество аксиом; но структура дедуктивного рационализма сама по себе,
изнутри себя предопределяла участие также и внерациональных источников аксиом — авторитета, традиции, преобразованного мифа. Любовное влечение вещей к перводвигателю у Аристотеля
[729], симпатия всего сущего у Посидония
[730] — это ведь не миф в собственном смысле слова, равным образом, не религия и не мистика, даже, что приходится особо подчеркнуть, не простой компромисс между наукой и мистикой, не смешение того и другого в определенной дозировке, а особая форма мысли, игра по своим собственным правилам, последовательным и сбалансированным. Для обозначения этой формы мысли требуется свой термин; вероятно, таким термином могло бы быть слово «метафизика» в своем старом, догегелевском и домарксовом смысле.
Еще раз: это игра по своим правилам — а институциональная организация умственной жизни, равно как и упомянутый выше применительно к литературному творчеству, но значимый и применительно к познавательной деятельности, важный для самосознания всей логико- риторической культуры принцип состязания, т. е. как бы вневременного диспута, требовали неизменности этих правил, по которым состя- зующийся играет со своими отдаленными во времени собратьями
[731].
Поэтому стремительная греческая интеллектуальная революция на два тысячелетия сменилась тем, что мы назовем мрачным словом «стагнация». Тот рационализм, который создали греки и который уже в качестве вышедшей из моды «схоластики» доживет свой век в Новое время, по своему внутреннему принципу стремился именно к неизменности равновесия между рефлексией и традицией, между критикой и авторитетом, между физикой и метафизикой. Это рационализм, сам ставящий себе границы, а не просто принимающий их по обстоятельствам извне — скажем, от религиозной догмы. Прорыв в Новое время иного рационализма, принципиально отрицающего границы, был, с нашей точки зрения, концом застоя, но он же, с точки зрения старого рационализма, был нарушением равновесия и опрокидыванием правил. Это одно и то же — с какой точки зрения посмотреть.
В перспективе не естественнонаучной, а общекультурной у старого рационализма было одно преимущество: он один мог создать образ мира, который был бы в отличие от бессвязных мифологических представлений достаточно логичен и непротиворечив, а в отличие от теорий современной науки достаточно стабилен и чувственно–нагляден, чтобы действительно быть
образом — захватывающей темой для воображения. Во времена Лукреция дидактический эпос мог порождать вечные шедевры. Вергилий в «Георгиках», Данте в «Божественной Комедии» сделали популяризацию образа мира задачей для великой поэзии. (Одна умная английская толковательница Дантова «Рая» советовала читателям этой поэмы сходить в планетарий
[732].) Заключительный стих «Божественной Комедии»: «Любовь, что движет солнце и светила», — это не полет поэтической фантазии, а корректное формулирование одного из тезисов аристотелевской космологии (см. выше прим. 47). Эпоха энциклопедистов — это целый ряд попыток создать дидактический эпос; но своего Лукреция Просвещение не нашло, и даже для гениального Андре Шенье работа над поэмой «Гермес» явно оказалась тупиковым путем. Время поэзии, воспевающей научный образ мира, безвозвратно миновало. Что говорить об опытах «научной поэзии» в XIX и XX вв.? Это плохая физика и плохая поэзия сразу.
Специфика энциклопедистов как действующих лиц второй интеллектуальной революции — в том, что они стоят как раз на границе двух качественно различных состояний рационализма. Это значит не только то, что в них могут противоречиво совмещаться характеристики старого и нового рационализма; что, например, новое содержание выражает себя у них в сугубо риторических формах. Это значит, что одни и те же черты выступают у них как двузначные — одновременно входя и в новый, и в старый контекст. Например, повышенное внимание «Энциклопедии» к ремеслам, к «механическим искусствам», без сомнения, примета начинающейся индустриальной эры, разрыв с созерцательным характером старого рационализма. И все же, когда мы читаем, как Дидро, не удовольствовавшись привлечением к сотрудничеству в «Энциклопедии» г. Прево, стекольщика, г. Лоншама, пивовара, гг. Бюиссона, Боннэ и Лоррана, знатоков выделки тканей, и прочих, сам лично изучал литейное дело, волочение проволоки и тому подобные умения, для полноты исторических связей можно вспомнить того же софиста Гиппия Элейского, явившегося однажды перед посетителями Олимпийских игр в роскошном наряде, от начала и до конца сработанном собственными руками
[733]. Древним философам не полагалось интересоваться «механическими искусствами», но риторика убежденно выставляла идеал всезнания и всеумения, воплощая начало диастолы, как философия — начало систолы
[734]. Дидро, как в свое время Гиппий, основатель έγκύκλιος παιδεία, желал быть человеком, умеющим все. Когда индустриальная эра выявит свой облик, тогда можно будет владеть конкретной технической квалификацией, но уже никакой восторженный универсал даже не попытается уметь все.
Еще несколько замечаний. И древняя, и новая интеллектуальные революции были очень тесно связаны со своим политическим фоном. Но первая стояла у начала последовательности эпох, когда доминирующим типом государства была монархия: эллинизм — Римская империя — средневековые королевства — эпоха абсолютизма; вторая предвещала конец этой последовательности эпох. Греческий рационализм, порождение греческой демократии, тяготел к утверждению идеи «царственного мужа», άνήρ βασιλικός. Не только Платон искал путей реализации философской утопии в сицилийской тирании, не только Ксено- фонт, резонер с сильными конформистскими инстинктами, ориентировал свои моральные идеи на реальность предэллинистической монархии; такие решительные антиконформисты, как киники, строили свой идеал самодовлеющего мудреца как соответствие идеалу самодержавного монарха. В известном анекдоте Диоген противопоставлен Александру, но и сопоставлен с ним: оба — исключения, оба — по ту сторону гражданского общества, оба могут и смеют то, чего не могут и не смеют другие. Стоический мудрец — это «истинный» царь, соперник и двойник царя политического; в лице Марка Аврелия тот и другой — одно. И вот во времена энциклопедистов идеология «просвещенного деспотизма» в последний раз вызывает к жизни эту смысловую соотнесенность фигур философа и монарха; Марк Аврелий — любимец эпохи Просвещения; но это уже конец цикла и подготовка выхода за его пределы.
Одна из черт старого рационализма, присутствующая в рационализме энциклопедистов, — недостаток историзма. Но здесь мы сейчас же должны оговориться: ментальность энциклопедистов как раз настолько обращена к истории, чтобы мы ощущали ее «антиисторизм». Можно говорить о слабости историзма у энциклопедистов, но не имеет смысла констатировать отсутствие историзма в рационализме аристотелевского типа, настолько полно это отсутствие. Характерно, что Вольтер резко возражал Паскалю, а Жозеф де Местр — Вольтеру по вопросу о том, свойственно ли этике Эпиктета и Марка Аврелия требование любить Бога
[735]. После Паскаля (с христианской стороны следует упомянуть также Боссэ) и после Вольтера ни христианская апологетика, ни антихристианская полемика уже не могли обойтись без обсуждения представлений о духовной атмосфере целых эпох — такая постановка вопроса, которую просто не смогли бы понять мыслители более ранних эпох.
АНТИЧНЫЙ РИТОРИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ И КУЛЬТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ
В знаменитом антиаверроистеком памфлете 1367 г. «О невежестве своем собственном и многих других» Петрарка обсуждает вопрос, в какой мере христианину позволено быть «цицеронианцем». На слово «Cicero- nianus» падала тень от укоризненных слов Христа, услышанных во сне блаженным Иеронимом за тысячелетие без малого ранее: «Ciceronianus es, поп Christianus»
[736].
«Конечно, — заявляет Петрарка, — я не цицеронианец и не платоник, но христианин, ибо нимало не сомневаюсь, что сам Цицерон стал бы христианином, если бы смог увидеть Христа, либо узнать Христово учение»
[737].
Условный модус ирреального допущения (если бы только языческий классик мог узнать Христово учение, он стал бы христианином) побуждает вспомнить слова позднесредневековой мантуанской секвенции об апостоле Павле: «Быв отведен к гробнице Марона, он излил над ней росу сострадательных слез: «Каким, — сказал он, — сделал бы я тебя, если бы застал тебя в живых, о величайший из поэтов»»
[738]. Вообще потребность как бы посмертно крестить античных авторов —· характерно средневековая
[739]. Византийский поэт середины XI в. Иоанн Мавро- под, митрополит Евхаитский, форменным образом молился в стихах о упокоении душ Платона и Плутарха: «Если бы Ты, Христе мой, соблаговолил изъять каких-либо язычников из Твоего осуждения, — гласит в дословном переводе его эпиграмма, — изыми по моей просьбе Платона и Плутарха! Ведь оба они и словом и нравом ближе всех подошли к Твоим законам»
[740]. Пример был подан еще патристической эпохой. Вергилия во времена Иеронима за его IV эклогу нередко именовали « христианином без Христа», к чему, впрочем, сам Иероним отнесся неодобрительно
[741]. Августин в одном из своих посланий размышлял над тем, чьи именно души, помимо ветхозаветных праведников, были выведены Христом из ада — не души ли древних язычников, особенно тех, «кого я знаю и люблю за литературные их труды, кого мы чтим по причине их красноречия и мудрости»; правда, отвечать на этот вопрос (с теологической точки зрения гораздо более смелый, нежели modus irrealis Петрарки и мантуанской секвенции) он все же счел опрометчивым
[742]. И еще одна параллель к «если бы» Петрарки — слова Лактанция о Сенеке Младшем: «Он, смог бы стать истинным богопочитателем, если бы кто- нибудь показал ему дорогу»
[743]. «Сенека часто бывает наш», — сказал еще Тертуллиан
[744], и потребность превратить ирреальный условный период Лактанция в сообщение о факте породило, как известно, фиктивную переписку римского стоика с апостолом Павлом
[745], известную уже Иерониму
[746] и популярную в средние века.
Что же нового в словах Петрарки? Может быть, стоит обратить внимание не на само высказывание, но на то, к кому это высказывание относится?
В самом деле, Платон и Плутарх, о которых молился Мавропод, — философы, и философы строго идеалистические, с сильным мистическим пафосом. Платон учил созерцанию духовной реальности и как бы предвосхитил многие черты средневекового сакрального авторитаризма — начиная с утопии теократического владычества «философов», которые похожи не то на западных doctores, не то на православных «старцев», которым их уподобил А. Ф. Лосев
[747]. Плутарх разрабатывал мистическую онтологию в диалоге «О Ε в Дельфах» и демонологию, сильно повлиявшую на средневековые представления, в диалоге «О демоне Сократа», а в своей моральной доктрине
[748] действительно «приблизился к законам Христа». Сенека, о котором говорили Тертуллиан и Лактан- ций, — моралист, как и Плутарх; беспокойный и раздвоенный в самом себе, он явно искал каких-то новых оснований нравственности. Наконец, Вергилий, возвещавший в IV эклоге рождение всемирного Спасителя и начало нового цикла времени, — самый мистический из римских поэтов. Но Петрарка говорил не о философе, не о моралисте, не о поэте, но об ораторе, политике, адвокате — адвокате прежде всего («ор- timus omnium patronus», «отменнейший всеобщий адвокат» — так назвал Цицерона его современник Катулл). Сравнительно с Платоном и Плутархом, Сенекой и Вергилием Цицерон предстает как человек вполне «от мира сего», без мистических глубин, который может вызывать вое- хищение, но только не благоговение — как и в нем самом не ощущается благоговения.
Так о нем судили во времена достаточно различные. «Что до Цицерона, — замечает Монтень
[749], — я держусь суждения, что если не говорить об учености, дух его высотою не отличался». А Лактанций, многим обязанный Цицерону в литературном отношении и сам заслуживший у гуманистов прозвище «христианского Цицерона», писал:
«В сочинении своем об обязанностях Цицерон говорит, что не дблжно вредить никому, если только сам ты не задет обидой… Как сам он упражнялся в кусачем песьем красноречии, так и от человека требовал подражать псам и огрызаться в ответ на обиду»
[750].
Адвокатское, судебное красноречие Цицерона — для Лактанция «песье», потому что он рвется укусить противника; прагматическая и житейская заурядность нравственной позиции римского оратора, противопоставленная христианскому этическому максимализму, выразительно связана именно с тем, что он оратор и адвокат. Чего еще ждать от стряпчего, как не приземленного образа мыслей!
На это можно возразить, что для эпохи Петрарки, в отличие от эпохи Монтеня, отчасти и от Лактанциевой и тем более от нашей, Цицерон был не столько стряпчим, не столько адвокатом и политиком, вообще не столько самим собой, Цицероном, сколько зеркалом, в котором созерцали пока еще недоступного, но такого притягательного Платона. Уже у Лактанция Цицерон назван «наш первейший подражатель Платона»
[751]; но это еще звучит не без иронии. Менее чем через столетие после Лактанция Августин, при всей своей блестящей образованности не расположенный читать по–гречески и этим предвосхитивший языковую замкнутость средневековой латинской культуры, обратился к философским, а через них и к религиозным интересам под действием цицероновского диалога «Гортензий»; вспоминая об этом в своей «Исповеди», он укоряет заурядных ценителей, хвалящих язык Цицерона и не замечающих его ума (pectus)
[752]. «Платон восхваляем лучшими авторитетами, Аристотель — большинством», — замечает Петрарка
[753], и в таком контексте «лучшие авторитеты» (maiores) — прежде всего Цицерон и Августин. Культ Цицерона взят у Петрарки за одни скобки с культом Платона и вместе с ним противопоставлен культу Аристотеля — комбинация, столь характерная для Ренессанса в целом и универсальная по своему историко–культурному значению. Итак, положим, что Цицерон Петрарки — это «первейший подражатель Платона», мудрец, приведший юного Августина к неоплатонизму, а в конечном счете к христианству. За Петраркой авторитеты Августина и (с оговоркой) Лактанция — опять-таки характерная для Ренессанса апелляция к патристике, т. е. к христианской античности, против схоластики. Все как будто становится на свои места.
Однако с Цицероном — мудрецом как фактом сознания Петрарки — дело обстоит не так просто. Начать с того, что именно Петрарка в 1345 г., т. е. за 22 года до написания памфлета «О невежестве своем собственном и многих других», открыл в Вероне переписку Цицерона и с изумлением увидел перед собой вовсе не мудреца, но, как выразился он сам, «вечно беспокойного и тревожащегося старца», который «избрал себе уделом постоянную борьбу и бесполезную вражду»
[754]. Что до авторитета патристики, Лактанций, как было отлично известно Петрарке, не только изобличал Цицерона в недостаточно возвышенном подходе к проблеме мести и прощения. Он, Лактанций, поставил вопрос, вполне созвучный критике Цицерона как мыслителя в новые и новейшие времена: вопрос о серьезности или несерьезности отношения Цицерона к философии как таковой. Критика Лактанция отправляется от сопоставления двух высказываний римского оратора. В «Тускуланских беседах» Цицерон восклицает: «О философия, руководительница жизни!» («Ovitaephilosophiadux!»)
[755]. Но в одном из его же утраченных сочинений говорилось: «Веления философии надо знать, но жить следует согласно гражданскому обыкновению (civiliter)»
[756]. Это превращение заветов «руководительницы жизни» в предмет чисто теоретической, чисто интеллектуальной осведомленности, ни к чему не обязывающей, не мешающей жить той же жизнью, какой живут все прочие римские граждане, философами не являющиеся, вызывает у Лактанция энергичный протест. «Так что же, по твоему суждению, философия изобличена в неразумении и тщетности?»
[757] Если философия не преобразует нашего способа жить, она не жизненное дело, а словесность, и называть ее «руководительницей жизни» нет никаких оснований.
Но обличаемая Лактанцием позиция Цицерона есть не продукт недомыслия, а именно позиция, продуманная и последовательная; сама его непоследовательность (inconstantia, как выражается Лактанций) по- своему последовательна. Его философия есть философия под знаком риторики, как он сам достаточно выразительно говорит об этом устами Красса в III книге своего диалога «Об ораторе»:
«Философия ведь не похожа на другие науки. В геометрии, например, или в музыке, что может сделать человек, не изучавший этих наук? Только молчать, чтобы его не сочли за сумасшедшего. А философские вопросы открыты для всякого проницательного и острого ума, умеющего на все находить правдоподобные ответы и излагать их в искусной и гладкой речи. И тут самый заурядный оратор, даже и не очень образованный, но обладающий опытом в речах, побьет философов этим своим нехитрым опытом и не даст себя обижать и презирать. Ну, а если когда-нибудь явится кто-нибудь такой, который сможет или по образцу Аристотеля говорить за и против любых предметов и составлять по его предписаниям для всякого дела по две противоположных речи, или по образцу Аркесилая и Карнеада спорить против всякой предложенной темы, и если с этой научной подготовкой он соединит ораторскую опытность и выучку, то этот муж и будет оратором истинным, оратором совершенным, единственным оратором, достойным этого имени»
[758].
Цицерон решительно аннексирует философию для риторики, подчиняет ее не столько профессиональным нуждам риторики, сколько коренной риторической установке ума.
Поэтому так важно, что Петрарка, а за ним гуманисты избрали Цицерона своим «вождем», патроном и кумиром; что вопрос Лактан- ция к Цицерону для них, в общем, снят
[759]. Они внутри позиции Цицерона.
Как выглядит эта позиция в широкой исторической перспективе, с оглядкой на ту самую античность, о которой гуманисты так много думали?
Греки создали не только свою собственную культуру — конкретную, исторически неповторимую, со своими специфическими характеристиками и локальными ограничениями; одновременно в двуедином творческом процессе они создали парадигму культуры вообще. Парадигма эта, отрешась от греческой «почвы» еще в эпоху эллинизма, а от обязательной связи с греческим языком — в Риме, оставалась значимой и для средневековья, и для Ренессанса, и далее, вплоть до эпохи индустриальной революции
[760].
Значимой — не то же, что неизменной. Однако, пока парадигма не была отменена как принцип, все изменения исходили из нее, соотносились, соразмерялись с ней. Мы должны отчетливо видеть константу именно для того, чтобы увидеть новизну Ренессанса.
Греческая парадигма имеет очень определенный строй, и строй этот не похож на образ, встающий за привычной рубрикацией наших изложений общей истории культуры, в том числе и греческой, где безразлично следуют друг за другом «литература», «искусство», «философия» и «наука», как пункты единой анкеты, предложенной различным эпохам для заполнения.
То, что мы называем «культурой», греки называли παιδεία, собственно «воспитание», то, что передается и прививается ребенку, παις. В центре παιδεία — две силы, пребывающие в постоянном конфликте, но и в контакте, в противостоянии, но и во взаимной соотнесенности: воспитание мысли и воспитание слова — философия, ищущая истины, и риторика, ищущая убедительности. Они ближе друг к другу, чем мы это себе представляем: у них общий корень в архаической мыслительно–словесной культуре, и еще в феномене софистики они являли неразделимое единство
[761]. Как раз поэтому они непрерывно ссорились. Каждая из них стремилась восстановить нераздельность мысли и слова, истины и убедительности на своей собственной основе, т. е. поглотить свою соперницу и вобрать ее в себя. Философия претендовала на то, что она и есть, наряду со всеми остальными, «истинная» риторика: отсюда риторические штудии Аристотеля, стоиков, неоплатоников
[762]. Риторика претендовала на то, что она, и только она, есть «истинная» философия: мы уже видели, что для Цицерона подлинный оратор и подлинный философ — одно и то же, и у представителей греческой «второй софистики» II-IV вв. мы находим немало аналогичных деклараций. Иначе говоря, ίφилocoφия и риторика — не части культуры античного типа, не ее «провинции» и «домены», которые могли бы размежеваться и спокойно существовать каждая в своих пределах, вступая разве что в легкие пограничные споры. Нет, античный тип культуры дает и философии, и риторике возможность попросту отождествлять себя с культурой в целом, объявлять себя принципом культуры. Лицо культуры двоится: это «пайдейя» под знаком философии и «пайдейя» под знаком риторики. Двойственность заложена в самой основе созданного греками склада культуры и воспроизводится вместе с самим этим складом. Победа «искусств» над «авторами» на переходе от XII к XIII в., реванш «авторов» в выступлении гуманистов против схоластики, спор Пико делла Мирандолы с Эрмолао Барбаро — все эти сложные события истории идей, каждое из которых имеет свое идеологическое наполнение, укладываются в рамки старого конфликта философии и риторики, хотя, разумеется, не могут быть сведены к этому спору.
Итак, философия и риторика — самое сердце культуры античного типа, и в сердце этом живет возрождающееся противоречие. Но изобразительное искусство, для нас вне всякого сомнения входящее в понятие «духовной культуры», греки поколебались бы включить в понятие своей παιδεία. По известному замечанию Плутарха, ни один «способный» юноша («способный» к чему? — конечно, к деятельности в сфере мыслительно–словесной культуры или в сфере гражданской жизни), любуясь шедеврами Фидия и Поликлета, сам не захочет быть ни Фидием, ни Поликлетом
[763]. Любопытно, что в автобиографическом сочинении Лукиана «О сновидении, или Жизнь Лукиана» противопоставляется как раз олицетворение Ερμογλιςική τέχνη («ремесло ваятеля») — и παιδεία. Первая ссылается в своей речи на имена Фидия и Поликлета, Мирона и Праксителя
[764]; но только вторая являет собой «культуру» (по контексту Лукиана — культуру риторическую).
Как раз в этом пункте, как известно, Ренессанс далеко отошел от античности.
Еще Петрарка мыслил по–античному (и по–средневековому): представители любого «рукомесла», любой τέχνη, «mechanici», исключены из культуры, из мира, где книги. «Что же будет, — патетически восклицает он в том же памфлете, — если люди ручного труда (mechanici) возьмутся за перья (calamos arripiunt)»?
[765] Каждый философ, каждый поэт, каждый ученый человек должен протестовать против такой ужасающей перспективы. Vestra res agitur!
Чтобы оценить произведенную Ренессансом революцию, достаточно сравнить место, которое занимает Витрувий — тоже mechanicus, взявшийся за перо! — соотносительно в культуре своего собственного времени и в культуре новоевропейской от Альберти до Виньолы и далее
[766].
Таков же контраст тона, в котором имена живописцев, ваятелей и зодчих вводятся в античных текстах по истории искусства — и, скажем, у Вазари (чей труд в других отношениях представляет этим текстам довольно близкую аналогию
[767]). Например, Плиний Старший, отзывающийся о художниках по античным масштабам весьма уважительно, так начинает свои биографические рубрики: «…Β девяностую олимпиаду жили Аглаофонт, Кефисодор, Фрил, Эвенор…»
[768], «…Β открытые отныне врата художества вступил в четвертый год девяносто пятой олимпиады Зевксис из Геракл ей…»
[769]; «…Ровесниками его и соперниками были Тиманф, Андрокид, Евпомп, Паррасий…»
[770]; «…Паррасий, рожденный в Эфесе, там же и совершил многое…»
[771] У Плиния утверждается, что всех живописцев, которые были, есть и будут, превзошел Апеллес
[772], как всех скульпторов — Фидий
[773]; это сказано как будто довольно сильно, не без риторического пафоса, но отмечает только превосходство некоторого лица в некоем роде деятельности, а никоим образом не превосходство самого этого рода деятельности в ряду других. Явление Апеллеса или Фидия — событие в судьбах искусства; ни из чего не следует, что это событие в судьбах человечества. Напротив, Вазари описывает явление Микеланджело не просто как триумф искусства, но как примирение небес и земли, бога и людей: «Благосклон- нейший Правитель небесный обратил на землю сострадальные Свои очи»
[774]. Такой квазитеологический тон для Вазари очень характерен: например, Леонардо да Винчи был, по его словам, «воистину предив- ным и небесным (celeste)»
[775].
В этой связи важно употребление эпитета cfivinus «божественный». В античном обиходе эпитет этот нормально применялся к прославленным мастерам искусства слова. Для Цицерона, например, Сервилий Гальба — «в речах божествен» (divinus homo in dicendo)
[776], a Красс даже «бог в речах», по крайней мере, по суждению Квинта Муция Сцеволы, одного из участников диалога
[777]; последнюю речь Красса в сенате Цицерон патетически вспоминает как «лебединое слово божественного мужа» (cycnea divini hominis vox et oratio)
[778]. Красноречие самого Цицерона «божественно» в оценке Квинтилиана
[779]; «божественна» специально ирония цицероновской речи «В защиту Лигария»
[780]; тот же Квинтилиан говорит о «божественном блеске речи Теофраста»
[781]. «Божественный» оратор и «божественный» поэт (последнее, например, у Горация
[782]) стоит рядом с «божественным» мудрецом
[783] и «божественным» цезарем
[784]; но «божественный» художник рядом с ними незаметен, его не видно. Иначе обстоит дело под конец Ренессанса. Еще при жизни Микеланд- жело все настолько привыкли называть его «божественным», что Аре- тино уже может обыгрывать это клише в своем небезызвестном письме к Буонаротти от ноября 1545 г., где он после потока поношений и доносительских намеков вдруг примирительно заключает: «Я только хотел показать Вам, что если Вы «божественный» (divino = di vino = «винный»), то и я не «водяной» (d'acqua)»
[785].
Древние в преизобилии сочиняли эпиграммы на произведения искусства — только, как правило, не на самих художников. В «Палатин- ской антологии» 42 эпиграммы на «Корову» Мирона и 13 эпиграмм на «Афродиту Анадиомену» Праксителя — но ни одной эпиграммы на Мирона или Праксителя! А теперь, в эпоху Ренессанса, сам Полициа- но, первый поэт Кватроченто, сочиняет эпиграмму на могилу Джотто в Санта Мариа дель Фьоре, начинающуюся словами:
Ille ego sum, per quern pictura extincta revixit…
(«Я тот, через кого ожила угаснувшая живопись»
[786])
Надо чувствовать всю несравненную весомость и торжественность латинского ille, чтобы оценить такое начало, перепевающее по меньшей мере два знаменитых зачина: во–первых, апокрифические, но в то время приписывавшиеся Вергилию строки, предпосланные «Энеиде»:
Ille ego, qui quondam gracili modulatus avena Carmen, et egressus silvis vicina coegi Ut quamvis avido parerent arva colono, Gratum opus agricolis…
[787];
во–вторых, начальные слова поэтической автобиографии Овидия:
Ше e^oqui fuerim, tenerorum lusor amorum…
[788]Поэт мог так говорить о себе в античной литературе, но художнику это было «не по чину». Теперь гордое Ille ego произносится от имени художника.
Здесь мы имеем шанс уловить важную деталь: лексический ряд, применяемый с эпохи Ренессанса к художникам, взят из древней практики восхваления поэтов и особенно риторов. (Ритор для античности часто выше поэта: мог же Цицерон назвать поэзию в сравнении с риторикой «более легковесным видом словесного искусства»!
[789]) Возможность величаться «Ille ego» переходит к художнику от поэта; эпитет «божественного» переходит к нему прежде всего от оратора. Без «божественного» Элия Аристида и «божественного» Либания, «божественного» Цицерона и всех прочих невозможен был бы «божественный» Микеланд- жело. Обожествление ритора послужило первостепенным прецедентом для обожествления живописца, ваятеля, зодчего.
В этой связи стоит отметить, что сопоставление живописи, ваяния и зодчества именно с ораторским искусством для Ренессанса вполне сознательно и принципиально. По утверждению Энея Сильвия Пикко- ломини, «любят друг друга взаимно сии два художества, красноречие и живопись»
[790].
По старой памяти, в послушании античной традиции, искусства, имеющие дело с материальными объектами и постольку не «свободные», субординированы искусствам «свободным» и прежде всего риторике. Но субординация эта — дружеская, в ней сохраняется близость, и момент близости важнее момента субординации. «Художества, ближе всего подходящие к свободным, каковы суть художества живописи, ваяния в камне и бронзе и зодчества», говорится у Лоренцо Баллы в предисловии к его «Красотам языка латинского»
[791].
Описание внутреннего членения пластических искусств приноравливается, прилаживается к риторическим схемам. В этом смысле характерно замечание Лудовико Дольчи, принадлежащее уже постренес- сансной эпохе (1557 г.): «Вся сумма живописи, по суждению моему, разделяется на три части: Нахождение, Рисунок и Колорит (Invenzione, Disegno е Colorito)»
[792]. Нельзя не вспомнить, что труд оратора с античных времен делится на Inventio, Dispositio et Elocutio.
Этому сближению ручного художества и риторической культуры соответствовал, как известно, новый, специфический для Ренессанса тип человека, в своей собственной особе совмещающий словесность — и занятия живописью, ваянием и зодчеством: гуманист как художник и художник как гуманист.
Классический пример — Леон Баттиста Альберти, человек, как характеризует его Вазари, «нравов самых утонченных и отменных», который «жил, как подобает человеку высшего общества» (onoratamente е da gentiluomo) и владел словесной культурой (lettere)
[793].
А теперь попробуем задать себе вопрос: где в античной традиции находим мы приближение к этому, вообще говоря, неантичному идеалу утонченного человека, далекого от «низких» замашек профессионала, живущего da gentiluomo, но при этом умеющего самостоятельно сделать «все»; адепта словесно–мыслительной культуры — и мастера на все руки (ударение на слове «руки»)?
Мы находим его в области так называемой софистики, то есть в той зоне, которая наиболее очевидным образом подчинена верховенству риторики.
Апулей, римский софист II в. н. э., восхваляет Гиппия, своего греческого собрата, жившего за шесть веков до него, за то, что он, никому не уступая в красноречии (eloguentia), всех превзошел многообразием своих умений и навыков (artium multitudine). Он рассказывает, как Гип- пий однажды явился на Олимпийские игры в великолепном наряде, от начала до конца сработанном собственными руками; и эллины, отовсюду собравшиеся на игры, дивились этому, наряду с его ученостью и витийством. Предмет изумления — studia varia, пестрота интересов и занятий Гиппия
[794]. Вот прототип ренессансного uomo universale. Более близкого прототипа мы не отыщем.
Если кто из древних и говорил о пластических искусствах в серьезном и даже восторженном тоне, так это не античный философ, но античный софист поздней поры, представитель второй софистики. Невозможно вообразить, например, чтобы Аристотель, писавший, кажется, обо всем на свете, высказался бы о скульптуре и живописи так, как это он сделал об эпосе и трагедии в «Поэтике» и о красноречии в «Риторике». Еще невозможнее представить себе некое античное соответствие «философии искусства» Шеллинга. Самое высокое и значительное, что сказано за всю античность о пластическом шедевре — это слова Диона Хризостома, одного из зачинателей второй софистики, о Фидие- вой статуе Зевса
[795]. Здесь художник описывается как учитель и воспитатель человечества, его «законодатель», а не только. усладитель.
Любопытно, что наиболее выразительное исключение в философской литературе античности — у Плотина, кстати, любимца Ренессанса: это его тезис об умопостигаемом образце того же Фидиева Зевса
[796]. Но любопытно и другое: этот тезис дословно встречается до Плотина у философствующих риторов — Цицерона
[797] и того же Диона
[798].
Словесно–мыслительное освоение колоссального феномена античного искусства в большой мере шло в сфере позднеантичного риторического экфрасиса
[799], нашедшего столько отголосков в культуре Ренессанса.
Вообще говоря, для античности вышеприведенное утверждение Энея Сильвия Пикколомини о взаимной любви риторики и живописи оправдывает себя. Их соединяли: 1) статус τέχνη в отличие от έπιστήμη, т. е. установка на вероподобие, и 2) момент гедонизма, такой подозрительный для всей античной философской мысли, включая даже эпикурейство, которое было озабочено минимализацией человеческих потребностей.
Почтение к живописцу, скульптору, зодчему как человеку «божественному» вошло в эпоху Ренессанса в строение культуры античного типа, вошло как нечто новое, чего прежде не было; но вошло оно через старую дверь — дверь риторического идеала.
Возвращаясь к образу Гиппия в Олимпии, надо заметить, что столь характерный для Ренессанса (и чуть–чуть эйфорический) идеал uomo universale, человека, который знает все, умеет все, пробует себя во всем — идеал, выраженный в программе обучения Пантагрюэля, — есть идеал риторический. Философия знала, конечно, пропедевтические науки: Платон воспретил вход в Академию тому, кто не изучил геометрии. Философия могла давать методологический импульс и программу для собирания и обработки фактов в самых различных областях знания: так было с Аристотелем и перипатетиками. Но философ — едва ли не антипод uomo universale; его дело — глубина, а не широта: «многозна- ние уму не научает», как сказал Гераклит.
Совсем иное дело — ритор. Как энергично настаивает Цицерон устами Красса
[800], что оратор должен уметь говорить обо всем! «Я пил в Афинах и из иных чаш, — хвалится Апулей, — из чаши поэтического вымысла, из светлой чаши геометрии, из терпкой чаши диалектики, но в особенности из чаши всеохватывающей философии — этой бездонной чаши с нектаром. И в самом деле: Эмпедокл создавал поэмы, Платон — диалоги, Сократ — гимны, Эпихарм — музыку, Ксенофонт — исторические сочинения, Кратет — сатиры, а ваш Апулей пробует свои силы во всех этих родах и с одинаковым усердием трудится на ниве каждой из девяти муз»
[801]. Ибо ритор — дилетант в высшем смысле этого слова; его дело — не «единое», но «все», не самососредоточение, но саморазвертывание личности, не ее систола, но ее диастола.
Когда заходит речь о ренессансном идеале uomo universale, трудно обойти такую тему, как «достоинство и превосходство человека», digni- tas et excellentia hominis. И здесь мы еще раз можем видеть, насколько именно риторика была орудием, при посредстве которого Ренессанс определял и утверждал себя перед лицом прошлого.
В самом деле, риторика — это искусство хвалы и хулы, «энкомия» и «псогоса»; такой подход ко всем на свете вещам — неотъемлемая черта ритора.
Как известно, в 1195 г. кардинал Лотарь, будущий папа Иннокентий III, написал трактат «О убожестве состояния человеческого» — аскетический труд, настолько противоположный духу Ренессанса, насколько нечто может быть ему противоположно. Однако Лотарь намеревался и формально обещал написать для ободрения смиренных иной ТРУД — на сей раз о достоинстве человека. Выполнить свое обещание он не успел: через три года его избрали папой, и ему было уже не до литературных досугов. «О достоинстве и превосходстве человека» написали другие, совсем другие люди — гуманисты Джаноццо Манетти (1452 г.) и Джованни Пико делла Мирандола (1487 г.).
Конечно, даже если бы Лотарь написал второй трактат, он увидел бы достоинство человека совсем иными глазами, чем его исторические оппоненты. Немаловажно, однако, и то, что в риторическом пространстве «псогос» сам собой полагает возможность «энкомия», «хула» — возможность «хвалы». Лотарь создал «хулу человеку», Манетти и Мирандола — «похвальное слово человеку»: это очень резкий идеологический и общекультурный контраст, но одновременно это движение, не покидающее той же плоскости. Инверсия «хулы» легко дает «хвалу»; но, к сожалению, обратный поворот на 180° тоже происходит легко. «Какое чудо природы человек! — восклицает Гамлет во втором акте. — Как благороден разумом! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движеньям! В поступках как близок к ангелу! В воззреньях как близок к Богу! Краса вселенной! Венец всего живущего! А что мне эта квинтэссенция праха?»
[802] «Краса вселенной», «венец всего живущего» — это нормальная топика похвального слова. «Квинтэссенция праха» — нормальная топика риторического порицания. В совокупности они создают замкнутый круг.
Только Паскаль в своем рассуждении о величии и ничтожестве человека как единой реальности и единой теме для мысли разрывает этот круг и выходит за пределы механического рядоположения «хвалы» и «хулы». Так начался новый мир, в котором мы живем до сих пор.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Аристотель. РИТОРИКА. Книга III[803]
Глава I. Переход к слогу как новой теме, не затронутой в предыдущих книгах (§§ 1—3). — Декламация (§§ 3—5). — Стоит ли придавать внешней стороне значение, и если да, то какое именно? (§§ 5—6). — Современное Аристотелю состояние вопроса о декламации (§§ 7—9).
Глава II. Требования к слогу — ясность и уместность (§§ 1—7). — Метафоры, их употребление, правила их отбора (§§ 7—14). — Пользование уменьшительными формами (§ 15).
Глава III. Четыре причины вычурности: двукорневые слова (§ 1), необычные слова (§ 2), злоупотребление эпитетами (§ 3), метафоры (§ 4).
Глава IV. Сравнения, их близость к метафорам (§§ 1—2), правила их употребления (§ 2), примеры (§ 3), обратимость метафор «от соответствия» (§ 4).
Глава V. Чистота речи (отождествляемая с ясностью) как «начало» слога (§ 1). — Пять ее условий: правильное употребление частиц и союзов (§ 2), употребление точных обозначений (§ 3), исключение двусмысленности (§ 4), соблюдение грамматического рода (§ 5), соблюдение грамматического числа (§ 6). — Требование удобочитаемости (§6). — Возможные неправильности и неясности в построении речи (§7).
Глава VI. Шесть средств достижения торжественности слога: описательные выражения (§§ 1—2), метафоры и эпитеты (§ 3), замена единственного числа множественным (§ 4), повторение артикля при существительном и следующим за ним согласованном с ним прилагательном (§ 5), употребление союзов (§ 6), характеристика через отрицания (§7).
Глава VII. Уместность слога как его соответствие страсти, характеру (говорящего) и предмету (§ 1). — Возвышенные и низменные предметы (§ 2). — Имитация страсти как ораторский прием (§§ 3—5). — Имитация характера (§§ 6—7). — Имитация всеобщего мнения (§ 7). — Опасность утрировки (§§ 8—10). — Имитация исступления (§ 11).
Глава VIII. Ритм прозы как середина между стихотворным метром и отсутствием всякой ритмической упорядоченности; вред обеих крайностей (§§ 1—3). — Характеристика различных ритмов (§§ 4—6). — Подведение итогов (§ 7).
Глава IX. Два типа слога: слог «нанизывающий» и слог «сплетенный» (§ 1). — Характеристика старомодного «нанизывающего» слога и его недостатков (§ 2). — Определение периода и преимущества «сплетенного» слога, образуемого периодической структурой речи (§ 3). — Мысль должна завершаться вместе с периодом (§4). — Период и колон как две единицы членения текста (§ 5), их наилучший объем (§ 6). — Период разделительный и период противоположитель- ный (§7). — Интеллектуальное удовлетворение от противоположительного периода (§8). — Звуковые приемы оформления периода (§ 9). — Ложные противоположения (§ 10).
Глава X. Средства добиваться изящества и снискивать одобрение (§ 1), в том числе метафора как выигрышная середина между невразумительностью и тривиальностью, доставляющая интеллектуальное удовлетворение (§ 2), причем удовлетворение это больше, чем от сравнения (§ 3); в основе должна лежать энти- мема, не лежащая на поверхности, но и не слишком трудная для усвоения (§ 4); внешнему блеску помогает антитеза (§ 5). — Будущее надо представлять наглядно, как уже осуществившееся (§ 6). — Наиболее действенна метафора, основанная на «соответствии» (§ 7).
Глава XI. Наглядностью обладает метафора, представляющая предмет в действии (§§ 1—4), для каковой цели полезно, в частности, одушевлять неодушевленные предметы (§§ 3—4). — Метафора должна обнаруживать скрытое сходство между несходными вещами, открывая уму нечто новое (§ 5), так что эффект остроумия создается именно неожиданностью метафоры, заключенным в ней «обманом» ожидания (§§ 6—7), и таков же источник удовольствия от загадок или игры слов (§§ 7—8). — Отчетливости антитезы должна отвечать краткость высказывания (§ 9), одновременно неожиданного и верного (§ 10). — То же самое относится к сравнению (§§ 11—13) и к пословице, заключающей в себе метафору (§ 14), а также к гиперболе, которая, впрочем, несет дополнительный оттенок «мальчишества» и страсти (§§ 15—16).
Глава XII. Есть разница между слогом письменным и слогом изустного спора, а в последнем — между красноречием совещательным и судебным (§ 1). — Слог письменной речи дает больше мест отделке, слог устного спора — актерской игре (§ 2), наполняющей выражением простые повторы (§ 3) и бессоюзия (4). — Для судебного рода красноречия нужна более тщательная логическая отделка, чем для совещательного рода, обращающегося к толпе (§ 5), а эпидейктический род больше всего подходит для письменного сочинения (§ 6). — Дальнейшая классификация видов слога излишня (§ 6).
Глава XIII. Композиционно речь делится прежде всего на две части: высказывание спорного тезиса («предложение») и аргументация («доказательство»), между тем как прочие компоненты, отмечаемые риторической теорией, на деле специфичны для одного рода речей и чужды другому (§§ 1—5), хотя, однако, большинство речей имеет также вступление и заключение (§§ 4—б).
Глава XIV. Во вступлении целесообразно заранее суммировать пункты последующей речи (§ 1). — Топика вступления в эпидейктическом роде (§§ 2—4). — Вступление к эпидейктической речи аналогично зачину дифирамба, вступление к судебной речи — прологу трагедии или комедии и зачину эпической поэмы, рационально вводящему в суть сюжета (§§ 5—6). — Более специфические виды вступлений «от говорящего», «от слушателя», «от предмета» и «от противника» (§§ ^—11). — Вступление в совещательном красноречии (§ 12).
Глава XV. Как вступление может дать отпор попыткам заранее скомпрометировать говорящего; приемы создания и разрушения «дурной славы» (§§ 1—11).
Глава XVI. Повествование в различных родах красноречия; в эпидейктическом роде ему лучше не быть непрерывным, но вводиться порциями в последовательности логических пунктов (§§ 1—3) — следует отступление о вреде утрированной сжатости, рекомендуемой некоторыми риторами (§ 4), — в судебном роде речь ответчика обычно дает меньше места повествованию, чем речь истца (§ 6), причем повествование должно использоваться для неприметного внушения слушателям желательного представления о характере говорящего (§ 5, 7—9), имитируя для правдоподобия страсть (§ 10); наконец, в совещательном роде роль повествования сводится к минимуму (§ 11).
Глава XVII. Доказательства могут относиться к одному из четырех вопросов: «было или не было» само действие, заключен ли в нем «вред», велик или маловажен этот «вред», нарушен ли закон (§ 1). — Специфика первого вопроса, где один из двух возможных ответов есть прямая ложь (§ 2). — В эпидейктическом роде первый вопрос обычно не ставится (§ 3). — В совещательном роде речь идет о будущих следствиях выбора, который предстоит сделать сейчас (§ 4), почему он особенно труден (§ 10); к этому роду лучше подходят примеры (доводы риторической индукции), к судебному роду — энтимемы (доводы риторической дедукции) (§ 5). — Правила употребления энтимемы (§§ 6—9), техника разнообразия (§§ 10—12). — Опровергающие энтимемы производят больший эффект (§ 13). — Как возражать на доводы противника (§§ 14—15). — Говорить о себе полезнее от чужого лица (§ 16). — Энтимемы можно иногда превращать в афоризмы (§ 17).
Глава XVIII. Вопрос к противнику как средство заставить его противоречить самому себе (§§ 1—4). — На двусмысленный вопрос противника надо отвечать обстоятельным логическим расчленением (§§ 5—6), серьезность противника встречать шуткой, а шутку — серьезностью (§ 7).
Глава XIX. Топика заключения речи состоит из восхваления себя и порицания противника (§ 1), из «возвеличения» или «умаления» обсуждаемых фактов (§ 2), из попыток разжечь в слушателе желательные эмоции (§ 3), из суммирующего подведения итогов (§§ 4—5).
1403Ы <Введение.> I. Относительно речи (λόγος) существуют три вещи, которые должны быть обсуждены: во–первых, откуда берутся средства убеждения (πίστεις), во–вторых, о слоге (λέξις), в–третьих, о порядке, в котором надо располагать части речи. О средствах убеждения уже сказано, и о числе их источников, что всего <источников> три, и почему не более; а именно, все бывают убеждены либо собственным настроением при вынесении приговора, либо тем, за кого принимают говорящих, либо доказательствами.
Сказано и об энтимемах, откуда их должно черпать; а именно, среди них бывают частные (είδη) энтимемы и общие места (τόποι).
2 Теперь следует сказать о слоге; ведь недостаточно иметь, что говорить, но необходимо <знать>, как надо говорить, и это немало помогает речи произвести должное впечатление.
3 Итак, первым было исследовано в согласии с природой то, что по природе первое, <то есть> сами вещи — откуда они получают убедительность? Второе же: как распорядиться ими в отношении к слогу? А третье из них то, что имеет превеликую силу, но еще не разработано: <вопрос> о декламации (ύπόκρισις). Ведь <искусство это> поздно стало достоянием трагических актеров и рапсодов; первоначально же поэты сами разыгрывали (ύπεκριναντο) свои трагедии. Ясно, что <вопрос> относился не только к поэтике, но и к риторике; применительно же к поэтике его разрабатывал, в числе других, Главкон Теосский.
4 <Декламация.> Дело здесь в голосе, как им пользоваться для <выражения> любой страсти, то есть когда — громким, когда — тихим, когда — средним; и высотой <голоса>, то есть, когда — высокой, когда — низкой, когда — средней; и ритмами — в соответствии с каждым <случаем>. Ведь <всего> есть три вещи, на которые обращают внимание, и это громоглас- ность, мелодика и ритм. Награды на состязаниях почти всегда достаются таким, и подобно тому, как там <на сцене> актеры значат больше, чем поэты, так же <обстоит дело> и на политических состязаниях, по причине порочного устройства государств (των πολιτειών).
5 Однако касающееся до того искусство еще не сложилось — как, впрочем, и касающееся до слога выступило поздно, — и притом оно представляется непочтенным, если посмотреть как следует.
1404а <Стоит ли придавать внешней стороне значение, и какое именной Поскольку все дело риторики имеет в виду мнение, <о подобных вещах> надо заботиться не как о должных, но как о необходимых; ибо справедливо было бы не добиваться от речи ничего иного, кроме как того, чтобы она не печалила и не услаждала. Справедливо опираться в споре на сами факты (πράγματα), так, чтобы все постороннее по отношению к доказательству было излишним. Однако оно забрало большую силу,
6 как было сказано, вследствие развращенности слушателя. Притом <внимание к> слогу в некоторой малой степени все же необходимо при любом научении; когда нужно разъяснять, не все равно, говорить так или этак — однако и не столь уж важно, но все это одна мнимость и снисхождение к слушателю, по каковой причине никто не прибегает к этому, преподавая геометрию.
7 Когда <искусство декламации в приложении к риторике> дойдет до нас, оно сделает то же самое, что искусство актерской игры; некоторые слегка пробовали толковать о нем, как, например, Фрасимах в своем сочинении «О способах разжалобить». Актерская способность (τό ύποκρντικόν) есть дело природы и более безыскусственна, между тем как слог — дело искусства. Поэтому те, кто силен по этой части, в свою очередь добиваются побед, как и риторы, сильные по части декламации; ведь написанные речи берут свое скорее слогом, чем мыслью.
8 Поэты, как и естественно, начали первыми; ведь имена суть подражания <именуемому>, но и голос наш — подражатель- нейшая из наших способностей. Отсюда образовалось искусство
9 рапсодов, искусство актеров и прочие. Поскольку же поэты, говоря вещи простоватые, получили свою славу, как казалось, за <красоты> слога, по этой причине слог <в прозе> поначалу был поэтическим, как, например, у Горгия. И до сих пор многие невежды воображают, будто именно такие <ораторы> говорят красивее всех. Но это не так, ибо один слог сдолжен быть> в прозе, а другой — в поэзии. Это ясно из происходящего ныне; уже и создатели трагедий больше не прибегают к прежней манере (τρόπος), но подобно тому, как они перешли от тетраметра к ямбу на том основании, что этот размер ближе всего к прозе, так и в употреблении имен они отбросили все, что противно обиходному языку, но чем они прежде пользовались ради украшения, да и теперь еще пользуются создатели гексаметров. Так что смешно подражать тем, кто и сами уже не прибегают к прежней манере. Очевидно также, что мы не должны подробно
10 развивать все, что только может быть сказано о слоге, но только то, что касается слога, о котором мы ведем речь <то есть прозаического>. Об ином слоге сказано в нашей «Поэтике».
1404Ы 1. <Требования к слогу — ясность и уместность.> II. Оставим те вещи, как уже рассмотренные, и определим, что достоинство слога — быть ясным; доказательство тому — если речь не доводит до ясности, она не делает своего дела. И еще — не низменным, не преувеличенным, но уместным; скажем, поэтический <слог> хоть и не низменен, однако для прозы неуместен.
2. Ясным его делают имена и глаголы, употребленные в собственном смысле, а свободным от низменного и украшенным — иные имена, о которых сказано в «Поэтике». Удаленность <от привычного> заставляет <слог> казаться торжественнее; ведь люди получают от слога такое же впечатление, как от чужеземцев по
3. сравнению со своими. По этой причине следует делать язык чуждым (ξένην): далекому изумляются, а то, что изумляет, приятно. В стихах многое оказывает такое действие и там отлично подходит; ведь вещи и лица, о которых идет речь <у поэтов>, уж очень далеко отстоят <от обыденной жизни>. В прозе Отих возможностей> гораздо меньше, ибо предмет низменнее; ведь и там несколько неуместно, чтобы изящную речь повел раб, или человек слишком юный, или <говорящий> о слишком
4. ничтожных вещах. И <в поэзии> уместным будет то понижать, то повышать <слог>. Однако делать это надо незаметно, чтобы речь казалась естественной, а не искусственной; первое способствует убедительности, второе — напротив, ибо заставляет подозревать нарочитый умысел, наподобие того, что бывает со смешанными винами. <Разница такая>, как у голоса Феодора в сравнении с голосами других актеров; он казался голосом
5. говорящего, а их голоса — чужими. Хорошо введет в обман тот, кто возьмет для своего сочинения <слова> из обыденной речи; так делает Еврипид, и он первым показал возможность этого. Речь слагается из имен и глаголов, причем имена делятся на виды, рассмотренные в «Поэтике». Из них именами редкими, двукорневыми и сочиненными надо пользоваться нечасто и понемногу — когда, мы скажем ниже, а почему, уже было сказано: они делают <речь> более диковинной, чем это уместно.
6. Имена общеупотребительные, собственные и метафоры одни только полезны для прозаического слога. Это очевидно из того, что лишь ими пользуются все; ведь все разговаривают при посредстве метафор, <либо> при посредстве общеупотребительных и собственных слов. Поэтому ясно, что, если сочинитель работает хорошо, необычное явится так, чтобы <искусство> оказал ось скрыто, а ясность достигнута.
7. И в этом было <у смотрено выше> совершенство риторической речи. Среди имен для софиста полезны омонимы, при помощи которых он лукавит, а для поэта — синонимы. Я говорю о <словах> общеупотреби- 1405а тельных и синонимических, каковы «идти» (τό πορεύεσθοα) и «шагать» (то βαδίζειν): оба слова и общеупотребительны, и синонимичны друг по отношению к другу.
<Метафоры.> Что есть каждый из этих <предметов>, и сколько видов метафор, и то, что метафоры имеют великое значение и в поэзии, и в прозе, рассмотрено, как мы говорили, в нашей
8 «Поэтике». В прозе нужно быть тем внимательнее к этому, что проза имеет меньше вспомогательных средств, чем стихи. И ясностью, и приятностью, и необычностью в наибольшей степени обладает метафора; и ее ни у кого нельзя позаимствовать.
9 Как эпитеты, так и метафоры надо употреблять сообразные, что достигается соответствием (έκ τοΰ άνάλογον). В противном случае Опитет или метафора> покажется нелепым, ибо противоположности больше всего обнаруживаются, если их сопрячь между собою. Нет, надо рассудить, что — старику, если юноше — пурпурный плащ? Ведь <ему> прилична не та же самая одежда.
10 Притом если ты хочешь украсить <предмет речи>, бери метафору от лучшего в том же роде, а если похулить — от худшего. Скажем, назвать попрошайку просящим, а просителя — попрошайничающим, <беря> противоположное в том же роде, поскольку то и другое — действия прошения, и будет то самое, о чем я говорю. Так Ификрат <назвал> Каллия «метрагиртом» вместо «дадуха», а тот возразил, что <Ификрат> не посвящен в таинства, ибо в противном случае именовал бы его не «метрагиртом», но «дадухом»; то и другое касается божества, но второе почетно, а первое позорно. Иной <называет актеров> «Ди- онисовыми льстецами» (διονυσοκόλακες), а сами они называют себя «искусниками»; то и другое — метафоры, но одно марает, а другое — наоборот. Также и разбойники нынче называют себя «взимателями подати». Потому можно сказать о преступившем закон, что он «впал в ошибку», и о впавшем в ошибку, что он «нарушил закон»; или об укравшем — что он «взял» или что он «разграбил». А то, что говорится в «Телефе» Еврипида:
Весла владыка, он явился в Мидию, —
нелепо, ибо «владыка» — не в меру торжественное <слово>;
11 потому обман не удается. Погрешность может заключаться и в самих слогах, когда знаменуемый ими звук неприятен: так, Дионисий Медный называет в своих элегических стихах поэзию «воплем Каллиопы», — ибо то и другое — звуки; но метафора дурна, <ибо взята> от нечленораздельных звуков. Кроме
12 того, именуя предметы безымянные, надо переносить на них <имена> не издали, но от вещей сродных и единообразных,
1405b чтобы по произнесении сродство было ясно, как в известной загадке:
Видел я мужа, огнем прилепившего медь к человеку.
Дело это не имеет имени, но то и другое есть некое приложение; поэтому «ставить банки» названо — «прилепить». И вообще из хорошо составленных загадок можно брать отменные метафоры; ибо метафоры заключают в себе загадку, из чего ясно,
13 что перенос <значения> сделан хорошо. И еще <метафора должна быть взята> от вещей прекрасных; но красота имени, как говорит Ликимний, — либо в его звуках, либо в означаемом, и безобразие точно так же. И еще третье, чем опровергается софистический довод (λόγος): если Брисон утверждал, что сквернословия не существует, коль скоро все равно, сказать ли одно слово или другое с тем же значением, то это ложь; одно слово более общепринято, чем другое, более подходит, более пригодно для того, чтобы представить дело перед глазами. Кроме того, <разные слова> знаменуют одно и то же неодинаково, так что и в этом отношении одно должно считаться прекраснее или безобразнее другого; <пусть> оба слова означают прекрасное или безобразное, но не со стороны его красоты или его безобразности, а если и так, <одно> больше, <другое> меньше. Потому следует брать метафоры от того, что прекрасно по звуку, или по значению, или для зрения, или для любого другого чувства. Есть различие, что сказать; так, «розоперстая Эос», лучше, чем «пурпурноперстая», а «красноперстая» еще хуже. То
14 же с эпитетами: можно образовывать их от дурного или позорного, например, «матереубийца», а можно от благородного, например, «мститель за отца». И Симонид, когда победитель <в беге колесниц, запряженных> мулами, предлагал ему скудную плату, отказывался сочинять, ссылаясь на то, что ему неприятно воспевать «полуослов»; когда же <тот> предложил достаточно, написал:
Привет вам, о быстроногих кобылиц дщери,
хотя они были также дочерями ослов.
15. Кроме того, можно сде- 15 лать то же самое слово уменьшительным. Превращение слова в уменьшительное (υποκορισμός) состоит в том, что оно представляет меньшим и зло, и добро, как шутит Аристофан в «Вавилонянах»: вместо «золота» — «золотишко», вместо «плаща» — «плащишко», вместо «поношения» — «поношеньице», и еще «нездоровьице».
В том и в другом, <в метафорах и в эпитетах>, следует быть осторожным и соблюдать меру.
<Причины вычурности. — Двукорневые слова.> III. Вычурность слога (τά ψυχρά κατά την λέξιν) бывает четвероякой. Во–первых, от двукорневых слов, как у Ликофрона: «многоликое небо высоковершинной земли» и «узкопроходный берег»; и как выражался Горгий — «нищеискусный льстец», «клятвопреступные» и «клятвособлюдшие».
1406a И как Алкидамант — «душа гневом исполняема, лицо же огнецветным являемо»; и «он полагал, что рвение их будет целесовершительно»; он же «убедительность речей» объявил «целесовершительной», а «настил моря» — «темноцветным». Все эти <слова> представляются поэтическими из-за своей двусоставности.
2 <Необычные слова.> Итак, одна причина <вычурности> такова, другая же — пользование необычными словами, как Ли- кофрон <называет> Ксеркса «дивьим мужем», и Скирон <у него> «муж–лиходей», и κέικ Алкидамант <говорит> об «игралищах поэзии» и о «природной продерзости», и о том, кто «воспламенен беспримесной яростью помыслов».
3 Злоупотребление эпитетами.> Третье — пользование пространными, или неуместными, или частыми эпитетами. В поэзии можно назвать молоко «белым», но в прозе такие <эпитеты> либо не совсем уместны, либо, если их чересчур много, они выдают с головой и выставляют на вид — что это поэзия. Однако ими должно пользоваться: это разнообразит привычное и делает слог неожиданным. Но следует держаться умеренности, ибо <чрезмерность> наделает больше зла, чем необработанность речи: второе не очень хорошо, но первое худо. Потому и сочинения Алкидаманта представляются вычурными: он употребляет эпитеты не на приправу, но в еду, до такой степени они у него обильны, пространны и заметны — не «пот», но «влажный пот»; не «на Истмийские игры», но «на всенародные торжества Истмийских игр»; не «законы», но «градовластитель- ные законы»; не «порывом», но «порывистым устремлением души»; не «школа Муз», но «природная школа Муз»; и «хмурая забота души»; и «содетель» не «одобрения», но «всенародного одобрения»; и «попечитель о наслаждении слушателей»; и не «в ветвях» укрыв, но «в ветвях леса»: и не «тело» одевши, но «телесный стыд»; и «вожделение», которое «подобнообраз- но душе» — что есть одновременно и двукорневое слово, и эпитет, так что прямо получается поэзия; и еще в том же роде — «чудовищный преизбыток порочности». Отсюда те, кто изъясняются поэтически, из-за этой неуместности становятся смешны и вычурны, а из-за многословия — и невразумительны: ведь если <говорящий> досаждает <многословием> тому, кто уже понял, он затемняет ясное. Люди прибегают к двукорневым словам, когда для понятия не существует имени и когда слово легко составить, как, например, «времяпрепровождение»; но
1406b если <их> много, это совершенно в поэтическом роде. Поэтому двукорневые слова чрезвычайно полезны для сочинителей дифирамбов, которые стремятся к звучности; а необычные слова — для эпических поэтов, ибо <в них есть> торжественность и дерзновенность; а метафора — для ямбов, которыми, как сказано выше, ныне пользуются трагические поэты.
4 <Метафоры.> В–четвертых, вычурность бывает от метафор. Есть ведь и неуместные метафоры, одни по своей смехотворности — ведь и комедиографы пользуются метафорами, — другие же по излишней торжественности и трагичности. Есть и неясные, если <взяты> издалека, как у Горгия: «дела зелены и в соку»; «ты же посеял постыдный посев и пожал злую жатву», — ведь это не в меру поэтично. И как Алкидамант <называет> философию «крепостью закона», а «Одиссею» «прекрасным зерцалом жизни человеческой», и <говорит>: «не предлагая поэзии никакого подобного игралища». Ведь все это неубедительно по вышеназванной <причине>. И Горгиево <слово> к ласточке, когда <та>, пролетая над ним, сбросила помет, есть наилучший трагический <слог> — ведь он сказал: «стыдно, о Филомела». В самом деле, птице, если она <это> сделает, не стыдно, а девице стыдно. Он ловко ее попрекнул, назвав тем, что она была, а не тем, что она есть.
1 <Сравнения.> IV. И сравнение (είκών) — <своего рода> метафора; они различаются незначительно. Ведь если <кто> скажет об Ахилле («Илиада», XX, 164):
Словно лев, выступал… —
это сравнение, а если «лев выступал» — метафора; поскольку
2 оба храбры, он перенес бы на Ахилла наименование льва. Сравнение полезно и в прозе, но изредка, ибо оно поэтично. Их следует употреблять так же, как метафоры; ведь они и суть
3 метафоры с оговоренным выше различием. Сравнения — это как Андротион сказал про Идриэя, что тот похож на спущенных с цепи собачек; как те кусают любого встречного, так же крут и освобожденный от уз Идриэй. И как Феодамант уподобляет Архидама Евксену, не обученному геометрии, по уравнению: и Евксен будет Архидам со знанием геометрии. И в «Государстве» Платона: что оскорбители трупов подобны собачонкам, которые кусают <брошенные в них> камни и не трогают бросившего. И <сравнение> относительно народа, что он подобен мощному, но глуховатому начальнику корабля. И другое, о стихах поэтов, что они похожи на цветущие юностью <лица> без <настоящей> красоты: как те, отцветая, так и эти, лиша
1407а ясь размера, становятся неузнаваемы. И <сказанное> Перик- лом о самосцах, что они похожи на детей, которые берут свой кусочек, а всё плачут. И о беотийцах, что они подобны дубам: как дубы бывают повалены один другим, так и беотийцы, воюющие между собой. И Демосфеново <сравнение> народа с мающимися морской болезнью на корабле. И то, как Демократ уподобил риторов нянькам, которые сами выпивают лакомство, а младенцев мажут по губам слюной. И как Антисфен сравнил Кефисодота Тонкого с ладаном, который доставляет удовольствие своим исчезновением. Все это можно высказать и в качестве сравнений, и в качестве метафор, так что <обороты>, одобренные как метафоры, очевидно, будут и сравнения-
4 ми, а сравнения, лишась <одного только> слова <«как»> — метафорами. При этом метафора «от соответствия» (έκ του άνάλογον) должна допускать поворот применительно к любому из обоих однородных <предметов>: так, если кубок — «щит Диониса», значит, и щит удобно назвать «кубком Ареса».
1 <Чистота речи и ее условия. 1. Правильное употребление частиц и союзов.> V. Итак, вот из чего слагается речь. Для слога цачало (άρχή) — чистота эллинской речи (τό έλληνίζειν), а это зависит от пяти вещей. Во–первых, от связующих частиц (έν τοις συνδεσμοΐς), ставят ли их в естественной очередности предшествования и следования, чего некоторые <из них> требуют: так, μέν требует δέ и έγώμέν — ό δέ. Притом следует, чтобы аподосис появлялся, пока <протасис> еще свеж в памяти, а не был отделен длинным промежутком, и чтобы прежде необходимого по <синтаксической> связи предложения не вводилось другое; это редко выходит складно. «Я же, когда он мне сказал, потому что Клеон приходил с просьбами и требованиями, отправился, прихватив их». Здесь прежде того, чему предстоит стать аподосисом, вставлено много <слов>. И вот, если промежуток до <слова> «отправился» станет велик, <фраза> неясна.
3 <2. Употребление точных обозначение Итак, первое — хорошо <строить синтаксическук» связь, а второе — выражать <все> собственными обозначениями, а не в общих <словах>.
4 <3. Исключение двусмысленности.> Третье — без двусмысленности! Но это <в том случае>, если добровольно не выбрано противоположное; именно так поступают те, кому нечего сказать, но кто делает вид, будто говорит нечто: и говорят они это в стихах, как, например, Эмпедокл. Многословием околичности морочат голову, и со слушателями творится то же самое, что с народом у гадателей, когда он согласно кивает в ответ их двусмысленным изречениям:
Крез, Галис перешед, расточит великое царство.
Потому и гадатели изъясняются родовыми обозначениями, что в общем меньше <возможности для> ошибки. Ведь при игре в чет и нечет скорее попадешь в точку, сказав «чет» или «нечет», нежели назвав число; потому же сскорее угадаешь>, что <нечто вообще> будет, нежели срок, и потому прорицатели не обозначают срока. Все это похоже одно на другое, и если не иметь в виду вышеназванной цели, такого следует избегать.
5 <4. Соблюдение грамматического рода.> Четвертое — роды имен, как их разделил Протагор: мужской, женский, средний. Нужно и это соблюдать правильно: «она же, пришедшая и переговорившая, отошла».
6 <5. Соблюдение грамматического числа.> Пятое <состоит> в правильном обозначении множественного и единственного числа: «они же, пришедшие, побили меня». <Удобочитаемоеть.> Вообще же написанное должно быть легко для прочтения и для произнесения, что одно и то же. Этого нет ни при обилии вводных предложений, ни там, где нелегко расставить знаки препинания, как у Гераклита. Ведь у Гераклита расставить знаки препинания — великий труд, потому что не ясно, что к чему относится, к последующему или к предыдущему, как, например, в начале его сочинения; ведь он говорит: «к логосу сущёму вечно непонятливы люди», — и неясно, к чему
7 отнести при расстановке знаков препинания слово «вечно». Далее, солецизм получается от утраты соответствия, если с двумя <словами> соединяется третье, которое подходит только к одному из них. Например, «звук» и «цвет»; «увидев» не подходит к обоим, а «уловив» — подходит.
Неясно <будет и в том случае>, если ты, намереваясь многое вставить в середине, не договоришь начала, как например: «я намеревался, переговорив с ним о том-то и том-то, и таким-то образом, и прочая, отправиться», вместо: «я намеревался отправиться, переговорив с ним, и тогда случилось то-то и то-то и таким-то образом».
1 Торжественность слога.> VI. Торжественности слога способствует следующее. <Во–первых>, употреблять описание (λόγος) вместо имени, как-то: не «круг», но «плоскость, <граница> которой равно удалена от центра». Краткости же <способствует>
2 обратное — имя вместо описания. И если <есть> что-нибудь безобразное или непристойное: если безобразное в описании — <надо> употребить имя, если же в имени — описание.
3 <Во–вторых>, изъясняться метафорами и эпитетами, но остерегаясь поэтичности.
4 <В–третьих>, делать из единственного числа множественное, как поступают поэты; когда гавань одна, они все равно говорят:
…К ахейским устремляясь гаваням.
И еще:
Таблички складни вижу многосложные.
5 <В–четвертых>, не соединять <два имени в одном падеже одним артиклем>, но каждому <слову придавать> свой <артикль> — «της γυναικός της ημετέρας»; если же <нужно> кратко,
6 тогда напротив — «της ημετέρας γυναικός». И <в–пятых>, употреблять в речи союзы; если же кратко, то <обходиться> без союзов, хотя не без связи. Например: <или> «придя и сказав»,
7 <или> «придя, я сказал». <В–шестых>, полезен также <прием> Антимаха — описывать через отрицания, как последний делает по отношению к Тевмессу:
Малый холм, овеваем ветрами…
Ведь это можно распространять до бесконечности, применяя и к хорошим, и к дурным <свойствам>, которые у <данного предмета> отсутствуют, в каждом случае сообразно с тем, что полезно. Отсюда поэты почерпывают также имена — «бесструнный» и «безлирный» напев; ведь они же черпают из отрицания. Это пригодно и для метафор, называемых «по соответствию», например, если назвать трубу — «безлирный напев».
1 <Уместность.> VII. Слог будет уместен, если выразит собою страсть и характер (εάν ή παθητική τε και ήθική) и будет
2 соответствовать предмету (τοις υποκειμένοις πράγμασιν). Соответствие бывает, если о вещах важных не говорится как попало, а об обыденных — торжественно, и когда к обыденному имени не прибавляется украшение; в противном случае <все> представляется комедией, как у Клеофонта, — ведь он говорит кое-что подобно тому, как если бы сказал: «досточтимая смоква».
3 Страсть выражается, если предмет — обида, слогом рассерженного; если нечестивые и срамные дела — <слогом> негодующего и страшащегося выговорить; если похвальные <предметы> —
4 <надо говорить> восхищенно, если жалостные — униженно, и так в каждом деле. Подобающий слог прибавляет убедительности самому делу; душа дается в обман, заключая, что говорящий правдив, потому что при таких обстоятельствах <каждый> будет испытывать то же самое; потому люди думают, что дело обстоит так, что бы ни было на самом деле, и слушатель всегда сочувствует (συνομοιοπαθεΐ) говорящему со страстью, даже если тот не говорит ничего сдельного. Потому многие <ораторы>
5 шумом доводят слушателей до исступления.
6 Обнаружение дела посредством знаков также выявляет характер (ήθιχη δε αΰτή έκ των σημείων δεΐξις), коль скоро оно соответствует каждому роду и состоянию <людей>. Говоря «род», я имею в виду <разницу> в возрасте, как-то: между мальчиком, мужем и старцем, и <разницу> между лакедемонянином и фес- салийцем; <говоря> «состояния», — то, сообразно чему чья- либо жизнь имеет такой, <а не иной> образ; ибо не каждое 7 состояние дает такой образ жизни. Потому если кто будет говорить слова, сообразные состоянию, он представит характер (τό ήθος); ибо человек образованный будет говорить не то и не так, как деревенщина.
7 На слушателей действует и то, чем до отвращения часто пользуются сочинители речей (οί λογόγραφοι): «Кто же этого не знает?», «Все знают!» Слушатель в смущении соглашается, чтобы разделить суждение «всех остальных».
8 1408Ь Все эти виды в равной степени могут быть употреблены кстати
9 и некстати. Лекарство против любого нарушения меры общеизвестно: следует самому укорить себя, — представляется, что <говоримое> правдиво, коль скоро говорящий отдает отчет в
10 том, что делает. Далее, не следует применять все эти соответствия (τό άνάλογον) сразу, дабы ввести слушателя в обман. Я хочу сказать, что если слова жестки <по звучании», не надо <произносить их жестким> голосом, с <жестким> выражением лица и прочим в том же роде; в противном случае обнаружится, что каждое из этих средств <искусственно>. Если же одно есть, а другого нет, <расчет> останется скрытым. Впрочем, если мягкие <слова> выговариваются жестким <голосом>, а жесткие мягким, это неубедительно.
11 Что до имен двукорневых, до изобильных эпитетов и чуждых слов, они наилучше подходят говорящему со страстью; разгневанному простительно назвать беду «безмерной, как небо» или «чудовищной». И еще Ото допустимо, когда <оратор> уже овладел своими слушателями и влил в них неистовство похвалами или порицаниями, выражениями гнева или выражениями любви, как это делает Исократ под конец своего «Панегирика»: «слава и молва» и «те, кто дерзнули». Люди говорят такое, впав в неистовство, а потому, разумеется, принимают это, находясь в сходном состоянии. Для поэзии это пригодно, ибо поэзия — дело неистовства. <Можно применить такой язык> либо подобным образом, либо с иронией, как делал Горгий или каковы примеры этого в «Федре».
1 <Ритм.> VIII. Облик слога (τό σχήμα της λέξεως) не должен быть ни метрическим, ни лишенным ритма. Первое неубедительно, ибо представляется искусственным, и притом отвлекает, ибо заставляет следить за возвращениями одних и тех же <повышений и понижений>. Это как дети подхватывают вопрос глашатаев: «кого изберет покровителем отпускаемый на волю?» —
2 «Клеона!» С другой стороны, то, что лишено ритма, лишено предела, а предел нужно внести, хотя и не при посредстве метра, ибо все, лишенное предела, неприятно и невразумительно. Получает же все предел от числа; но по отношению к облику слога число — это ритм, подразделения которого суть метры.
3 Поэтому надо, чтобы речь имела ритм, но не имела метра; ведь <иначе> это будут стихи. Ритм же не должен быть точным; это получится, если он будет <доведен> не далее <определенной меры>.
4 Из ритмов героический важен и удален от гармонии разговорной речи (λεκτικής αρμονίας), между тем как ямб и есть обиходный слог, почему из всех метров говорящие чаще всего произносят ямбические <стопы>. Но следует иногда быть торжест-
1409а венности и восторгу (έκστήσαι). Трохей чересчур близок <такту> кордака; на тетраметрах это очевидно: ведь тетраметры — скачущий ритм. Остается пэан, которым <риторы> пользовались со времени Фрасимаха, но не могли сказать, что же это такое. А пэан — это третий <ритм>, примыкающий к вышеназванным: он — как три к двум, а из тех второй — один к одному, а первый — два к одному. Посредствующее между этими двумя отношениями будет полтора к одному — а это и есть
5 пэан. Прочие <ритмы> можно миновать как по упомянутой причине, так и потому, что они метричны (μετρικοί); пэан же следует принять, так как среди перечисленных ритмов он один не являет собой метра и потому в наибольшей степени скрыт. Нынче одним и тем же пэаном пользуются и в начале, и в конце <фразы, периода и т. д.>; нужно, однако, чтобы конец был
6 отличен от начала. Есть два пэана, противоположные один другому, из которых один подходит для начала, соответственно чему и бывает употребляем: это тот, у которого в начале долгий <слог>, а затем три кратких:
Ликией ли, Делосом ли выпестован… —
и еще:
Золото кудрей твоих, о Зевсов сын…
Противоположен этому другой, у которого в начале три кратких, а в конце — долгий:
Омрачена и Океана широта…
Это образует завершение: потому что краткий слог по своей неполноте образует обрубок. Нет, надо кончать долгим <слогом>, и конец должен быть ясен не благодаря писцу и помете, но из самого ритма.
7 Итак, мы сказали о том, что слог должен быть благоритмич- ным (εύρυθμον), а не лишенным ритма, и о том, какие ритмы и при каких условиях делают <его> благоритмичным.
1 <Слог нанизывающий и слог сплетенный.> IX. По необходимости слог может быть либо нанизывающим (ειρομένην) и непрерывным благодаря союзам, каковы зачины дифирамбов, или сплетенным (κατεστραμμένην) и подобным сстрофам и>
2 антистрофам старых поэтов.
3 Нанизывающий слог — старинный: «Это изложение истории Геродота Фурийского…» Прежде им пользовались все, нынче — немногие. Я называю его «нанизывающим», потому что он сам в себе не имеет никакого конца, пока не окончится излагаемый предмет (τό πράγμα). Он неприятен из- за отсутствия предела; ведь всем хочется видеть конец. Потому <бегуны> задыхаются и слабеют у цели, между тем как до того они не изнемогали, видя перед собой предел. Таков слог нанизывающий, а слог сплетенный <состоит> из периодов. Периодом я называю отрывок (λέξιν), имеющий в себе самом свое на-
1409b чало и свой конец, и хорошо обозримую протяженность. Такой <отрывок> приятен и легок для усвоения (εύμαθής); приятен потому, что являет собой противоположность беспредельному, и слушателю кажется, что он все время получает нечто завершенное — ведь неприятно ничего не видеть перед собой и не достигать никакой <цели>; легок же он для усвоения потому, что хорошо запоминается, а это <в свою очередь> потому, что <построенный> по периодам слог несет в себе число — то, что из всего <сущего> запоминается лучше всего. Потому и стихи все запоминают лучше, чем прозу: ведь стихотворная мера есть
4 число. Нужно также, чтобы мысль (διάνοια) завершалась вместе с периодом, а не разрубалась, как в ямбах Софокла:
Вот Калидон, земля Пелопоннесская…
Ведь рассеченное можно понять наоборот, как приведенные слова, будто Калидон — Пелопоннесская земля.
5 Период либо из колонов, либо прост (άθελής). Тот, который состоит из колонов, являет собой речение завершенное, расчлененное и произносимое на одном дыхании, не быв рассечено, как приведенный период, но целиком. Колон — один из двух его членов. Простым же я называю <период, состоящий> из
6 одного колона. Ни колонам, ни периодам не следует быть ни куцыми, ни протяженными. Ведь краткость часто заставляет слушателя спотыкаться: в самом деле, когда тот еще устремляется вперед, к той мере, предел которой в нем самом, но бывает насильственно остановлен, он неизбежно спотыкается о препятствие. Длинноты же вынуждают его отставать, вроде того, как при прогулке дальше назначенных пределов отстают спутники. Подобно этому слишком длинный период становится <самостоятельной> речью и уподобляется зачину <дифирамба>. Получается то, из-за чего Демокрит Хиосский осмеял Ме- ланиппида, сочинившего вместо <строф и> антистроф зачины:
Горе себе причиняет, кто горе другому замыслил,
И протяженный зачин — сочинившему горшее горе.
Это приложимо и к тем, кто сочиняет протяженные колоны. А у тех, у кого колоны слишком кратки, не получается период, и слушатель летит кувырком.
7 Период из <нескольких> колонов бывает либо разделительный, либо противоположительный. Разделительный — это как <следующее>: «Часто дивился я созвавшим народ на игры и учредившим атлетические состязания». Противоположительный же — где в каждом из двух колонов противоположность сопряжена с противоположностью или обе противоположности введены одним и тем же <словом>, как-то: «Они оказали услугу и
1410а тем, кто дома остался, и тем, кто за ними устремился: первым они довольно земли в отчизне оставили, вторым же больше земли, чем в отчизне, прибавили». Противоположности: «остались» — «устремились», «довольно» — «больше». «И те, кто в деньгах нуждается, и те, кто ими воспользоваться желает»: использование противополагается приобретению. И еще: «При таких обстоятельствах часто случается, что и разумные терпят урон, и неразумные имеют успех»; «Тотчас почестей удостоились, а немного позднее над морем власть получили»; «Плыть через материк и шествовать через море, Геллеспонт замостив, Афон же прорыв»; «Граждан по природе лишать гражданства по закону»; «Одни прискорбно погибли, другие же постыдно бежали»; «В домашней жизни пользоваться рабами–варварами, но в общественной жизни терпеть порабощение многих союзников»; «Либо обладать при жизни, либо завещать после смерти». Или то, что сказал некто в судилище о Пифолае и Ликофроне: «У себя дома они вас продавали, а здесь они вас
8 покупают». Вот это производит описанное выше действие. Речение такое приятно, ибо противоположности легче всего распознать, особенно же хорошо распознаются они одна через другую; и еще потому, что это похоже на силлогизм, ибо опровержение <через силлогизм> (έλεγχος) и есть сопряжение противоположностей.
9 Вот, стало быть, что такое противоположение; а приравнивание (παρίσωσις) — это когда колоны равны, уподобление (παρομοίωσις) же — когда оба колона имеют подобные крайниечасти. Это необходимо должно быть либо в начале, либо в конце. В начале это всегда слова, в конце же — конечные слоги, будь то формы одного и того же имени, будь то формы одного и того же имени, будь то одно и то же имя. В начале, как это: άγρον γαρ έλαβεν άργόν παρ* αύτοΰ или: δωρητοί τ' έπέλοντο παράρρητοί τ1 έπέεσσιν. А в конце: φήθησαν αύτόν παιδίον τετοκέναι, άλλ1 αύτοΰ αίτιον γεγονέναι <или еще>: έν πλείσταις δέ φροντίσι και έν έλαχίσταις έλπίσιν. <Различный> падеж одного и того же <слова>: άξιος δέ σταθηναι χαλκούς, ούκ άξιος ών χαλκού. Одно и то же слово: σύ δ1 αύτόν και ζώντα έλεγες κακώς καΐ νύν γράφεις κακώς. <Сходство> в <одном> слоге: τί άν έπαθες δεινόν, εϊ άνδρ' είδες άργον. Одна и та же 1410b <фраза> может соединять все это и быть сразу противоположением, приравниванием и гомеотелевтом. <Возможные> начала
10 периодов примерно перечислены в «Феодектее». Бывают и ложные противоположения, как в стихах Эпихарма:
То у них гостил, бывало, то, напротив, в доме их.
1. <Средства добиваться изящества и снискивать одобрением X. Выяснив предыдущее, следует сказать и о том, откуда речь приобретает остроумие и привлекательность. Добиваться этого — дело даровитого или опытного <ритора>, а разъяснить, в чем тут суть, дело нашего изыскания (μέθοδος).
2. Итак, назовем <приемы> и перечислим их, а начнем вот с чего: учиться легко — по природе приятно всякому, а слова нечто означают, так что среди слов приятнее всего те, которые дают нам чему-то научиться. Но редкие слова невразумительны, а общеупотребительные мы <и так> знаем, а потому метафора в наибольшей степени достигает желаемого.
<Метафора.> Так, если поэт называет старость «стеблем, остающимся после жатвы», то он учит и сообщает знание при помощи родового понятия (δια του γένους), ибо то и другое — <нечто> отцветшее. То же самое <действие> производят сравнения <у> поэтов, и потому если они хорошо <выбраны>, то кажутся изящными. Сравнение, как было сказано раньше, та же метафора, но отличающаяся присоединением <вводящего слова>; поэтому она не так приятна, ибо длиннее; и она не утверждает, что «то есть это», и <наш> ум этого не ищет. Итак, по необходимости будут изящны такой слог и такие энтимемы, которые быстро сообщают нам значение. Потому поверхностные энтимемы не в чести — мы называем «поверхностными» те Онти- мемы>, которые для всякого очевидны и в которых ничего не надо исследовать, — но <не в чести> и такие энтимемы, которые, быв высказаны, остаются непонятными; <нравятся> те, высказывание которых сопровождается появлением познания, даже если Отого познания> прежде не было, и те, относительно которых мысль немного отстает. Ведь в последних случаях как бы <приобретается> познание, а в первых — нет.
3. Итак, подобные энтимемы привлекательны ради высказанной в них мысли; а ради слога и внешнего облика — те, в которых употребляются противоположения, как-то: «считая всеобщий мир всех прочих войной, объявленной особо им». Противополатается «война» «миру». <Энтимема может воздействовать> и отдельными словами, если в ней заключается метафора, и притом не слишком далекая, ибо ее смысл трудно понять, ни слишком поверхностная, ибо она не производит впечатления; также такая, которая представляет <вещь> перед нашими глазами; ибо <слушатель> должен видеть совершающееся, а не предстоящее.
Итак, нужно стремиться к этим трем <вещам>: метафоре, противоположению, осуществленности (ενέργεια).
4. Из четырех родов метафор наиболее привлекательны основанные на соответствии (κατ* αναλογία ν): так, Перикл говорил, что молодежь, погибшая на войне, исчезла из города подобно тому, как если бы кто-нибудь изъял из годового круга весну; и Лептин о лакедемонянах — что не допустит-де, чтобы Эллада окривела на один глаз. Когда Харет спешил сдать отчет по Олинф- ской войне, Кефисодот с возмущением сказал, что тот тщится сдать отчет с ножом к горлу народа. И увещевая афинян выступить на Эвбею, он сказал, что им нужно идти, прихватив вместо провианта Мильтиадову псефизму. Ификрат, осуждая договор Афин с Эпидавром и прибрежьем, приговаривал, что афиняне сами отняли у себя провиант на случай войны. Пифолай <называл> Паралу «палицей народа» и Сеет «решетом Пирея».
Перикл требовал убрать Эгину как «бельмо на глазу Пирея». Мэрокл заявил, что он ничуть не хуже названного им <одного> из порядочных граждан: тот-де подлец за тридцатитрехпроцентную прибыль, а он — за десятипроцентную. То же — ямб Анак- сандрида о дочерях, запаздывавших с замужеством:
Мои девицы брачный день просрочили, —
и <острота> Полиевкта о некоем паралитике Спевсиппе, что тот не может вести себя спокойно, хотя судьба сковала его недугом с пятью колодками. Кефисодот называл триеры расписными мельницами, а Пёс харчевни — аттическими фидития- ми. Эсион <гов0рил>, что государство выплеснули в Сицилию: это метафора, и притом наглядная. «Так что Эллада возопила»: и это в некотором роде метафора, и тоже наглядная. И еще как Кефисодот увещевал, как бы не происходило многих «стечений» <народа>; у Исократа <употреблено то же слово> применительно к сходящимся на празднества. И как в «Надгробном слове» <сказано>, что Элладе прилично было бы обрезать волосы в скорби по жертвам Саламинской битвы, ибо вместе с их доблестью была погребена свобода. Если бы он <только> сказал, что прилично плакать о погребенной доблести, это метафора и притом наглядная, а в словах «вместе с доблестью — свобода» заключено некое противоположение. И как выразился 1411b Ификрат: «путь моих речей лежит посреди Харетовых деяний»; метафора по соответствию, и <слово> «посреди» сообщает наглядность. И сказать <так>: «звать опасности на помощь про- тиву опасностей», — наглядная метафора. И Ликолеонт в защиту Хабрия: «неужели вы не посовеститесь просящей за него медной статуи?» — это метафора ко времени, но не навсегда, хотя и наглядна: когда он в опасности, за него просит статуя, <ставшее> одушевленным неодушевленное знаменование гражданских подвигов. И еще «всеми способами стараясь сделаться малодушнее» — ибо «заботиться» предполагает возрастание чего- либо. Или, что божество «зажгло внутри души свет ума»: то и другое <то есть свет и ум> проясняет нечто. «Мы не прекращаем войны, а откладываем их на будущее»: ведь то и другое <лишь> на срок, и откладывание, и такой мир. Или сказать, что мирный договор есть трофей более прекрасный, нежели <те трофеи, что бывают> от побед над врагами: последние обязаны милости и единовременной удаче, первые же — всей войне <в целом>. Ведь то и другое — знаки победы. И еще: «государства платят великую пеню людскому порицанию»; ведь пеня — это некий урон, причиняемый по справедливости.
1 <Наглядность.> XI. О том, что остроумие создается из метафоры по соответствию и из наглядности, мы, стало быть, сказали; теперь надо объяснить, что значит «наглядность», и как она
2 достигается. Я утверждаю, что наглядны те <выражения>, которые означают <вещи> в действии (ενεργούντα). Так, назвать хорошего человека «четырехугольником» — метафора, ибо то и другое совершенно, однако <метафора эта> не означает
действия (ένέργειαν); а вот «он цветет своею силою» — действие, и «тебя, пасущегося на просторе» — действие, и <в словах>
Тут эллины взметнули ноги быстрые… — «взметнули» — и действие, и метафора. И Гомер часто пользовался метафорой, одушевляя неодушевленное. Во всех Отих случаях> введение действия имеет успех как в словах:
Вниз по горе на равнину катился обманчивый камень, — и еще:
…И отпрянула быстро пернатая злая, —
и еще:
…И прянула стрелка
Остроконечная, жадная в сонмы влететь сопротивных, — и еще:
В землю вонзяся, стояли, насытиться алчные телом, — и еще:
…Сквозь перси влетело бурное жало. Во всех этих <случаях> <вещи> представлены в действии через то, что они одушевлены: ведь быть «обманчивым» или «влетать» и прочее — действие. Он <то есть Гомер> ввел это метафорой по соответствию: каков камень по отношению к Сисифу,
4 таков обманщик по отношению к обманываемому. Это он делает и в своих <всеми> одобряемых сравнениях относительно неодушевленных <вещей>:
Горы клокочущих волн по немолчношумящей пучине, Грозно нависнувших, пенных, одни, а за ними другие…
Здесь он представляет все движущимся и живым, а действие — это движение.
5 Метафоры нужно брать, как уже было сказано, от <вещей> сродных, но не явно похожих, как и в философии спочитается проявлением> проницательности видеть сходство и в далеких друг от друга <вещах>, вроде того как Архит сказал, что судья и алтарь — одно и то же: и к тому и к другому прибегает <все> терпящее обиду, так же можно сказать, что якорь и кремафра — одно и то же: они и впрямь в чем-то одно и то же, однако различны в отношении «сверху» и «снизу»; <так> и ссказать, что> «государства сравнялись между собой», <значит приравнять вещи>, сильно различающиеся местоположением и могуществом.
6 Остроумие (τά αστεία) по большей части также достигается ячерез метафору и благодаря обману. <Слушателк» заметнее, что он <чему-то> научился, когда это противоположно <его ожиданиям>, и его ум (ή ψυχή) словно бы говорит: «Как это верно! А я-то думал!..» Изречения тем и бывают остроумны, что говорят не то, что сказано, — таково изречение Стесихора, что цикады будут услаждать себя песнями, сидя на земле. И хорошие загадки обязаны своей приятностью тому же: это научение, и это метафора. И то, что Феодор называет «новизной» речи — то же: она возникает, когда <мысль> парадоксальна (παράδοξον) и сказанное не соответствует ожиданию (την έμπροσθεν δόξαν), а <относится к нему так>, κέικ в смехотворных <стихах> подмененные слова. Отсюда и действие шуток, основанных на изменении одной буквы: они обманывают ожидание. То же в стихах — не так, как ждал слушатель.
Так, он ступал, и была под пятой опора нарывов, — а он-то думал «сандалий»! Но такое должно быть ясно тотчас, как сказано. <Шутки же с заменой одной> буквы достигают того, что <человек> говорит не то, что он говорит, а то, куда повернет его слово. Так в <остроте> Феодора про кифареда Никона: έθραττεισε — он делает вид, будто говорит: θράττει σε — и вводит в обман, потому что говорит другое. <Но> это приятно <только> для осведомленного, ибо кто не понимает, что <Ни- 1412b кон> — фракиец, тот не найдет здесь никакого остроумия. То
7 же самое — и βούλει αύτόν πέρσοα. Но то и другое надо употреблять уместно. Сюда же относятся и такие остроты, когда, например, говорится, что «если под началом Афин было море, это не стало для них началом бед», а выгодой; или, <наоборот>, как Исократ сказал, что «начало» <над морем> было для города «началом бед». В обоих случаях сказанное неожиданно, но оказывается верным. Невелика мудрость назвать «начало» — «началом», однако оно молвится два раза не в одном <смысле,
8 но то так, то эдак>, да и в первом случае отрицаемое — не то же самое <«начало»>. Во всех этих <случаях> выходит хорох|·7 «Когда, например, говорится» — игра со словом άρχή («начальство» и «начало»). — «Исократ сказал» — «Филипп», 61; «Панегирик», 119; «О мире», 101.
шо, если слово удобно для омонимии или метафоры. Например, Άνάσχετος не άνάσχετος — <здесь> отрицается омонимия, но <для шутки> это удобно, если <человек с таким именем действительно> неприятен. И еще: ссказать —>
Не должно, чтобы странник слишком странен был. «Слишком странен» — все равно, что <сказать>: «страннику не во всем должно быть чужаком», ибо во втором случае «странный» — это «чуждый». Сюда же относится снискавшее похвалы <изречение> Анаксандрида:
Прекрасно умереть, не заслуживши смерть. Это все равно, что сказать: «достойно умереть, не будучи достойным умереть», то есть не делая дел, достойных смерти. Во 9 всех этих случаях род слога один и тот же; но чем короче сказанное и чем <отчетливее> противоположение, тем больше успех. Причина та, что от противоположения мы учимся большему, а от краткости — быстрее.
10 При этом говоримое должно быть рассчитано на слушателя и сказано правильно, то есть верно и притом неожиданно. Это не всегда совпадает. Например, «должно умереть, не сделав ничего дурного», — <верно>, но не остроумно. «Достойному следует жениться на достойной» — тоже не остроумно. <Остроумие возникает тогда>, когда есть то и другое: «умереть достойно, не будучи достойным умереть». Чем больше этого, тем остроумнее покажется <речь>, например, если слова будут <употреблены как> метафоры, и <притом> метафоры определенного рода, с противоположениями, приравниваниями и такие, что показывают действие.
11 Сравнения, имеющие успех, — некоторым образом те же метафоры, как было сказано и выше. В самом деле, они всегда слагаются из двух составных, как и метафоры по соответствию. Так, мы скажем, что щит — чаша Ареса, а лук — бесструнная форминга: это будет не простая <метафора>; а если сказать,
12 что лук — форминга, а щит — чаша, то простая. Точно так же строят и сравнения, например, флейтиста — с обезьяной, или гаснущего светильника — с близоруким человеком <потому что
13 оба мигают>. Сравнение хорошо, когда оно — метафора; можно сравнить щит с чашей Ареса, и развалины — с «лохмотьями дома», и назвать Никерата «Филоктетом, который уязвлен укусом Пратиса»; это сравнение придумал Фрасимах, видя Никерата, запустившего волосы и одежду после поражения в состязании рапсодов, где его соперником был Пратис. В таких вещах поэты терпят наибольший провал, если <сравнение> нехорошо, а если хорошо, то имеют наибольший успех. Например:
Как сельдерея стебли, кривы голени.
Как Филаммон, дерется со своим мешком.
Все это — сравнения; а про то, что сравнения — это метафоры, говорилось неоднократно.
14 Пословицы тоже метафоры, «от вида к виду»; так, если это введет к себе что-либо, ожидая себе добра, но потерпит урон, он говорит: «как у карпафийца с зайцем», — потому что оба одинаково потерпели. Итак, мы более или менее разъяснили причину, откуда и почему возникает остроумная речь.
15 Пользующиеся успехом гиперболы — тоже метафоры, как про человека с подбитым глазом: «я готов был принять его за корзину тутовых ягод», — ведь подбитый глаз багров, но количество <багрового> преувеличено. Выражение вроде «это, как то и то» разнится с гиперболой <лишь> по словесному выражению (τη λέξει).
Как Филаммон, дерется со своим мешком, — «ты подумал бы, что это Филаммон дерется со своим мешком».
Как сельдерея стебли, кривы голени, —
«ты подумал бы, что у него не голени, а стебли сельдерея, так
16 они кривы». В гиперболах есть нечто мальчишеское; они выражают неистовство. Потому и употребляют их больше всего люди во гневе:
Или хоть столько давал бы мне, сколько песку здесь и праху… Дщери супругой себе не возьму от Атреева сына, Если красою она со златой Афродитою спорит, Если искусством работ светлоокой Афине подобна…
il3b Этим больше всего пользуются аттические ораторы. По <названной> причине, человеку преклонных лет не пристало говорить такое.
1 <Основные виды слога.> XII. Не надо забывать, что каждому роду <красноречия> соответствует особый слог. Один слог для речи письменной, другой для речи в споре, один для речи в собрании, другой для речи в суде. Необходимо владеть обоими. Знание второго <то есть слога, приличного для речи в споре> означает <просто> умение чисто говорить по–гречески; знание первого означает свободу от опасности замолчать, когда нужно 2 изложить нечто другим, как это случается с теми, кто не умеет сочинять. Слог письменной речи — самый тщательный, слог речи в споре дает больше всего места актерской игре (ΰποκριτικωτάτη). У последнего два вида; один передает характер, другой — страсть (ή μεν γαρ ηθική ή δε παθητική). Потому актеры охотятся за такими пьесами, а сочинители <пьес> — за такими актерами. С другой стороны, <поэты>, пишущие для чтения (άναγνωστικοι), не сходят с рук у читателя, как Хэремон, который тщателен, словно логограф, а из сочинителей дифирамбов — Ликимний. Если сравнивать тех и других, речи мастеров письменного слога (των γραφικών) в устном споре кажутся сухими, а речи ораторов, хорошие при произнесении, простоваты при чтении, и причина этому та, что они приспособлены
3 для устного спора. Потому же <приемы, рассчитанные> на актерское произнесение (τά υποκριτικά) без такого произнесения не оказывают действия и кажутся глупыми. Так, бессоюзия (τά ασύνδετα) и многократные повторы по справедливости отвергаются в письменном слоге, но в устном споре <к ним> прибегают <настоящие> ораторы, ибо они дают место актерской игре. Повторяя одно и то же, по необходимости приходится варьировать <интонацию>, а это открывает дорогу игре. «Вот он перед вами, этот вор, вот он, этот обманщик, вот он, под конец замысливший предательство!» Так играл актер Филемон, произнося в «Безумии старцев» Анаксандрида <слова> «Радаманф и Паламед!», а в прологе к «Благочестивцам» <слово> «я». Ведь если кто в таком месте не будет вести актерской игры, он будет
4 <словно> бревно волочить. То же с бессоюзиями: «пришел, встретил, попросил». Необходимо разыгрывать <это>, а не произносить однообразно, с одним выражением (ήθει) и одной интонацией (τόνφ). И еще одна особенность присуща бессоюзию: многое сказано как бы сразу. Ведь союзы делают из многого единое, и когда они устранены, ясно, что, напротив, из единого будет многое. Значит, <бессоюзие> несет с собой усиление (αϋξησιν). «Пришел, встретил, попросил»: слушателю кажется, что он обозревает много <действий>. К тому же стремится и Гомер в стихах:
…Нирей устремлялся с тремя кораблями из Сима, Юный Нирей, от… Аглаи рожденный, Оный Нирей, прекраснейший всех…
Ведь о ком сказано многое, тот по необходимости многократно упомянут; если же <кто упомянут> многократно, кажется, что и <сказано о нем> многое. Так <Гомер> посредством паралогизма возвеличил <Нирея> и увековечил <его имя>, нигде больше ни разу не упомянув его.
5 Слог, пригодный для речи перед народным собранием, в точности похож на светотень в живописи: чем больше толпа, тем отдаленнее точка зрения, почему в том и другом случае тщательная отделка излишня и даже воспринимается как недостаток. Слог, пригодный для речи перед судом, более тщателен, в особенности, <когда речь произносится перед> одним судьей: тут риторические <уловки> имеют меньше всего силы, и в наибольшей степени видно, что относится к делу, а что нет, и препирательства отсутствуют, так что суждение чисто. Поэтому не все риторы с равным успехом отличаются во всех этих <задачах>: где больше места для актерства, там менее всего тщательности, а так бывает всегда, когда <нужен> голос, и особенно громкий голос.
6 Эпидейктический слог наилучше пригоден для письменного сочинения (γραφικωτάτη), и предназначается он для прочтения; за ним следует судебный.
Вводить дальнейшие разделения слога, что он-де должен быть «сладостным» и «великолепным», излишне. А почему бы, например, не «воздержанным», или «благородным», или какая там еще есть нравственная добродетель? Что сладостным ему помогут стать перечисленные выше <условия>, очевидно, если мы правильно определили достоинство слога. Для чего же он должен быть ясен и не низменен, но пристоен? А если он болтлив или, напротив, сжат, он неясен. Значит, уместна середина. Сладостным его сделает хорошее смешение всего вышеназванного — привычного и чуждого, и ритма, и убедительности, <возникающей> из уместности. Итак, о слоге мы сказали, притом как о всяком вообще, так и о каждом роде в отдельности. Осталось сказать о построении.
1 <Построение.> XIII. У речи две части: необходимо сначала назвать суть спорного дела, а затем доказывать. Невозможно, в самом деле, заявить <нечто> и не доказывать, или доказывать, не сделав предварительного заявления — ведь доказывающий доказывает нечто, а делающий предварительное заявление делает
2 его с оглядкой на <последующее> доказательство. Первое называется «предложение» (πρόθεσις), второе —«доказательство» (πίστις), подобно тому, как можно было бы разделить диалектку на «задачу» (πρόβλημα) и «решение» (άπόδειξις). А то принятое
3 теперь деление смехотворно. Ведь повествование свойственно только судебной речи; как в <речи> эпидейктической или произносимой в народном собрании может быть то, что называется повествованием, или опровержением противника, или заклю-
1414b чение к доказательству? Вступление, противопоставление и краткое повторение сказанного (έπάνοδος) возникают в речах перед народным собранием лишь тогда, когда налицо оспаривание. Конечно, обвинение и защита часты в <речи перед народным собранием>, но <они присутствуют там> не постольку, поскольку речь относится к совещательному роду. Опять-таки заключение не обязательно даже для судебной речи, если речь коротка или суть дела хорошо запоминается. Ведь преимущество <заключения> — что оно сокращает протяженное. Итак, необходимые части — это предложение и доказательство. Они присущи <всем вообще речам>, а большинство <речей имеет следующее деление>: вступление — предложение — доказательство — заключение. Опровержение противника входит <в разряд> доказательств, а противопоставление — возвеличение своих<доводов>, а потому часть доказательства; ведь тот, кто это
5 производит, нечто доказывает. Напротив, вступление и заключение напоминают. Если мы примем такое деление, Ото будет примерно то>, что делали ученики Феодора, <и у нас будут разделы>: повествование, отличное от него повествование (έπι- διήγησις), предповествование, а также опровержение и по–опро- вержение. Но следует вводить новое обозначение только для <особого> вида. В противном случае обозначение получается пустым и вздорным, как делает Ликимний в своей «Риторике», вводя слова: «попутноеплавание», «отклонение», «разветвления».
1 <Вступление.> XIV. Вступление — это начало речи, как пролог у стихов и прелюдия при игре на флейте. То, и другое, и третье — начало, как бы приуготовляющее путь последующему. Прелюдия подобна вступлению в эпидейктическом <роде>: как флейтисты наперед собирают в зачине все, что могут хорошо сыграть, так надо сочинять и <вступление для> эпидейкти- ческих <речей> — тотчас изложить и собрать то, что намерен <развивать>. Это все и делают. Пример — вступление к «Елене» Исократа; ведь нет ничего общего между эристикой и Еленой. С другой стороны, если сделать отступление, это тоже подойдет, лишь бы не вся речь была однообразной. Вступления
2 эпидейктических <речей> могут включать похвалу (έπαινος) и хулу (ψόγος): так поступает Горгий в «Олимпийской речи»: «Вы заслуживаете дани восхищения от многих, о эллины!» — он хвалит тех, кто установил <всеэллинские> празднества; Исократ же, напротив, хулит <их за то>, что телесную доблесть они почтили дарами, а за силу ума не установили никакой награды. <Может оно включать> и увещание, например, что надо почитать честных <людей>, и потому-де сам он хвалит Арис-
1415а тида; — или тех, кто «бесславен, но не лишен достоинств, и в доблести своей безвестен», как Александр, сын Приама. Тот,
3 <кто говорит так,> увещевает. <Другая топика берется> от судебных вступлений, то есть от <обращений> к слушателю с просьбой о снисхождении, когда <предмет речи> парадоксальный, или трудный, или избитый, как ото делает> Хэрил:
Ныне у каждого поля — владелец…
Вот, стало быть, из чего составляются вступления к эпидейк- тическим речам: из хвалы, из хулы, из уговаривания (έκ προτροπής), из отговаривания (έκ αποτροπής), из <обращения> к слушателю. Зачин должен быть либо чужд <самой> речи, либо сроден ей.
4 Что касается вступлений к судебным речам, важно понять, что сила у них такая же, как у прологов к драматическим сочинениям и у вступлений к эпическим. Напротив, <вступления> к дифирамбам подобны <вступлениям> эпидейктическим:
5 Но в драме и в эпосе <вступление> — это изъяснение предмета последующей> речи, чтобы <слушатели> заранее знали, о чем речь, и чтобы мысль их не блуждала в недоумении; ведь неопределенное озадачивает. Тот, кто дает <нам> как бы в руки начало, помогает нам следовать за речью. Отсюда:
Гнев, богиня, воспой…
Муза, скажи мне о том многоопытном…
Слово иное начни, о том, как в пределы Европы
От азиатской земли война великая вторглась.
Трагические поэты тоже разъясняют <суть> драмы, если не сразу, как Еврипид, то где-нибудь в прологе, как Софокл:
Отец мой был Полиб…
То же самое и с комедией. Самое же необходимое и свойственное дело вступления состоит в том, чтобы разъяснить цель, ради которой <вся> речь; а потому если дело коротко и ясно, вступления не нужно.
6 Остальные виды <вступления>, к которым прибегают <иногда>, являют собой вспомогательное средство и общи <для разных родов речей>. Они бывают взяты <1> от говорящего, <2> от слушателя, <3> от предмета и <4> от противника. От самого <говорящего> или от противника — то, что относится к устранению или распусканию дурной славы (διαβολή). Но это <надо делать> по–разному: когда оправдываешься, начинать с того, что относится к дурной славе, а когда обвиняешь, кончать этим. Причина ясна: когда оправдываешься и надо представить <слушателям> себя самого, необходимо устранить помехи, так что приходится начать с опровержения дурной славы; а распускающему дурную славу надо делать это в заключении, чтобы лучше запало в память. От слушателя — то, что относится к расположению его в свою пользу и возбуждению в нем гнева, а иногда — к привлечению его внимания или наоборот. Не всегда полезно привлекать внимание, и потому многие <ораторы> стараются рассмешить <слушателя>. Все <искусство вступления>, если угодно, сводится к тому, чтобы предрасположить к усвоению мыслей и выставить себя заслуживающим доверия: ведь 1415b такого лучше слушают. <Люди> бывают внимательны к предметам великим, или затрагивающим их, или удивительным, или приятным; поэтому нужно внушить, что речь идет о чем-то в этом роде. Если же <надо сделать их> невнимательными — что <предмет> мал, или не касается их, или огорчителен. Притом не надо забывать, что все это — постороннее относительно <самой> речи: <рассчитано это> на ленивого слушателя, который прислушивается к бездельным вещам, а если бы он не был таков, не было бы нужды во вступлении: разве что как перечисление пунктов предмета (τό πράγμα ειπείν κεφαλαιωδως), чтобы, так сказать, у тела была голова. <3адача> сделать <слушателя> внимательным — общая для всех частей, как только явится нужда: ведь внимание расслабляется повсюду больше, чем в начале. Поэтому смешно прикреплять это к началу, когда все слушают с наибольшим вниманием. Чуть представится случай, надо говорить: «слушайте меня со вниманием, ибо дело касается меня ничуть не больше, чем вас», или:
Я расскажу вам то, чему подобного Вы слыхом не слыхали… —
— страшное или удивительное. Это то, о чем говорил Продик, когда слушатели задремывали: «я подброшу им <учение ценой> в пятьдесят драхм». Ясно, что ото относится> к слушателю не постольку, поскольку он слушатель.
Все во вступлениях силятся устранить дурную славу или опасения:
…По правде не могу я, государь, сказать,
Что будто я спешил сюда…
…К чему ты начинаешь с околичностей?
И еще <к вступлениям прибегают> те, чье дело либо постыдно, либо кажется таковым, — ведь им выгоднее говорить о чем угодно, только не о деле. Поэтому рабы не отвечают на вопрос, а ходят вокруг да около и тянут вступление (προοιμιάζονται).
7 Выше было сказано, как надо располагать <слушателя> в свою пользу, и прочее в том же роде.
Дружбу мне дай и жалость сыскать у народа феаков… —
к этим двум <целям> и надо стремиться. А в <речах> эпидейк- тических надо создавать у слушателя представление, что похвала относится также к нему самому, или к его роду, или к его обыкновениям, или еще как-либо, потому что верно <слово> Сократа: «не велик труд хвалить афинян перед афинянами; другое дело — перед лакедемонянами».
8 <Вступления к речам> совещательного <рода> берутся от судебной речи, но, впрочем, по природе менее всего <в ходу>:
ведь и то, о чем сговорится, слушатели> знают, и дело ничуть не нуждается во вступлении, разве что насчет самого <говорящего>, либо насчет возражающих, либо если считать <дело> не таким важным, каким желает <оратор>, но либо важнее, либо маловажнее, или распространять дурную славу, или рассеивать ее, и либо прибавлять, либо убавлять веса <делу> (ή αύξήσαι ή μειώσαι). Итак, вступление нужно бывает ради этого, или для украшения, потому что без него <речь> покажется 1416а скоропалительной — как Горгиево похвальное слово элейцам: не помахав кулаками, не раззадорив <слушателей>, он сразу начинает: «Элида, блаженный город».
<XV>. Что касается дурной славы, один <способ самозащиты> — это <довод>, при посредстве которого может быть опровергнуто неблагоприятное подозрение, причем безразлично, высказано ли оно кем-нибудь или нет; такой <способ> — всеобщий.
2 Второй способ — идти навстречу спорным <вопросам>: «этого нет», или «от этого нет вреда», или «<есть>, но не ему», или «<вред> не столь велик», или «нет состава преступления», или «<преступление> невелико», или <дело> не бесчестит», или «<оно> не важно». Ведь спор — по этим <вопросам>, вроде того, как Ификрат <отвечал> Навсикрату: он заявил, что сделал дело и нанес вред, но преступления не совершал. Если же <говорящий> совершил преступление — уравновесить чем-нибудь, <например>: «<дело> наносит вред, но не роняет чести», «достойно сожаления, но связано с пользой», или еще что-нибудь в том же роде.
3 Третий способ — что <поступок>-де ошибка, или злая судьба, или злая необходимость, вроде того, как Софокл возражал обвинителю (ό διαβάλλων), что дрожит не для того, чтобы представиться стариком, а по злой необходимости; не своей охотой он стал восьмидесятилетним. Или выставить другой мотив <деяния>: «хотел не вред нанести, а совсем другое, не то, что предполагается дурной славой, но по случайности вышел вред». «Справедливо было бы ненавидеть меня, если бы я действовал, желая такого исхода».
4 Четвертый способ — впутать обвинителя, будь то в прошлом или настоящем, его самого или кого-нибудь из близких.
5 Пятый — впутать таких людей, которые, по общему мнению, выше дурной славы, например: «если тот, кто следит за внешностью — уж и прелюбодей, как же имярек?»
6 Шестой — если другие люди были оклеветаны тем же или другим <клеветником>, или без клеветы подозревались в том же, в чем теперь <говорящий>, а потом были признаны невиновными.
7 Седьмой — обратить дурную славу на самого обвинителя: нелепо, мол, если человек сам не заслуживает доверия, а слова его найдут доверие.
8 Восьмой — если приговор был вынесен, сссылаться на него>. Так <ответил> Еврипид Гигиэнонту, который в деле об обмене состояниями обвинил его в нечестии за стих, подстрекающий давать ложные клятвы:
«Несправедливо, — сказал он, — выносить на суд то, о чем был вынесен приговор на Дионисовых состязаниях. Там я отдал отчет во всем, а могу и отчитаться <здесь>, если <ему> угодно меня обвинять».
9 Девятый — обвинять клевету, <говоря>, сколь великое это <зло>, и как она заставляет судить не по существу и не верить самому делу.
Общее место о знаках (σύμβολα) принадлежит обоим, тому, кто обвиняет, и тому, кто защищается. Так, в «Тевкре» Одиссей <обвиняет Тевкра>, что тот-де Приаму свой человек; ведь Ге- сиона — сестра <Приама>. А тот <отрицает, указывая>, что Теламон, отец его, — враг Приама, и что <сам он> не донес на соглядатаев.
10 Другое <общее место> принадлежит только обвиняющему: пространно похвалив за пустое, кратко высказать серьезную хулу, или, выставив на вид многие хорошие ссвойства противника>, похулить его лишь в том, что относится к делу. Такие <обвинители> — самые искусные и самые нечестные, ибо они норовят обратить <противнику> во вред его хорошие <свойства>, подмешивая к ним дурное.
11 <Общее место, пригодное> тому, кто распространяет дурную славу, и тому, кто ее рассеивает: одно и то же может быть сделано по многим мотивам, а потому обвиняющему надо чернить, беря наихудшую <возможность>, а защищающемуся — наилучшую. Скажем, если Диомед избрал Одиссея; первому <надо говорить>, что он счел Одиссея самым доблестным, второму — что нет, но <Одиссей> трус и потому для него не соперник.
1 XVI. Итак, речь шла о дурной славе. <Повествование.> Что до повествования, то в <речах> эпидейк- тических оно идет не подряд, а по частям, ибо остановиться надо на тех деяниях, которые образуют <материал> для речи. Ведь речи слагаются из того, что вне искусства (ибо не говорящий — виновник деяний), и того, что от искусства; а последнее — в том, чтобы показать, что <предмет речи> существует, если он неправдоподобен, либо — сколь велик, либо — все ото
2 вместе взятое>. Потому иногда и не надо вести повествование подряд, что так делается трудно удержать в памяти показываемое. <Скажем>, из того-то <видно, что герой речи> мужествен, а из того-то — что <он> мудр или справедлив. Притом та речь не в меру простовата, а эта — с разнообразием и не плоская.
3 Известное <только> напоминать, и потому многое вовсе не нуждается в повествовании. Если Ахиллу хочешь сказать похвальное слово — <повествования не нужно>; ведь все знают его деяния — но воспользоваться ими следует. А если Критию — <повествование> нужно: немногие знают…
4 Нынче в ходу смешные разговоры, будто повествование должно быть быстрым. Это как некто на вопрос хлебника, замесить ли тесто круто или жидко, возразил: «А хорошо замесить не можешь?» Так и здесь. Не нужно растягивать повествование, как не нужно тянуть ни со вступлениями, ни с доказательствами. Но ведь и там «хорошо» — не быстро и не кратко, а в меру, то есть говорить <ровно> столько, сколько требуется, чтобы 1417а разъяснить дело или заставить судей думать, что дело было, или что нанесен вред, или что совершено преступление, и прочее, как будет желательно; а для противоположной <стороны> — противоположное.
5 Попутно следует включать в повествование все, что подтверждает твою добродетель (например, «я всегда внушал ему справедливое поведение, увещевая не бросать детей»), или чужую порочность («а он мне отвечал, что где он будет сам, будут у него и другие дети», как, по словам Геродота, ответили взбунтовавшиеся египтяне), или все, что понравится судьям.
6 У того, кто защищается, повествование короче. Ведь он в споре доказывает либо, что дела не было, либо, что в нем нет вреда, либо, что оно не преступно, либо, что состав преступления не столь велик, — а потому о вещах, признаваемых обоими, распространяться не стоит, разве что они так или иначе льют воду на его мельницу, подтверждая, например, что пусть даже он
7 сделал дело, но справедливости не нарушил. Дела надо рассказывать как уже отошедшие (разве что, быв разыграны, они вызовут либо жалость, либо ужас). Пример — рассказ у Алки- ноя, когда он для Пенелопы сокращен до шестидесяти эпических стихов; то же — Файл с киклом и пролог к «Ойнею».
8 Далее, надо, чтобы повествование выражало нрав, а это будет, если мы знаем, как нрав изобразить. Во–первых, через обнаружение воли (προαίρησις): какова воля, таков и нрав, а воля такова, какова цель. Поэтому математические речи не содержат в себе нрава, ибо не <содержат> воли; в них отсутствуют мотивы. Другое дело — сократические <диалоги>; они о таком и толкуют. Что вытекает из того или иного нрава, выражает нрав, как- то: «говоря, он одновременно шагал» — обнаруживается нрав буйный и грубый. И говорить не от рассудка, как <делают> теперь, но от <решения> воли: «Я пожелал так»; «я сделал такой выбор»; «уж пусть я на этом ничего не выгадал — так достойнее». Одно <свойственно> благоразумному человеку, другое — хорошему: благоразумному — в следовании пользе, хорошему — в следовании чести (τό καλόν). А если <поведение> покажется неправдоподобным, тогда добавить основание, как делает Софокл; пример — что Антигона больше думала о брате, нежели о муже или о детях: те, мол, снова явятся на место утраченных, —
Но коль в Аид сошли мои родители, — Другого брата не произрастит земля.
Если же основания привести не можешь, <скажи>, что тебе, мол, отлично известно, что слова твои неправдоподобны, но таков уж ты от природы; ведь люди находят неправдоподобным, что можно по своей охоте делать что-либо, кроме выгодного.
9 Кроме того, можно говорить о страстях, вводя в повествование как всем известные их проявления, так и особые черты, присущие как самому <говорящему>, так и противнику. «Он уда-
1417b лился, злобно оглядев меня исподлобья». Или, как Эсхин — о Кратиле: «шипя и потрясая кулаками». Подобные вещи убеждают, ибо известное становится ручательством за неизвестное. Многое в этом роде можно найти у Гомера.
Так говорила она, и старуха закрыла руками Очи…
Действительно, <люди>, готовясь заплакать, закрывают глаза <руками>.
Сразу же выставь себя в определенном свете, чтобы <впредь> смотрели на <тебя> и твоего противника именно так; но делай это неприметно. Что это легко, можно убедиться, когда нам приносят новости; мы <еще> ничего не знаем, но сразу начинаем что-то подозревать.
Повествование должно быть в различных местах <речи>, и порой вовсе не в начале.
10 В речи для народного собрания повествование реже всего, ибо никто не повествует о будущем. Если там все же есть повествование, оно должно быть о делах минувших, дабы, припомнив их, мы лучше вынесли решение о том, что придет позднее. Или ради <создания> дурной славы, или ради похвалы — но тогда совещательный оратор делает не свое дело.
Если <в повествовании> есть что-нибудь неправдоподобное — обещать привести обоснование, и построить <доводы>, κέικ слушатели захотят. Так, Иокаста в «Эдипе» Каркина все время отвечает обещаниями на расспросы того, кто разыскивает ее сына. То нее — Гемон у Софокла.
1. <Доказательства.> XVII. Доказательства должны быть аподиктическими. Поскольку спор может идти о четырех <предметах>, доказывать нужно так, чтобы доказательство шло к спорному <предмету>. Так, если оспаривается, было или не было, то при судебном разбирательстве нужно вести доказательство прежде всего сюда; если <оспаривается>, нанесен ли вред — сюда; или, что не такой большой <вред>, или, что без нарушения справедливости, — тогда это становится <предметом> спора.
2. Не следует забывать, что лишь в споре по вопросу « было или не было» один из двух по необходимости бесчестен; здесь причиной не может быть неведение — как это возможно, если спорят о справедливости <поступка>. Потому в этом споре надо останавливаться <на общем месте, состоящем в утверждении, что один из двух бесчестен>; в других — нет.
3. В эпидейктическом роде большая часть <доказательства>, что Определенные вещи> благородны и полезны, — амплификация; дела приходится брать на веру. Изредка и для них приводятся доказательства, если они неправдоподобны, или еще по какой-либо <особой> причине.
4. В речах перед народом можно спорить либо о том, что чего-то не будет, либо, что оно хоть и воспоследует <от действий>, предлагаемых <противником>, но будет не по справедливости, либо, что без пользы, либо, что не так значительно. Нужно обратить внимание, не позволяет ли себе <противник> какой- либо лжи вне этого дела, что показалось бы порукой, что он
5. лжет и в остальном. Примеры больше подходят к совещатель- 1418а ному роду, энтимемы — к судебному: ведь первый касается
будущего, так что необходимо брать примеры из прошлого, а второй — того, что есть или чего нет, и здесь в наибольшей степени возможны доказательство и принудительность; ибо в
6. случившемся есть принудительность. Энтимемы не надо предлагать подряд, но перемешивать; в противном случае они вредят одна другой. Есть же предел и количеству.
Столько, о друг, ты изрек, сколько может молвить разумный, —
7. а не <просто> то, что может молвить разумный. И не для всякого <предмета> следует искать энтимему. В противном случае ты будешь делать то, что делают некоторые из занимающихся философией, когда сочиняют силлогизмы о вещах, более известных и бесспорных, чем их посылки. И когда тебе нужна страсть, не предлагай энтимему; она либо изгонит страсть, либо пропадет впустую. Ведь одновременные движения представляют друг для друга помеху и либо уничтожают, либо ослабляют друг друга. И тогда, когда речь выставляет нрав, не нужно одновременно искать энтимему; ведь доказательство не содержит в себе ни нрава, ни воли. А вот афоризмами надо
8. пользоваться и в повествовании, и в обосновании; в них содержится нрав. «И я дал, хоть и знал, что доверять не следует». А если со страстью: «Пусть я потерпел, но я не раскаиваюсь; на его стороне — выгода, на моей — справедливость!»
10 Совещательный род труднее судебного, потому что <речь идет> о будущем; а в других — о прошлом, которое ведомо даже прорицателям, как сказал Эпименид Критский (ведь он прорицал не о будущем, но о прошедшем, которое неясно). Притом и закон — опора для судебных <речей>; кто имеет, с чего начать, легко найдет доказательство. Притом совещательный род> не допускает так много отступлений, как-то: <говорить> о противнике или о себе, либо вызывать страсть; этого меньше, чем во всех <других видах красноречия>, разве что <оратор> выйдет за пределы <своего рода>. При недостатке <материала> надо делать то, что делают афинские ораторы и Исократ: в совещательной речи он прибегает к обвинению — против лакедо- монян в «Панегирике», против Харета в речи «О мире». А в
11 речах эпидейктических надо вводить вставные похвальные слова, как делает Исократ; уж он всегда что-нибудь вставит. И Ото имел в виду> Горгий, говоря, что ему всегда есть что сказать: ну как же, если он говорит об Ахилле, то хвалит Пелея, затем Эака, затем бога, равным образом мужество, потом это,
12 потом то — один и тот же <прием>. Тому, кто имеет в руках доказательства, следует говорить, то живописуя нрав (ήθικώς), то выставляя доказательство (άποδεικτικώς); а если энтимем у
1418b тебя нет — живописуй нрав. Притом человеку уважаемому пристойнее выказать себя порядочным, нежели точным в речи. Из энтимем опровергающие нравятся больше, чем показывающие, ибо во всем, что связано с опровержением, силлогизм виднее; ведь противоположности лучше распознаются, если их поставить рядом.
13 <Отвечать> противнику — не какой-то особый вид; напротив, <часть> доказательства — опровергать <его доводы>, отчасти встречными доводами, отчасти силлогизмами. Как в совещательном, так и в судебном роде <надо> начать с того, чтобы раньше высказать свои доводы, а затем ополчиться на противные, опровергая <их> и наперед делая смешными. Если, однако, против нас будет много разных <мнений>, начинаем с противного, как сделал Каллистрат в народном собрании у мессе- нян: сперва он предвосхитил, что скажут <противники>, а по–том сам высказал <свое мнение>. И кто говорит вторым, должен сначала ответить на противную речь, опровергая <ее доводы> и выдвигая встречные силлогизмы, — в особенности же, если <доводы противной стороны> встретили одобрение; ведь как душа закрыта для человека, если он заранее опорочен, так и для речи, если показалось, что противник говорил хорошо. Надо, стало быть, расчистить речи путь, а для этого — устранить <впечатление от речи противникам А потому, сразившись со всеми сдоводами противника>, или с особенно подействовавшими, или с <особенно> уязвимыми, <следует> затем выдвигать свои доводы.
Сперва богинь я призову в союзницы: Не думаю, что Гера…
В этих словах затронут для начала самый неумный <довод противной стороны>.
14 Итак, это о доводах. Что до <ссылок> на нрав, то говорить про себя некоторые вещи заключает в себе нескромность, или широковещательность, или задор, а о другом — злоязычие или грубость, а потому нужно влагать это в чужие уста, как делает Исократ в «Филиппе» и в речи «Об обмене состояниями», и как высказывает хулу Архилох, ведь он выводит в своих ямбах отца, говорящего о дочери:
Можно ждать чего угодно, не ручайся ни за что…
И еще плотника Харона — в ямбах, начинающихся словами:
О многозлатном Гигесе не думаю…
И у Софокла Гемон говорит в защиту Антигоны перед отцом, <представляя>, будто говорят другие.
15 Иногда стоит изменять энтимемы, превращая в афоризмы, как- то: «Умные люди должны соглашаться на мир, пока им везет; так они добьются наибольших выгод». А по образу энтимемы: «Если соглашаться на мир следует тогда, когда он будет наиболее выгодным и полезным, <значит>, надо соглашаться <на него>, пока везет».
1 <Вопрос.> XVIII. Что касается вопроса, его уместнее всего задавать тогда, когда <противник> уже сделал одно допущение, так что достаточно добавить один вопрос, чтобы вышла нелепость. Так, Перикл спросил Лампона о том, как справляются таинства Спасительницы; тот возразил, что об этом нельзя слышать непосвященному; тогда он спросил, знает ли о них тот, и, получив утвердительный ответ, <задал последний вопрос>: «А каким образом, раз ты не посвящен?»
2 Второй <случай>, если одна <предпосылка> ясна, и очевидно, что вторую даст <сам противник> в ответ на вопрос. Нам следует спросить о второй предпосылке, умалчивая об очевидной, и затем вывести заключение. Так, Сократ, будучи обвинен Ме- летом в том, что он будто бы не верит в богов, <спросил>: «Признаю ли я существование чего-либо демонического?» Получив утвердительный ответ, он спросил, не суть ли демоны дети богов или нечто божественное. Когда тот согласился, он сказал: «Так как же, возможно ли, чтобы некто верил, что дети богов существуют, а богов отрицал?»
3 И еще <третий случай>, когда желаешь показать, что <противник> сам себе противоречит или говорит невероятное (παράδοξον).
4 Четвертый <случай>, когда <противник> не может разрешить вопроса иначе, как софистическим ответом. Если он отвечает так: «и да, и нет», «отчасти да, отчасти нет», «в некотором смысле да, в некотором — нет», <слушатели> недоумевают и шумят.
В других случаях не надо начинать: ведь если <противник> справится <с вопросом>, покажется, что сила у него; а много вопросов задавать нельзя по слабости слушателя. Потому же надо делать энтимемы возможно более сжатыми.
5 Отвечать следует на двусмысленные вопросы точным их расчленением и не сжато, а если кажется, что мы противоречим себе, наше разъяснение должно быть дано в первом ответе, когда <противник> еще не успеет задать второй вопрос или вывести заключение — ведь нетрудно предугадать, куда клонится речь. Но это, как и вообще <искусство> опровержений, должно быть 6 ясно из «Топики». Если заключение <противника> выведено как вопрос, мы должны искать оправдание <нашему ответу>. Так, когда Писандр спросил Софокла, правда ли, что тот голосовал за то же самое, что и прочие пробулы, то есть за власть Четырехсот, тот дал утвердительный ответ: «А почему? Разве это не казалось тебе дурным?» Тот дал утвердительный ответ. «Так ты, значит, поступил дурно?» «Да, — ответил тот, — но другого, лучшего выхода не было». Так и лакедемонянина, когда тот сдавал отчет за время своего эфората, спросили, считает ли он справедливой казнь своих товарищей, и тот дал утвердительный ответ. «А ты не делал ли того же самого? — и на это утвердительный ответ. «Так не справедливо ли было бы казнить и тебя?» — «Конечно, нет, — ответил тот. — Ведь они сделали это за взятку, а я, напротив — по убеждению». Имея это в виду, лучше не задавать новых вопросов, когда мы вывели заключение, и не выражать заключения в виде вопроса, если только на нашей стороне нет подавляющего перевеса истины.
1419b Шутки, как кажется, могут быть полезными в споре; Горгий
7 сказал, что серьезность противников надо уничтожать смехом, а смех — серьезностью, и это сказано правильно. Сколько видов шуток рассмотрено в «Поэтике»; из них одно прилично свободнорожденному человеку, а другое неприлично. Пусть каждый выбирает то, что ему приличествует. Ирония благороднее, нежели шутовство (βωμολοχία); ироник забавляет себя самого, а шут — другого.
1 <Состав заключения речи.> XIX. Заключение слагается из четырех <моментов> — <1> из попытки хорошо расположить слушателя к себе и плохо — к противнику, <2> из возвеличения и умаления, <3> из попытки возбудить в слушателе <нужные> чувства (πάθη), и <4> из напоминания <о сказанном выше>.
<1> После того, κέικ мы доказали нашу правдивость и лживость противника, естественно восхвалять <себя>, порицать <его> и завершить <спор>. Нужно стремиться к одному из двух: либо <доказывать, что ты> хорош вообще, либо — что в этом деле; либо — что <он дурен> вообще. Топика, к которой следует прибегать, желая представить кого-либо почтенным или дурным, рассмотрена выше.
<2> Затем естественно возвеличивать или умалять уже доказанное; нужно, чтобы факты (τά πεπραγμένα) были признаны, если хочешь оценивать их значение. Ведь и увеличение тел происходит на основе уже наличного. Ранее изложена топика, при помощи которой следует возвеличивать и умалять.
<3> Затем, когда выяснены <факты> и выяснено их значение,
2 следует заставить слушателя испытывать страсти, как-то: жалость, негодование, гнев, ненависть, зависть, честолюбие, задор. И для этого общие места указаны выше.
3 <4> Остается возобновить в памяти сказанное прежде. Это уместно делать так, как <иные> велят делать во вступлении, но дают неправильный совет, — а именно, почаще повторять ради вразумительности. Там <во вступлении> надо сообщать суть, чтобы <слушатель> не оставался в неведении, о чем спор; здесь же <в заключении> надо по пунктам (κεφαλαιωδως) перечислить основания для приговора. Начать надо с того, что <оратор> выполнил все, что обещал <во вступлении>; поэтому надо отметить, что мы сказали, и почему. Возможно также сравнение с противником: сравнивать нужно либо то, что оба сказали о том же, либо не так прямо. «Вот его рассказ об этом деле, вот мой,
1420а вот мои доводы». Или с иронией: «Он ведь говорит вот что, а я вот что. Как вам кажется, на что бы он решился, если бы доказал столько же, а не вот столечко?» Можно с вопросом: «что же
4 остается доказать?» Или: «а что доказал он?» Итак, Заключение должно основываться> либо на сравнении <с противником^ либо на естественной последовательности сказанного — сначала нами, потом, если угодно, противником. Для слога хороши бессоюзия, чтобы конец являл собой <настоящее> заключение, а не <просто> речь: «я сказал, вы услышали, вы знаете: судите!»
ЛИТЕРАТУРА
Аверинцев 1966 — С. С. Аверинцев. Приемы организации материала в биографиях Плутарха //Сб. Вопросы античной литературы и классической филологии / Отв. ред. Μ. Е. Грабарь–Пассек. М., 1966, с. 234—246.
Аверинцев 1966а — С. С. Аверинцев. О жанровой специфике «Параллельных жизнеописаний» // Вестник древней истории, 1966, № 4, с. 68—80.
Аверинцев 1970 — С. С. Аверинцев. «Аналитическая психология» К. Г. Юнга и закономерности творческой фантазии // Вопросы литературы, 1970, № 3, с. 113— 143; Сб. О современной буржуазной эстетике, вып. 3. М., 1972, с. 110—155.
Аверинцев 1973 — С. С. Аверинцев. Плутарх и античная биография: К вопросу о месте классика жанра в истории жанра. М., 1973.
Аверинцев 1973а — С. С. Аверинцев. На перекрестке литературных традиций (Византийская литература: истоки и творческие принципы) // Вопросы литературы, 1973, № 2, с. 150—183.
Аверинцев 1975 — С. С. Аверинцев. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики // Сб. Древнерусское искусство. Зарубежные связи / Ред. — сост. Г. В. Попов. Вступит, ст. О. В. Подобедовой. М., 1975, с. 371—397.
Аверинцев 1976 — С. С. Аверинцев. Славянское слово и традиции эллинизма // Вопросы литературы, 1976, № 11, с. 152—162.
Аверинцев 1976а — С. С. Аверинцев. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью // Сб. Из истории культуры средних веков и Возрождения / Отв. ред. В. А. Карпушин. М., 1976, с. 17—64.
Аверинцев 1977 — С. С. Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
Аверинцев 1979 — С. С. Аверинцев. Классическая греческая философия как явление историко–литературного ряда // Сб. Новое в современной классической филологии / Отв. ред. С. С. Аверинцев. М., 1979, с. 41—81.
Аверинцев 1984 — С. С. Аверинцев. Эволюция философской мысли // Сб. Культура Византии. IV — первая половина VII в. / Отв. ред. 3. В. Удальцова. М., 1984, с. 42—77.
Аверинцев 1989 — С. С. Аверинцев. Римский этап античной литературы: Жанры и стиль // Сб. Поэтика древнеримской литературы / Отв. ред. М. JI. Гаспаров. М., 1989, с. 5—21.
Аверинцев и Роднянская 1978 — С. С. Аверинцев и И. Б. Роднянская. Автор // КЛЭ. М., 1978, т. 9, стб. 28—30.
Античная эпистолография. Очерки. / Отв. ред. Μ. Е. Грабарь–Пассек. М., 1967.
Античность и Византия / Отв. ред. JI. А. Фрейберг. М., 1975.
Античные поэты об искусстве / Сост. С. П. Кондратьев и Ф. А. Петровский. JT., 1938.
Античные риторики / Собрание текстов, статьи, комментарии и общая ред. проф. А. А. Тахо–Годи. М., 1978.
Аристотель 1976 — Аристотель. Сочинения в 4–х томах. М., 1976, т. 1.
Аристотель 1978 — Аристотель. Поэтика / Пер. и примеч. М. JI. Гаспарова // Сб. Аристотель и античная литература / Отв. ред. М. JI. Гаспаров. М., 1978, с. 111— 163.
Баткин 1976 — JI. М. Баткин. Итальянский гуманистический диалог XV века // Сб. Из истории культуры средних веков и Возрождения / Отв. ред. В. А. Карпушин. М., 1976, с. 175—221.
Бахтин 1963 — М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. 2–е изд. М., 1963.
Бахтин 1975 — М. Бахтин. Эпос и роман. О методологии исследования романа // М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М., 1975, с. 447—484.
Белик 1961 — А. П. Белик. Этические и эстетические мотивы в русской народной сказке // Сб. Из истории эстетической мысли древности и средневековья / Ред. коллегия: В. Ф. Берестнев и др. М., 1961, с. 303—342.
Белинский 1954 — В. Г. Белинский. Разделение поэзии на роды и виды // Полн. собр. соч. в 13–ти томах / Гл. ред. Η. Ф. Бельчиков. М., 1954, т. 5.
Бердяев 1947 — Н. А. Бердяев. Опыт эсхатологической метафизики. Париж, 1947.
Брагинская 1976 — Н. В. Брагинская. Жанр Филостратовых «Картин» // Сб. Из истории античной культуры. Философия. Литература. Искусство / Под ред. В. В. Соколова и А. Л. Доброхотова. М., 1976, с. 143—169.
Брагинская 1981 — Н. В. Брагинская. Генезис «Картин» Филострата Старшего // Сб. Поэтика древнерусской литературы / Отв. ред. С. С. Аверинцев. М., 1981, с. 224— 289.
Витгенштейн 1958 — Л. Витгенштейн. Логико–философский трактат / Пер. с нем. и сверено с авториз. англ. переводом И. Добронравовым и Д. Лахути. М., 1958.
Гайденко 1979 — П. П. Гайденко. Обоснование научного знания в философии Платона // Сб. Платон и его эпоха. К 2400–летию со дня рождения / Отв. ред. Φ. X. Кесси- ди. М., 1979, с. 98—143.
Гайденко 1980 — П. П. Гайденко. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. М., 1980.
Гайденко 1988 — П. П. Гайденко. Понимание бытия в античной и средневековой философии // Сб. Античность как тип культуры / Отв. ред. А. Ф. Лосев. М., 1988, с. 284—307.
Гаспаров 1963 — М. Л. Гаспаров. Композиция «Поэтики» Горация // Сб. Очерки истории римской литературной критики / Отв. ред. Ф. А. Петровский. М., 1963, с. 97—151.
Гаспаров 1964 — М. Л. Гаспаров. Светоний и его книга // Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1964, с. 263—278.
Гаспаров 1970 — М. Л. Гаспаров. Поэзия Горация // Квинт Гораций Флакк. Оды, эподы, сатиры, послания / Редакция переводов, вступит, статья и комментарии М. Л. Гаспарова. М., 1970, с. 5—38.
Гаспаров 1986 — Μ. JI. Гаспаров. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грамматики и риторики // Проблемы литературной теории, с. 91— 169.
Гаспаров 1991 — М. JI. Гаспаров. Античная риторика как система // Сб. Античная поэтика: Риторическая теория и литературная практика / Отв. ред. М. JI. Гаспаров. М., 1991, с. 27—59.
Гершензон и Иванов 1921 — М. О. Гершензон и Вяч. Иванов. Переписка из двух углов. Пг., 1921.
Горгий 1939 — Горгий. Похвальное слово Елене / Пер. С. П. Кондратьева // Сб. Греческая литература в избранных переводах / Составил В. О. Нилендер. М., 1939.
Горфункель 1977 — Α. X. Горфункель. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М., 1977.
Даль 1911—1912 — Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. 4–е испр. и значит, доп. изд. под ред. проф. И. А. Бодуэна-де–Куртенэ. СПб. —М., 1911 — 1912.
Державин 1876 — Сочинения Державина. С объяснит, примеч. Я. Грота. 2–е акад. изд. СПб., 1876, т. 6.
Доватур 1966 — А. И. Доватур. Платон об Аристотеле // Сб. Вопросы античной литературы и классической филологии. М., 1966, с. 137—144.
Еланская 1964 — А. И. Еланская. Коптский язык. М., 1964.
Ельницкий 1978 — Плутарх. Моралии. Наставления по управлению государством / Пер. с древнегреч. и комментарии JI. А. Ельницкого (под ред. JI. А. Фрейберг и М. Л. Гаспарова) // Вестник древней истории, 1978, № 3, с. 229—254.
Жуковский 1959 — В. А. Жуковский. Собр. соч. в 4 томах / Вступит, ст. И. М. Семен- ко. Подготовка текста и примеч. В. П. Петушкова. М. —Л., 1959, т. 1.
Зайцев 1985 — А. И. Зайцев. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н. э. ЛГУ, 1985.
Зелинский 1910 — Φ. Ф. Зелинский. Соперники христианства. Статьи по истории античных религий // Φ. Ф. Зелинский. Из жизни идей, т. III. Изд. 2–е. СПб., 1910.
Зелинский 1922 — Φ. Ф. Зелинский. Возрожденцы. Научно–популярные статьи по всеобщей литературе // Φ. Ф. Зелинский. Из жизни идей, т. IV, вып. 1. Пг., 1922.
Златослов… — Златослов, или Открытие риторския науки, т. е. Искусство Витийства, сочиненное греческим священником Филаретом Скуфою, Критским уроженцем, Града Кидонии Проповедником… Переведена же сия книга на Российский язык покойным Статским Советником Ст. Писаревым. СПб., при Императорской Академии наук, 1779.
Иваницкий 1911 — В. Ф. Иваницкий. Филон Александрийский. Жизнь и обзор литературной деятельности. Киев, 1911.
Иванов 1916 — Вяч. Иванов. Достоевский и роман–трагедия // Вяч. Иванов. Борозды и межи. М., 1916.
Иванов 1923 — В. Иванов. Дионис и прадионисийство. Баку, 1923.
ИГЛ — История греческой литературы [в 3–х томах] / Под ред. С. И. Соболевского и др. М, —Л., 1946—1960.
История Византии. В 3–х томах / Отв. ред. акад. С. Д. Сказкин. М., 1967.
Кант 1897 — И. Кант. Критика практического разума. СПб., 1897.
Каплинский 1920 — В. Я. Каплинский. «Поэтика» Горация. Саратов, 1920.
Карамзин 1900 — Η. М. Карамзин. Письма русского путешественника. СПб., 1900, т. 2.
Киреевский 1911 — Иван Киреевский. Полн. собр. соч. М., 1911, т. 1.
Клочков 1983 — И. С. Клочков. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. Очерки. М., 1983.
КЛЭ — Краткая литературная энциклопедия. В 9–ти томах. М., 1962—1978.
Коростовцев 1983 — М. А. Коростовцев. Литература Древнего Египта // История всемирной литературы в 9–ти томах. М., 1983, т. 1, с. 54—82.
Куделин 1973 — А. Б. Куделин. Классическая арабо–испанекая поэзия (Конец X — середина XII в.). М., 1973.
Куделин 1983 — А. Б. Куделин. Средневековая арабская поэтика (Вторая пол. VIII— XI в.). М„ 1983.
Лившиц 1933 — Б. Лившиц. Полутораглазый стрелец. М., 1933.
Липшиц 1961 — Е. Э. Липшиц. Очерки истории византийского общества и культуры: (VIII — первая половина IX в.). М. —Л., 1961.
Лихачев 1958 — Д. С. Лихачев. Человек в литературе Древней Руси. М. —Л., 1958.
Лихачев 1962 — Д. С. Лихачев. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого (Конец XIV — начало XV в.). М. —Л., 1962.
Лихачев 1964 — Д. С. Лихачев. К истории художественных методов // Труды отдела древнерусской литературы Пушкинского дома, XX, 1964.
Лихачев 1965 — Д. С. Лихачев. Принцип историзма в изучении единства содержания и формы литературного произведения // Русская литература, 1965, № 1, с. 16—32.
Лихачев 1967 — Д. С. Лихачев. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967.
Лихачев 1973 — Д. С. Лихачев. Развитие русской литературы X-XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973.
Лосев 1930 — А. Ф. Лосев. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930, т. 1.
Лосев 1957 — А. Ф. Лосев. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957.
Лосев 1960 — А. Ф. Лосев. Философская проза неоплатоников // ИГЛ, т. 3, с. 379— 398.
Лосев 1963 — А. Ф. Лосев. История античной эстетики, т. 1. М., 1963.
Лосев 1964 — А. Ф. Лосев. Художественные каноны как проблема стиля // Вопросы эстетики, 1964, № 6, с. 351—399.
Лосев 1973 — А. Ф. Лосев. О понятии художественного канона // Проблемы канона, с. 6—15.
Лосев 1975 — А. Ф. Лосев. Аристотель и поздняя классика // А. Ф. Лосев. История античной эстетики, т. 4. М., 1975.
Лукиан 1962 — Лукиан из Самоеаты. Сновидение, или Жизнь Лукиана / Пер. Э. В. Диль // Лукиан. Избранное / Составл. и коммент. И. Нахова и Ю. Шульца. Вступит ст. И. Нахова. Ред. переводов А. Каждана. М., 1962. с. 28—34.
Лурье 1941 — С. Я. Лурье. Плутарх и его время // Плутарх. Избранные биографии / Пер. с греч. под ред. и с предисл. проф. С. Я. Лурье. М. —Л., 1941, с. 5—18.
Любарский 1975 — Я. Н. Любарский. Литературно–критические взгляды Михаила Пселла // Античность и Византия, с. 114—139.
Любарский 1978 — Я. Н. Любарский. Михаил Пселл: Личность и творчество. К истории византийского предгуманизма. М., 1978.
Максим Грек 1910 — Сочинения преподобного Максима Грека в русском переводе, ч. 2. Св. — Троицкая Сергиева Лавра, 1910.
Мандельштам 1967 — О. Мандельштам. Разговор о Данте. М., 1967.
Манн 1959 — Т. Манн. Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом. М., 1959.
Маркс и Энгельс — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4. 2–е изд. М., 1955.
Матье 1956 — М. Э. Матье. Древнеегипетские мифы. М. —Л., 1956.
Медведев 1976 — И. П. Медведев. Византийский гуманизм XIV-XV вв. Л., 1976.
Мелетинский 1982 — Е. И. Мелетинский. Культурный герой // Мифы народов мира. Энциклопедия в 2–х томах. М., 1982, т. 2, с. 25—28.
Миллер 1975 — Т. А. Миллер. Михаил Пселл и Дионисий Галикарнасский // Античность и Византия, с. 140—155.
Миллер 1978 — Т. А. Миллер. Аристотель и античная литературная теория // Сб. Аристотель и античная литература / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. М., 1978, с. 5— 106.
Михайлов 1988 — А. В. Михайлов. Античность как идеал и культурная реальность XVIII-XIX вв. // Сб. Античность как тип культуры / Отв. ред. А. Ф. Лосев. М., 1988, с. 308—324.
Монтень 1958 — Монтень. Опыты / Коммент. Ф. А. Коган–Бернштейн. М. —Л., 1958, кн. 2.
Нетушил 1901 — И. В. Нетушил. Тема и план Горациевой «Ars poetica» // Журнал министерства народного просвещения, 1901, № 78, с. 40—76.
Панченко 1980 — Д. В. Панченко. Еврипид или Критий? // Вестник древней истории, 1980, № ι, с. 144—162.
Пастернак 1991 — Б. Пастернак. Охранная грамота // Собр. соч. в пяти томах, т. 4. М., 1991.
Петрушевский 1966 — И. П. Петрушевский. Ислам в Иране в VII-XV веках. Л., 1966.
Платон 1970 — Платон. Сочинения в 3–х томах / Пер. с древнегреч. под общ. ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. Вступит, статья А. Ф. Лосева. М., 1970, т. 2.
Плутарх 1961 — Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 3–х т. / Изд. подготовили С. П. Маркиш и С. И. Соболевский. Послесл. С. И. Соболевского. М., 1961— 1964.
Потебня 1914 — А. А. Потебня. О некоторых символах в славянской народной поэзии. 2–е изд. Харьков, 1914.
Проблемы канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. Сб. статей / Отв. ред. И. Ф. Муриан. М., 1973.
Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье / Отв. ред. М. JI. Гаспаров. М., 1986.
Пселл 1969 — Михаил Пселл. Похвала Италу / Пер. Т. А. Миллер // Памятники византийской литературы IX-XIV веков / Отв. ред. JI. А. Фрейберг. М., 1969, с. 145—147.
Пселл 1975 — Михаил Пселл. Ипертима Пселла слово, составленное для вестарха Пофоса, попросившего написать о богословском стиле / Пер. Т. А. Миллер // Античность и Византия, с. 161—171.
Пселл 1975а — Михаил Пселл. Сравнение Еврипида с Писидой (Спросившему, кто лучше писал стихи, Еврипид или Писида) / Пер. Т. А. Миллер // Античность и Византия, с. 171—174.
Радциг 1977 — С. И. Радциг. История древнегреческой литературы. 4–е изд. М., 1977.
Рифтин 1979 — Б. JI. Рифтин. От мифа к роману: Эволюция изображения персонажа в китайской литературе. М., 1979.
Рубцова 1986 — Н. А. Рубцова. Дидактический характер «Риторики» Алкуина (Литературно–исторический контекст трактата) // Проблемы литературной теории, с. 236—248.
Соболевский 1908 — С. И. Соболевский. Κοινή // Богословская энциклопедия, т. IX. СПб., 1908, стб. 644.
Стерн 1949 — Л. Стерн. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена / Пер. А. А. Франковского. М. —Л., 1949.
Тарн 1949 — В. Тарн. Эллинистическая цивилизация / Пер. с англ. С. А. Лясковско- го. Предисл. С. И. Ковалева. М., 1949.
Толстой 1947 — Л. Н. Толстой. Избранные повести и рассказам. М., 1947, т. 2.
Томсон 1959 — Дж. Томсон. Первые философы / Пер. с англ. под ред. и с послесл. А. Ф. Лосева // Дж. Томсон. Исследования по истории древнегреческого общества, т. 2. М., 1959.
Тройский 1957 — И. М. Тронский. История античной литературы. 3–е изд. Л., 1957.
ТСРЯ — Толковый словарь русского языка [в 4–х томах] / Сост. Г. О. Винокур, проф. Б. А. Ларин, С. И. Ожегов и др. под ред. проф. Д. Н. Ушакова. М., 1935—1940.
Успенский 1892 — Ф. Успенский. Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1892.
Успенский 1893 — Ф. Успенский. Синодик в неделю православия. Сводный текст с приложениями. Одесса, 1893.
Флоренский 1977 — П. Флоренский. Из богословского наследия // Богословские труды, сборник XVII. М., 1977.
Фрейберг и Попова 1978 — Л. А. Фрейберг и Т. В. Попова. Византийская литература эпохи расцвета: IX-XV вв. М., 1978.
Фрейденберг 1936 — О. Фрейденберг. Поэтика сюжета и жанра. JL, 1936.
Фд — Философская энциклопедия [в 5–ти т.] / Гл. ред. Ф. В. Константинов. М., 1960—1970.
Цицерон 1972 — Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве / Пер. с латин. Ф. А. Петровского и др. под ред. М. JI. Гаспарова. Вст. ст. М. JI. Гаспарова. Коммент. М. JI. Гаспарова и И. П. Стрельниковой. М., 1972.
Чалоян 1980 — В. К. Чалоян. Восток — Запад. М., 1980.
Шангин 1945 — М. А. Шангин. Византийские политические деятели первой половины X века // Византийский сборник / Под ред. М. В. Левченко. М. —Л., 1945.
Шеллинг 1966 — Ф. В. Шеллинг. Философия искусства / Вступит, статьи П. С. Попова и Μ. Ф. Овсянникова М., 1966.
Шталъ 1975 — И. В. Шталь. Гомеровский эпос. М., 1975.
Юркевич 1865 — П. Д. Юркевич. Разум по учению Платона и опыт по учению Канта (Речь, произнесенная в торжественном собрании Императорского Московского университета, 12–го янв. 1866 г.) //Московские Университетские Известия, 1865, № 5. М., 1866, с. 321—392.
d'Alembert 1894 — Jean Le Rond d'AIembert. Discours preliminaire de I'EncycJopedie / Ed. par F. Picavet. P., 1894.
Aristeas to Philocrates / Ed. and transl. by M. Hadas. N. Y., 1951.
Aristoteles 1877— Rhetoric of Aristoteles / With comm. by Ε. M. Cope and J. E. Sandys. Vol. 3. Cambridge, 1877.
Aristoteles 1959— Aristotelis Ars rhetorica / Rec. W. D. Ross. Oxonii, 1959.
Aristoteles 1976— Aristotelis Ars rhetoricae / Ed. R. Kassel. Berolini et Novi Eborad, 1976.
Arrtim 1913— Aus Satyros Leben des Euripides. Oxyr. pap. vol. IX // Supplementum Euripideum, bearb. von Hans von Amim (Kleine Texte Юг Vorlesungen und Ubungen, 112). Bonn, 1913.
Amim 1916 — Hans von Arnim. Gerechtigkeit und Nutzen in der griechischen Aufklarungs- philosophie. Frankf. a. M., 1916.
d'Assailfy 1967— G. d'Assailly. Le guide Marabout de la correspondence. Verviers, 1967.
Awerintzew 1979 — S. Awerintzew. Deis dauerhafte Erbe der Griechen: Die rhetorische Grundein- stellung als Synthese des Traditionalismus und der Reflexion // «Innsbucker Beitrage zur Kul- turwissenschaft. Sonderheft 49. Proceedings of the International Comparative Literature Association. Innsbruck, 1979». Innsbruck, 1981, S. 267—270.
Awerintzew 1981 — S. Awerintzew. Zu den Ethopoiien des Nikephoros Basilakes // Eikon und Logos: Beitrage zur Erforschung byzantinischer Kulturtraditionen. Bd. 1. Martin-Luter-Universitat Halle-Universitat-Wittenberg: Wissenschaftliche Beitrage, 1981 / 35 (K 6) Halle (Saale), 1981, S. 9—14.
Awerintzew 1986 — S. Awerintzew. Zum Problem der Geschichtlichkeit asthetischer Normen // Die Antike im Wandel des Urteils des 19. Jahrhunderts. В., 1986, S. 39—45.
Barlow ed. 1938 — Epistulae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecae / Ed. С. V. Barlow. Roma, 1938.
Barwick 1964 — К. Barwick. Zur Erklarung und Geschichte der Staseislehre des Hermagoras von Temnos // Philologus, 1964, Bd. 108, S. 80—101.
Beck 1974 — H. G. Beck. Das literarische Schaffen der Byzantiner. Wege zu seinem Verstandnis // Sitzungsberichte der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, phil. — hist. Klasse, 294, Hf. 4, Wien, 1974.
Beck 1977— H. G. Beck. Byzantinistik heute. В. —Ν. Y., 1977.
Bomecque 1907— H. Bomecque. Les dausules metriques latines. P., 1907.
Bouvy 1886 — E. Boifyy. Pontes et Melodes: Etudes sur les origines du rythme tonique dans I'hymnographie de I'Eglise greque. Ntmes, 1886.
Brinkmann 1910 — A. Brinkmann. Die Protheorie zur Biographie eines Neuplatonikers // Rheinis- ches Museum, 1910, 65, S. 617—626.
Burckhardt 1908— Jacob Burckhardt. Die Kultur der Renaissance in Italien. 10. Aufl. besorgt von Ludwig Geiger. I. B. —Lpz., 1908.
Calpan 1933 — H. Calpan. Classical Rhetoric and the Medieval Theory of Preaching // Classical Philology, 1933, vol. 28.
Cataphygiotou-Topping 1966 — E. Cataphygiotou-Topping. St. Romanos: Icon of a Poet // Greek Orthodox Theological Review, XII, 1966, p. 92—111.
Cataphygiotou-Topping 1969— E. Cataphygiotou-Topping. The Poet-Priest in Byzantium // Greek Orthodox Theological Review, XV, 1969, p. 31—41.
Chauffuiin 1932 — L. Chauffurin. Le parfait secretaire: Correspondance usuelle, commerciale et d'affaires. P., 1932.
Christ, Paranikas 1871 — Anthologia graeca carminum christianorum adornaverunt. W. Christ et M. Paranikas. Lipsiae, 1871.
Christ, Schmid, Stahiin 1913 — W. Christ, W. Schmid, O. Stahlin. Geschichte der griechischen Literatur. 5. Aufl. 2. Teil. Munchen, 1913.
Compemass 1912 — J. Compemass. Aus dem literarischen Nachlasse des Erzbischofs Arethas von Kaisareia, I // Didaskaleion, 1912, Bd. 1. S. 295—318.
Cooper 1924 — L. Cooper. Aristotelian Theory of Comedy, with an adaption of the Poetics and translation of the Tractatus Coislianus. Oxford, 1924.
Curtius 1973— E. R. Curtius. Europaische Literatur und lateinisches Mittelalter. 8. Aufl. Bern, 1973.
Daniel 1862— H. A. Daniel. Thesaurus hymnologicus, V. Heidelberg, 1862.
Dante 1962 — The Comedy of Dante Alighieri, the Florentine. Cantica 3: Paradise / Transl. by Dorothy L. Sayers and Barbara Reynolds. Harmondsworth, 1962.
Delerue 1929— F. Delerue. Le Systeme moral de St. Alfonse. St. Etienne, 1929.
Dempf 1962 — Alois Dempf. Sacrum Imperium Geschichts- und Staatsphilosophie des Mittelalters und der politischen Renaissance. 3. Aufl. Miinchen—В., 1962.
Dempf 1964— Alois Dempf. Die Geistesgeschichte der friihchristlichen Kultur. Wlen, 1964.
Dictionarium theologicum portatile, in quo cuncta fidei dogmata et doctrinae moralis placita expo- nuntur. Locupletatum a Prospero ab Aquila, t. III. Augustae Vindelicorum, 1775.
Diderot 1962— D. Diderot. La reve de d'Alembert / Ed. par J. Varloot. P., 1962.
Diehi— Anthologia lyrica graeca / Ed. E. Diehl. 2 Bde. Lpz., 1933—1942, fasc. 1—3, Lpz., 1949— 1952.
Diets i9ZZ— Η. Diels. Die Fragmente der Vorsokratiker. 4. Aufl. В., 1922.
Dihte, Halpom 1978 — A. Dihle, J. W. Halporn. Prosarhythmus // DTV-Lexikon der Antike. Reiche I. Philosophie, Literatur, Wissenschaft. 3. Aufl. Miinchen, 1978, Bd. 4, S. 38—-42.
Dodds ed. 1960 — Euripides. Bacchae / Ed. with introd. and comment, by Erik R. Dodds. Oxford, 1960.
Dotd 1557— L. Dolci. Dialogo della Pittura intitolato I'Aretino. 1557.
Domseiff 1939 — F. Domseiff. Echtheitsfragen antik-griechischen Literatur. Rettgn. d. Theognis, Phokylides, Hekataios, Choirilos. В., 1939.
Domseiff 1950— F. Domseiff. Die griechischen Worter in Deutschen. В., 1950.
Domseiff 1951 — F. Domseiff. Verschmachtes zu Vergil, Horaz und Properz. В., 1951.
Domseiff1959— F. Domseiff. Antike und alter Orient interpretationen // F. Domseiff. Kleine Schriften, Bd. 1. Aufl. VIII. Lpz., 1959.
Domseiff 1970— F. Domseiff. Der deutsche Wortschaft nach Sachgruppen. 7. Aufl. В., 1970.
Eissfeldt 1956— O. Eissfeldt. Einleitung in das Alte Testament. 2. Aufl. Tubingen, 1956.
Else 1957— G. P. Else. Aristotle's Poetics. The Argument. Cambridge (Mass.), 1957.
Erbse 1956 — H. Erbse. Die Bedeutung der Synkrisis in den Parallelbiographien Plutarchs // Hermes, LXXX1V, 1956, S. 398—424.
Emesti 1795— Jo. Chr. Th. Ernesti. Lexicon technologiae Graecorum rhetoricae. Lipsiae, 1795.
Evans 1969— E. C. Evans. Physiognomies in the Ancient World. Philadelphia, 1969.
Ftasch 1980— K. Flasch. Augustin. Stuttgart, 1980.
Focke 1923— F. Focke. Synkrisis // Hermes, LVIII, 1923, S. 327—368.
Forstered. 1903—1923— Libanii Opera / Ed. Richardus Forster, v. I-XII, Lipsiae, 1903—1923.
Formey 1755— J. — H. — S. Formey. Conceils pour former une bibliotheque peu nombreuse, mais choisie. 3–me ed., corr. et augm. Avec une notice des ouvrages de I'auteur. В., 1755.
Frend 1965— W. C. Frend. Martyrdom and Persecutions in the Early Church. A Study of a Conflict from the Maccabees to Donatus. Oxford, 1965.
Oeffcken 1923 — J. Geffcken. Die griechische Aufklarung // Neue Jahrbiicher fur das klassische Altertum, Bd. 51—52, 1923, S. 15—31.
Glockner 1901 — St. Glockner. Questiones rhetoricae: Historiae artis rhetoricae qualis fuerit aevo imperatorio capita selecta // Breslauer philologische Abhandlungen, VIII, 2. Breslau, 1901.
Grabmann 1922— M. Grabmann. Die Geschichte der scholastischen Methode. Freib. i. Br., 1922, Bd. 2.
Grosdidier de A/tatons 1977— J. Grosdidier de Matons. Romanos le Melode et les Origines de la poesie religieuse A Byzance. P., 1977.
Gnipp 1904— G. Grupp. Kulturgeschichte der romischen Kaiserzeit. Miinchen, 1904.
Guthrie 1960— Η. H. Guthrie. Good and History in the Old Testament. Greenwich, Connecticut, 1960.
Hagedom 1964— D. Hagedom. Zur Ideenlehre des Hermogenes // Hypomnemata, 8. Gottingen, 1964.
Hegel 1965— G. W. F. Hegel. Aesthetik. Bd. II. В. —Weimar, 1965.
Helladius 1714 — Status praesens ecclesiae graecae in quo etiam causae exponuntur cur graeci moderni Novi testament editiones in graeco-barbara lingua factas acceptare recusent. Prae- terea additus est in fine status nonnu larum controversiarum ab Alexandrio Helladio. Impres- sus A. R. S., 1714.
Hirzel 1912 — R. Hirzel. Plutarch // Das Erbe der Alten, IV. Lpz., 1912.
Hommel 1978— H. Hommel. Rhetorik // DTV-Lexicon der Antike. Reiche I. Philosophie, Literatur, Wissenschaft. 3. Aufl. Miinchen, 1978, Bd. 4.
Hunger 1978— H. Hunger. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzanfiner. Miinchen, 1978, Bd. 1—2.
Hunger 1978a — H. Hunger. Stilstufen in der Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts: Anna Komnene und Michael Glykas // Byzantine Studies, 5, 1978, p. 139—170.
Ivanov 1971 — V. Ivanov. Freedom and the Tragic Life: A Study in Dostoevsky. N. Y., 1971.
Ker6nyi 1927— K. Kerenyi. Die griechisch-orientalische Romanliteratur in religionsgeschichtlichen Beleuchtung. Tubingen, 1927.
Kindlers Literatur Lexikon im DTV. Miinchen, 1974.
Kirk 1970 — G. S. Kirk. Myth, its meaning and functions in ancient and otner cultures. Berkeley Cambr., 1970.
Kirk 1974— G. S. Kirk. The nature of Greek myths. L., 1974.
Kitzinger 1965— E. Kitzinger. Mosaiques Byzantines Israelliennes. UNESCO, 1965.
Koller 1955— H. Koller. Εγκύκλιος παιδεία // Glotta, 34, 1955, S. 174—189.
Κομίνης 1966— Α. Δ. Κομίνης. Τό Βυξαντινόν ιερόν Επίγραμμα και οί έπίγραμματο ποιοί // Αθήνα, 3. Έν Αθήναις, 1966.
Κορδακιδης 1971 — Α. Κορδακιδης. Τό πρόβλημα -Της καταγωγής τού Ρωμανού τού Μελωδού. Αθήναι, 1971.
Κουρκούλας 1957— Κ. Κουρκούλας. Ή θεωρία τού κηρύγματος κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Αθήναι, 1957.
Krumbacher 1897— Κ. Krumbacher. Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des Ostromischen Reiches. 2. Aufl. Miinchen, 1897.
Kiihnert 1961 — F. Kiihnert. Allgemeinbildung und Fachbildung in der Antike. В., 1961.
Kustas 1962 — G. L. Kustas. The Literary Criticism of Photius: A Christian Definition of Style 11 Hellenica, 17, 1962.
Kustas 1973 — G. L. Kustas. Studies in Byzantine Rhetoric. Thessaloniki, 1973.
Lagarde ed. 1881 — loannis Euchaitorum metropolitae quae in codice Vaticano Cr. 676 supersunt ed. P. de Lagarde // Arch. d. hist. — phil. Klasse d. Konigl. Gessellschaft d. Wiss. zu Gottingen, 1881, XXVIII, N. 43.
Lemerte 1962— P. Lemerle. Byzance et tradition des lettres helleniques // Предаванья САН. II. Отд. друшт. наука, 2, 1962.
Lenz 1964— F. W. Lenz. Aristeidesstudien. В., 1964.
Leo 1901 — F. Leo. Die griechisch-romische Biographie nach ihrer litterarischen Form. Lpz., 1901.
Leo 1912— F. Leo. Satyros' βίος Εύριπίδου // Nachrichten von der Gessellschaft der Wissenschaft zu Gottingen, 1912.
Lewis 1954 — Clive Staples Lewis. English literature in the sixteenth century excluding drama. By C. S. Lewis. The completion of the Clark lectures. 1944. Oxford, The Clarendon press, 1954.
Liguori 1753—1755— Alphonsi M. Liquori Theologia moralis, v. I-II, Neapoli, 1753—1755.
List 1939— J. List. Studien zur Homiletik: Germanos I. von Konstantinopel und seine Zeit // Texte und Forschungen zu byzantinisch-neugriechischen Philologie, N 29. Athen, 1939.
Maistre 1837— J. de Maistre. Les soirees de Saint Petersbourg, ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence suivies d'un traits sur les sacrifices // Oeuvres de Joseph de Maistre, t. 2–nd. Bnixelles, 1837.
Mango 1975— C. Mango. Byzantine Literature as a Distorting Mirror. Oxford, 1975.
Manitius 1911 — M. Manitius. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. 1. Teil. Munchen, 1911.
Mann 1955— Th. Mann. Gesammelte Werke, III. В., 1955.
Maniiio, Poiiziemo, Sannazzara 1976— Michele Marullo, Poliziano, Iacopo Sannazzaro. Poesie lat- ine / A cura di Francesco Arnaldi e Lucia Guaido Rosa, t. 1—2. Torino, 1976, t. 1.
Mathew 1963 — G. Mathew. Byzantine Aesthetics. L., 1963.
Meyer 1905— W. Meyer. Der accentuirte satzschluss in der griechischen Prosa vom IV. bis XVI. Jahrhundert // W. Meyer. Gesammelte Aufsatze zur mittelalteriichen Rhytmik. В., 1905, Bd. 2.
Momigiiano 1975— A. Momigliano. Alien Wisdom: The Limits of Hellenisation. Cambridge, 1975.
Murtonen 1952 — A. Murtonen. The Prophet Amos — a Heratoscoper? // Vetus Testamentum, 2, 1952.
Nadeau 1959 — R. Nadeau. Classical Systems of staseis in Greek: Hermagoras to Hermogenes // Greek, Roman and Byzantine Studies. 1959, vol. 2.
Nauck 1884 — Jamblichus. De Vita Pythagorica / Ed. A. Nauck. Lpz., 1884.
Nauck 1926— A. Nauck. Tragicorum graecorum Fragmenta. 2 ed. Lipsiae, 1926.
Negri 1902— G. Negri. L'imperatore Guiliano I'Apostata. 2 ed. Milano, 1902.
Nestle 1931 — W. Nestle. Politik und Aufklarung im Griechenland im Ausgang des 5. Jhdts. vor Christo // Neue Jahrbucher fur das klassische Altertum, Bd. 31, 1931, S. 1—22.
Norden 1898— E. Norden. Die antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert vor Chr. bis in die Zeit der Renaissance. Lpz., 1898, Bd. 1—2.
Norden 1913 — E. Norden. Agnosthos Theos. Untersuchungen zur Formengeschichte religioser Rede. Lpz., 1913.
Norden 1955— E. Norden. Das Genesiszitat in der Schrift vom Erhabenen. В., 1955.
Norman 1969— A. F. Norman. Introduction // Libanius. Selected Works. In 3 vols. / With an Engl, transl., introd. notes by A. F. Norman. Cambridge (Mass.) — London (The Loeb classical library), 1969, vol. 1.
Papadopoulos-Kerameus 1893 — A. Papadopoulos-Kerameus. Mitteilungen iiber Romanos // Byzantinische Zeitschrift, 1893, 2, S. 601—603.
Pautys Real-Encyclopadie der dassischen Altertumswissenschaft / Unter Mitw. zahlreicher Fach- genossen hrsg. von Georg Wissowa. Neue Bearb. XLI. Stuttgart, 1951.
Payr 1962 — Th. Payr. Enkomion // Reallexicon fur Antike und Christentum. Bd. 1—8. Stuttgart, 1950—1970. Bd. 5. S. 331—343.
Petrarca 1906— Francesco Petrarca. Le Traite «De Sui ipsius et multorum ignorantia» publie d'apres le manuscrit autographe de la Bibliotheque du Vatican, avec introduction, notes et commen- taites par L. M. Capelli. Parisius, 1906.
Poster 1956 — F. Pfister. Alexander der Grosse in den Offenbarungen der Griechen, Juden, Mo- hammedaner und Christen. В., 1956.
PG — Patrologia cursus completus… series graeca, accurante J. — P. Migne. Patrologia graece, t. 1— 161. Lutetiae Parisiorum, J. — P. Migne, 1857—1866.
[Philocalia] Φιλοκαλία… — Έκατοντάς πρώτη των περι αγάπης κεφαλαίων, 1 // Φιλοκαλία των kpcjv νηπτικών. В., 'Αθήναι, 1975.
Philodemus 1923— Philodemos iiber die Gedichte. Fiinftes Buch / Griechischer Text mit Ubersetzung und Erklarung von Christian Jensen. В., 1923.
Pindams 1811 — Pindari carmina et fragmenta cum scholiis integris emend / Ed. C. D. Beekius. Lipsiae, 1811, t. I.
Podskalsky 1976— G. Podskalsky. Nikolaos von Methone und die Proklosrenaissance im Byzanz/ / Orientalia Christiana Periodica, XL1I, Roma, 1976, p. 509—523.
Podskalsky 1977— G. Podskalsky. Theologie und Philosophie in Byzanz: Die Streit um die theolo- gische Methodik in der spatbyzantinischen Geistesgeschichte (14/15 Jh.), seine systematis- chen Grundlagen und seine historische Entwicklung // Byzantinisches Archiv, Hft 15. Miinchen, 1977.
Pohlenz 1948— M. Pohlenz. Die Stoa. Gottingen, 1948.
Rabe ed. 1892—1893— Syriani commentaria im Hermogenem // Rhetores graeci XVI, 1—2 (Bibl. scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana) / Ed. H. Rabe. Lipsiae, 1892—1893, vol. 1—2.
Rabe ed. 1913— Hermogenis Opera // Rhetores graeci VI / Ed. H. Rabe. Lipsiae, 1913, vol. 6.
Rabe ed. 1926 — Aphthonii Progymnasmata // Rhetores graeci X (Bibl. script, graec. et roman. Teubneriana) / Ed. M. Rabe. Lipsiae, 1926, vol. 10.
Rabe ed. 1928— loannis Sardiani Commentarium im Aphthonii Progymnasmata // Rhetores graeci XV / Ed. H. Rabe. Lipsiae, 1928, vol. 15.
Rabe ed. 1935— Prolegomenon Sylloge // Rhetores graeci XIV / Ed. H. Rabe. Lipsiae, 1935, vol. 14.
Radermacher 1912— L. Radermacher. Hermogenes von Tarsos // Paulys Real Encyclopadie, 1912, Bd. 8, Hbb. 1, col. 865—877.
Ratschow 1941 — С. H. Ratschow. Werden und Wirken. Eine Untersuchung des Wortes hajah als Beitrag zur Wirklichkeitserfassung der Alten Testaments. В., 1941.
Reinach 1895 — Th. Reinach. Textes d'auteurs Grecs et Romains relatifs au Judaisme. P., 1895.
Reitzenstein 1926— R. Reitzenstein. Hellenistische Wundererzahlungen. Lpz., 1926.
Richter 1926— P. H. Richter. Byzantinischer Kommentar zu Hermogenes 11 Byzantion, 1926, 3.
Rohde 1914— E. Rohde. Der griechische Roman und seine Vorlaufer. 3. Aufl. Lpz., 1914.
Saitta 1938— G. Saitta. L'illuminismo della sofistica greca. Milano, 1938.
Σαθας 1878— Κ. Σαθας. Ιστορικον δοκίμιον περί του θεάτρου και της μουσικής των Βυξαυτινών. Έν Βενετία, 1878.
Satyre Menippee de la vertu du catholicon d'Espagne, et de la tenue des estatz de Paris, a laquelle est adiouste un discours sur ('interpretation du mot de Higuiero d'inflerno, et qui en est I'Autheur. [Paris, 1594].
Scherbantin 1951— A. Scherbantin. Satura Menippaea. Geschichte eines Genos. Diss. Graz, 1951.
Schilling 1903— L. Schilling. Quaestiones rhetoricae selectae. Lpz., 1903.
Schissel 1927— O. Schissel. Die Familie des Minukianes // Klio, 1927, 21.
Schmid 1959 — W. Schmid. liber die Klassische Theorie und Praxis des antiken Prosarhytmus // Hermes Einzelschriften. Wiesbaden, 1959, 12.
Schiirer 1909— E. Schiirer. Geschichte des jiidischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 3. Bd. Lpz., 1909.
Schwartz 1959— E. Schwartz. Griechische Geschichtsschreiber. Lpz., 1959.
Sellin — Fohrer 1969 — Einleitung in das Alte Testament / Begriindet von Ernst Sellin vollig neu bearbeitet von Georg Fohrer. 11. Aufl. Heidelberg, 1969.
ν ν v V
Sevcenko 1962 — I. Sevcenko. La vie intellectuelle et politique A Byzance sous les premiers Paleologues: Etudes sur la polemique entre Theodore Metochite et Nicephore Choumnos. Bruxelles, 1962.
Sevcenko 1981 — 1. Sevcenko. Levels of Style in Byzantine Prose // jahrbuch der osterreichischen Byzantinistik, 31/1. XVI. Intemationaler Byzantinistenkongress Akten, I, 1. Wien, 1981.
Spanish Verse-The Penguin Book of Spanish Verse / Ed. by J. M. Cohen. Harmondsworth, 1960.
Spengel ed. 1854 — Aphthonii Progymnasmata 2 // Rhetores graeci II / Ed. L. Spengel. Lipsiae, 1854, t. 2.
Spengel ed. 1856 — Aphthonii Progymnasmata // Rhetores graeci III / Ed. L. Spengel. Lipsiae, 1856, t. 3.
Spengel, Hammer edd. 1894 — De Rhetorica // Rhetores graeci 1 / Ed. post L. Spengel, C. Hammer. Lipsiae, 1885/1894, vol. 1.
Spengler 1920 — O. Spengler. Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie des Weltgeschichte. 1. Bd. Miinchen, 1920.
Staiger 1959— E. Staiger. Grundbegriffe der Poetik. 4. Aufl. Zurich, 1959.
Stegeman 1932— W. Stegeman. Municianus d. A. // Pautys Reai-Encyclopadie, 1912, Bd. 15, Hbb. 2, col. 1975—1986.
Stemplinger 1911 — E. Stemplinger. Das Plagiat in der griechischen Literatur. Lpz., 1911.
Stevenson 1876— H. Stevenson. L'hymnographie de I'Eglise grecque. Du rythme dans les can- tiques de la liturgie grecque // Revue des Questions historiques, 1876, 20.
Tatarkiewicz 1962 — W. Tatarkiewicz. Estetyka nowozytna // Wl. Tatarkiewicz. Historia estetyki, t. 2. Wroclaw, Warszawa, Krakow, 1962.
Textes choisis de /'Encyclopedic / Ed. par A. Soboul. P., 1962.
Thiio ed. 1878—1912— Servii Grammatici qui feruntur in Vergilii Aeneidos libros I-III / Ed. Georg Thilo. Lipsiae, 1878.
Tossi 1992— R. Tossi. Dizionario delle sentenze latine e greche. 10 000 citazioni dall' Antichita al Rinascimento con commento storico, litterario e fliologico. Milano, 1992.
Trypanis 1968— C. A. Tiypanis. Fourteen Early Byzantine cantica // Wiener Byzantinistische Studi- en. Wien, 1968, Bd. 5.
Tuilier 1969— A. Tuilier. La Passion du Christ: Tragedie. P., 1969.
Vasari 1896— G. Vasari. Delle vite de' piu eccelenti pittori, sculptori e architetti / Ed. A. Salinari (2nda ed.). Firenze, [1896].
Venturi 1963— F. Venturi. Le origini dell' «Encyclopedia». Torino, 1963.
Verpeaux 1959 — J. Verpeaux Nicephore Choumnos: Homme d'Etat et humaniste byzantin. P., 1959.
Walz ed. 1832—1836— Rhetores graeci 1—IX (Bibl. scriptorum graecorum et romanorum Teubne- riana) / Ed. Chr. Walz. Stuttgartiae e. a., 1832—1836, vol. 1—9.
Weichert ed. 1910— Demetrii et Libanii qui feruntur τόποι έπιστολίκοί ετ έπιστολιμαιοι χαρακτήρες / Ed. V. Weichert. Lipsiae, 1910.
Welser 1957— Artur Weiser. Einleitung in dels AlteTestament. 4., neubearb. u. verm. Aufl. Gottingen, 1957.
Wendland 1912 — P. Wendland. Die hellenistisch-romische Kultur in ihrer Beziehungen zu Jugen- tum und Christentum. Tubingen, 1912.
Widmann 1936— F. Widmann. Die Progymnasmata des Nikephoros Chrysoberges // Byzantinisch- neugriechische Jahrbucher / Hrsg. v. N. A. Bees. Bd. XII. Jhg. 1935/1936.
Wieland 1799— Chr. M. Wieland. Agathodamon. Aus einer alten Handschrift. Lpz., 1799.
Wieland 1958—W. Wieland. Aristoteles als Rhetoriker und die exoterischen Schriften // Hermes, 86, 1958, S. 323—342.
Wilamowitz-Moellendorf, Krumbacher u. a. 1905— U. V. Wilamowitz-Moellendorf, K. Krumbacher u. a. Die griechische und lateinische Literatur und Sprache. B. —Lpz., 1905.
Ziegler 1941 — K. 2iegler. Photios // Paulys Real-Encyclopadie, 1941, XIX, col. 667—737.
Zielinski 1904 — Jh. Zielinski. Das Clauselgesetz in Ciceros Reden // Philologus, 1904, Supple- mentband 9.
Zlntzen 1967—C. Zintzen. Damasci vitae Isidori reliquiae. Neudruck Hildesheim, 1967.
Первые издания публикуемых работ[804]
Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (Противостояние и встреча двух творческих принципов) // Вопросы литературы, 1971, № 8, с. 40—68; Сб. Типология и взаимосвязь литератур древнего мира. / Отв. ред. П. А. Гринцер. М., 1971, с. 206—266.
Авторство и авторитет // Сб. Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания / Отв. ред. П. А. Гринцер. М., 1994, с. 105—125.
Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации // Сб. Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения / Ред. коллегия: М. Б. Храпченко и др. М., 1986, с. 104—116.
Античная риторика и судьбы античного рационализма // Сб. Античная поэтика. Риторическая теория и литературная практика / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. М., 1991, с. 3—26.
Древнегреческая поэтика и мировая литература // [Вступление к сб.] Поэтика древнегреческой литературы / Отв. ред. С. С. Аверинцев. М., 1981, с. 3—14.
Риторика как подход к обобщению действительности // а) Вопросы литературы, 1981, № 4, с. 153—179; б) Поэтика древнегреческой литературы, с. 15—46.
Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика замкнутости и разомкну- тости // Сб. Взаимосвязь и взаимовлияние жанров в развитии античной литературы / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. М., 1989, с. 3—25.
Проблема индивидуального стиля в античной и византийской риторической теории // Сб. Литература и искусство в системе культуры / Сост. Т. Б. Князевская. Отв. ред. Б. Б. Пиотровский. М., 1988, с. 23—30.
Литературные теории в составе средневекового типа культуры // [Вступление к сб.] Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. М., 1986, с. 5—18.
Византийская риторика. Школьная норма литературного творчества в составе византийской культуры // Там же, с. 19—90.
Христианский аристотелизм как внутренняя форма западной традиции и проблемы современной России [Текст доклада, зачитанного от имени отсутствовавшего из- за болезни автора на предсинодальной конференции в Ватикане в ноябре 1991 года] // Русская мысль, 1991, 27 декабря; Сб. Христианство и культура в Европе: Память о прошлом. Сознание настоящего. Упование на будущее. [Материалы ватиканской конференции.] М., Изд–во «Выбор», 1992, ч. 1., с. 16—25.
Два рождения европейского рационализма // Вопросы философии, 1989, № 3, с. 3—13.
Античный риторический идеал и культура Возрождения // Сб. Античное наследие в культуре Возрождения / Отв. ред. В. И. Рутенбург. М., 1984, с. 142—154.
Аристотель. Риторика, кн. III / Пер. и комментарии С. С. Аверинцева // Сб. Аристотель и античная литература / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. М., 1978, с. 164—228.
notes
Примечания
1
Эти анонимные глубины, как известно, весьма привлекали еще Гердера, посвятившего ветхозаветной поэтике немало глубокомысленных замечаний («О духе еврейской поэзии», тт. 1—2, 1782—1783). Великий культурфилософ предро- мантической эпохи недаром был современником Макферсона, к стилизациям которого проявил живой интерес («Избранные места из переписки об Оссиане и о песнях древних народов», 1773).
2
Вспомним заглавие назидательной аллегории Джона Беньяна «The Pilgrim's Progress» (1678 г.), оно предполагает образ самого настоящего пути, по которому идут ногами.
3
В качестве методологической параллели можно упомянуть попытки распространения категорий «Возрождения» (или хотя бы «Предвозрождения») на весь цивилизованный мир. Попытки эти также представляются нам, по сути дела, обидными как для гуманизма итальянского типа, в предельном напряжении сил создавшего доселе небывалые нормы культуры, так и для народов, шедших иным путем и творивших в соответствии с иными нормами. Если, например, русский XV в. описывается как «Предвозрождение» (так сказать, «еще не совсем Возрождение»), позволительно спросить, что это значит? Разве не очевидно, что эта эпоха отнюдь не преддверие, не предвосхищение, а полное, исчерпывающее осуществление некоего культурного идеала, самозаконного, самоценного и весьма мало общего имеющего с Ренессансом? Критика европоцентризма, усматривающая везде и повсюду культуру, соответствующую специфически европейским идеалам и нормам культурного творчества, являет собою усложненную разновидность того же европоцентризма (это относится, например, к книге В. Чалояна «Восток и Запад» — Чалоян 1980).
4
Эта сторона античной классики очень энергично подчеркивается в работах А. ЧФ. Лосева.
5
В сочинении «О поэзии» Демокрит разработал столь популярное в дальнейшем учение о поэтическом «безумии», интеллектуалистико–психологически- ми средствами компенсировавшее утрату архаической бессознательности.
6
Frgm. В 16а—25 Diels. Характерно, что гениальная инициатива Демокрита распространилась на самосознание культуры в целом, ему принадлежат трактаты по искусствознанию («О музыке», «О живописи»), а также — впервые! — размышления о генезисе цивилизации.
7
Ср. тот смысл, который вкладывал в это слово недавно умерший немецкий философ К. Ясперс, противопоставлявший свое принципиально незамкнутое «философствование» традиционной системосозидающей «философии».
8
Абсолют философской религии Платона называется «существенно–Сущее» (τό όντως όν); абсолют библейской веры называется «живой Бог» (Ί hj). Переводчики, создавшие так называемую Септуагинту, на радость всем философствующим теологам средневековья передали знаменитое самоописание библейского бога « hh Sr Ъ–jh» (Исход, гл. 3, ст. 14) в терминах греческого онтологизма: εγώ ειμί ό ών («Аз есмь Сущий»). Но древнееврейский глагол hjh означает не «быть», но «действенно присутствовать»; он характеризует не сущность, а существование (ср.: Ratschow 1941). И здесь дело идет о жизни, а не о бытии, о реальности, а не о сущности.
9
Может показаться, что эта характеристика плохо подходит к Гераклиту, но Эфесец занимает среди греческих мыслителей особое положение лишь постольку, поскольку дал права неподвижной сущности самому началу движения и усмотрел нечто неизменное в самой изменчивости. «Все течет» — эти слова не относятся к принципу течения: к Огню, к Логосу. Использование сквозного символа огня приближает Гераклита к Библии (ср. Второзак. 4, 24: «Йахве есть огнь поядающий»), но Огонь Гераклита подчинен объективной вещной закономерности, он, как известно, «мерою возгорается и мерою угасает», а значит, в самой своей динамичности и катастрофичности являет некую стабильность.
10
Вот характерный контраст. В «Книге Екклесиаста» всякой человеческой речи, а значит, и мысли изрекается такой закон: «Бог на небе, а ты на земле» (гл. 5, ст. 1). Греческий мыслитель, признавая для себя как для человека условия земного бытия, полностью отрицает их для своей отрешенной мысли:
Знаю, что смертен, что век мой недолог, и все же — когда я
Сложный исследую ход круговращения звезд, Мнится, земли не касаюсь ногами, но гостем у Зевса
В небе амвросией я, пищей бессмертных, кормлюсь.
(Клавдий Птолемей, пер. J1. В. Блуменау)
Иудей — «на земле», грек — «на небе». Это не противоположность между робостью верующего и дерзанием ученого, в библейской «Книге Иова» дерзание доходит до того, что самого Бога зовут на суд. Но Иов спорит с Богом «из глубины» (ср. Псал. 129, ст. 1) своей беды, своей конкретной жизненной ситуации, а не с бесстрастных высот интеллектуальной отрешенности и «внемйрности». Мечта Архимеда о точке опоры вне земли — это поразительно емкий символ греческой мысли; ближневосточной мысли такие искания были чужды.
11
В этом смысле очень типичная фигура — Лукиан из Самосаты, беллетрист, порожденный уже римской эпохой. В его сочинении «Сновидение, или Жизнь Лукиана» олицетворенная Образованность (Παιδεία), иначе говоря, Риторика, иначе говоря, Литература, обращает к подростку такие речи: «Ныне ты бедняк, сын такого-то, уже почти решившийся отдать себя столь низкому ремеслу, — а немного спустя ты сделаешься предметом всеобщей зависти и уважения; тебя будут чтить и хвалить, ты станешь знаменит среди лучших людей. Мужи, знатные родом или богатством, будут с уважением смотреть на тебя, ты станешь ходить вот в такой одежде (и она показала на свою — а была она роскошно одета)… Если даже ты уйдешь из этой жизни, то все же навсегда останешься среди образованных людей и будешь в общении с лучшими» (пер. Э. В. Диль, см. Лукиан 1962, с. 32—33). Это бесподобное в своем роде место (сопоставимое разве что с древнеегипетскими хвалами карьере писца, но совсем иное по своему содержанию) очень красочно показывает, как в соблазнах литераторской профессии переплетались приманки духовного свойства и обещания хорошего местечка под солнцем. Такие люди, как Лукиан, были обязаны своему литераторству решительно всем — и духовными, и материальными основами своего существования, своим человеческим лицом и общественным статусом. Понятно поэтому, что когда Лукиану приходилось сталкиваться с неблагоприятными отзывами касательно чистоты своего стиля, писатель приходил в такое неистовство, в какое его едва ли привела бы самая страшная клевета относительно чистоты его нравов. Дошло два его сочинения, связанных с подобными казусами. В памфлете «Лжец, или Что значит пагубный» он мстит дерзкому, осмелившемуся заподозрить его аттическую дикцию, полубредовыми обвинениями во всех возможных пороках, торопится морально изничтожить его, чтобы только отвести от себя страшное обвинение; в маленьком трактате под заглавием «В оправдание ошибки, допущенной при приветствии» он привлекает неимоверный аппарат учености, чтобы реабилитировать свое словоупотребление. Больнее задеть его просто невозможно. По–видимому, созревание «литераторского» социального самочувствия всегда сопровождается подобными эксцессами: достаточно вспомнить нравы итальянских гуманистов XV столетия или взаимоотношения Тредьяковского, Сумарокова и Ломоносова. Патологическая профессиональная обидчивость — оборотная сторона еще непривычной «беспочвенности».
12
Бродячему певцу у всякого народа полагается быть слепцом, и притом по весьма прозаической причине: зрячие годятся на другое дело. Но только грекам пришло в голову истолковать слепоту как еще один символ внутренней отрешенности. Неоплатоник Прокл пишет: «Гомер… возвысил свою мысль над мнимыми благами всяческой зримой гармонии <…> по каковой причине он и представлен в сказании утратившим очи и претерпевшим то самое, что он заставляет претерпеть феакийского певца Демодока:
[Муза его при рожденьи и злом и добром одарила;]
Очи затмила его, даровала за то сладкопенье.
В Демодоке Гомер представил парадигму собственной боговдохновенной жизни и потому говорит о нем, что тот лишен всяческой явленной гармонии и красоты через одержимость Музой» (In Platonis Rem. publ. ad. p. 398,1 174 Kroll). Оставляя на совести Прокла, автора очень позднего (V в. н. э.!), те обороты речи, которые характеризуют только традицию философского идеализма, нельзя не признать, что он точно выразил важную родовую черту греческого мировосприятия. Философская легенда греков дает яркий pendant к слепоте Гомера — самоослепление Демокрита, который якобы выжег себе глаза, чтобы преодолеть ложь общедоступной оче видности и выйти от зрения к умозрению (Plut. de curios. 12, p. 521 D; Aul. Gell. X, 17 и др.). Поэт и философ в идеале должны быть для грека слепы: слепец жизненно беспомощен, он выключен из жизни, но за счет этой своей внеситуатив- ности он достигает творческой свободы и видит невидимое. Библейскому мышлению этот идеал совершенно чужд.
13
Эту дистанцию почувствовал, но едва ли верно понял английский марксист Дж. Томсон, сопоставляющий Гесиода с его современником пророком Амосом: «Гесиод был мелким земледельцем, собственником, который убеждал работников продолжать трудиться, несмотря ни на что, и утешал их преданиями о золотом веке в далеком безвозвратном прошлом. Амос был пастухом, который говорил от лица тружеников, а не обращался к ним; он угрожал их угнетателям гневом Иеговы и обещал новый век изобилия в грядущие годы» (Томсон 1959, с. 93—95). Томсон несправедлив к беотийскому поэту, который в конце концов тоже грозит «царям дароядцам» гневом Зевса и дочери его Правды («Труды и дни», ст. 220—224, 248—265), хотя делает это с куда меньшей страстью и яростью, чем Амос. Прямолинейный социологизм Томсона «хромает» еще и потому, что социальное положение Амоса (как, впрочем, и Гесиода) отнюдь не может считаться окончательно выясненным: он называет себя bwqr, «коровьим пастухом» (гл. 7, ст. 14) и nqd «овечьим пастухом» (гл. 1, ст. 1) — но тот же термин nqd прилагает к себе и царь Моава Меша (II Кн. Царств, гл. 3, ст. 4), так что даже если не сопоставлять слово с загадочным титулом угаритского верховного жреца rb nqdm (как это сделано в: Murtonen 1952, р. 170; ср. критику в: Eissfeldt 1956, S. 483), вполне можно себе представить, что Амос до своего «призвания» был состоятельным скотоводом. Но в одном отношении Томсон прав: Амос говорит как человек из народа, Гесиод· говорит о народной жизни.
14
Как известно, Шпенглер настаивал на полном незнакомстве античности с феноменом «непризнанного гения» (Spengler 1920, S. 448—449). Но насилие фактов вынуждает Шпенглера отступать от собственной схемы и описывать ряд явлений греческой культуры начиная с IV в. до н. э. в терминах именно этого ряда.
15
Строго говоря, понятия «творчество» в новоевропейском смысле слова не знали и греки. Ποιέω значит «сделать», «построить», «сработать»; производное от этого глагола существительное ποιητής («поэт») буквально означает «выделыва- тель [стихов]» и весьма непатетично (на этом особенно настаивал Ф. Дорнзейф). Впрочем, не надо забывать, что именно греки в лице Демокрита (см. прим. 6) и Платона разработали учение о поэтическом экстазе, предопределившее новоевропейскую идею гениального творчества, которое преодолевает «правила» (ср. параграф 47 второй части кантовской «Критики способности суждения»). С другой стороны, если для греков не существовало нашего понятия «творчества», как послеренессансного перенесения на человека атрибутов бога–демиурга, творящего из ничего, — для них огромную роль играло понятие «изобретения», «измышления» (εΰρεσις). Пиндар говорит, что хочет быть «изобретателем слов» (ΟΙ. 9, 80). Всякий реформатор того или иного жанра был с греческой точки зрения «изобретателем» новой жанровой формы: скажем, Эсхил «изобрел» новый тип трагедии. Часто утверждается, что греки не различали искусства и ремесла, объединяя то и другое в понятии τέχνη; это не совсем точно, ибо Плутарх (Vita Pericl. p. 159D) противопоставляет καλλιτεχνία («изящное искусство», т. е. вдохновенное эстетическое творчество) и δημιουργία (ремесленную выработку, подчиненную закону обыденности). Это различие — одна из новаций греческого эстетизма.
16
Как известно, нумерация псалмов в православной и католической Библии, с одной стороны, и в масоретско–иудаистском, а также лютеранском каноне, с другой стороны, не совпадает. Впредь мы даем двойную нумерацию.
17
По–гречески «толпа» в уничижительном смысле обозначается словом όχλος. Еще более характерно греческое словечко βάναυσος (букв, «присущий ремесленнику», в бранном переосмыслении «пошлый», «вульгарный», «банальный», «бездуховный»). Позднеиудейское ругательство 'm hrz, которым раввины талмудической эпохи клеймили непричастных священной учености невегласов, имеет совершенно иной привкус: раввины, как правило, по своему социальному статусу сами были ремесленниками (рабби Гиллель — дровосеком, рабби Шаммай — каменщиком, рав Йошуа — кузнецом и т. п.), а значит — βάναυσοι. В слове «банаусос» отложилось высокомерие «интеллектуала» и «свободного художника», в словосочетании «ам–хаарец» — высокомерие ученого «начетчика» и набожного «ревнителя».
18
Конечно, Демосфен тоже хотел быть немедленно услышанным; но от его ситуации нельзя отмыслить и сознательной работы над литературным шедевром, который останется, когда борьба отшумит. Демосфен и Эсхин в качестве государственных деятелей боролись не на жизнь, а на смерть; в качестве литераторов они в равной степени явили собой «классиков» своего жанра.
19
«То обстоятельство, что именно Книга Исайи столь богата вставками из различных эпох, доказывает, что книгу эту вновь и вновь брали в руки, и что эта царственная фигура между пророками была все же познана и признана в своем истинном значении», — замечает А. Вайзер (We/ser 1957, S. 159).
20
Как известно, латинское слово individuum есть точный перевод греческого άτομος. Равный себе атом — единица, монада — есть для грека модель его «индивидуальности» (ср.: Лосев 1963, с. 450).
21
«От имени» (msm) — обычная формула ссылки на авторитет в талмудической литературе («Рабби NN говорил от имени рабби NN…»); ср. мышление, стоящее за практикой «хадисов» в исламе.
22
Ср.: Guthrie I960, р. 118.
23
Мы употребляем термин «диалогической» в том расширительном и углубляющем смысле, который можно считать общепонятным после работы Μ. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» (Бахтин 1963).
24
Как известно, кантовское an sich восходит через посредство схоластического perse к аристотелевскому καθαυτό (ср.: Domseiff 1950, S. 28).
25
Вот несколько ранних случаев употребления этого термина: Democr. В 246 Diels; Plat. Phileb, p. 67 A; Arist. Eth. Nic. p. 1097 B7.
26
Столь же неожиданно, сколь и логично, что для всей греческой философии в целом «сострадание» (έλεος) оказывается столь же предосудительным, как похоть, страх и т. п. (ср. упоминание этого чувства именно в таком ряду у Ямвли- ха, De vita Pythagorica, с. 15, p. 64, 45 Nauck). Мудрецу приличествует отрешенное «человеколюбие» (φιλανθρωπία), снисходящая «благожелательность» (εΰνοια), но никак не жалость, противоречащая интеллектуальной свободе и упраздняющая дистанцию между «я» и «не–я». Сострадание есть «страсть» (πάθος), т. е. непроизвольное страдательное состояние, когда не человек нечто делает, но с ним что-то делается под действием оклика извне; а страсть есть главный враг греческой философской этики. Напротив, ветхозаветному Богу свойственно не просто милосердие, но «чревная» материнская жалость по отношению к тем, кого он жалеет (rhmjm — мн. число от rhm). Наряду с этим ему весьма свойственны состояния «гнева» и «ревности», которые опять-таки предосудительны для греческой философской этики, ибо фиксируют внутриситуативную позицию гневающегося и ревнующего. Христианскому апологету Фирмиану Лактанцию придется писать особый трактат «О гневе Божием», защищая библейский образ Бога против философского презрения к гневу.
27
Что божество «сферовидно», утверждал еще Ксенофан (А 1. 28. 33. 35 Diels); Эмпедокл учил о «бескачественном Сферосе» (А 41 В 27, 4 Diels) как изначальном тождестве бога и мира. Сфера, согласно греческому пониманию, дает образ идеального самодовления, ибо включает в себя все существующие фигуры и ничего не оставляет рядом с собой (ср. Plat. Tim. p. 33 В).
28
Xenoph, В 26,1 Diels. Что касается олимпийцев народной веры, мифа и поэзии, то они, разумеется, заинтересованы в жертвах и уважении смертных, в преуспеянии любимцев и в гибели обидчиков, но довольно поверхностно, почти «спортивно». «Так как весь промысел о чувственном… называется детской забавой богов, то мифотворцы и привыкли именовать эту особенность действования богов в мире смехом», — резюмирует стиль уходящего в прошлое мифа Прокл (In rem publ. 1, 126—128 Kroll). Конечно, всякий народ изначально предполагает заинтересованность бога в человеке и человека в боге по принципу do, ut des; важно, куда пойдет движение от этой исходной точки. Греческое божество по мере своего одухотворения в мысли философов становится все более безразличным к миру (предел этого развития — боги Эпикура); Йахве по мере своего одухотворения в мысли пророков становится все более заинтересованным в мире (предел этого развития — христианский догмат о боговоплощении).
29
Давно отмечено, что у Достоевского, глубинно диалогический характер творчества которого блестяще выяснен Μ. М. Бахтиным, принцип речевой характеристики постоянно нарушается, так что интонации персонажа проникают в голос автора и наоборот. «В смешении автора и авторского персонажа… не следует ли видеть отступление от реализма и художественности? Нет. В «Бедных людях» изображен разговор двух душ, а души могут говорить не временным своим языком, а преодолевать все преграды бытового косноязычия…» (Лихачеву 1967, с. 321—322).
30
Характерно, что уподобление места человека во вселенной маске и роли становится у стоиков избитым общим местом. Панеций учил, что каждый из людей носит четыре маски: маску человека, маску конкретной индивидуальности, маску общественного положения и маску профессии (ср.: Pohlenz 1948, S. 201). Когда Сенека хочет выразить идею душевной цельности, он говорит: «Великое дело — сыграть роль единообразного человека!» («Unum hominem agere» — ер. 120, 22).
31
Лихачев 1962, с. 64—66. Едва ли можно, однако, согласиться с вдумчивым исследователем, когда он характеризует подобную «психологию без характера» в терминах «еще–не», как если бы Епифанию или автору Русского Хронографа попросту не хватало знаний о человеческой сущности. Очевидно, что принцип историзма приказывает нам рассматривать поэтику древнерусской литературы в соответствии с ее целями, с ее мировоззренческими принципами. Христианский писатель средних веков хотел внушить своему христианскому читателю самое непосредственное ощущение личной сопричастности к мировому добру и личной совиновности в мировом зле: читатель должен был внутренне отождествить себя с праведником — в его доброй воле, а со злодеем — в его греховности, усматривая все ту же борьбу — Бога и Дьявола в описываемых событиях и в себе самом. Такой «сверхзадаче» объектно–созерцательная «психология характера» явно не соответствует. С другой стороны, ни из чего не следует, будто для нашего сознания — переставшего верить в непроницаемость и неразложимость каких бы то ни было «атомов» — «психология характера» абсолютно и безусловно права против «психологии без характера»; по–видимому, обе эти психологии соотносятся между собой примерно так, как геометрия Евклида и геометрия Лобачевского. Достаточно вспомнить стиль психологизма Достоевского, никоим образом не укладывающийся в каноны «психологии характера». Ср. нашу статью: Аверинцев 1970, с. 113—143, особенно с. 130—132.
32
В древности физиогномика была наукой, и притом весьма почтенной и важной; к ней были прикосновенны такие умы, как Гиппократ и Аристотель, бесчисленное множество ученых меньшего ранга занимались ее систематизированием и усовершенствованием.
33
Ср.: Evans /969.
34
Напротив, греческая литература начиная с Гомера берет олимпийцев как пластичные είδωλα с фиксированными приметами, как «маски», которые отличаются от человеческих «масок» лишь большей степенью статичности и самотождественности. Из этих «масок» можно монтировать некий сборный облик героя:
…и меж них возвышался герой Агамемнон, Зевсу, метателю грома, главой и очами подобный, Станом — Арею великому, персями — Энносигею…
(«Илиада», II, 477—479; пер. Я. Я. Гнедича).
Совершенно так же на исходе античной культуры эпиграмматист Руфин (I в. н. э.?) будет собирать образ воспеваемой любовницы из «деталей», характеризующих «эйдос» («вид»), «этос» («нрав») и «биос» («образ жизни») отдельных божеств:
Ты обладаешь устами Пейфо, красотою Киприды, Блещешь, как Горы весны, как Каллиопа, поешь, Разум и нрав у тебя от Фемиды, а руки — Афины…
(Пер. JI. В. Блуменау)
Русского читателя такой подход к конструированию образа заставит, пожалуй, в озорную минуту вспомнить мечтания Агафьи Тихоновны из гоголевской «Женитьбы»: «Если бы губы Никанора Ивановича, да приставить к носу Ивана Кузьмича…», — не так ли, в самом деле, Гомер приставляет голову Зевса к груди Посейдона? Но для Гомера, как и для Руфина, такая художественная практика абсолютно серьезна и органична, ибо укоренена в греческом понимании «характера», как статичной «маски»; и уж во всяком случае она предполагает общепонятную пластичную наглядность представлений о Зевсе и Посейдоне.
35
Напротив, египетские божества являют собою весьма пластичные и самотождественные σχήματα «фигуры» (ср. употребление этого греческого слова, относящегося к тому же кругу понятий, что и χαρακτήρ или πρόσωπον, в знаменитом описании сакральной эстетики Египта у Платона, Legg. И, 656 D—675 В). Недаром Египет знал практику сакральных действ, на которых жрецы выступали в масках богов (см. Матъе 1956, с. 64—80). Однако египетские боги — не вполне χαρακτήρες в греческом смысле этого слова, и притом постольку, поскольку имеют свойство сливаться друг с другом, поглощая сущность друг друга (Амун–Ра, Хон- су–Ях, Тот–Ях, Осирис–Ях и т. п.): это свойство (порой присущее греческим богам в культе, но чуждое им в мифе, искусстве и литературе) понижает коэффициент пластичности.
36
В литературной ситуации нового времени аналогичный подход к построению образа оказывается ущербным (Пушкин в черновике письма к Η. Н. Раевскому от конца июля 1825 г. с осуждением отмечает: «…создав в воображении какой-нибудь характер, писатель старается наложить отпечаток этого характера на все, что заставляет его говорить…»). Эта оценка ни в малейшей степени не может быть перенесена на «масочный» метод характеристики в античной литературе хотя бы потому, что там самые общие функции образа и характера были принципиально иными, чем в новоевропейской литературе: для нас фабульная ситуация помогает выявиться характеру, для греков характер служит для выявления сверх личной мифологической фабулы (μύθος «Поэтики» Аристотеля). Вместилище подлинного смысла — не ήθος, а μ\3θος (Arist. Poet, p. 1450 в, ср.: Лосев 1930, с. 719—720).
37
Принципиальное безразличие библейского образа к пластической офор- мленности точно уловил Т. Манн: «Безразлично, был ли Аврам высок и красив… или, может статься, низкоросл, тощ и согбен — в любом случае он обладал силой духа, всей силой духа, потребной, чтобы возвести всяческое многообразие божественного, и всякий гнев, и всякую милость к Нему, непосредственно к Нему, своему Богу» (Mann 1955, S. 426—427). Действительно, сколь ни редки в религиозном искусстве позднеантичного иудаизма фигуративные изображения, которые не являли бы в себе определяющего эллинистического влияния (как фрески синагоги в Дура–Европос), они ясно свидетельствуют, с какой легкостью иудей, еще связанный с древнепалестинской традицией, мог представить себе облик того же Авраама лишенным всякого внешнего достоинства. Такова относящаяся к VI в. н. э. мозаика синагоги в Бет–Альфа, изображающая Жертвоприношение Исаака (см.: Kitzinger 1965). Бесформенно выкручивающиеся и змеисто перевивающиеся руки патриарха гротескно выражают душевное борение, на запрокинутом красном губастом лице, к которому сбоку (!) приставлено семь полосок бороды, пронзительно светятся глаза — избыток экспрессии при полном равнодушии к пластике.
38
Ср. подобное словоупотребление у Дионисия Галикарнасского, Lys. II, 477, р. 204 Usen. et Raderm.
39
Men. Sent. 27, p. 34 Jaekel.
40
Demosth. 9, 981, p. 148 9~10 Usen. et Raderm.
41
Древний египтянин мог сказать о мудрецах былых времен: «Имена их живут из-за их книг, которые они написали, потому что они были благими, и память о том, кто их сделал, будет жить вечно». Однако и здесь речь идет о провербиальной жизни имени, а не о жизни авторского наследия в собственном смысле слова.
42
Ср.: Stemplinger, 1911.
43
Theogn. 19—23, p. 4, Diehl.
44
С парадоксальной защитой подлинности этой поэмы в свое время выступил Ф. Дорнзейф (Domseiff1939), но его точка зрения, понятным образом, не встретила поддержки.
45
Более любившие порядок египтяне употребляли стереотипные формулы зачина (например, в начале «Повести о двух братьях»). Но эти формулы ввиду своей краткости, примитивности, бессодержательности, а главное — безличности не могут быть сопоставлены с греческими «прооймионами». Некое подобие последних можно найти только в ближневосточном героическом эпосе (например, в первых строках поэмы о Гильгамеше).
46
Слово γένεσις соответствует еврейскому tholedoth («родословие», «рождение», «происхождение»), Genes. II, 4: «Вот родословие неба и земли…»
47
Ср. употребление слова γένεσις в прегнантном смысле «становление» в диалоге Платона «Тимей», трактующем, как и первая книга Пятикнижия, о сотворении мира. «Книга Бытия» — перевод, дающий обратный смысл; тема книги не статичное бытие, но динамичное становление, «генезис». Столь чуткий читатель, как О. Мандельштам, неспроста говорил об «огромной взрывчатой силе Книги Бытия — идее спонтанного генезиса» (Мандельштам 1967, с. 35).
48
Ср. замечание Аристотеля об «объеме» (μέγεθος) представляемого в трагедии действия, сделанное в столь ответственном месте, как знаменитая дефиниция трагедии (De art. poet., p. 1449в).
49
Ср., например, наши подсчеты, относящиеся к биографиям Плутарха: Аверинцев 1966, с. 234—246. Подсчитано, что оба сочинения, приписываемые евангелисту Луке (третье Евангелие и Деяния апостолов) имеют почти совершенно равный объем (примерно по 90 400 греческих букв); это черта, связанная не с семитической, а с греческой литературной культурой, — так же как и авторский прооймион третьего Евангелия.
50
Вспомним, что наши «идея» и «теория» означают по–гречески «образ» и «рассматривание». Человек духа — для греков не деятель, но также и не аскет, удаляющийся от житейских торжищ: он — зритель, и мир для него — зрелище. На вопрос Леонта, — рассказывает греческая легенда, — кто же такие философы и что за разница между ними и прочими людьми, Пифагор ответил, что уподобляет жизнь человеческую всенародным сборищам во время великих греческих игр. На них одни телесными усилиями добиваются славы и победного венка, другие приезжают покупать, продавать и получать прибыль; и среди всего этого выделяется наиболее почтенный род посетителей, люди, не ищущие ни рукоплесканий, ни прибыли, но явившиеся для того, чтобы посмотреть, и прилежно разглядывающие все происходящее. Так-то и мы явились на сборище жизни из иной жизни и другого мира… и среди нас одни служат тщеславию, другие — деньгам; лишь немногие, презрев все остальное, прилежно всматриваются в природу вещей, и они-то зовутся любителями мудрости, или философами (пересказано у Цицерона, Tusc. disput. V, 3, 8—9). Бесполезно ли такое всматривание в мир? «Нет ничего странного, если оно покажется ненужным и неполезным, — невозмутимо возражает неоплатоник Ямвлих (III в. н. э.), — мы назовем его не пользою, но благом» (Protrept. 9, 60 А, 53 Pistelli). Как известно, и Пифагору, и Анаксагору приписывалось утверждение, что смысл всей человеческой жизни — в том, чтобы рассматривать небо. «Зрелищный» подход к миру — доминанта всей античной культуры и жизни сверху донизу, от адептов интеллектуального созерцания до римской черни, требовавшей «хлеба и зрелищ». Как известно, иудеи, узнав греческие зрелища, усмотрели в них предел скверны и безбожия.
51
Мандельштам 1967, с. 21.
52
Как характерен уже самый жанр поэтического или риторического описания картины или статуи! Ср. поучительную антологию русских переводов: Античные поэты об искусстве.
53
Зато христианская литература на греческой почве с необходимостью должна была испытать потребность в словесном портрете Христа; и в самом деле, в византийскую эпоху такие портреты (так сказать, литературные иконы) получают большую популярность. Некий Епифаний Монах в своем «Житии Богородицы» так описывал Иисуса: «…Он был весьма благообразен ликом… росту же имел шесть стоп полных, а волос русый и не слишком густой, скорее склонный чуть кудрявиться, а брови черные и не слишком выгнутые, глаза же карие и ясные… и волосы носил долгие, ибо никогда ни бритва, ни рука человеческая не прикасались к его главе, кроме руки матери его в бытность его младенцем. Шею он слегка наклонял, так что осанка тела его не была слишком прямой и вытянутой. Лик его был пшеничного Цвета и не круглый, но как и у его матери, продолговатый, чуть краснеющий и такой, что выражал святость, и разумность, и кротость…» В этой технике экфрасиса нельзя не узнать грека, воспитанного культурой физиогномики.
54
Ср.: Domseiff 1959, S. 189—202.
55
Вспомним, что греческое слово ειδύλλιον, ставшее обозначением одного из характерных жанров античной поэзии, буквально означает «картинка».
56
Прогимнасматик Афтоний дает такую дефиницию экфрасиса: «Описательное слово, которое наглядно представляет перед глазами изъясняемое». Схолиаст прибавляет к этому: «Экфрасис отличается от повествования тем, что второе содержит голое изложение событий, между тем как первый тщится как бы превратить слушателей в зрителей» (см.: Ernest/ 1795, р. 100). Библейские описания могут превратить «слушателей» в соучастников, но уж никак не в «зрителей».
57
Ср. прим. 9 и 50.
58
Изначально слово κόσμος прилагалось либо к воинскому строю (мы можем вспомнить строку из Мандельштама: «…Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке…»), либо к убранству, особенно женскому; оно было перенесено на мировую структуру Пифагором (по другим сообщениям — Парменидом). Идея передавать по–русски это слово трезвучием «ряд» — «наряд» — «порядок» принадлежит Т. В. Васильевой.
59
wlm — это «мировое время» (в немецком переводе Бубера и Розенцвейга «Weltzeit»), но не «вечность», поскольку он, во–первых, движется и, во–вторых, может кончиться и смениться другим «оламом», другим состоянием времени и вещей в нем. Талмуд говорит об эсхатологическом wlm hb, что можно с равным правом переводить «будущий век» (ср. в христианском символе веры «…и жизни будущего века») и «будущий мир». Когда библейский мистический историзм попал в идейный кругозор греков и римлян, термин «олам» был передан греческим «эон» и латинским «секулум»
60
См.: Frencf 1965, р. 39.
61
Ср. Plut. Alex. 2 (официальная легенда о зачатии от священного змея); 5 («Ахилл» — прозвище Александра в детстве); 38 (поджог дворца Ксеркса в стиле вакхической обрядности); 72 (стилизация богатырской тризны с человеческими жертвоприношениями на похоронах Гефестиона). О дионисичности самой фигуры Ахилла см.: Иванов 1923, с. 74 и сл.
62
Как известно, в 324 г. до н. э. была всенародно отпразднована небывалая свадьба: Александр и десять тысяч его солдат соединялись с персидскими девицами (Plut. Alex. 70). Эллинство — мужское начало, варварство — женское начало, и судьбы вселенной требуют их мистериального соития: такова символика, внятная еще для романиста Гелиодора (III или IV вв. н. э.).
63
«Дело выглядит так, как если бы возобновленный контакт с природой в диком краю Македонии и работа воображения над старой историей о чуде высвободила некий родник в уме престарелого поэта, восстанавливая связь с тайными источниками сил, которую он утратил в самоуверенной, не в меру интеллектуализо- ванной среде Афин конца V века», — замечает Э. Доддс (Dodds ed. i960\ p. XLVII).
64
В еврейских легендах Александр выступает как святой почитатель и защитник истинной веры, стоящий под защитой Йахве и пользующийся ревностной поддержкой иудеев. См.: Pfister 1956.
65
Plat. Tim. 22 А (эта речь саисского жреца к Солону будет почти назойливо цитироваться на исходе античности христианскими апологетами, подхватывающими призыв Платона вернуться к доэллинским истокам мыоли).
66
Jos. contra Αρ., I, 22. Аргументы Т. Рейнака, предлагавшего отнести слова Хэрила к жителям Ликии (Reinach 1895, р. 6, п. 1), трудно признать убедительными хотя бы потому, что они предполагают насилие над текстом — атетезу полустишия с упоминанием «финикийских словес».
67
Megasth. frgm 41 Didot (FHG II, 437).
68
Frgm 69 MUller (FHG II, 323).
69
Frgm. 151 Wimmer.
70
Frgm. 69 Miiller. Датировка вытекает из того, что Клеарх говорит о пребывании Аристотеля «в Асии», т. е. у тирана Гермия Атарнейского. Возвращаясь к Феофрасту, заметим, что он знает еврейское слово qrbn (см. Jos. с. Αρ., I, 22), что было бы едва ли возможно без личных контактов с иудеями.
71
Можно, конечно, заподозрить подлинность фрагментов Клеарха, хотя для этого нет достаточных оснований. Т. Рейнак (op. cit., р. 12, п. 1) поступает иначе: он признает подлинность текста, но сомневается в правдивости Клеарха. Его довод сводится к тому, что если по–настоящему воспринявший греческую культуру иудей трудно представим для эпохи Клеарха, то эта фигура вполне немыслима для тех лет, когда Аристотель гостил у Гермия Атарнейского. Но что мы знаем о просачивании эллинства через границу державы Артаксеркса около 347 г.? В сочинениях самого Аристотеля встречается довольно точное описание Мертвого Моря в Палестине (Meteor., II, 3, 39).
72
Clem. Alex., Sromat., I, 22, 150.
73
Porphyr., De phil. in orac. haur., I, 141.
74
Antiq. Rom., II, 50, 3.
75
Достаточно вспомнить, что греки ухитрились не заметить великую римскую литературу от Цицерона и Лукреция до Овидия и Тацита. Плутарх, из всех греческих писателей наиболее серьезно старавшийся проникнуть в римскую сущность, читал в подлиннике римских авторов для своих изысканий, но наотрез отказывался судить об их литературных достоинствах (ср.: PaulysReal-Encydopadie, XLI, S. 927).
76
Euseb. chron., 1, стр. 11.
77
Этот монарх осуществил намерение Александра восстановить храм Бела в Вавилоне, разрушенный Ксерксом, и поощрял культивирование клинописной литературы. См.: Тарн 1949, с. 132—133.
78
Заглавие Βαβυλωνιακά более достоверно, чем Χαλδαϊκά; см.: Schwartz 1959, S. 189.
79
79
Plat. Tim., 23 В.
80
Зелинский 1910, с. 256.
81
Об универсальном влиянии идей Беросса на сирийскую, греческую, иудейскую и христианскую историографию см.: Dempf 1964, S. 260.
82
Jos., contra. Αρ., I, 14—15; ср. Euseb., preapar. evang., X, 13.
83
Frgm. 52 Miiller, § 7. Старое предположение, согласно которому это место — интерполяция александрийского антисемита более поздней эпохи (см.: Reinach, op. cit., p. 29, η. 29), не имеет в свою пользу достаточных оснований. По–видимому, имя «Осарсиф» первоначально относилось к библейскому Иосифу, ибо представляет собой результат подстановки в имя «Ио–сиф» на место наименования «Иао» (т. е. «Йахве») египетского божественного имени «Осар»» (т. е. «Осирис»).
84
Египет первых Птолемеев — это не Вавилония первых Селевкидов. Вплоть до царствования Птолемея IV Трифона коренные жители Египта были столь бесправны, что не допускались к военной службе.
85
Согласно рассказу так называемого Аристеева письма, царский библиотекарь, знаменитый Деметрий Фалерский, внес меморандум, в котором указывал своему государю на недостачу в Александрийской библиотеке книг еврейского Писания и на их языковую недоступность (Epist. Arist. 28—33); после этого сам Птолемей Филадельф якобы обратился с запросом к иудейскому первосвященнику в Иерусалиме, результатом чего и было назначение коллегии переводчиков. Аристеево письмо заведомо представляет собой литературную стилизацию, которую приходится, однако, датировать эпохой эллинизма, хотя и не III в. (ср. предисловие и примечания в кн.: Aristeas to Philocrates). Хотя на показания этого псевдэпи- графа нельзя полагаться, благодаря им мы можем знать, как представляли себе историю Септуагинты александрийские евреи примерно через столетие или два после царствования Птолемея Филадельфа.
86
Ислам, являющий большое типологическое сходство с древним иудаизмом, чрезвычайно долго не мирился с переводом Корана на персидский или тюркские языки (ср.: Петрушевский 1966, с. 121). Достаточно вспомнить революционизирующее значение труда Лютера, переведшего Библию с сакральной латыни на мирской немецкий язык, чтобы представить себе, что в III в. до н. э. подобное событие должно было волновать умы во всяком случае не меньше, чем в XVI в. н. э.
87
Эта версия впервые излагается в Аристеевом письме и затем разукрашивается дальнейшими легендами у иудейских и затем христианских авторов, порой встречая и критику (например, у Иеронима, Praef. in Pent., Migne, Patrol. Lat. t. 28, col. 150). По одной еврейской версии переводчиков было пять. Число 72 (т. е. по шести человек от каждого из двенадцати колен Израилевых) было излюбленным числом в сфере еврейской религиозности; оно встречается и в Ветхом Завете (число мужей, отобранных для сакральных нужд Моисеем), и в Новом Завете (число учеников Христа). Латинское Septuaginta означает «семьдесят», т. е. округленную версию этого же числа.
88
О знаменитом Гиллеле (ум. ок. 10 г. н. э.), вдохновителе универсалистского направления в фарисействе, Талмуд рассказывает: «Гой пришел к Гиллелю; Гиллель обратил его в иудейскую веру. Он сказал ему: «Что ненавистно тебе самому, того не делай ближнему. Вот все учение Торы, все остальное — пояснение к этому. Ступай и выучи!»» (Sabbat 31 а).
89
У некоторых византийских авторов (например, у Евтихия Александрийского) встречается очень странная и тем более показательная легенда, согласно которой евангельский Симеон Богоприимец, которому было обещано, что он доживет до рождения Мессии–Христа, был одним из семидесяти толковников и прожил ни больше ни меньше, как три с половиной столетия; соавтор Септуагинты, который дожидается возникновения христианства, чтобы увидеть свои чаяния о «свете во откровение языков» исполнившимися, — выразительный символ. Уже для христиан новозаветной эпохи Септуагинта вполне заменяет древнееврейский текст Ветхого Завета; как известно, она до сих пор служит в греческой церкви каноническим текстом.
90
Soferim, 1, 7 (этот день — 8 Тебета). С другой стороны, однако, еще в Талмуде дозволяется читать священнейшую из иудейских молитв «Внемли, Израиль!..», заключающую исповедание монотеизма на всех языках, включая греческий (Sota, 33а; Megilla, 17b).
91
Соболевский 1908.
92
В Египте не бывает «источников», упоминаемых в «Книге пророка Иоиля», гл. 1, ст. 20; в греческом тексте они заменены на αφέσεις υδάτων, т. е. каналы, отлично знакомые каждому египтянину, «Хранитель порога» из «Книги Эсфири» (гл. 2, ст. 21) заменен «архисоматофилаком» (официальный титул начальника гвардии при дворе Птолемеев).
93
Ср.: Norden 1913, S. 355—364.
94
«Для Филона греческий перевод Пятикнижия настолько представляет собою священный текст, что он черпает свою аргументацию из случайных особенностей этого текста» (Schurer 1909, S. 428). Ср.: Иваницкий 1911, с. 519.
95
Тацит, вообще тяготеющий к антисемитизму, характерным образом оценивает иудейскую обрядность — но не только обрядность — как эстетически низменную («sordidus» — Hist., V, 2); эта оценка произведена через сопоставление с ликующей праздничностью эллинского культа Диониса.
96
Med., V, 375—379: «В поздние времена придет век, когда оковы Океана будут расторгнуты и [за ним] обнаружится огромная земля; Тефис откроет новые миры, и Тулэ уже не будет пределом земель». Как известно, этот пассаж вдохновлял мореплавателей Столетия Открытий.
97
В эту эпоху греко–римское (особенно римское) общество оказывается, в частности, весьма доступным для иудейской пропаганды. Тот, кто читает диалог Горация и Аристия Фуска (Horat., Sermon., I, 9, 60—69), не может отделаться от впечатления, что хотя бы чрезвычайно поверхностный интерес к иудейской вере был в десятилетия ранней Империи модой, почти необходимой принадлежностью «лучших домов» Рима (ср. также светскую остроту из письма Августа, приведенную у Светония, Aug. 76). Безусловно, Дорнзейф сильно преувеличивает, изображая Горация и Вергилия знатоками Септуагинты, а специально Горация — сыном еврея или проселита (Domseiff 1951, S. 65 et passim), но его наблюдения над ролью Iudaica в общей картине интересов высшего общества августовских времен не могут быть отброшены целиком (S. 67). Такое положение окончательно превращается в свою противоположность только к эпохе Антонинов: если для Горация поклонник еврейских обычаев — свой человек, предмет легкой, вполне дружеской иронии, то для Ювенала (Sat. XIV, 92—06) это враг общества, крамольник, изгой и отщепенец.
98
Вызревающий в I в. до н. э. аттикизм с его стремлением найти канон нормативных правил и авторитетных образцов есть именно классицизм, и Кеки- лий, с которым полемизирует Псевдо–Лонгин, стоит на вполне классицистических позициях. Как заметил однажды Виламовиц, «греческие классические поэты уже давно были классическими, когда Цицерон и Гораций ходили в школу»; а понятие «классики» (необходимо порождаемое в определенный момент всей греческой концепцией литературы, как мы ее пытались описать в первой части статьи) и феномен «классицизма» суть немыслимые друг без друга корреляты. Если после- романтический ценитель литературы, решительно отринув «классицизм», держится за идею «классики», это, очевидно, может означать одно из двух: либо идея «классики» в его уме гораздо менее насущна и непреложна, гораздо менее ясна и отчетлива, чем ему кажется, либо его разрыв с классицистической нормативностью гораздо менее глубок, чем ему кажется. Метаморфозы классицизма со времен Дионисия Галикарнасского сменились во множестве, и мы едва ли видели последнюю. Конец классицизма может совпасть только с окончательным преодолением греческой концепции «творчества»; возможно ли оно — решать не историкам литературы.
99
Как известно, не Псевдо–Лонгин ввел термин «возвышенное»; но в устах его антипода Кекилия этот термин явно обозначал иную категорию.
100
Sud. art. Καικίλιος. (Гипотеза эта была впервые выдвинута немецким филологом К. С. Шурцфлейшем в его комментарии на трактат «О возвышенном», вышедшем в Витемберге в 1711 г.)
101
Ср.: Norden 1955.
102
Настолько долговечным, что едва ли бесповоротно исчерпано и ныне. Мы остаемся европейцами и, следовательно, остаемся «греками»; обретенная нами способность в культурологической рефлексии дистанцироваться от себя, «взглянуть на себя со стороны», еще не означает, что мы и впрямь находимся «в стороне» от самих себя.
103
Чего стоит утверждение, что Бог «устроил космос из бесформенной материи» (έξ άμύρφου ΰλης), явно подходящее скорее к Демиургу Платонова «Тимея», чем к Элохим «Книги Бытия» («Книга Премудрости Соломоновой», гл. 11, ст. 18)! Очень большую роль в словаре этого сочинения играет также специальная терминология стоиков.
104
Душа мыслится существующей до своего воплощения: она «приходит» в тело, и только она есть «я» человека («Книга Премудрости Соломоновой», гл. 8, ст. 20), причем тело есть лишь «земляная хижина» для духа (гл. 9, ст. 15).
105
Огромное место в «Книге Премудрости Соломоновой» занимают призывы осознать неразумность идолослужения. Вся книга построена как увещательное слово правоверного царя Соломона к «судящим землю» (гл. 1, ст. 1), т. е. к своим языческим коллегам по сану.
106
Нельзя не посетовать на то, что слова «душевный», «духовный» и прочие решения этого ряда слишком патетичны и расплывчаты, слишком мало разграничены в своем значении, чтобы хорошо выполнять свои функции — разумеется, функции не терминов, но интеллектуальных символов (в немецком языке, вышколенном философской традицией, «Geist» и «Seele» противопоставляются куда более четко, так что формула Л. Клагеса «дух как противник души», которая могла бы, пожалуй, озадачить русского читателя, для немца абсолютно прозрачна и достаточно банальна; «vergeistigt» и «beseelt» по–немецки — антитезы, по- русски то и другое сливается в одном слове «одухотворенный»). Все же рискнем прибегнуть к этим словам, пытаясь прояснить их в самом процессе употребления. Стихия «души» в новоевропейской (особенно германской и славянской) поэзии есть то, что решительно мешает нам отождествить поэзию и риторику и даже побуждает мыслить их как вещи несовместные. Греки же их отождествляли (когда греческий философ — не поэт! — нападает на риторику, как Это делает Платон в своем «Федре», он бранит ее отнюдь не за «рассудочность», мешающую душе, но за безрассудство, мешающее духу). Риторика есть попросту субстанция всей греческой поэзии в целом, не исключая предельных ее вершин. Когда мы непредвзято вчитываемся в греческих поэтов, мы поражаемся несравненному благородству их духовности, но испытываем почти физический голод по «душевности» — или, что бывает чаще всего, насильственно привносим ее в тексты. Но «сердечность» псалмов и «Книги Иова» (как известно, «сердце», упоминаемое в Ветхом Завете 851 раз, составляет один из важнейших его символов) также не следует смешивать с нашей «душевностью». Оселком и здесь может служить элоквенция, носящая в Библии особые черты, отличные от греческой риторики, но не менее «сухая» и «рассудочная». Как раз в «Книге Иова» отточенная притязательность словесной формы, остроумие, острословие, вкус к спору, состязанию и сарказму доходят до предела и празднуют доподлинный праздник. «Сердечности» это не мешает (как не мешает ей чистейшая риторика византийской церковной поэзии), но для «душевности» не оставляет места.
107
Предмет, обозначенный столь высокопарным выражением, — пастушеская палка.
108
Dempf 1964.
109
Формула, употребляемая по–еврейски в традиционных надписаниях этих семидесяти трех псалмов, гласит: ledawid. Это может означать:
а) «Давида»;
б) «Давиду», «Для Давида»;
в) «О Давиде» (последнее значение вытекает из угаритских параллелей).
Применительно к псалмам подзаголовок «О Давиде» может иметь смысл:
«от лица Давида», «в применении к событиям жизни Давида» (в 13 случаях «над- писания» псалмов прямо называют эти события, всякий раз в полном согласии с биографией Давида, как она изложена в текстах, обозначаемых согласно православной традиции как I-II Книги Царств, а согласно еврейско–масоретской и западной традиции — как I-II Книги Самуиловы); в таком случае почитаемая персона царя Давида служит обличием для скорбей и надежд коллективного «я», осуществляющего себя в сакральном действе псалмопения.
110
Пастернак 1991, с. 219.
111
Именно у Девтероисайи возникает столь важная для новозаветной перспективы тема страждущего «отрока Господня» (42, 1—7; 52, 13—15; 53, 1—12).
112
Sellin — Fohrer 1969, S. 397—409.
113
Ср.: Коростовцев 1983, с. 62—64.
114
Принципиально важен именно момент рефлексии. Сам по себе феномен индивидуальной манеры позволительно искать в самом что ни на есть архаическом или фольклорном примитиве; позволительно утверждать также, что любители словесного искусства эту манеру более или менее чувствуют — иначе они не оказывали бы предпочтения одному мастеру этого искусства перед другим. Все это, ненаучно выражаясь, старо как мир. Но вот момент, когда у какой-то группы людей появляется охота по каким-то правилам обсуждать разницу между одной и другой манерой и создавать для этого общезначимый набор понятий, — это момент переломный; есть великие культуры, которые проходят свой путь, так этого момента и не переживая.
115
Нам приходилось не раз говорить о понятии подражания–состязания (ζήλωσις- aemulatio), ключевом для всей поры рефлективного традиционализма, но дополнительно важном для римской культуры. Ср., например: наст, изд., с. 146—157, особенно с. 148; Аверинцев 1989, с. 5—21, особенно с. 9—11.
116
Поучительный, красноречивый контраст — обсуждение (не вполне точной) цитаты из Книги Бытия, 1, 3 и 1, 9 в трактате «О возвышенном», 9, 9. В кои- то веки несколько слов библейского текста попали в поле зрения греческого автора — и они немедленно стали предметом теоретико–литературной рефлексии.
117
Современный анализ данных о раввинской дидактике первой пол. I в. н. э. заставляет еще выше оценивать новизну параболического стиля Иисуса; самые ранние жанровые аналогии связаны с именами раввинов, живших несколькими поколениями позже.
118
Это можно сравнить с отсутствием в Евангелиях описания внешности Иисуса, контрастирующим с приверженностью к этой теме многочисленных византийских апокрифов, но обретающимся в добром согласии с ветхозаветной традицией. Во всем Ветхом Завете мы находим лишь крайне односложную характеристику внешности молодого Саула (I Кн. Царств 9, 2 — «красивый») и чуть более развернутую справку о внешности молодого Давида (там же, 16, 12 — «белокур, с красивыми глазами и приятным лицом»); но и это — исключения. Библейский стиль не любит описания, «экфрасиса» — безразлично, описания внешности или описания характерной манеры говорить. Описание предполагает взгляд извне, оценивающий — даже при установке на похвалу, на восхищение, даже на умиление; в терминах философии М. Бубера кто-нибудь мог бы сказать, что описываемое бытие — «оно», не «я и ты». Ср. нашу давнюю попытку в несколько неакадемической манере рассуждать на эти темы: наст, изд., с. 13—75, специально с. 31—36.
119
Патриарх Фотий в IX в. разбирал и стиль апостола Павла (Amphilochia XCI-XCIII), и лексику I послания апостола Петра (Amphilochia LXXXVI) в категориях риторической теории. Это — не изолированный пример; ср.: наст, изд., с. 247—248.
120
Единственное исключение — определение того, что есть вера, в Послании к евреям, памятнике, выделяющемся, как отмечал еще Эдуард Норден, нормативно–эллинистическим характером своей стилистики: «Вера есть осуществление чаемого и уверенность в невидимом» (II, I). Ср.: наст, изд., с. 236.
121
Когда такие характеристики все же появляются, происходит это на периферии повествования. Евангелие от Луки — опять-таки самое эллинистическое из четырех Евангелий — дает энкомиастическую характеристику родителей Иоанна Крестителя (1, 6); но аналогичной характеристики их сына — не говоря уже об Иисусе Христе — мы не можем вообразить даже в нем. Оценочные эпитеты типа «нечестивый», «богоненавистный» и т. п., требуемые в житиях для антагонистов святого литературным этикетом, в Евангелиях также немыслимы.
122
Например, ни слова не сказано о психологии поступка Иуды Искариота; загадка остается важным компонентом христианской культуры именно в своем качестве загадки.
123
Очень яркий пример — восходящие к первой пол. II в. замечания Папия Иерапольского (о неточной хронологии Марка, восходящей, по Папию, к практике изустных рассказов для нужд повседневного назидания, также, насколько можно понять, о противоречивой истории становления греческой версии Матфея на основе семитического источника), которые приведены в «Церковной истории» Евсе- вия Кесарийского (III, 39).
124
Достаточно вспомнить начальные слова Евангелия от Марка, которые отражают раннее словоупотребление, хорошо известное из текстов Павловых посланий.
125
Этот отход ощутим уже в труде Августина «О согласии евангелистов» (ок. 400 г.).
126
В качестве одного из бесчисленных примеров можно упомянуть универсальное значение для средневековой культуры на Востоке и на Западе — текстов, поставленных под защиту имени Дионисия Ареопагита, ученика ап. Павла (ср. Деян. ап. 17, 34).
127
Характерна ссылка на Второзак. 31, 9.
128
Ср. Деян. ап. 4, 12: «Нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы спастись».
129
В наше время, обсуждая литературную жизнь античности (а также средневековья и даже раннего нового времени), анализируя и тем паче популяризируя, как правило, акцентируют внимание на том, что отличает «их» от «нас», — в частности, на неразвитости, неотчетливости, нестеснительности «их» понятий о литературной собственности по сравнению с «нашими». Несомненно, открытие Гуттенберга и затем капиталистическая формализация «авторского права» вплоть до современного «копирайта» качественно изменили отнюдь не только юридический аспект ситуации, но всю ситуацию в целом. И все же мы обязаны видеть античность не только и не столько в контрасте с тем, что пришло много позже, сколько на фоне того, что античности предшествовало и что с ней во времени соседствовало. Уже многочисленные среди античных знатоков споры о том, что автору принадлежало и что ему не принадлежало, свидетельствуют не только о запутанности, но и о насущности, серьезности, остроте вопроса литературной собственности. О том же говорят характерные для греческой архаики попытки метить тексты той или иной словесной «печатью» (см. ниже второй раздел статьи).
130
После изобретения книгопечатания и других событий Нового времени рецидивы «этиологического» подхода как сколько-нибудь массовое явление нормально ограничены зоной «непечатного», «нецензурного». Сюда же относится квазифольклор городской среды и особенно образованных слоев — остроты и анекдоты; хорошо известна их «циклизация» вокруг имени того или иного локального остроумца (например, вокруг имени Радека, — причем, после гибели последнего и табуирования его имени, оно могло замещаться другим, но тоже начальственным, вообще, того же «порядка»). Исключительно энергичную реставрацию архаических моделей — «самодревнейшего, давно изъятого из обихода», как говорил черт Адриану Леверкюну, — ив этом пункте, как во многих других, осуществлял зрелый тоталитаризм. Ему удалось, в частности, психологически восстановить столь странную для нас парадигму авторитета, служащего для текста и героем, и предполагаемым демиургом. В сущности, так уже было с «Кратким курсом истории ВКП(б)», являвшим собой и эпос о Сталине, и творение Сталина, а потому «принадлежавшим» ему во всех смыслах сразу (точнее, в едином синкретическом смысле). Но еще острее и постольку еще симптоматичнее было положение с биографией Сталина, красной книжечкой, имевшей под конец сталинской поры статус весьма важный. Неприлично (и преступно) было так прямо и предположить, что Сталин сам и писал свою биографию; но еще неприличнее (и преступнее) казалось в те времена — поставить вопрос о каком-то ином, т. е. более или менее «профаническом» авторе текста столь сакрального. Так пародировалась ветхозаветная модель: авторство сызнова исчезало и стушевывалось перед авторитетом, сызнова в нем растворялось, нисходило в его первобытную бездну.
131
Настроение тысячелетней эпохи суммировал в начале ее заката Дион Хри- состом: «Началом, срединой и завершением всего является Гомер, — и мальчику, и мужу, и старцу он дает то, что каждый в силах взять у него» (речь XVIII, 8, пер. Μ. Е. Грабарь–Пассек). Риторы не уставали цитировать Гомера как источник непогрешимо практичных советов на все случаи жизни; стоики при помощи аллего- резы извлекали из него один натурфилософский тезис за другим.
132
Эллинистическая наука создала два характерных амплуа: «энстатиков», искавших у Гомера несообразностей, и «литиков», «разрешавших» недоумения.
133
В общей сложности сохранилось семь жизнеописаний Гомера, не считая повествования о состязании Гомера и Гесиода. Все они в том виде, в котором дошли до нас, принадлежат поре Римской империи, что, разумеется, отнюдь не исключает использования более старых преданий.
134
В самом центре аристотелевской характеристики Гомера как идеального представителя эпического жанра стоит противопоставление его поэм — прежде всего «Илиады» — самому принципу «киклической» циклизации, т. е. тривиальной установке на внешнюю исчерпанность того или иного блока сюжетов: «Оттого-то Гомер <…> и здесь богоподобен по сравнению с другими: он не взялся сочинять про всю войну, хоть она имела и начало и конец (ибо слишком она была бы велика и неудобообозрима, а в умеренном объеме — слишком пестра и потому запутанна), — нет, он взял одну лишь ее часть, а многими остальными воспользовался как вставками для перебивки произведения (например, перечнем кораблей, а также другими вставками). Остальные эпические поэты сочиняют об одном герое, об одном времени, а если об одном действии, то о многосоставном, как, например, сочинитель «Киприй» и «Малой Илиады» («Поэтика» 1459а30—37, пер. М. Л. Гаспарова).
135
Ср.: Зайцев 1985.
136
Fr. 21 (29) [Diehl] (πολλά ψεύδονται αοιδοί); часто цитируется у античных авторов, приводится как пословица.
137
Например, Ps. — Plat. de iusto 374а.
138
Epist. 146 (258, 3 G). Обзор истории этой топики см.: Tossi 1992, р. 90—91.
139
Ale. fr. 428 L. — P.; Anacr. fr. 51 D.
140
Ср. Plut. de aud. poet. 12, 33A-B; Aelian. var. hist. X, 13.
141
См. Зайцев 1985, с. 137—138.
142
Anthol. Palat., IX, 359.
143
Об этом казусе и порождаемых им проблемах нам приходилось писать (наст, изд., с. 00—00 и специально с. 00—00). Довольно часто в Палатинской антологии авторство эпиграммы указывается как «неясное» (άδηλον), но это происходит со сравнительно неприметными образцами жанра; более приметные получают атрибуцию, подчас — как в этом случае — откровенно условную.
144
Само понятие «гения» стало общим достоянием культурной Европы в пору предромантизма, руссоизма, «бури и натиска» как боевой клич борьбы против школьных правил, за высвобождение творческой субъективности. Оно распространялось вместе с неподстриженными «английскими» садами из Великобритании («Опыт о гении» А. Джерарда 1774 г., повлиявший на немецких мыслителей и поэтов конца XVIII в.). По Канту, гений есть «образцовая оригинальность природного дарования субъекта в свободном употреблении своих познавательных сил» («Критика способности суждения», § 49), инстанция, через которую «природа дает правила искусству» (там же, § 46). Категория «гения» столь же необходима с этого времени, сколь непонятной и ненужной была до того, если, конечно, мы будем понимать это слово во всем богатстве его исторически сложившихся смысловых моментов, а не просто как «очень большое дарование»; последнее было предметом мысли с давних пор.
145
Особая роль жанра в эстетике классицизма и классицизма в истории жанра отмечается во всех справочных изданиях и общих курсах. Сошлемся на статьи «Жанр» в КЛЭ (М., 1964, т. 2, стб. 914 и др.) и БСЭ (М., 1972, т. 9, с. 121). Хотя традиционная система жанров в наиболее общих своих основаниях возникла еще в классической древности, именно в классицизме она приобрела свою окончательную форму как классификация литературных «родов» и «видов».
146
Лихачев 1958, 1962, 1965, 1967, 1973 и др.
147
Рифтин 1979.
148
Куделин 1983.
149
В этом отношении знамением времени был коллективный труд: Проблемы канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973.
150
Ср.: Лосев 1964, 1973.
151
Ср.: Hunger 1978, Bd. 2, S. 91—93. Эпиграммы, написанные иными размерами, например сплошными пентаметрами, являли собой просто раритеты и соответственно воспринимались.
152
Как известно, в силу изменений, произошедших в греческом языке, для византийского уха звучала только силлабическая или силлабо–тоническая поэзия; но византийская риторическая теория признавала только старую квантитативную метрику, обращавшуюся только к глазу и рассудку читателя. Поэтому теория игнорировала грандиозный феномен византийской гимнографии, поскольку Роман Сладкопевец и его последователи, отступив от мертвых метрических правил, творили нечто, не укладывавшееся ни в представления о стихе, ни в представления о прозе, — нечто несуществующее, нелитературу.
153
См. наст, изд., с. 146—157.
154
Однажды я предложил называть предлитературу старым словом «словесность», резервировав термин «литература» для явления, достигшего автономии (см. наст, изд., с. 13—75). Разумеется, стоять за само это слово у меня нет никакого желания; но слишком безразличное, слишком невозмутимое пользование словом «литература» имеет свои неудобства. Ведь мы не называем архаические формы житейской или сакральной мудрости «философией» — и правильно делаем.
155
Пользование гегелевскими терминами имеет два основания: во–первых, терминам этим нельзя отказать в четкости, во–вторых, они достаточно популярны, чтобы быть общепонятными. Во избежание недоразумений отметим, что позволили себе применить несколько терминов, не обязывая себя к специфически «гегельянскому» образу мысли
156
См.: Аверинцев, Роднянская 1978.
157
Ranae, 142.
158
Наст, изд., с. 150; Awerintzew 1979. S. 267—270.
159
См.: Аверинцев 1979, с. 41—81.
160
Аристотель. Поэтика, гл. 13; пер. М. JI. Гаспарова (Аристотель 1978, с. 130—131).
161
Там же, с. 131.
162
Там же, с. 132.
163
Ср. наст, изд., с. 27—31.
164
Ср. наст, изд., с. 148.
165
«Всякое определение и всякая наука имеют дело с общим» (Аристотель 1976, с. 273).
166
См. наст, изд., с. 151—153.
167
Уже у Аристотеля (De sophist, elenchis I, 165a, 21) «софистика» (σοφιστική) определяется как «мнимая мудрость» (φαινομένη σοφία). Однозначно одиозна дефиниция «софиста» в конце диалога Платона «Софист». Параллельно с этим, однако, греческий язык удерживает вплоть до времен патристики пользование словами этого лексического гнезда без всякого негативного смысла. Лишь в новоевропейском философском языке платоновско–аристотелевское словоупотребление торжествует безраздельно.
168
Разумеется, средневековый рационализм был фидеистическим; немаловажно, однако, что термин «схоластика» само по себе акцентирует не момент фидеизма, а момент рационализма. Католический лексикон XVIII в., суммирующий гораздо более раннюю традицию, дает термину «scholastica theologia» такую дефиницию: «…тот род теологии, который при рассмотрении своих вопросов больше всего прибегает к разуму и к аргументам» (Dictionarium theologicum, p. 199). Интересно, что у античных авторов «схоластический» чаще всего употребляется как синоним слова «риторический» (например: A. Gell., XV, 1: «scholasticaedeclamationes»; Quintil., VII, 1). Риторика ведь тоже — школьная: общий момент, соединяющий античное и католическое словоупотребление, — формализованность преподаваемого знания в системе правил.
169
«В речах его нет души, это одно лишь заученное риторство» (Даль 1911 — 1912, т. 3, стб. 1688); «Схоластика, философия внешности, основанная на логике или на диалектике; вообще, школярство, школярное направленье, сухое, тупое, безжизненное» (там же, т. 4, стб. 663).
170
«Риторика <…> Напыщенная речь, в которой красивые фразы и слова скрывают ее бессодержательность (книжн. неодобрит.)» (ТСРЯ, т. 3, стб. 1362— 1363); «Схоластика <…> Знание, оторванное от жизни и практики, основывающееся на формальных рассуждениях без проверки их на опыте, бесплодное умствование, начетничество, буквоедство (книжн.)» (там же, т. 4, стб. 612).
171
В поэтическом манифесте Верлена «L'art poetique» описание того, чем должна быть поэзия, завершается словами: «А все остальное — литература» («Et tout la reste est litterature»). Характерно, что выпад против «литературы» следует сейчас же за призывом «свернуть шею красноречию»: компрометация «литературы» непосредственно продолжает компрометацию «риторики».
172
В пределах отечественной литературы с максимальной резкостью — в «Четвертой прозе» О. Мандельштама.
173
Гершензон, Иванов 1921, с. 112. Разумеется, для обоих корреспондентов слово «интеллигент» имеет идеологические коннотации, никак не позволяющие свести его смысл к обозначению рода профессиональных занятий. Гершензон был одним из участников «Вех», которые недаром имеют подзаголовок: «Сборник статей о русской интеллигенции». Уже на первой странице сборника читателю бросаются в глаза слова Н. А. Бердяева: «Говорю об интеллигенции в традиционно- русском смысле этого слова, о нашей кружковой интеллигенции, искусственно выделяемой из общенациональной жизни. Этот своеобразный мир, живший до сих пор замкнутой жизнью <…> не без основания называют «интеллигентщиной» в отличие от интеллигенции в широком, общенациональном, общеисторическом значении этого слова». Упомянутое Бердяевым словечко в наше время вышло из обихода, но на смену ему пришли другие; выполнявшаяся им семантическая функция остается.
174
Оппозиция «разум — рассудок» восходит к античной оппозиции νοϋς διάνοια, не имевшей, однако, такой оценочной окраски; в новоевропейской философии оценочность заметно возрастает от Канта к Фихте, Шеллингу и Гегелю. Романтизм и неоромантизм в философии противопоставляют рассудку «созидающее созерцание» (Шеллинг), интуицию (Бергсон), как творческое — нетворческому.
175
Приводимая Далем русская пословица: «Ума много, а рассудка нет» — как будто ставит конструктивность «рассудка» выше нетрезвой активности «ума»; соотношение «ума» и «разума» в русском языке неясно и возбуждало полемику еще в XVIII в. (Поскольку «ум» в старославянских переводах с греческого передает термин νοΌς, «разум», очевидно, представляет собой словообразовательную кальку термина διάνοια, что, впрочем, не мешало ему идти в ход для передачи слова γνώσις, как в Рождественском тропаре: «…возсия мирови свет разума»; так или иначе, однако, этимология предрасполагала слово «разум» к выполнению функций термина «рассудок», чего отнюдь не произошло.) Характерно, что если ratio — «рассудок», то варианты того же латинского термина в романских языках, например фр. raison, обычно передаются по–русски как «разум».
Сюда же: когда научность хотят похвалить, ее называют научностью; когда ее же хотят выбранить, ее называют «сциентизмом» или «позитивизмом» с прилагательным «бескрылый» или без него. Конечно, «сциентизм» — обозначение идеологического направления, а «позитивизм» — обозначение философского направления; но каждый знает, что оба термина весьма нетерминологически употребляются примерно как синонимы словосочетания из стихов Андрея Белого: «математическая сушь».
176
DomseifF 1970, S. 12—13. Продолжая аналогию, заметим, что было бы наивно объяснять этот процесс однозначно антиклерикальными или однозначно женоненавистническими настроениями; так же точно, если люди превращают слово «риторика» в ругательство, это не значит, что они не имели никакого вкуса к блеску реальной риторики. Гюго провозгласил: «Смерть риторике!» — что не мешало ему быть писателем чрезвычайно «риторичным» в самом расхожем значении этого слова.
177
Это не просто «глас народа» хотя бы потому, что за компрометацией конкретных терминов обычно стоит умственное движение, вызванное конкретными властителями дум. Платон вел целенаправленную пропаганду против софистики, гуманисты Ренессанса и позднее энциклопедисты — против схоластики, теоретики романтизма — против риторики. С другой стороны, однако, пропаганда не имела бы такого — хотя бы на поверхности — сокрушительного успеха, если бы не апеллировала к чему-то очень «общечеловеческому».
178
Ср.: наст, изд., с. 230—232.
179
Ср.: Аверинцев 1979, с. 41—81, особенно с. 65—67.
180
Витгенштейн 1958, с. 44 (§ 4.0031).
181
Аверинцев 1979, с. 66.
182
В этом смысле греки были совершенно логичны, когда при всем мечтательном преклонении перед восточной «мудростью» (о том, как велик был здесь удельный вес фантазии и насколько скуден конкретный интерес, хорошо сказано в остроумной книге: Momigliano 1975) фактически исходили из того, что не только философия, «самое имя которой чуждо варварской речи» (Diog. Laert. I, 4; пер. Μ. JI. Гаспарова), но и художественная литература имеется только у них самих во всей вселенной. Когда негреки воспринимали стандарты греческого рационализма, они становились греческими писателями и философами — как карфагенянин Гасдрубал, возглавивший Академию в Афинах под именем Клитомаха в 127 г. до н. э., или как сириец Лукиан из Самосаты; и даже римляне, создавшие культуру греческого типа на своем языке, должны были отнестись к автохтонной традиции как к нулевой точке.
183
В сущности, уже систематизация мифа, приведение его в стройный, связный, непротиворечивый порядок, начиная с «Теогонии» Гесиода, представляет собой шаг в сторону рационализма. Чистый миф не знает такого стремления к связности, и отнюдь не потому, что в нем отражено какое-то особое прелогическое мышление, а просто потому, что он функционален, рассказывается «к случаю», «к слову», совершенно естественно допуская противоречивые версии (ср.: Kirk 1970, 1974). Когда мы, вместо того чтобы говорить о мифе, говорим о мифологии, тем паче о «мифологической системе», о мифологическом «образе мира», «образе универсума», мы непроизвольно вносим в миф тот самый принцип системности, который нащупан лишь на подступе к рационализму и победоносно утвержден — не без насильственности — рационализмом.
184
См.: наст, изд., с. 146—157, особенно с. 152—153.
185
На это ориентирован уже средневековый письмовник Адальберта Самари- тана: «Если младший пишет старшему, персона старшего упоминается первой, за ней следует персона младшего. Если старший — младшему, его персона всегда идет первой. Если равный — равному, любая персона может быть названа первой или второй по произволу пишущего. Образ приветствия также зависит от качества персоны и обозначает ее ранг; иначе приветствуем вышестоящего, иначе — нижестоящего, иначе — равного… Когда младший пишет старшему, избираем высокий стиль по двум причинам: или потому, что письмо восходит от низшего к высшему, или потому, что оно содержит в себе три акциденции: ласкательство в начале, причину ласкательства в середине, прошение в конце…» (I, 2). Сравнительно с этими скудными и примитивными, но в высшей степени практическими указаниями письмовники Деметрия или Псевдо–Либания — разгул самоцельного теоретизирования, опыты по феноменологии человеческого поведения, сопоставимые с «Характерами» Феофраста. Новейшие письмовники, вплоть до нашего столетия (например: Chauffiirin 1932), остаются верны подходу Адальберта: на с. 13— 19 упомянутого издания указываются формулы обращения «от равного к равному», «к низшему», «к высшему», «к папе», «к кардиналу», «к епископу», «к коронованному лицу», «к президенту Республика», «к послу», «к министру», «к сенатору или депутату», к функционерам различных рангов, к офицерам армии и — отдельно! — военно–морского флота, «от женщины к мужчине», «от мужчины к женщине», «от женщины к женщине» — сугубо практические социальные конвенции.
186
См.: We/chert ее/. /9/0.
187
Ср.: Аверинцев 1975, с. 371—397; Гайденко 1988, с. 284—307. Античная онтология как бы патриархальна: в ней само собой разумеется, что причина «благороднее» следствия, имеет перед ним преимущество почета, как родители имеют преимущество почета перед своими детьми. В старых католических учебниках морального богословия обязанность детей почитать родителей обосновывается не только от Библии — ссылкой на заповедь Декалога, но и от Аристотеля — указанием на то, что родители суть «содетельные причины» (causae efficientes) бытия своих детей. Это очень устойчивый мотив.
188
Xenophan., frgm. 24 Diels.
189
Empedocl., frgm. 27 Diels.
190
Прежде всего в статье «Эпос и роман. О методологии исследования романа» (Бахтин 1975, с. 447—484).
191
Ср. наст, изд., с. 146—157, особенно с. 153—154.
192
Существует некоторое количество вненаучных факторов, препятствующих увидеть проблему с достаточной ясностью. Сюда относится, в частности, привычка к едва ли не «архетипической» дихотомии типа «они и мы», «древние и новые» (ср. «Спор древних и новых» во Франции XVII в.), «традиция и прогресс», «миф и наука»; склонность исторического мышления с большей познавательной симпатией относиться к простому отсутствию историзма в сознании, к «вневременной» наивности мифа и эпоса (по типу антитез Шиллера в его трактате «0 наивной и сентиментальной поэзии» — «мы свободны, они необходимы; мы изменяемся, они пребывают»), чем к разновидностям историзма, отличным от историзма нового и новейшего времени (ср. наши замечания о мотивах, побудивших Гёте предпочесть простоватого Лонга гениальному Вергилию: Awerintzew /986, S. 39—45); реликты эволюционизма, интерпретирующего духовную историю человечества как поступательное убывание субстанции мифа и столь же поступательное увеличение массы субстанции науки. Ко всему этому в наше время прибавляется присущая только XX в. степень идеализации архаики, влечения к наипримитивнейшему, дополняющего сциентистско–технократическую практику; бес у Т. Манна знает, что делает, когда обещает Адриану Леверкюну: «Мы предлагаем большее, мы предлагаем как раз истинное и неподдельное — это тебе, милый мой, уже не классика, это архаика, самодревнейшее, давно изъятое из обихода» (Манн 1959, с. 288). Мечта XX в., выразившаяся, например, в поэзии В. Хлебникова, — это брачное соединение супер примитива и супермодерна, доисторического и послеисторического: серединная зона классики, истории, а значит, аристотелевского рационализма в мышлении и творчестве при такой психологической установке непроизвольно исчезает. Теория слишком долго была поглощена тем, чтобы объяснить для образованного любителя почитавшееся самым непонятным, т. е. архаику и «авангард»; похоже, что мы дожили до времен, когда Вергилий и Рафаэль стали непонятнее того и другого, а потому более нуждаются в объяснениях.
193
Metaphys., XI, 1, 1059b.
194
Михайлов 1988у с. 310. То обстоятельство, что А. В. Михайлов называет культуру рефлективного традиционализма «мифориторической» (там же), нисколько не противоречит разграничению, которое проводим мы между этср! культурой и архаическим мифом; Михайлов специально оговаривается, что имеет в виду не «миф» мифологии «как знания и науки», но именно то, что сам обозначает как «готовое слово». Отмеченное М. JI. Гаспаровым для понимания «Поэтики» Аристотеля значение слова «миф» как фабула — это, по Михайлову, «лишь одно из тех взаимосвязанных значений, в которые, развертывается «миф» риторической культуры»; последний — «и целая речь, целое высказывание, и сюжет, и жанр, как форма, в которую отливается мысль, и самое мелкое единство смысла (пусть, например, имя собственное), если только это происходит из фонда традиции и заранее дано поэту или писателю, если только это заведомо для него «готово»» (там же, с. 311).
195
Нам приходилось писать об этом применительно к философскому языку. См.: Аверинцев 1979, с. 41—81.
196
Вторая аналитика, 1, 3. См.: Гайденко 1980, с. 274.
197
Напр., Theaet, 158 dal.
198
Epicur., De rerum nat., 14, 7; 15, 28.
199
Sext. Empir., Pyrrh., I, 4.
200
Скепсис и агностицизм в новоевропейской культуре, как правило, имеют гуманистический контекст и смягчены им: «человечность» интерпретируется как самодостаточная истина, сама–себе–истина, снимающая вопрос об истине вне человека и над человеком (как бы секуляристское прочтение евангельской максимы: «не человек для субботы, а суббота для человека»). Античный скепсис не смягчает и не подменяет догматического вопроса об истине ничем, он берет его в несмягченном виде, чтобы подвергнуть столь же несмягченной негации. По крайней мере, таков скепсис в его чистом, «пирронистском» варианте. Путь опосредования гносеологической проблемы, а значит, смягчения скепсиса через риторический пробабилизм — это, напротив, античный путь; но о нем — ниже.
201
В этом отношении характерно, что мы, наследники двухтысячелетней традиции догматического богословствования, не можем описывать языческих доктрин, не вводя чуждых этим доктринам терминов христианской теологии: чего стоят все разговоры о Хапи как «ипостаси» Амона, Бритомартис как «ипостаси» Артемиды и т. п.! Такое словоупотребление вдвойне некорректно: дело не только в том, что за термином «ипостась» стоит проблематика, специфическая для христианства и нигде больше не встречающаяся, но прежде всего в том, что сам термин создан нуждами дедуктивного рационализма (Посидоний и за ним перипатетическая традиция, также и в неоплатонизме) и для дорационалистического мышления, хотя бы сколь угодно глубокого и тонкого, смысла не имеет.
202
Авторитетные голоса от старых славянофилов до А. Ф. Лосева настаивали на том, что аристотелианская ориентация — исключительная принадлежность католической теологии в отличие от платонизма теологии православной. Их необходимо принять во внимание, но едва ли существует возможность вполне с ними согласиться. Иоанн Дамаскин, самый нормативный из восточных отцов, — арис- тотелик; в XI в. еретичество Иоанна Итала имеет платоническую окраску (не говоря уже о платонизирующем вольнодумстве его учителя Михаила Пселла, укоряемого со стороны патриарха Кируллярия именно за привязанность к Платону— «твой Платон!»); в XII в. православный Николай Мефонский в полемике с еретиком Сотирихом громит платоновскую теорию идей, опираясь на Аристотеля; даже терминологический инструментарий исихастской теории, разработанный в XIV в. Григорием Паламой (прежде всего оппозиция «усия — энергия»), восходит к Аристотелю (о логике которого юный Палама, еще не успевший вступить на аскетический путь, недаром делал реферат в присутствии константинопольского двора); наконец, в XIV-XV вв. последний и самый решительный противник православия, явившийся на византийской почве, Гемист–Плифон, выступает как рьяный платоник, а его оппонент Геннадий Схолярий, реставратор православия после гибели Византии, — как аристотелик. Все эти факты едва ли случайны. Платонизм не был до конца благонадежным для христианства, потому что наряду с работой над понятиями предлагал свою собственную мистику; но мистика у христианства была своя собственная, и более чистый вариант дедуктивного рационализма, предложенный Аристотелем, подходил ему в конечном счете больше, ибо допускал более четкое размежевание ролей: откровение -I- догматика дают сумму недоказуемых аксиом, логика и метафизика в аристотелиан- ской традиции — доказательную разработку выводов из этих аксиом. (Конечно, это упрощенная схема; реальные обстоятельства средневековой рецепции дедуктивного рационализма осложнялись не только авторизацией толщи платонического материала патристикой, но и наличием чрезвычайно влиятельной неоплатонической традиции толкования Аристотеля.).
203
Дедуктивный рационализм был общей платформой, гарантировавшей существенное единство средневековой философии под знаком всех трех религий. Казалось бы, споры о вере между христианством и исламом велись с оружием в руках, стена предубеждений разгораживала христиан и иудаистов; но это не мешало мусульманину Ибн–Рушду («Аверроэсу») и еврею Моше бен Маймону («Май- мониду») прочно занять свое место в числе авторитетов христианского схоластика, а евреям выборочно перевести для собственного употребления Фому Аквин- ского, и т. п.
204
Здесь, несомненно, работала отчасти бессознательная, отчасти вполне осознанная аналогия с юридической наукой. «Мероопределение», принятое легитимными авторитетами Церкви, как закон принимается легитимными авторитетами государства, и было законом sui generis, «законом, как должно веровать» — «/едг credendb. В этой связи нелишне вспомнить, во–первых, факт наличия у лучших умов патристики юридической культуры, а порой, как у Максима Исповедника, и специального юридического образования (на значение этого факта в свое время энергично указывал А. Демпф; см.: Dempf1964, 1962)\ во–вторых, близость между теологией и каноническим правом в жизни традиционных структур Церкви на протяжении целого ряда эпох; в–третьих, то обстоятельство, что в античном семантическом обиходе законоположение, например, сенатское постановление, называлось по–гречески все тем же словом «догма»! К роли юриспруденции как модели дедуктивно–рационалистического мышления и одновременно как жизненного, житейского, практического стимула такого мышления нам еще придется вернуться в связи с судебной риторикой, да и риторикой вообще.
205
О значении контраста между отсутствием логической формализации в библейских текстах и обязательным ее присутствием в текстах средневековой теологии нам приходилось подробнее говорить в другом месте (наст, изд., с. 236—239).
206
Гораций описал этот феномен внутришкольного авторитаризма крылатой фразой: «Iurare in verba magistri» («Присягать словам учителя» — epist. I, 1, 14). В поговорку вошел авторитаризм пифагорейцев, что хорошо согласуется с особым характером легенд о Пифагоре; но столь чуждая мистицизму школа, как эпикурейская, тяготела к культу личного авторитета учителя. Неоплатонизм очень быстро ушел от своей начальной ситуации, когда Порфирий еще мог некоторое время отстаивать в спорах со своим учителем Плотином тезис о внеположности идеи уму (Vita Plot., 18).
207
Эпикурейцев даже называли «эйкадистами» («двадцатниками») за обыкновение совершать по двадцатым числам каждого месяца ритуальное торжество в честь Эпикура и Метродора. Культ Платона, приуроченный к 7 Таргелиона, достаточно известен.
208
См., напр.: Prodi in Tim., Ill, 9, 22; III, 34, 3 Diehl.
209
См.: Ibid., I, 77, 24 Diehl.
210
Этот эпитет в приложении к Микеланджело еще при жизни последнего стал настолько примелькавшимся, что Аретино строит на нем каламбур. См.: Burckhardt 1908; S. 180.
211
Нам приходилось говорить об этом в другом месте: «Платон… дал начало цепочке школьного преемства Академии в Афинах, и потому он «божественный»; но Ямвлих… основал традицию конкретных неоплатонических школ — Сирийской и дочерней по отношению к ней Пергамской… и потому Ямвлих тоже «божественный», как предмет культа для адептов этих школ и школьный авторитет, которому, так сказать, клялись на верность учившие от его имени преемники» (Аверинцев 1984, с. 51).
212
Разумеется, были другие мотивы (общее с иудаизмом представление о бороде как необходимой части богосозданного облика мужчины; весьма характерная для греков и левантийцев привычка ассоциировать «женоподобное» бритое лицо мужчины с мужеложством; воспоминания о длинных волосах и бородах как знаке посвящения у ветхозаветных назареев). И все же оглядка на традиционный облик философа не могла не играть роли; достаточно вспомнить, как охотно самый термин φιλοσοφία употреблялся в патриотические времена для обозначения образа жизни духовных лиц.
213
У истоков риторической традиции — «Похвальное слово Елене» Горгия, обосновывающее невинность прелюбодейки, и «Бусирис» Исократа, делающий из мифологического злодея образцовую фигуру правителя. На исходе античности — «Похвальное слово лысине» Синееия.
214
Philostr. vit. sophist. I prooem. I, p. 196 Westermann.
215
Resp., X, 607 c.
216
Как известно, логические проблемы, выдвинутые схоластами позднего средневековья и полностью вытесненные из общественного сознания насмешками адептов новой культуры, настолько тонки, что находят понимание только в нашем столетии. Ср.: Lewis 1954.
217
На это было с большой энергией указано едва ли не самым сильным в ряду младшего поколения исследователей средневековой философии — западногерманским исследователем Куртом Флашем. См.: Flasch 1980.
218
Arist., Rhet., I, 1354a.
219
Ср. такие замечания об эстетике метафоры: «Метафоры нужно брать… от вещей сродных, но не явно похожих, как и в философии почитается проявлением проницательности видеть сходство и в далеких друг от друга вещах… Слушателю заметнее, что он чему-то научился… и его ум словно бы говорит: «Как это верно! А я-то думал»» (Rhet., XI, 5—6, 1412а. Пер. мой. — С. А).
220
Аверинцев 1979, с. 61—65.
221
Аверинцев 1973, с. 96—113.
222
Наст, изд., с. 347—363.
223
Ср. знаменитую дефиницию риторики как «соделывательницы убеждения».
224
Тем более что античная риторика и античная поэтика — явления количественно отнюдь не равновеликие, о чем см. у М. JI. Гаспарова (Гаспаров 1991, с. 27).
225
Хотя всегда возможны отдельные пережиточные и регрессивные явления, которые, однако, не могут поколебать даваемого эпохой в целом принципиального ответа на вопрос: что есть литература?
226
О системе «идей» у Гермогена как сетке координат для локализации стилистических явлений см. наст, изд., с. 272—274.
227
См. наст, изд., с. 149—152 и др.
228
См. наст, изд., с. 28.
229
Ср. попытки воскресить термин «риторика» в применении к определенному типу литературоведческого анализа — и у немецких формалистов 10—20–х годов XX в., и позднее.
230
Такие тексты «низовой» средневековой литературы, как популярные жития и поучения — от раннехристианских апокрифов и первых рассказов о подвигах и словах «отцов» египетской Фиваиды хотя бы до францисканских легенд в Италии XIII в., — стоят, разумеется, вне ситуации прямого «состязания» с классическими образцами. Но отметить это — значит попросту отметить внеполож- ность этих текстов всему, что тогда осознавалось как «изящная словесность». Сами их авторы видели в себе кого угодно — летописцев, свидетелей, сугубо деловых и практических учителей жизни и врачевателей душ — только не литераторов. Другое дело, что мы причисляем все эти сочинения к «художественной литературе», как мы ее понимаем; здесь-то и выявляется сдвиг в плоскости наиболее общих категорий. Но, едва только за житие принимался настоящий церковный литератор, едва только на амвон выходил проповедник с образованием ритора, сейчас же начиналось «состязание»: у агиографа — с античной биографической традицией, у проповедника — с античными моделями эпидейктического красноречия и нравоучительной диатрибы. То же относится и к «мирской» низовой литературе, близкой к фольклору. Совсем непритязательные творцы такой литературы действительно не помышляли о «состязании» с классической древностью, но как раз в той мере, в которой они вообще не помышляли о своей деятельности как о литературе. Стоило, однако, безвестному автору византийского эпоса о Ди- генисе Акрите, обрабатывавшему народные героические песни, проникнуться хоть немного литераторскими амбициями, и он уже не мог избежать отношений ζήλωσις, например, с позднеантичным любовным романом (особенно в экфрасисах — красоты влюбленных, цветущего сада и т. п.). Средневековая литература могла быть достаточно «варварской», но она решительно не могла выбирать и конституировать себя «варварской», культивировать свое «варварство». Вплоть до предроман- тической эпохи это оставалось немыслимым.
Именно потому, что антикизирующее «состязание» — подражание как спор и спор как подражание — было растворено в самом воздухе литературы, оно не имело нужды всегда выступать осязательно; различные степени его неявности отвечают различным степеням убывания сознательности авторского поведения в литературе.
231
Ср.: Аверинцев 1976, с. 152—162, особенно с. 154—155.
232
Маркс и Энгельс, с. 427.
233
Именно так выражается один французский автор XVIII в.: Fotmey 1755, р. 40—41 (указанием на это автор обязан М. В. Разумовской).
234
Прежде всего в статье «Эпос и роман. О методологии исследования романа» (Бахтин 1975, с. 447—484). Приведем несколько характерных замечаний: «Роман <…> плохо уживается с другими жанрами. Ни о какой гармонии на основе взаиморазграничения и взаимодополнения не может быть и речи. Роман пародирует другие жанры (именно как жанры), разоблачает условность их форм и языка, вытесняет одни жанры, другие вводит в свою собственную конструкцию, переосмысливая и переакцентируя их» (с. 449); «В присутствии романа, как господствующего жанра, по–новому начинают звучать условные языки строгих канонических жанров… роман вносит в них проблемность, специфическую смысловую незавершенность и живой контакт с неготовой становящейся современностью (незавершенным настоящим)» (с. 450—451).
235
Ср. замечание того же Бахтина: «Большие органические поэтики прошлого — Аристотеля, Горация, Буало — проникнуты глубоким ощущением целого литературы и гармоничности сочетания в этом целом всех жанров. Они как бы конкретно слышат эту гармонию жанров. В этом — сила, неповторимая целостная полнота и исчерпанность этих поэтик. Все они последовательно игнорируют роман. Научные поэтики XIX века лишены этой целостности: они эклектичны, описательны… Они, конечно, уже не игнорируют романа, но они просто прибавляют его… к существующим жанрам» (указ. соч. с. 449).
236
Ciceronis epistolae ad familiares. IV, 5.
237
«— Где теперь Троя и Микены, Фивы и Делос, Персеполь и Агригент? — продолжал отец, поднимая почтовый справочник, который он положил было на стол. — Что сталось, братец Тоби, с Ниневией и Вавилоном, с Кизиком и Митиле- ной? Красивейшие города, над которыми когда-либо восходило солнце, ныне больше не существуют; остались только их имена, да и те (ибо многие из них неправильно произносятся) мало–помалу приходят в ветхость… Самой вселенной, братец Тоби, придет — непременно придет — конец». Следует прямое пародийное цитирование письма Сервия Сульпиция: «По возвращении из Азии, когда я плыл от Эгины к Мегаре (Когда это могло быть? — подумал дядя Тоби) я начал разглядывать окрестные места. Эгина была за мной, Мегара впереди, Пирей направо, Коринф налево. — Какие цветущие города повержены ныне во прах!..» (Стерн 1949, с. 339).
238
Все античные и византийские прогимназматические сборники дают дефиницию и примеры «общего места» в числе важнейших элементов риторического умения, подчеркивая их важность для «умножения» любой хвалы или хулы.
239
Ср. дефиниции в словарях: «Общее место… опошленное частым повторением» (Даль 1911—1912, т. 2, стб. 1627); «всем известное, опошленное частым употреблением суждение или выражение, избитая истина; бессодержательное рассуждение» (ТСРЯ, т. 2, стб. 192).
240
Одним из первых предвестий этого сдвига во вкусах была эпико–дидакти- ческая поэма Альбрехта Галлера «Альпы» (1729). Десять лет спустя Томас Грэй, будущий автор «Элегии, написанной на сельском кладбище» (которая благодаря двум переводам Жуковского вошла и в историю русской поэзии), писал в одном письме из альпийского путешествия: «Нет обрыва, нет потока, нет ущелья, которые не были бы полны религии и поэзии».
241
Как известно, идеальный ландшафт античной буколики и эпиграммы всегда обжитой, приветливый к человеку. Чтобы найти в античной традиции хоть какое-то оправдание новому, неизвестному прежним временам экстатическому или меланхолическому восторгу перед чуждостью природы человеку, в XVIII в. начали подвергать довольно энергичному переистолкованию понятие «возвышенного», дававшее возможность сослаться на так называемого Псевдо–Лонгина — неведомого греческого теоретика риторики I в. н. э. (чья популярность в Новое время составляет весьма примечательный контраст безвестности в позднеантичные века). Особая роль принадлежит, конечно, Эдмунду Бёрку, повлиявшему на Лес- синга, Гердера, Канта и т. п.
242
Слово «схоластический» стало одиозным обозначением именно того, что мы только что назвали «ограниченным рационализмом» (рационализм, дедуцирующий свои заключения из заданных традицией посылок), и случилось это в тот исторический момент, когда против ограниченного рационализма выступил рационализм, отринувший ограничения. Более чем понятно, что представление о традиции ограниченного рационализма ниспровергатели этой традиции предпочли связать не с идеализируемой античностью, но со средневековьем как постылым вчерашним днем, непосредственным предметом отталкивания; и это было тем легче, что своей окончательной кристаллизации принцип дедуцирования част
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
Libanii Descr., 1, 8.
255
Ibid., p. 462, 8 ff. Forster.
256
Ср. прим. 10 на с. 156.
257
Например, антитетическое построение «приятно, ибо противоположности легче всего распознать, особенно же хорошо распознаются они одна через другую; и еще потому, что это похоже на силлогизм» (Rhet., Ill, IX, 8, р. 1410а). Ср. наст, изд., с. 395—396 и 405 (наш перевод текста «Риторики» и комментарий к соответствующим местам).
258
Толстой 1947, с.129.
259
Ср. размышления Бахтина о трансформирующем воздействии романа на всю панораму заставаемых им жанров (Бахтин 1975, с. 449—452 и др.).
260
«Экспрессивный романный жест возникает как отклонение от нормы, но его «ошибочность» как раз и раскрывает его субъективную значимость. Сначала — отклонение от нормы, затем — проблемность самой нормы» (там же, прим. 1 к с. 477). «Одной из основных внутренних тем романа является именно тема неадекватности герою его судьбы и его положения. Человек или больше своей судьбы, или меньше своей человечности» (там же, с. 479).
261
Ср., например: Сгирр 1904, S. 166.
262
Negri 1902, р. 6.
263
Радциг 1977, с. 521.
264
Iulian., ер. 14. Прочтя очередную речь Либания, его царственный корреспондент восклицает: «Счастлив ты, что можешь так говорить, а еще счастливее, что можешь так мыслить. Какая речь! Какие мысли! Какая связь! Какое расчленение! Каковы умозаключения! Какая стройность! Каковы зачины! Каков слог! Какая гармония! Какая композиция!» Отметим, что Юлиан, ценитель компетентный и, конечно, не имевший никаких мотивов к лести Либанию, особо подчеркивает интеллектуальные достоинства его творчества: φρένες, σύνθεσις, διαίρεσις, τάξις, επιχειρήματα. Ср. также: Isidor. Pelus., ер. 11, 42. Христиане, идейные антагонисты Либания, видели в нем классика словесного искусства с такой же готовностью, как его единомышленники из языческих кругов.
265
В византийской литературе прослеживается линия подражания Либанию, идущая от Хорикия через декламации Георгия Кипрского, вплоть до заключительного этапа истории византийской учености.
266
Eunap., Vita soph., 100 Boiss.
267
Ср.: Photii bibl., cod. 90, p. 67b.
268
Тот же Фотий в цитированном только что месте оценивает как лучшую часть всего литературного наследия Либания именно его риторические упражнения.
269
Orat., XVII.
270
По собственному свидетельству, Либаний в это время серьезно подумывал о самоубийстве (Liban., Orat. 1, 135).
271
Norman 1969, p. XXXV.
272
He кто иной, как Платон, искал арифметическое выражение для разницы между счастьем «человека царственного» и «человека тиранического», находя, что первое превышает второе в 9s = 729 раз (Resp., IX, р. 587 de).
273
Orat., XVII, 32.
274
Для риторической прозы эпохи Либания старое противоположение мифологического времени и исторического времени, регулировавшее некогда подбор сюжетов для трагедий, сменяется в своих функциях противоположением древности и позднейших времен, причем древность включает на более или менее равных правах миф и стилизованную историю и простирается до времен Александра включительно.
275
Orat., XVII, 32, заключительная фраза.
276
Ср.: Focke 1923, S. 327—328 (corrigenda S. 465).
277
Ср.: Erbse 1956, S. 398—424; Аверинцев 1973, с. 212—229.
278
Marcell., 31, 1.
279
Demetr., 1, 8, cf. Anton. 88 sq.
280
Поразительно и в то же время характерно для вкуса Нового времени, что такой тонкий знаток Плутарха и вообще греческой прозы, как Р. Гирцель, настолько не понимал места синкрисисов в художественном целом «Параллельных жизнеописаний», что предлагал попросту исключить их как нелепую интерполяцию. См.: Hirze! 1912, S. 71—73.
281
Необычность плутарховской биографии сравнительно с ходячим типом биографического жанра и характерность для последнего рубрицирующей композиции — тезис автора этой статьи, который он пытался доказать в своих работах: Аверинцев 1966а, 1973.
Анализ смысла рубрицирующей структуры биографии Светония дает М. JI. Гаспаров в послесловии к книге: Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей (см.: Гаспаров 1964). Исследователь замечает, в частности: «Оценка всегда предполагает сравнение: чтобы оценить деятельность императора, нужно сопоставить ее с деятельностью других императоров и с требованиями, предъявляемыми к идеальному правителю. Группировка фактов должна допускать такое сравнение, следовательно, она должна быть не хронологической, отдельной для каждого императора, а логической, общей для всех» (с. 270).
282
Ср. рекомендации для жанра энкомия (сливавшегося с биографическим жанром еще со времен тех же Исократова «Эвагора» и Ксенофонтова «Агесилая») у Афтония (Progymn., 8, 87 Walz).
283
Ср. выше прим. 27. Характерно, что С. Я. Лурье, выражая недоумение по поводу структуры «Параллельных жизнеописаний», пытается объяснить ее как реверанс в сторону римских властей: «Если бы Плутарх выпустил в свет только биографии великих греков, то это могло бы быть понято как выпад против Рима (?! — С. Α.). Совсем другое дело, если каждому великому греку был противопоставлен великий римлянин, — это мудрый тактический шаг» (Лурье 1941, с. 13). Абсурдность этого объяснения, грубо противоречащего всему, что мы знаем о личности и творчестве Плутарха (при всей своей искреннейшей лояльности очень просто и открыто говорившего, например, о римском сапоге, занесенном над головой каждого грека (praec. ger. reip. 813 F), и вообще наделенного достойной просто- сердечностью «джентльмена» в гораздо большей мере, чем это легко вообразить человеку нашего времени), но также и о том, чем интересовались и чем заведомо не интересовались римские «полицейские» и «цензурные» инстанции, что возбранялось и что заведомо не возбранялось греческим риторам и литераторам под римским владычеством (ср. несколько наивное, но верное замечание JI. А. Ель- ницкого в предисловии к переводу только что упомянутого трактата Плутарха: Ельницкий 1978, с. 231), проявившаяся в догадке почтенного историка погрешность против исторического такта очевидна. Впрочем, когда ум столь выдающийся, столь живой и энергичный предлагает гипотезы столь неправдоподобные, это печально, но не лишено познавательного интереса, ибо помогает лучше увидеть пропасть непонимания, разверзающуюся между нами и античностью.
284
Как известно, Аминтиан написал в эпоху поздних Антонинов «Параллельные жизнеописания», где сопоставлял сицилийского тирана Дионисия с Домицианом, а Филиппа II Македонского — с Августом. Влияние Плутарха не доказано, но крайне вероятно; Р. Гирцель уверенно говорил об Аминтиане как «первом известном продолжателе и подражателе Плутарха» (указ. соч., с. 77).
285
Одним из современников Монтеня синкрисисы Плутарха были обвинены в несправедливости (характерно, что не в натянутости, искусственности, ненужности, как в наше время), и Монтень очень живо возражал на критику: «…Бросать Плутарху такое обвинение — значит порицать в нем самое прекрасное, самое достойное похвалы; ибо в этих сопоставлениях (которые являются наилучшей частью творений Плутарха и которые, на мой взгляд, и сам он больше всего любил) верность и искренность его суждений не уступают их глубине и значительности…» (Монтень 1958, гл. 32, с. 470). Сам Монтень очевидным образом подражает этой практике Плутарха, например, в своем сопоставлении Плутарха и Сенеки (гл. 10).
286
Crit., fragm. В 15Diels.
287
Stob., 11, 8, 12. А. Наук дает фрагмент как текст Еврипида (Nauck 1926, fr. 659).
288
Уже Сапфо рассуждает:
Одни — строй конников, другие — строй пеших, те же — строй кораблей назовут прекраснейшим на черной земле; а я — то, что кто-то любит (δτχο τις έραται)…
(fragm. 27aDiehl, 16 Lobel-Page). Можно привести еще фрагмент Пиндара, к сожалению, оборванный на полуслове цитирующим его Секстом Эмпириком, ввиду чего невозможно выяснить, имел ли он заключение по типу «я же избираю…»:
Кого-то (τινα) радуют от ветроногих коней венки и почести,
иных же обитание в многозлатных чертогах; а некто (τις) услаждается, через соленую зыбь на корабле быстром совершая путь…
(fragm. 221, Snell-Maehler).
289
Формулы эти закономерно появляются и в архаической греческой поэзии, например у той же Сапфо, которая говорит об Анактории: «я более желала бы видеть ее милую походку и сияющее мерцание лица, нежели колесницы лидян и пеших ратников в доспехах» (fragm. 27b Diehl, 17—20). О дочери Клеиде у нее сказано: «я не променяю ее на целую Лидию» (fragm. 152 Diehl, 132 Lobel). Очень распространенная разновидность этих формул выражает специально предпочтение одного избираемого предмета песни всем другим:
Песни мои, владычицы лиры, Какого бога, Какого героя,
Какого мужа будем мы воспевать?
Над Писою властвует Зевс; Олимпийские игрища учредил Геракл От первин победы; Но воскликнем мы ныне о Фероне…
(Ofymp., Ζ, ί—8; пер. Μ. JI. Гаспарова)
290
«В Греции мы имеем перед собой совершенно чуждый Ближнему Востоку тип «непризнанного гения»… Черты этого типа начинают проступать уже во второй половине VI столетия до н. э. (например, в сетованиях… Ксенофана на традицию, определяющую почет «грубым» атлетам, а не ему, носителю новых духовных ценностей); свою окончательную отчетливость они обретают в эпоху Еврипида, этого классического «меланхолика», явившего грекам образец творческого одиночества. Но ближневосточная литература, столь неимоверно осведомленная в самых разнообразных оттенках человеческой потерянности и злополучности… ни в одной из своих многочисленных исповедей не дает самочувствия «гения среди толпы»: такой психологический комплекс в библейском мире просто неизвестен <…> Понятие «толпа» на библейский язык непереводимо: конечно, вокруг человека ходят… глупцы и неучи, среди которых ему скучно, если он «мудрец», но все они в принципе пребывают на той же плоскости бытия, что и он сам» (наст, изд., с. 19—20).
291
См.: Лившиц 1933.
292
Ср. также оды I, 31; III, 1; IV, 3. Вне такого применения в более архаической своей роли схема выступает в оде 1,7, где заявление «буду петь Тибур» подготовлено так: «Пусть одни поют Родос, другие — Митилену…»— всего в каталоге 13 отклоняемых названий.
293
Образцовый анализ этой картинности см. у М. JI. Гаспарова (Гаспаров 1970, с. 13—14).
294
Greg. Nazianz., carm. moral., Χ, 456—467 (PG, t. 37, col. 713—714).
295
Сравнительно недавний пример: Белик 1961, с. 303—342. В этой статье даже такой персонаж, как «дочь змея», получает социологическую идентификацию, которая вполне удовлетворила бы Фому Фомича.
296
Античные поэты об искусстве.
297
Там же, предисловие, с. 10.
298
Anthol. Palat., XVI, 185.
299
У розы иглы есть, рога есть у быка.
Вот сходство. Разница ж: легко любви рука
Совьет из роз букет для милого предмета;
А из быков никак нельзя связать букета!
(Жуковский 1959, с. 345)
300
Anthol. Palat., XVI, 183.
301
Ср.: Paus., Descr. Gr., Ill, 15.
302
Anthol. Palat., XVI, 171—177.
303
Ср.: Фрейденберг 1936, с. 79, 102—103, 112—114, 354—355 и др.; Потеб- ня 1914, с. 14 и др.
304
Anthol. Palat., XVI, 171.
305
Anthol. Palat., XVI, 177 (осложнено тем, что в терминологии Мейерхольда, развитой Эйзенштейном, именуется «отказным движением»: автор начинает с того, что обосновывает полную несовместимость Афродиты и доспехов).
306
Anthol. Palat., XVI, 176.
307
Anthol. Palat., XVI, 172.
308
Anthol. Palat., XVI, 173.
309
Anthol. Palat., XVI, 159—170.
310
Anthol. Palat., XVI, 167.
311
Ср. выше прим. 52 о понятии «отказное движение».
312
Anthol. Palat., XVI, 160.
313
Anthol. Palat., XVI, 162.
314
Anthol. Palat., XVI, 163.
315
Anthol. Palat., XVI, 168.
316
Понятие прецедента имеет огромное значение для античного и вообще раннего рационализма ввиду юридической окраски последнего.
317
Anthol. Palat., XVI, 165—166, 169—170.
318
Ср. понятие медиации в анализе структуры мифа, например, у К. Леви- Стросса. Характерно, что последнему понадобился этот термин по ходу описания интеллектуалистических аспектов мифа.
319
Ср.: Лосев 1957, с. 50—52.
320
Anthol. Palat., XVI, 160b.
321
Вспомним роль, которую категория пластичности играет в популярных схематических характеристиках античной культуры от эпигонов Гегеля до Шпенглера и далее, переходя из рук в руки и превращаясь у популяризаторов в совершенно расплывчатую и бесцветную, но тем более всепроникающую идею. Нарочитая «выпуклость форм», априорно ожидаемая от всякой античной поэзии, но прежде всего от греческих стихотворений «из антологического рода», как говорили в старину, была отлично спародирована еще в стихотворении Козьмы Пруткова «Древний пластический грек» (ср. его же «Спор греческих философов об изящном» и «Письмо из Коринфа»). По мере начавшегося в XIX в. поступательного снижения «наивного» интереса к умственной и нравственной культуре античности, к эллинскому интеллектуализму и эллинскому морализму (имевшему центральное значение для самих древних, удерживавшему его для европейцев средневековья, Возрождения, Просвещения) одностороннее подчеркивание «пластических» компонентов античного наследия закономерно делается все сильнее. Вся шпен- глеровская концепция «аполлоновской» культуры определяется тем фундаментальным фактом, что это взгляд извне; «пластика» античности сохраняет власть над воображением Шпенглера (и его предполагаемого читателя), но эллинская мысль уже ничего не говорит непосредственно его уму, а эллинская этика — его сердцу.
322
Ср. ходовые характеристики такого типа: «Асклепиада занимали преимущественно любовные темы…» «Леонид искренне жалеет бедняков и тружеников и посвящает им полные глубокого чувства эпитафии… он откликается на военные события… подшучивает над пьяницей старухой Маронидой… живо воспринимает произведения искусства…» «Мелеагр… всецело обращается к той тематике, которая была по душе и ему самому, и тому богатому и легкомысленному обществу, в каком ему приходилось завоевывать себе положение. Большая часть его эпиграмм… игривого и любовного содержания» (ИГЛ, т. 3, с. 124, 127—128). Разумеется, в таком способе описывать материал, весьма обычном и далеко не всегда удерживающем такой простодушный характер, нет ровно ничего непозволительного; однако ряд аспектов сложной реальности эпиграмматического жанра он неизбежно игнорирует, смещая общие пропорции, в частности соотношение между личностным и внеличностным. Исследователь имеет право предпочтительно интересоваться действительно ярким индивидуальным обликом, скажем, Леонида Тарентского или Паллада; нельзя, однако, не видеть, что удельный вес внеличностного в этом жанре особенно велик (что выразилось, между прочим, во–первых, в структуре традиционных сборников — группировка текстов по темам, не по авторам! — во- вторых, в особой ненадежности традиционных атрибуций). О повышенной консервативности жанра эпиграммы нам придется говорить ниже.
323
Ср.: Тройский 1957, с. 215 (эпиграмма есть «средство создать образ, настроение, запечатлеть ситуацию»), с. 216 (она «стремится зафиксировать ситуацию, момент»).
71
324
Anthol. Palat., XVI, 1—4, 6—8, 11—13, 48—51, 116—147; append, nova Cougny, VII, 1—5.
325
Anthol. Palat., XVI, 5, 9—10, 14—47, 52—64, 103—111; append., VII, 6—81.
326
ИГЛ, т. 3, с. 124—125.
327
Anthol. Palat., IX, 359.
328
Последняя атрибуция — в сборнике Плануда.
329
Почему эпиграмма не несет столь часто встречающегося в Палатинской антологии надписания άδηλον («авторство неясно»)? Для этого она слишком хороша; такому яркому и популярному творению (о популярности которого свидетельствуют не только включения в сокращенный Планудов извод антологии, но и ответ Метродора, о котором см. ниже) не полагается стоять в рукописи без всякого имени. Но два (или три) имени сразу — все равно эквивалент того же άδηλον.
330
Soph. Oed. Colon, 1224—1227; Alex. Com., (Fr. AH Com. II, 447).
331
Ср.: Аверинцев 1977, с. 144—147. В соответствии с темой этой книги в ней не рассматриваются позднейшие факты этого ряда, например переложение Акафиста Богородицы ямбическими триметрами, выполненное в начале XIV в. Ману- илом Филом.
332
Например, Poemata moralia, 35—36 (PG, 37, col. 965—966); 37—38 (Ibid., col. 966—967).
333
Anthol. Palat., XIV, 116—146.
334
Anthol. Palat., IX, 360.
335
При таком понимании соотношения между двумя эпиграммами остается вопрос: почему именно первая была «пессимистической» и вторая «оптимистической», а не наоборот? Но ответ, как кажется, очень прост. Первая эпиграмма — вызов, вторая — ответ на вызов; первая обязана быть и по тону своему вызывающей, вторая — нет, ибо ее существование оправдано вызовом, содержащимся в первой. Но тезис «во всяком образе жизни есть нечто хорошее» не является вызывающим и при неспровоцированном высказывании просто неинтересен; напротив, в тезисе «ни в каком образе жизни нет ничего хорошего» достаточно задора. Именно этот диспутальный задор, а не «мировую» (или «гражданскую») скорбь обязаны мы ощутить в первой эпиграмме.
336
Так определяется тема обеих эпиграмм в леммах рукописей.
337
Ср., например, ряд ямбических эпиграмм Григория Богослова с идентичной логико–синтаксической структурой, а именно основанных на схеме пятичлен- ной (в одном случае — четырехчленной) градации, причем параллелизм подчеркнут (как и у Метродора) формальным единообразием метрического свойства: первый колон каждого первого стиха и затем анжабеманы во всех остальных стихах, кроме последнего, непременно занимают по пять слогов, т. е. по две стопы и по тесису третьей (Poemata moralia, 20—23, PG, 37, col. 788—790).
338
«Dispositio» (греч. τάξις, ср. Arist. Rhet., Ill, 12) — одно из центральных понятий риторической теории. В новой научной литературе иногда употребляется как коррелят к понятию композиции; термин «диспозиция» акцентирует момент школьной правильности, рассудочной последовательности (то, чего мы ждем от идеального ученического сочинения), термин «композиция» — момент «творческой» субъективности (то, чего мы ждем от художественной литературы в современном смысле слова).
339
Еще вопрос, что важнее для автора первой эпиграммы — высказать свое «пессимистическое» суждение о мире или похвалиться тем, как складно он сумеет в шести парах дихотомий (как теперь говорят, бинарных оппозиций) создать иллюзию исчерпывающего перебора жизненных возможностей; и Метродор, вступая в игровую полемику с оценочным наполнением пунктов каталога, не только принимает самый каталог, но, как бы повернув его вокруг оси симметрии, дает ему статус независимости от конкретного тезиса, в связи с которым он был изначально предложен. Логическая диспозиция имеет здесь такое значение, к которому она стремится в неисчислимом множестве других случаев.
340
Norden 1898, Bd. 1, S. 18—20.
341
Для рубежа I в. до н. э. и I в. н. э. имеются эпиграммы Кринагора, Антипат- ра Фессалоникского, Гетулика, Алфея и др.; для IV в. н. э., когда буйное цветение риторической прозы не оставляло никакого места для поэзии, — эпиграммы Григория Богослова, Юлиана Отступника, позднее Паллада; даже для IX в., времени глубокого упадка всех унаследованных от античности жанров, — ямбические эпиграммы Феодора Студита и Кассии, неловкие, но сохраняющие равенство себе жанровой структуры.
342
Anthol. Palat., append. V, 10.
343
Anthol. Palat., VII, 747.
344
II Paralip., 6, 18.
345
1,40.
346
VII, 149.
347
I, 33.
348
1,36.
349
Цит. по примечаниям в парижском издании «Палатинской антологии» 1871 г. (серия Ф. Дидо), т. 1, с. 17.
350
«О граде Божием», I, 26.
351
VII, 35.
352
I, 19,4.
353
I, 20, 1—3.
354
Poetica 4, 1449а14; пер. Μ. JI. Гаспарова (. Аристотель 1978, с. 118).
355
Poetica 6, 1449Ь24—27. Даже неспециалисту эта дефиниция памятна тем, что под конец ее вводится понятие катарсиса.
356
Выделение субстанциальных признаков как составляющих полного определения «усии», их отграничение от акцидентальных признаков — один из важнейших моментов всей аристотелианской традиции (ср.: Metaphisica V, 14, 1020а34— 35; V, 30, 1025а14—29 etc.).
357
Poetica 4, 1448Ь4—11.
358
Poetica 4, 1448Ь20—23.
359
Аристотель, по крайней мере, ощущает отсутствие этого понятия (и понятия художественной прозы): «А то искусство, которое пользуется только голыми словами без метров или метрами, причем последними или в смешении друг с другом, или держась какого-нибудь одного — оно до сих пор остается без названия. В самом деле, мы ведь не смогли бы дать общего имени ни мимам Софрона с Ксенархом и сократическим разговорам, ни если бы кто совершал подражание посредством триметров, элегических или иных стихов…» (Poetica 1. 1447а28— Ь12; пер. М. Л. Гаспарова (Аристотель 1978, с. 112—113).
360
Poetica 1, 1447а13—27.
361
Слово γένος еще не терминологизировано у Аристотеля и означает у него общее устремление к хвалебному (эпос, трагедия) или снижающему (ямбы, комедия). См.: Poetica 4, 1449а2.
362
Poetica 1, 1447а13—27.
363
Poetica 1, 1447а25—Ь28.
364
Metaphisica V, 8, 1017Ы1; пер. А. В. Кубицкого (Аристотель 1976, с. 157).
365
Symposium 223d; пер. С. К. Апта (Платон 1970, с. 156).
366
Poetica 4, 1448Ь34—1449а1.
367
Ср.: Шталъ 1975, с. 7—30.
368
Шеллинг 1966, с. 86.
369
Poetica 3, 1448а19—23.
370
Шеллинг. Указ. соч., с. 345.
371
Hegel 1965, S. 397—402.
372
Ср.: Белинский 1954.
373
Staiger 1959, S. 219—228.
374
Само слово βιος относящаяся к XII в. византийская переработка античного лексикологического и энциклопедического материала, известная под названием Etymologicum Magnum, разъясняет как είδος ζωής — «образ жизни». Мы привыкли к тому, что биография — жанр повествовательный, но античность широко практиковала биографию описательную. Ср.: Аверинцев 1973.
375
Объем жизнеописания Платона у Диогена Лаэртского превышает объем его же заметки о Кебете Фиванском примерно в 659 раз. Другие примеры см.: там же, с. 243, 247—248 и др.
376
Например, в числе биографических заметок о поэте Пиндаре, предпосылавшихся в рукописях его текстам, имеется одна, написанная гекзаметрами, а по своему содержанию и построению не отличающаяся от других. См.: Pindarus 1811, p. XXIX-XXX.
377
См.: Аверинцев. Указ. соч., с. 120—125. Мы пытались показать, в частности, что предложенное Ф. Лео в его классической работе противопоставление «научного» и «художественного» типа биографии не охватывает сложности явления; ср.: Leo 1901.
378
Попытки различать в словоупотреблении термины «литературный вид» и «литературный жанр» непоследовательны и неубедительны; они скорее сигнализируют о внутренних противоречиях существующей жанровой номенклатуры, чем указывают выход. См.: КЛЭ, т. 1, стб. 954.
379
Это фрагменты биографии Еврипида, входившей в шестую книгу сборника, озаглавленную «О жизни трех трагических поэтов». См.: Amim 1913, р. 124 f; Leo 1912, S. 273—290.
380
См.: Аверинцев. Указ. соч., с. 121; Pay г 1962.
381
В качестве примера можно назвать сочинения Псевдо–Деметрия Фалер- ского и Псевдо–Либания. 35. Lfg., 1960, S. 332—343.
382
Ср.: Античная эпистолография.
383
См., например: Diogenis Laertii VI, 24; Athenaei V, 21 Id; Luciani Alexander 5; Eusebii Praeparatio evangelica XIV, 5.
384
Это еще живо ощущает один из основоположников изучения диатрибы. См.: Wendland 1912, S. 75—91.
385
Satyre Мётррёе.
386
Ср.: Scherbantin 1951.
387
«…[П]ервым представителем его был, может быть, еще Антисфен… Писал «Менипповы сатиры» и современник Аристотеля Гераклид Понтик…» (Бахтин 1963, с. 150).
388
«Развернутой «Менипповой сатирой» являются «Метаморфозы»… Апулея (равно как и его греческий источник, известный нам по краткому изложению Лукиана)» (там же, с. 151).
389
Там же, с. 161. Несколько ниже «Бобок» Достоевского назван «почти классической мениппеей», в которой «жанр мениппеи продолжает жить своей полной жанровой жизнью» (там же, с. 189).
390
Иванов 1916; Ivanov1971.
391
Заглавие стихотворного сборника И. И. Дмитриева (1795).
392
Державин 1876, с. 168.
393
Карамзин 1900, с. 113.
394
Конечно, и самые настоящие термины — все, кроме искусственно образуемых, — кристаллизуются из «словечек», из нестрогого, но живого профессионального «жаргона». Нам пришлось однажды обстоятельно говорить об этом (Аверинцев 1979, с. 41—81, специально с. 46—53, важно прим. 32 на с. 74). Дело решается тем, завершилась ли кристаллизация в пределах той или иной большой культурной эпохи. Термин «импрессионизм», как известно, получился из насмешливого словечка, введенного критиком и обыгравшего название совершенно определенной картины Клода Моне, выставленной в 1874 г. в Париже; однако оно успело стать серьезным и фиксированным термином для той же европейской культуры новейшего времени, которая породила само явление. Но античная культура окончила свой исторический путь, так и не узнав, что «диатриба» — термин и специально термин литературной теории. Она не узнала также многого другого, например, что слово «неотерики», представляющее собой контаминацию греческого словечка νεώτεροι (новейшие) из обихода Цицерона (Orator 161, ad Atticum VII, 2, I) и позднелатинского neotericus (преданный новшествам), есть термин, обозначающий поэтов из кружка вокруг Катулла и Кальва. В общем, дело сводится к тому, что наша интеллектуальная культура сделала нормой значительно большее количество терминов и значительно большую степень фиксированности каждого термина, чем античная, что и сказывается при любом акте «перекодирования» информации; и особенно коварный случай — когда мы пользуемся в качестве терминов античными выражениями. Проблема, конечно, не ограничивается историей литературы, историей культуры; она сохраняет свое значение для политической истории. Все термины, без которых мы не можем построить самого простого суждения о римской политике, не говоря уже о греческой, — даже «оптиматы» и «популяры», тем более «республика» и «империя», и т. д. и т. п. — завершили свой путь к статусу терминов уже в европейской науке нового и новейшего времени.
395
О принципиальном значении логически выверенной дефиниции как специфической формы мысли вообще и теоретико–литературной мысли в частности см. наст, изд., с. 229—243, особенно с. 231—239.
396
Poetica 1447а13.
397
Аристотель 1978, с. 112.
398
Poetica 1450Ы6—20; пер. М. JI. Гаспарова (там же, с. 123).
399
Наст, изд., с. 146—167 и 101—114; Awerintzew 1979, S. 267—270.
400
Ср.: Аверинцев 1979, с. 62—65.
401
Ср.: Лосев 1975, с. 463—471; Cooper 1924; Else 1957. В настоящее время над этой темой работает М. Л. Гаспаров.
402
Ср.: Гаспаров 1963, с. 97—151.
403
Некогда высказанное в истории отечественной филологии утверждение, согласно которому все послание к Пизонам от начала до конца посвящено исключительно драматической поэзии (Нетушил 1901, с. 40—76), является явной утрировкой. Ср.: Каплинский 1920; Гаспаров. Указ. соч., с. 121. Нет нужды соглашаться с ним, чтобы констатировать простой факт — те части послания к Пизонам, которые содержат конкретные указания касательно жанровых реальностей, а не поэтической практики вообще, трактуют о драматических жанрах (кроме пассажа об эпосе — ст. 136—152).
404
Всегда цитируется свидетельство Порфириона Помпония в начале его комментария к посланию Горация к Пизонам: «Он собрал правила Неоптолема Па- рийского, касающиеся искусства поэзии, однако не все, а только самые важные».
405
Phllodemus 1923.
406
Ср. наст, изд., с. 244—318, особенно с. 248—251.
407
Ciceronis Orator 66; De oratore И, 51—64; Quintilliani Institutiones oratoriae IX, 4, 129; id. X, I, 73. Специально речи и другие пассажи Фукидида изучались в риторских школах как образцы красноречия. Ср.: Аверинцев 1973, с. 95—96, прим. 5— 9 на с. 146—147.
408
«Genus maxime oratorium» (De legibus I, 2, 5).
409
Ср.: Reitzenstein 1926, S. 84—99; Kerenyi 1927, S. 1—23.
410
О принципе подражания–состязания в системе рефлективного традиционализма см. наст, изд., с. 148 и 109. Разумеется, сам по себе этот принцип отлично известен эпохе дорефлективного традиционализма; но и он в своей конкретной реализации вместе со всем остальным преобразован сознательной рефлексией, фиксирующей черты жанра. Архаические певцы состязались в «мудрости» вообще, в «умении» вообще; поэты и прозаики эпохи рефлективного традиционализма состязаются прежде всего в точности, с которой их творчество воспроизводит абсолютную норму жанра. «С точки зрения искусства (κατά την τέχνην), — говорит Аристотель, — лучшая трагедия — это трагедия именно такого склада» («Поэтика», гл. 13; пер. М. JI. Гаспарова (Аристотель 1978, с. 131). После того как законы жанра сформулированы «с точки зрения искусства», от произведения требуется максимум жанровой идентичности: по этой логике наилучшая трагедия есть «трагичнейшая» трагедия (там же, с. 132). Коль скоро есть дефиниция жанра, с любого образчика этого жанра спросят соответствие дефиниции. Это принципиально новый смысловой момент, отсутствующий в архаической агонистике хотя бы ввиду отсутствия дефиниций.
411
Ср. наст, изд., с. 244—318, особенно с. 274—277. Проблеме индивидуального стиля в античной и византийской литературной теории мы посвятили специальную статью <…> (см. наст. изд. с. 220—228).
412
Ср. наст, изд., с. 151 и 109—110. Промежуточным звеном между статусом жанра как литературного «приличия» и пафосом сословного деления является, конечно, фундаментальное для традиционной эстетики противоположение «высокого» и «низкого». Важно, что противоположение это было одним из изобретений треков. В литературных традициях Ближнего Востока, например в древнееврейской, мы не найдем систематического разнесения синонимов по стилистическим графам. «В коптской лексике, как и в древнеегипетской, нет привычного для нас деления на обыденный и высокий стиль… Высокопарность, пышность или торжественность речи достигались не путем использования особой лексики, а…сравнениями, тропами, метафорами» (Еланская 1964, с. 18—19).
413
Там же.
414
Одно из таких исключений — теория гимна как разновидности эпидейк- тического красноречия, предложенная ритором III в. Менандром Лаодикийским.
Разумеется, «аннексия» гимна для риторической прозы — новация так называемой второй софистики, породившая некоторый жанровый гибрид; достаточно вспомнить прозаические гимны Либания и Юлиана Отступника. Но эта новация, во- первых, с самого начала лежала в русле архаизаторских тенденций, во–вторых, укладывалась в освященное традицией понятие эпидейктического рода.
415
Вопиющий пример — отказ византийской теории замечать гимнографи- ческое творчество Романа Сладкопевца и его сподвижников, да и вообще поэзию, основанную на неантичных принципах стихосложения. Ср. наст, изд., с. 245— 251.
416
Ср. классификацию видов повествования в прогимназматах Николая Софиста (V в.): Spengeled. 1856, Т. Ш, р. 445, 29.
417
Специалисты по античному роману не преминули делать это, начиная с классического труда Эрвина Роде: Rohde 1914, S. 350—353.
418
Spenge! cd. 1854, Т. II, p. 22, 4 ff.
419
Ср.: Клочков 1983, с. 91—96.
420
См.: Setlin— Fohrer 1969, S. 398—399.
421
Ibid., S. 374—517.
422
Ср.: Клочков 1983, с. 93.
423
Ср.: наст, изд., с. 13—75, особенно 27—31.
424
См.: Клочков 1983, с. 93 и к ней прим. 80. Позднеантичная параллель — корпус мистических сочинений, носящих имя Гермеса Трисмегиста. Еще одна позднеантичная параллель, выразительно свидетельствующая о возврате ближневосточного понимания авторства как авторитета, — отношение неоплатонических комментаторов к корпусу так называемых «Халдейских оракулов»; как очевидно из традиции, сохраненной словарем «Суда», s. v. Iulianus, все помнили, что это изделие конца II в. н. э., связанное с именем Юлиана Теурга, что не мешало видеть в нем откровение древней мудрости Востока.
425
См.: Аверинцев и Роднянская 1978; а также наст, изд., с. 101—144.
426
См.: Миллер 1975, с. 140—174 (в приложении — переводы).
427
Amphilochia XCI-XCIII. Cf: Sevcenko 1981, S. 298—300.
428
Amphilochia LXXXVI.
429
Ср. стилистический разбор библейских мест в «Эклоге» Фомы Магистра (XIV в.).
430
Ипертима Пселла слово, составленное для вестарха Пофоса, просившего написать о богословском стиле, 19 и 20. / Пер. Т. А. Миллер // Античность и Византия, с. 169.
431
Там же, 22 // Там же, с. 170.
432
Критика способности суждения, § 46. «Оригинальность» гения (см. там же § 49) мыслится первичной по отношению к правилам.
433
См.: Curtius 1973.
434
Аристотель 1976, с. 273. Ср. наст. изд. 146—157 и 158—159.
435
Любарский 1975, с. 125.
436
Там же.
437
Timaeus 28с.
438
Rabe ed. 1913, vol. 6, p. 216, 16; cf. ibid., p. 217, 9.
439
Rabeed. 1935, vol. 14, p. 390, 12.
440
Ипертима Пселла слово… // Античность и Византия, с. 165.
441
Kustas 1973.
442
О становлении теоретического подхода к литературе в классической Греции и о творчестве Аристотеля как зрелом явлении этого подхода см.: Миллер 1978, с. 5—106.
443
«…На формирование идей арабской литературной критики существенное воздействие оказала греческая наука… Здесь налицо заимствование. Насколько были правы арабские филологи, заимствовавшие категории, выработанные греческой эстетико–литературной мыслью на греческом материале, еще предстоит выяснить» (Куделин 1973, прим. 30 к с. 121; ср. также с. 119—126).
444
Автор этих строк пытался дать в эскизном, тезисном виде перспективу историко–литературных эпох, стоявших под знаком рефлективного традиционализма, т. е. аристотелевской концепции жанра. См. наст, изд., с. 146—157.
445
Экклезиаст, 12, 11.
446
«Одиссея», I, с. 341—348; пер. В. А. Жуковского.
447
«Поэтика», VI, 49В24—28; пер. М. JI. Гаспарова.
448
Там же, VII, 50В26—32.
449
Там же, Χ, 52А14—16.
450
Там же, XVIII, 55В26—27.
451
«Софист», 218 В—С; пер. С. А. Ананьина (Платон 1970, с. 323)
452
Там же, 268 С—D; (с. 399).
453
«Метафизика», VII, 4, ЮЗОаб; пер. А. В. Кубицкого (Аристотель 1976, с. 192).
454
II кн. Маккавейская. VII, 28.
455
Послание к евреям, XI, 1.
456
De fide orthodoxa 68, p. 1671»2 Kotter.
457
Dialectica 3, p. 56'-» Kotter.
458
De fide orthodoxa 26, p. 7744~48 Kotter.
459
I послание к Коринфянам, 13.
460
Φιλοκαλία…, σ. 4.
461
Имеется в виду коллективный сборник 1986 г. — см.: Проблемы литературной теории, с. 191—235 (пер. Н. А. Рубцовой).
462
Там же, с. 221.
463
«Метафизика», XI, 4. 1059В24—25 (с. 273).
464
Ср. наст, изд., с. 151—152.
465
Ср.: Crabmann 1922, Bd. 2, S. 93—94.
466
Ibid., Bd. 2, passim.
467
Rhetorica, liber I, cap. I, p.. 1355a4—14; cap. 11, p. 1356b.
468
Krumbacher 1897, S. 663.
469
Bouvy 1886, p. 358.
470
Cataphygiotou-Topping 1966, p. 92—111; Idem 1969, p. 31—41.
471
Crosdidier de Matons 1977, p. 320—327
472
Термин «кондак» с известной долей условности применяется в научной литературе к большим ранневизантийским композициям из многих строф (икосов). (См.: Аверинцев 1977, с. 318 и 210—211.) В церковном обиходе он означает отдельные строфы, удержавшиеся внутри «чинопоследования» того или иного праздника после вытеснения этих композиций из богослужебного употребления, а также меньшие строфы акафистов.
473
Науке XIX в. пришлось совершенно заново открывать этот феномен — после многовековых попыток видеть в византийской церковной поэзии либо чистую прозу, либо какое-то странное преломление античной метрики. Примечательно, что греки, участвовавшие в ученой жизни Западной Европы, ничем не могли помочь своим коллегам; уже после работ кардинала Ж. — Б. Питра, поставивших подход к византийской гимнографии на здравую научную основу, греческий ученый К. Сафа (Σαθας 1878, σ. ρν') энергично настаивал на отсутствии в гимнографи- ческих текстах каких-либо признаков стихосложения; одновременно в Греции продолжали сочинять новые гимны с соблюдением тех же правил, что и в византийские времена (ср.: Crosdidier de Matons. Op. cit., p. 121, n. 16). Так до своего последнего самоисчерпания восходившая к Византии традиция разводила практику гимнографии и филологическую ученость. В той мере, в которой последняя все же принимала к сведению первую, она относила ее не по рубрике литературы, а по рубрике музыки, как это наблюдается уже в дефиниции ирмоса у византийского ученого Иоанна Зонары (PC, 135, coll. 421 В—428 D).
474
Bouvy. Op. cit., р. 368.
475
Так он именуется в рефрене кондака на его праздник (Crosdidier de Matons. Op. cit., p. 167—169).
476
Рассказ о том, как она дала Роману проглотить хартию, после чего он смог незамедлительно воспеть свой знаменитый рождественский гимн, повторяется во всех житийных отрывках, ему посвященных.
477
См. кондак, названный выше в прим. 8 — икос 1, ст. 5—6 по изданию в монографии Гродидье де Матона.
478
Там же, ст. 4.
479
Сама безличность и отвлеченность похвал дару Романа свидетельствует о высокоофициальном характере признания. Домыслы Кордакидиса о византийской церковной традиции, неблагожелательной к Роману и чернившей его (Κορδακιδης 1971), совершенно не убедительны (ср.: Crosdidier de Matons. Op. cit., p. 197—198).
480
Возможное исключение — акафист Богородице, приписываемый Роману некоторыми специалистами.
481
Например, в «чинопоследовании» на праздник Рождества за б–й песнью канона идет кукулий гимна Романа, обозначаемый уже как «кондак», а за ним первая строфа, обозначаемая просто как «икос», ибо другие икосы отброшены. Кукулий начинается словами «Дева днесь Пресущественнаго раждает», икос — «Едем Вифлеем отверзе». Но ведь у Романа икосов было 24!
482
Ср.: Аверинцев. Указ. соч., с. 103—104 и 317—318. Любопытно, что канон часто возращается либо к ритмической прозе («Великий канон» Андрея Критского), либо — в виде нечастого, но характерного исключения — к античной метрике (ямбические каноны Иоанна Дамаскина).
483
См.: Christ, Paranikas 1871, p. XXVIII. Тот же Ксанфопул, однако, довольно пространно говорит о Романе Сладкопевце в своих «Толкованиях на степенны антифоны Октоиха» (соответствующий отрывок, изданный К. Афанасиадисом Свя- тогорцем, перепечатан в статье: Papadopouios-Kerameus 1893, S. 601—603). Но Роман существует для него, во–первых, как герой легенды, во–вторых, как композитор и певец, главное отличие которого — καλλιφωνία, только не как поэт, не как явление словесности. «Агиографический», а не «историко–литературный» Роман упомянут и в эпиграмме Михаила Пселла:
Не Ты ли древле, Дева, предала во снедь Роману свиток, Твоему служителю? И мой кратер исполни, Благодатная, Премудрости сладчайшим растворением,. Затем, что дух бесплоден мой, и ум мой сух; Я жажду влаги, душу напояющей.
(Перепечатано у Гродидье де Матона: Crosdidier deMatons. Op. cit., p. 190).
484
Amphilochia XCI-XCIII. Ср.: Sevcenko 1981, S. 298—300.
485
Amphilochia LXXXVI.
486
Ecloga, 112, 9; 165, 3; 192, 10; 273, 9; 312, 5; 337, 17 ed. Ritschl.
487
Пселл 1975, гл. 10, с. 165; пер. Т. А. Миллер. Ср.: Миллер 1975, с. 140—155.
488
Пселл. Указ. соч., гл. 10—11, 17—18 и др. Характерно замечание о Григории Назианзине в другом трактате, рассматривающем его стиль наряду со стилем Василия, Иоанна Златоуста и Григория Нисского: «Своей речи он придал лоск не хуже любой аттической музы» (пер. Т. А. Миллер; см.: Миллер. Указ. соч. с. 154)
489
Walz ed. 1834, vol. 3, p. 692, 24—25; p. 693, 4.
490
Имеются два исключения: «Вечерняя песнь» и «Увещание к деве». Однако эти образцы неуверенно пробуемой силлабики, важные для истории литературы, как мы ее теперь понимаем, совершенно теряются на фоне необычайно обильной поэтической продукции Григория Назианзина в гекзаметрах, элегических дистихах и ямбических триметрах. Во всяком случае, не ими определяется облик его творчества. Византийский почитатель стиля Григория, как тот же Пселл, имел полное право не заметить самого их существования.
491
Ср. посвященные им разделы в классическом труде Эд. Нордена: Norden 1898, Bd. 2.
492
«Диатрибами» они называются в рукописях, «гомилиями» — в заглавии одного из разделов флорилегия Иоанна Стобея («Из увещательных гомилий Ар- риана» — Йог. 97, 28).
493
Ср. Κομίνης 1966.
494
Словосочетания πεζός λογος (прозаическая речь) и όίμτρος λογος (речь, не организованная по правилам классической метрики античного типа) употреблялись как синонимы (Crosdidier de Matons. Op. cit., p. 121). Например, Григорий Коринфский говорит о канонах Косьмы Маюмского, что они написаны πέζώ λόγω, τφ άμέτρφ δηλαδή («прозою, сиречь вне метра»; см.: Stevenson 1876, р. 491 et п. 4). Лишь на исходе исторического бытия Византии название хотя бы одного силлабического размера — так называемого политического, т. е. общедоступного, пятнадцати- сложника, — стало термином; но до теоретико–литературного обсуждения самой возможности таких размеров так и не дошло.
495
Генезис поэзии того типа, который мы видим в гимнах Романа, был подготовлен эксцессами ритмичности и созвучий–рифмоидов в определенном направлении «азиански» ориентированной риторической прозы. Такой представитель второй софистики, как Гимерий, сознательно хотел реализовать внутри области прозы некоторые специфические возможности поэтической речи. В этом отношении характерна осуществленная им прозаическая парафраза Алкеева гимна Аполлону (oratio 14, Isq.); сам он назвал себя «другом божественного хора поэтов» (ога- tio 4, 3). Подготавливая византийскую риторическую прозу, но также византийскую церковную поэзию, Гимерий уделял необычное внимание тонической организации текста: два последние ударения фразы у него всегда разделены четным числом безударных слогов, а за последним ударным слогом, как правило, следуют два безударных (Christ, Schmid, Stahlin 1913, S. 814—815).
496
Один и тот же Феодор Продром (ок. 1100 — ок. 1170), автор разносторонний и умный, называет гимнографа Косьму «поэтом» (ποιητής) и утверждает, что последний писал «без размера» (δίχα μέτρον); см.: Stevenson. Op. cit., p. 492; p. 491, n. 2.
497
Aldhelmi De virginitate, 7; ср.: Manitius 1911, S. 140, Anm. 3.
498
Lull epistola 71MCH, Epistolae 3/Ed. Diimmler F., p. 338, 24).
499
Еще раз — с оговоркой относительно термина στίχος πολιτικός, имеющего куда более узкое значение (см. выше прим. 27).
500
Например, гениальный испанский гуманист Хуан Луис Вивес (1492—1540), друг и единомышленник Эразма, называл новые языки в отличие от латыни — языки Данте и Ариосто, Рабле и Маргариты Наваррской, провансальских трубадуров и Хорхе Манрике — «скотскими и мужицкими», ferinae et agrestes (De tra- dendis, 3), и утверждал, что для женщин лучше было бы дать вырвать себе глаза, нежели читать рыцарские романы (De Christiana femina, 1).
501
См.: Гаспаров 1986.
502
Здесь поспешим сделать оговорку: как-никак, византийцы читали Фому Аквинского, и читали нередко с одобрением — не только «латиноумствующие» теологи типа Димитрия Кидониса, переводчика Аквината на греческий язык и поборника унии, но и православный патриарх Геннадий Схолярий. Значит, построение разделов «Суммы теологии» не так уж непременно шокировало византийца как читателя; но сам он так писать не хотел и не смел — что нас в данном случае и интересует.
503
О различии в методике и интеллектуально–психологической установке споров на схоластическом Западе и в Византии, о попытках определенного направления в Византии перенять западный стиль полемики и о неудаче этих попыток см.: Podskalsky 1977.
504
О правомерности такого понятия см.: Медведев 1976.
505
Verpeaux 1959.
506
Sevcenko 1962.
507
История Византии, т. 3, с. 226.
508
Там же, с. 242.
509
Е. Э. Липшиц и М. Я. Сюзюмовым.
510
Sevcenko. Op. cit., p. 77—87; 87—109.
511
См.: Баткин 1976, с. 175—221, специально с. 194—199 (там же дальнейшая библиография).
512
Этот энкомий риторическому перелагателю житий святых — лишнее доказательство, что византийская литературная критика не останавливалась перед сакральными жанрами, лишь бы они были по определенным формальным признакам соотносимы с жанрами классической древности. Кстати говоря, если проповедь — по–гречески «гомилия» (см. выше об античной предыстории этого термина), то житие — по гречески «биос», т. е. слово, которое в античные (как и в позднейшие) времена прилагалось к обычной мирской биографии, например к биографиям Плутарха.
513
См.: Любарский 1975, с. 114—139; Он же 1978, с. 130—151.
514
Scripta minora. Milano, 1941, 2, ер. 224, p. 267.
515
Ср.: Любарский 1975, с. 131—132.
516
Там же, с. 139—140, прим. 53.
517
Там же, с. 132.
518
Там же, с. 125.
519
Там же, с. 133.
520
Там же, с. 131.
521
Пселл 1969, с. 145—147, специально с. 147; пер. Т. А. Миллер.
522
Любарский 1975, с. 125.
523
Там же.
524
Пселл 1969, с. 147.
525
Ср. главу «Византийская «дружба» и личность писателя» в монографии Я. Н. Любарского (с. 117—124), где красноречиво описан характерный для Пселла примат приватных обязательств над какими бы то ни было общими принципами. «Личные связи и обусловленные ими услуги для Пселла значат больше, нежели строгое исполнение служебного долга» (с. 121). «Пселл и его ближайшее окружение жили в определенном нравственном климате со своими этическими нормами и категориями. Сострадание, душевная мягкость, прощение человеческих слабостей, нравственная гибкость — таков ряд этических категорий, исповедуемых писателем» (с. 123). Именно это и говорит Пселл весьма недвусмысленно в случае Итала: как бы ни был неправ Итал перед риторикой, он (помимо своей правоты перед философией) прав уже одним тем, что пошел в ученики и друзья к Пселлу.
526
Правда, там есть еще фраза: «Пусть и Итал получит право быть своеобразным, пусть и он, и всякий другой ученик мой сохраняют, полагаю я, им одним присущие черты» (Пселл 1969, с. 147; пер. Т. А. Миллер). Но, во–первых, фразой этой не «заканчиваются рассуждения об Итале», она не имеет ударного положения в конце речи, но более проходное — в середине; во–вторых, она обесценена тем, что сразу же за ней следует процитированный нами и действительно заканчивающий речь пассаж о «родительских» чувствах Пселла, по причине которых самое уродливое порождение может рассчитывать на любовный прием; в–третьих, в самой фразе речь идет не об ораторах вообще, но об учениках Пселла, т. е. не о правах стилиста как творца, а о снисходительности, благожелательности, даже покладистости и попустительстве Пселла как учителя — и отнюдь не без иронии.
527
Любарский 1975, с. 125.
528
Там же.
529
Горгий 1939, с. 440.
530
Anacreontica L, 2.
531
Мы имеем в виду весь состав метафорики «Горгия» в целом, где на одном полюсе выстраиваются образы, характеризующие обольстительную приятность риторики (красноречие как «поварское дело для души», 465 Е; ораторы как «льстивые угодники», 466 В и т. д. и т. п.), а на другом со всей резкостью (καίει άγροικότερον τις ειπείν έστι) речь идет о скрепляющих и связующих рассуждение «железных и адамантовых доводах» (λόγοι 509 А). Далек ли отсюда путь до фразы Пселла?
532
По крайней мере, за вычетом чисто механических перелицовок, эксцерп- тов, парафраз и прямо-таки заимствований чужих текстов, каковых у Пселла весьма немало; но последние — например пересказы Гермогена и Дионисия Гали- карнасского, о которых говорится в цитированной выше статье Я. Н. Любарского, с. 114—115, — входя в пселловский корпус, не представляют собой продуктов собственного творчества Пселла. Поэтому мы позволили себе говорить обо «всем Пселле», не имея в виду этой части корпуса.
533
Scripta minora, 2, ер. 38.
534
Любарский 1975, с. 135.
535
В обоснование некоторого скепсиса по отношению к паре понятий «спиритуализм — сенсуализм», употребляемых для описания византийского вкуса, см.: Аверинцев 1977, с. 291. прим. 18 со ссылкой на третью главу той же книги.
536
Scripta minora. Milano, 1936, 1, p. 102.
537
Любарский 1975, с. 135.
538
Причем топика полухвалебных, полуиронических превознесений выспренней духовности Мавропода встречается и в других письмах Пселла к этому лицу. Ср.: Любарский 1978, с. 40—48.
539
Например, к тому, что Мавропод — уже монах, а Пселл — еще мирянин: именно такую ситуацию предполагает большая часть их переписки.
540
Их принадлежность Николаю считается сегодня сомнительной, но возможной. См.: Hunger 1978, Bd. t, S. 92.
541
Walz ed. 1832, vol. 1, p. 335.
542
ibid., p. 341; 343.
543
Lenz 1964, S. 256—271.
544
Hunger. Op. cit., Bd. 2, S. 102—104.
545
Tuilier 1969.
546
В другом месте мы говорили в этой связи: «И ведь речь идет отнюдь не о маленькой словесной безделушке (например, эпиграмме), в тесных пределах которой хитроумный стилизатор еще может как-то вытравить все приметы времени; нет, «Христос–Страстотерпец» — весьма объемистое произведение, создавая которое, кажется, нельзя не выдать себя, не проявить вкусов своего века <…> Конечно, следует оговориться, что в состав трагедии «Христос–Страстотерпец» входит огромное количество стихового материала, принадлежащего не IV и не XII векам н. э., но V-III векам до н. э.; строчки, вынутые из текстов Эсхила, Еврипи- да, Ликофрона и без изменения вставленные в новую словесную постройку (как в архитектурное целое храма св. Софии Юстинианом включены были колонны старых языческих храмов). Но ведь если художественный организм может так легко принять в себя чужеродные тела, это само по себе о чем-то говорит» (Аверинцев 1973а, с. 154—155).
547
Sevcenko 1981, S. 305, Anm. 54.
548
Один из относительно благополучных случаев — «Житие Андрея Юродивого», применительно к которому датировки колеблются «всего» в пределах трех столетий — от VII в. (И. Шевченко, С. Манго) до X в. (Л. Риден).
549
Ср.: Beck 1974; Hunger 1978a; Sevcenko 1981, S. 199—312.
550
Ср.: Beck 1977, S. 30—33. Говоря о Византии, Бек решается довольно энергично переосмыслить понятие декаданса. «Слово «декаданс», если сообщить ему должную толику иронии, будет едва ли чем-нибудь иным, чем синонимом слова «история». Но история — действительный мир человека» (там же, с. 32).
551
Аверинцев 1973а, с. 153—154.
552
Любарский 1975, с. 121.
553
Лихачев 1964, с. 15.
554
Любарский 1975, с. 122.
555
Перевод эссе Пселла «Спросившему, кто лучше писал стихи, Еврипид или Писида», выполненный Т. А. Миллер, см.: Пселл 1975а, с. 171—174.
556
Любарский 1975, с. 121.
557
Ср. наст, изд., с. 146—157, особенно с. 148.
558
Meyer 1905, Ср. также: Wilamovvitz-Moellendorf, Krumbacher и. a. 1905, S. 213— 214; Dihie, Halpom 1978, S. 38-^12.
559
Norden 1898; Schmid 1959.
560
Ср.: Ziel/nski 1904; Bomecque 1907.
561
Orat., 212—219; De orat., Ill, 173—198.
562
Византийские филологи и грамматики создали немалую литературу по теории метрики. Они неутомимо перерабатывали, пересказывали и разъясняли эксцерпты из «Всеобщего учения о просодии» грамматика II в. Геродиана и из трактата «О метрах» его современника Гефестиона (на основе последнего было создано известное в Византии «Руководство», возможно, восходящее к авторскому извлечению); широко известен был комментарий Георгия Хировоска (VIII в.) к Гефестиону. Михаил Пселл описывал свойства ямбического триметра в дидактическом стихотворении, Тавулярий Критский (XII в.) — в целой небольшой поэме; стихи с такой же тематикой создавали также братья Иоанн и Исаак Цецы (XII в.), Триха (то же время) и др. Темы этих сочинений — είδη и πάθη гекзаметра и т. п. — унаследованы от античной науки. Вне поля их зрения остается не только, как уже было сказано, весь мир новых поэтических ритмов, основанных на силлабике и экспираторном ударении, но и круг явлений в традиционной метрической просодии, стоящих под знаком компромисса между метрикой и тоникой.
Еще в V в., в преддверии византийской эпохи, Нонн преобразовал гекзаметр, резко ограничив употребление ставших непонятными для уха спондеев и сделав в конце стиха обязательным совпадение стихового «икта» и тонического ударения. В этом же направлении пошла метаморфоза другого классического размера, удержавшего свои позиции в византийской поэзии, — ямбического триметра: вытеснению спондеев там отвечало полное элиминирование так называемого распуще- ния долгот, а в конце стиха тоже воцаряется парокситональная клаузула (в наших терминах — женская). Иной клаузулы византийская светская поэзия вообще не знает (см.: Hunger 1978, Bd. 2, S. 91). Однако все эти новые правила, поведшие к существенной трансформации традиционных метров — настолько существенной, что современные исследователи предпочитают говорить не о византийском ямбическом триметре, а о «византийском двенадцатисложнике» как особом силлабическом размере, лишь развившемся из триметра, — не учитываются византийскими компендиями по метрике. Авторы последних предпочитают делать вид, что ничего не произошло. Михаил Пселл в своем синкрисисе Еврипида и Писиды отмечает, правда, что «размеры и ритмы от времени приобрели тысячи особенностей» (пер. Т. А. Миллер), но говорит об этом весьма невразумительно; у нас даже нет полной уверенности, что эти слова действительно относятся к византийскому состоянию традиционных метров, а не воспроизводят какое-то наблюдение, сделанное еще в позднеантичную, если не в эллинистическую эпоху. Во всяком случае, современным исследователям судеб античных размеров в византийской литературе приходится обойтись без всякой помощи византийских теоретиков стиха; и это обстоятельство симптоматическое.
563
Spengel-Hammered. 1894, vol. 1, p. 208, 1.
564
Как известно, слово «катена» (по–латыни «цепь») применяется к определенному типу сводного комментария на библейские книги, известному и в Византии, и на средневековом Западе. О рукописной традиции комментирования текстов Гермогена см.: Hunger 1978, Bd. 1, S. 80.
565
См. заметку «Суды» о Гермогене.
566
Этот позднеантичный ритор, как известно, поразил воображение своих современников необычайно ранним расцветом своего декламационного дарования — в пятнадцать лет он уже выступал перед императором Марком Аврелием, — а также быстрым упадком этого дарования еще в молодые годы. О его теоретических взглядах см.: Ciockner 1901; Hagedom 1964. Ср.: Radermacher 1912, col. 865—877.
567
См.: Stegemann 1932, col. 1975—1986.
568
См.: Ciockner. Op. cit., p. 26—44.
569
Холодный тон Филострата, рассказывающего в «Жизнеописаниях софистов» о карьере Гермогена как вундеркинда–декламатора (см. выше прим. 98), но даже не упоминающего о его творчестве как теоретика; полученное Гермогеном в мире риторских школ прозвище ξοστήρ — «чесун», или «скребница», во всяком случае нечто непочтительное («Суда», та же статья); обилие раздраженных выпадов против коллег у самого Гермогена — все это наводит на мысль, что при жизни Гермогена и сразу после его смерти его влиятельности мешали личные его конфликты с профессиональной средой. Но чем дальше в прошлое отходила эпоха Гермогена, тем меньше могло нерасположение к его личности влиять на отношение к его наследию; время неуклонно работало на него.
Любопытно отметить, что популярность Минукиана в близких ему поколениях тоже, по–видимому, стимулировалась личными причинами: как родич Плутарха Херонейского, он был воплощением того, что Плиний Младший в известном письме к Максиму назвал «подлинной и беспримесной Грецией» (кн. VIII, 24, 2) в противоположность эллинизированному Востоку, и вдобавок состоял, так сказать, в родственных отношениях с афинской Академией, чтившей Плутарха; как преподаватель риторики в Афинах, занимавший там кафедру, учрежденную императором Адрианом, и, что немаловажно, как предок другого афинского преподавателя риторики — софиста Гимерия (IV в.), он был своим человеком и для афинских риторов, и для афинских неоплатоников, вообще для всей преподава- тельско–студенческой среды Афин, которая пользовалась для образованных людей империи таким престижем в годы учения Василия Великого, Григория Богослова и Юлиана Отступника, символом местного патриотизма этой среды. Но по мере того, как Византия становилась Византией, престиж Афин падал. В 529 г. Юстиниан закрыл афинскую Академию, между тем как риторика даже традиционно–языческого направления цвела к этому времени не в Афинах, а в Газе, на побережье Палестины. Пройдет еще несколько веков, и Иоанн Геометр напишет эпиграмму:
Кичитесь вашей древностью, афиняне, — Сократами, Платонами, Пирронами, И славьте с Эпикуром Аристотеля; А нынче вам остался лишь гиметтский мед, Да тени предков, да могилы славные; А мудрость — та живет в Константинополе. Время работало против Минукиана — в числе других причин еще и по этой.
570
Kustas 1973, р. 5—26.
571
Ibid., р. 12.
572
По свидетельству словаря «Суда», статья о Порфирии.
573
Кустас особо ссылается в этой связи на переоценку темноты слога (ασάφεια): см. место, процитированное в прим. 104. Действительно, Аристотель безоговорочно видел в ясности — «достоинство слога» («Риторика», кн. III, 2, 1404в2, «Поэтика», 22, 1458а18), а в неясности — его порок. Нельзя отрицать, что с позицией Аристотеля явственно контрастирует позиция многих византийских теоретиков риторики. Например, Иоанн Доксапатр (XI в.) заявляет: «Не всякая темнота есть уже и порок речи: часто она бывает, напротив, достоинством» (Walz ed., vol, 2, p. 226). Примерно поколением раньше (см.: Hunger 1978, Bd. 1, S. 83 u. Anm. 57—58) Иоанн Сикелиот говорил о «достохвальной темноте» έπαινουμένη ασάφεια (см.: Walz ed., vol. 6, p. 199).
Но причем здесь специально Гермоген? Кустас не приводит никаких данных, которые свидетельствовали бы, что византийская доктрина о темноте как достоинстве восходит именно к нему; гермогеновский список качеств речи, так называемых идей, открывается, как назло, упоминанием «ясности» и не содержит никакого упоминания «темноты».
И еще два замечания к критике концепции Кустаса, в которой интеллектуализм и рационализм Аристотеля характеризует античную риторику в целом, высказывания отдельных византийских теоретиков в пользу «темноты» характеризуют мистический дух византийской риторики тоже в целом, и начало господства последнего отождествляется с творчеством Гермогена. Во–первых, Аристотель — вовсе не нормальный представитель античной риторической традиции, а скорее выразитель протеста против нее; его риторика — это риторика философа, полемически противостоящая риторике риторов (ср. рассказ о его выпадах против Исок- рата). Отнюдь не для всех античных теоретиков ясность — это ценность превыше всех ценностей. Вот выхваченный наудачу пример из «Письма к Помпею» Дионисия Галикарнасского: «Третье по порядку — так называемая сжатость (συντομία). В этом, кажется, Фукидид превосходит Геродота. Мне могут возразить, однако, что сжатость хороша только в сочетании с ясностью, а без нее она вызывает досаду. Однако не будем думать, что стиль Фукидида от этого становится хуже (776, пер. О. В. Смыки, см.: Античные риторики, с. 229).
Не будем говорить о теории «возвышенного» у Псевдо–Лонгина, оставляющей весьма мало места для культа ясности любой ценой, потому что загадочный трактат неизвестного ритора I в. н. э., оказавший такое влияние на новоевропейскую эстетику, стоит в истории античной риторической традиции особняком; но самая возможность такого исключения о чем-то говорит. Во–вторых, что касается византийской риторики, то для нее реабилитация уместной темноты не особенно типична и отнюдь не идет рука об руку с мистическим настроением. Иоанн Геометр, Иоанн Доксапатр и Иоанн Сикелиот (кстати говоря, люди одной эпохи и представители одной традиции, поскольку Доксапатр в своем цитированном выше рассуждении прямо ссылается на Иоанна Геометра, да и Сикелиот, по–видимому, от него зависим, хотя по своему обыкновению не склонен говорить о своих источниках, — ср.: Hunger. Op. cit.) образуют компактную и малочисленную группу и не могут представлять византийской риторики в целом; и едва ли они более «мистичны», нежели патриарх Фотий, который был энергичным поборником ясности слога и, между прочим, укорял еретика и рационалиста (!) Евномия за злонамеренное пользование стилистическими темнотами (Bibliotheca, cod. 138, 98а5—11; Kustas. Op. cit., p. 139, η. 6).
574
Ср.: Лосев 1960, с. 379—398, специально с. 397—398.
575
Ср.: Kustas. Op. cit., p. 7, η. 2.
576
Schissel 1927. S. 372.
577
См.: Richter 1926, S. 164—165; Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 77.
578
Kustas. Op. cit., p. 11—12.
579
К понятию византийского синтеза, преобразовывавшего самое существо входивших в него элементов старой культуры, ср. нашу работу: Аверинцев 1977, с. 109—128, 142—144, 237—249 и др.
580
По этой причине Порфирий и неоплатоники афинской школы отвергали Гермогена; но даже приверженцы последнего из числа александрийских неоплатоников, включая Сириана, ощущали необходимость комментирующего исправления и дополнения Гермогена, которое выправило бы его дефиниции по нормам аристотелевской логики. Ср.: Richter. Op. cit., S. 164—165.
581
Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 81—82.
582
Brinkmann 1910, S. 617—626, Text 618; Zintzen 1967, S. 2—3.
583
Kustas. Op. cit., p. 19—20; Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 76. Если Хунгер сдержанно подвергает сомнению прогимназм, Кустас уверенно говорит об обеих первых частях гермогеновского сборника, как о «подложных попытках, с которыми имя Гермогена оказалось связанным в V в.». В научной литературе обсуждалась также возможность неподлинности трактата «О том, как достичь мощи».
584
Ср. прим. 98.
585
Сириан знает только три последние части гермогеновского сборника. См.: Kustas. Op. cit., p. 20.
586
См.: Walzed., vol. 5, p. 222—576; Hunger, Op. cit., Bd. 1, S. 79.
587
В частности, на так называемого Rhetor Monacensis, писавшего в XIV в. и исключительно высоко оцененного Г. Рабе (Rabe ed. 1926, p. XIX).
588
То есть совмещения «словесной хрии» (понятие, более или менее равнозначное понятию «гнома», а если и отличное от него, то по признакам, по–разному выделявшимся у разных теоретиков) и «деятельной хрии», где сентенция была заменена равнозначным ей, т. е. сугубо семпотизированным действием, поступком, многозначительным и «говорящим» жестом.
589
По типу «Диоген, увидев мальчика, чинившего безобразие, ударил его дядьку, примолвив: «Вот как ты его воспитываешь!»»(Walzed., vol. 1, p. 272—274).
590
По типу афористического стиха Еврипида: «Один совет сильнее многих рук» (Ibid., р. 278—279).
591
Ср. нашу статью «Древнегреческая поэтика и мировая литература» (наст, изд., с. 146—157, специально с. 152—153).
592
Ср.: Emesti 1795, р. 297.
593
Walzed., vol. 1, p. 235—239; Ibid., p. 44—47.
594
Ibid., p. 27—28; 35-^42; Ibid., p. 72—76 et 77—80; 86—92 et 93—97; cf.: Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 76.
595
Hunger 1978, Bd. 1, S. 76.
596
Наст, изд., с. 158—161; Awerintzew 1981, S. 9—14.
597
В наст. изд. с. 296—301.
598
Ср.: Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 76.
599
Kustas. Op. cit., p. 42, n. 1 ad p. 41. В подкрепление своей (отнюдь не бесспорной) характеристики положения вещей на латинском Западе Кустас ссылается на слова одного исследователя средневековой теории проповеди: «Самое богатое наследие, завещанное средневековой риторике античной эпохой, — это принцип употребления топоса, общего места, принцип художнического «нахождения» нужного довода, доводимого до нужной аудитории в нужных обстоятельствах» (Caipan 1933, р. 86).
600
См.: Рубцова 1986.
601
См.: Nadeau 1959, р. 51—71; Barwick 1964, S. 80—101.
602
Нам приходилось говорить выше (с. 270) о «возрастающем дроблении классификации типов риторической словесности».
603
Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 76.
604
Ср.: Нотте/ 1978, S. 134.
605
Kustas, Op. cit., p. 12—18.
606
Homme/. Op. cit., S. 134.
607
Как известно, термин «шероховатость» (τραχύτης) в греческой риторической традиции имеет отнюдь не порицательный смысл: в приложении к стилю он обозначает, по удачной формулировке А. А. Тахо–Годи, «суровую неприступность, нагроможденность и даже неотесанность каменных глыб» (Античные риторики, с. 335). Дионисий Галикарнасский в своем трактате «О соединении слов» так характеризует эту тенденцию: «…строгое построение имеет вот какой характер. Хочет оно, чтобы слова утверждались прочно, стояли крепко, чтобы каждое было видно издали и чтобы куски речи отделялись друг от друга заметными паузами. Столкновения шероховатые и противные слуху оно допускает нередко и относится к ним безразлично: так при кладке стен из отборных камней в основание кладут камни неправильной формы и неотесанные, дикие и необработанные. Оно любит растягиваться как можно шире за счет больших размашистых слов; а стеснять себя краткостью слогов ему противно, разве что по необходимости» («De compositione verborum», пер. Μ. JI. Гаспарова; см. в том же издании, с. 204). На идеал намеренной «шероховатости», каким его разработала греческая риторика, еще в пушкинскую эпоху ориентировались русские архаисты типа Кюхельбекера, протестуя против «приятности» и «гладкости» карамзинистов. Наиболее известные примеры намеренной и эстетически содержательной «шероховатости» в русской литературе последних веков: ода Радищева «Вольность», и прежде всего знаменитая строка «Во свет рабства тьму претвори»; «заржавленный» стих Вячеслава Иванова; «расскрежещенный» стих Маяковского.
608
Kustas. Op. cit., p. 13.
609
Hagedom 1964, S. 53.
610
Kustas. Op. cit., p. 14.
611
Platonis Timaeus, 28 c.
612
Rabe ed. 1913, vol. 6, p. 216, 16; cf. ibid., 217, 9.
613
Rabeed. 1935, vol. 14, p. 390, 12.
614
Пселл 1975, с. 165; пер. Т. А. Миллер.
615
Риторика, и в особенности грекоязычная риторика, рассматривает все сущее, так сказать, с презумцией изумительности, как качества, присущего любому ее предмету. Ритор принужден находить то, о чем он говорит, изумительным, иначе он просто не может говорить. Платон сказал, что удивляться — состояние, присущее философу (Platonis Theaetetus, p. 155d); но это состояние, столь же неизменно присущее ритору. Конечно, между философским и риторским родами изумления — огромная разница, едва ли не противоположность. Изумление философа эвристично и помогает делать мир более прозрачным; изумление ритора — патетическая осанка, помогающая делать мир более выразительным. В византийской культуре установка ритора на изумление перед своим предметом вступало в сложные отношения с принципиальным парадоксализмом христианской веры, о чем нам приходилось говорить в другом месте: Аверинцев 1977, с. 144.
616
Пселл 1975, с. 162.
617
Aristotelis Metaphysica, lib. XI, cap. t, 1059 b; пер. А. В. Кубицкого (см.: Аристотель 1976, с. 273).
618
Наст, изд., с. 151.
619
Говорить о том, что некое общее и фундаментальное явление человеческого бытия заново «открыто» в такую-то эпоху гуманитарным сознанием — это одно из самых неизбежных, но также из самых рискованных, чреватых опасностями, сомнительных утверждений, которые только может позволить себе историк культуры. Следовало бы каждый раз возможно скрупулезнее уточнять: «открыто» — для чего? для эмоционального обживания? для аналитической мысли? для какого именно уровня того и другого? В иных, негуманитарных областях понятие «открытия» обладает четким смыслом: хотя в Китае размножали книги полиграфическим способом до Гуттенберга, а викинги побывали на американском континенте до Колумба, всем ясно, что значит «открыть Америку» или «открыть книгопечатание». Но если Я. Буркхардт охарактеризовал в 1859 г. смысл Ренессанса как «открытие мира и человека», объем этого понятия заведомо неясен; каждая культурная эпоха и до Ренессанса, и после Ренессанса по–своему «открывала» и мир, и человека, только границы значения каждого из трех слов — «открытие», «мир», «человек» — для каждой эпохи иные. Если античная риторическая теория так много занималась — например, в лице Дионисия Галикарнасского — проблемой индивидуальной манеры (χαρακτήρ) того или иного аттического оратора, бесполезно говорить, что авторская индивидуальность не была ею «открыта» (ср. наши замечания: наст, изд., с. 28.). Этому нимало не противоречит, что реальность, отыскиваемая ею в феномене индивидуальной манеры, за ним, — всякий раз «абстрактно–всеобщая». Со времен Дионисия Галикарнасского и его византийских наследников до нашего времени литературная теория прошла очень длинный путь по направлению к индивидуально–конкретному, но было бы неправдивым отрицать, что в профессиональной жизни каждого из нас, литературоведов, бывают моменты, когда мы по совести должны были бы повторить о ком- либо из великих писателей, являющимся предметом наших занятий, слова Пселла о Григории: «Приемов, от которых у него обычно зависит неописуемая красота, я не могу уловить и только по неосознанному опыту сужу об этом…» (Пселл 1975, с. 165).
620
Любарский 1975, с. 125.
621
Там же (со ссылкой на работы Кустаса).
622
Это Метрофан из Эвкарпии Фригийской, Менандр Лаодикийский, Евагор и Акила (III в.), Тиранн, Юлиан, Сирикий из Неаполиса Самарийского (Наблуса), Павел Египтянин, упоминаемый «Судой», Епифаний Петрейский (IV в.). См.: Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 80.
623
Rabe ed. 1935, vol. 14, p. 171—183.
624
Ср.: Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 80, Anm. 34.
625
Rabe ed. 1892—1893, vol. 1—2.
626
Например, возникший в конце V в. или в начале VI в. комментарий египетского ритора Фебаммона на трактат Гермогена «О статусах».
627
Например, читанные в александрийской высшей школе лекции ритора Георгия Моноса с толкованиями на гермогеновский корпус (Codex Parisinus 2919). Из общего числа 54 лекций до сих пор опубликована только одна, да и то в сокращении: Schilling 1903, р. 671—676.
628
Ср.: Kustas. Op. cit., p. 19—20; Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 81—82 (в обоих изданиях — подробная библиография вопроса).
629
Ср., напр.: Липшиц 1961, с. 261—262 и др; Mathew 1963, р.122—123; Le- тег/е 1962, с. 7.
630
См.: List 1939.
631
Rabeed. 1928, vol. 15.
632
Kindters Literatur-Lexikon, S. 1509.
633
Ср.: Kustas 1962, p. 132—169; Ziegler 1941.
634
Kustas 1973, p. 20—21.
635
Эти натяжки в основном связаны с совершенно безнадежными попытками Кустаса отыскать и у Гермогена, и у Фотия позитивное отношение к отсутствию ясности (о чем шла речь выше, при обсуждении вопроса о соответствии между торжеством гермогеновской доктрины и неоплатонизмом).
636
Kustas 1973, р. 25, 35—36, 66, 139—140.
637
Photii Bibliotheca. 3ab, cod. 4—6.
638
Ibid., 6b, cod. 32.
639
Ibid., 67b, cod. 90.
640
Ibid., 96ab, cod. 128.
641
Это тема заключительной части заметки Фотия о Лукиане.
642
Напр., 15b, cod. 56; 94а, cod. 121; 94b, cod. 126; 117b, cod. 171, etc.
643
97b—98a, cod. 138.
644
Неоплатонический философ V в. Прокл воспринимается через семь веков Николаем Мефонским как живой противник; специальное сочинение Николая посвящено обстоятельному опровержению Прокловых «Основ богословия» (ср.: Podskalsky 1976). Своему еретическому оппоненту Сотириху Пантевгену Николай инкриминирует неоплатонические тенденции и с одобрением цитирует в полемике с ним аристотелевскую критику учения об идеях. Характерно, что богословская позиция Николая (прежде всего в его «Вопросах и ответах») выдает влияние Фотия. См.: ФЭ, т. 4, с. 71—72.
645
Характерна резкость, с которой Фотий высказывается о «крайнем нечестии», о «невозможных, недостоверных, дурно измышленных и вздорных бреднях» одного из последних неоплатоников, языческого мистика Дамаския (125Ь— 126а, cod. 181; 96а, 130). И то сказать, византийское тысячелетие, открывшееся борьбой между христианством и неоплатонизмом, завершается явлением Гемиста Плифона, выступившего против христианства во имя того же Платона; а в промежутке наиболее неблагонадежные для православия мыслители, как Иоанн Итал, Михаил Пселл, тот же Сотирих Пантевген — платоники. Православию пришлось анафематствовать ряд концепций платонизма, как-то: учение об идеях, о метемпсихозе и т. п. (см.: Успенский 1893, с. 14—18; Лосев 1930, с. 846—849), но не приходилось специально анафематствовать аристотелизм. «Церковь усвоила себе аристотелевское направление и с конца XI до конца XIV века поражала анафемой тех, кто осмеливался стоять за Платона» (Успенский 1892, с. 346).
646
Ср., напр., высказывания Дионисия Галикарнасского: «…когда же Платон безудержно впадает в многословие и стремится выражаться красиво, что нередко с ним случается, его язык становится намного хуже, он утрачивает свою прелесть, эллинскую чистоту и кажется более тяжелым. Понятное он затемняет, и оно становится совершенно непроглядным; мысль он развивает слишком растянуто; когда требуется краткость, он растекается в неуместных описаниях. Для того, чтобы выставить напоказ богатство своего запаса слов, он, презрев общепонятные слова в общеупотребительном смысле, выискивает надуманные, диковинные и устаревшие слова… Ребячливо и неуместно красуется он поэтическими оборотами, придающими его речи крайнюю нудность… Я осуждаю его за то, что он внес в философские сочинения выспренность поэтических украшательств в подражание Горгию, так что философские труды стали напоминать дифирамбы, и притом Платон не скрывает этот недостаток, а признает его…» (Ad Pompaeum. II, 759—760 и 764; пер. О. В. Смыки; см.: Античные риторики, с. 225—226). Поразительно содержательное и вербальное сходство этого пассажа с критикой стиля Евномия у Фотия: в обоих случаях идеал школьной правильности, меры, уместности, соразмерности, а прежде всего — ясности и толковости противопоставлен порицаемому «дифирамбу»: экстатичности, темноте, размытости граней между прозой и поэзией. Вот что мы видим: Фотий, самый значительный, самый характерный и самый влиятельный литературный критик Византии, подхватывает традицию именно этого — так сказать, трезвого — направления античной риторики; он энергично высказывается за чувство меры против безмерности, как это делал в свое время Дионисий Галикарнасский. Сходство усугубляется тем, что последний отстаивал от опасности «дифирамба» философскую прозу; Фотий делает то же самое с богословско–догматической прозой, явлением в жанровой плоскости очень близким. Об этой историко–культурной параллели стоит задуматься.
647
Arethae scripta minora, 87v, XXI (Westerink I, p. 2032–3). Памфлет Арефы против Льва Хиросфакта был в свое время издан по–гречески и переведен в СССР (Шан- гин 1945, с. 228—249). К сожалению, перевод оставляет желать лучшего (уверенность М. А. Шангина, что он издает текст, до него не издававшийся, также не вполне отвечала реальности. См.: Compemass 1912, S. 295—318. Однако заслуга Шангина, во всяком случае, состояла в том, что он привлек к памфлету Арефы внимание отечественной науки (ср.: История Византии, т. 2, с. 182 и 358—360; Фрейберг, Попова 1978, с. 29).
648
Arethae scripta minora, 91r, XXI (Westerink I, p. 21222).
649
Ibid., 88™, XXI (Westerink I, p. 20415-'6, 20429—2054).
650
Как известно, во времена Крумбахера некий доктор филологии из Бонна вопрошал, как вообще можно заниматься эпохой, в текстах которой предлог από употребляется с винительным падежом!
651
Диглоссия (двуязычие), характеризующая литературу и жизнь Византии и перешедшая в Новое время как борьба «кафаревусы» и «димотики», в конечном счете восходит ко временам второй софистики, когда в жизни господствовало койнэ, а в литературе искусственно реставрировался аттический диалект.
652
Krumbacher 1897, S. 663.
653
Hunger. Op. cit., Bd., S. 452—453.
654
Ср.: Ibid., S. 448—449.
655
Mango 1975, p. 5—6.
656
Amphilochia, 92, PG, 101, 585 A; 111, ibid., 653 D.
657
Bibliotheca, 170b, cod. 165 (речь идет о Гимерии).
658
Ibid., cod. 172—174. Ср.: Kustas 1973, p. 62.
659
Bibiioteca, 126a, cod. 181.
660
Ibid., 126ab, cod. 181.
661
Ibid., 156b, cod. 192(A).
662
Ibid., 156b—157a, cod. 192 (A).
663
Ibid., 157а, cod. 192(A).
664
Ср.: Аверинцев 1979, с. 41—81, особенно с. 61—67.
665
Об этом нам приходилось говорить дважды; см.: Аверинцев 1973, с. 98— 106 и наст, изд., с. 347—363.
666
См.: Podskalsky 1977.
667
ICor., I, 17.
668
Ύμνος Ακάθιστος, οίκος 9 (Tiypanis 1968, S. 36).
669
Rabe ed. 1935, ρ. 8012~16; ibid., p. 394,2–u.
670
Amphilochia, CIX, PG, 101, col. 697 D.
671
См.: Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 83—84.
672
Ср.: Κονρκούλας 1957.
673
См.: Hunger. Op. cit., Bd. 1, S. 85.
674
См.: Widmann 1936, S. 12—41; 241—286 (вступительная статья, критический текст, перевод и аналитический историко–литературный комментарий с разбором особенностей риторической практики).
675
Rhetorica I, 2, 1356b; И, 22, 1395b—1396а et passim.
676
Vitae sophistarum, praefatio, I, 1.
677
Ср.: наст, изд., с. 158—190.
678
1ST, VI, 204.205.207 (Widmann. Op. cit., S. 21).
679
«Любовь, что движет солнце и светила». Пер. М. Лозинского.
680
Максим Грек 1910, с. 142.
681
Киреевский 1911, с. 237.
682
Там же, с. 238.
683
Единственный пример сходного словоупотребления был подан в Англии, на которую столь часто оглядывались энциклопедисты: Ephraim Chambers, Cyclopaedia, v. I-II, 1728. Как известно, французская «Энциклопедия» родилась из более скромного замысла издателя Jle Бретона — переработать перевод труда Э. Чэм- берса. Обычным заглавием для энциклопедического издания в XVII и XVIII вв. было «словарь» (например, знаменитые «Dictionnaire historique et critique» П. Бейля, 1695—1697, и «Dictionnaire philosophique» Вольтера, 1764—1769) и «лексикон» (например, «Lexicon technicum» Гарриса, 1704).
684
De institutione oratoria, lib. I, с. 1, 10.
685
De comparatione verborum, 206; cf. delhucydide, 50 έγκύκλια μαθήματα — синоним εγκύκλιος παιδεία. Если верить Диогену Лаэртскому (lib. VII, с. 32) об εγκύκλιος παιδεία говорили уже во времена стоика Зенона, т. е. в конце IV в. до н. э.; неясно, однако, насколько достоверна информация Диогена и говорит ли она о наличии самого термина или только понятия. Ср.: Kiihnert 1961, S. 6—7.
686
Platonis Hippias minor, p. 368 bd; Protagoras 318 df; Hippias maior 285 b sgg.
687
Ср.: Koiier 1955, S. 174—189; Kiihnert. Op. cit., S. 7—18, где приведена дальнейшая библиография
688
Ср.: Wieland 1958, S. 323—342. Плутарх соединяет έγκύκλια καΐ κοινά как синонимы (De audiendo, с. 13, 45 е.).
689
D'Aiembert 1894.
690
Ср., напр.: Nestle 1931, S. 1—22; Amim 1916; Geffcken 1923, S. 15—31; Saitta 1938.
691
Сопоставление Руссо с Сократом лежало на поверхности. Достаточно вспомнить стихи молодого Шиллера на могилу Руссо (1781).
692
Представление о некоей симметрии между фигурами Платона и Канта тоже лежит на поверхности. Вот несколько примеров, взятых наугад. «Относительно вопроса о началах и сущности науки вся история философии разделяется на две неравные эпохи, из которых первая открывается Платоном, вторая — Кантом» (Юркевич 1865, с. 323). «Основоположное философское открытие сделано Платоном и Кантом…» (Бердяев 1947, с. 15). «Оба были узловыми пунктами, в которых сходились и из которых расходились философские течения… Платон и Кант относятся между собою, как печать и отпечаток; все, что есть у одного, есть и у другого» (Флоренский 1977, с. 126). «Что касается Платона, то его скорее можно сравнить с Кантом… Платон, как и позднее Кант, дал философское обоснование математики» (Гайденко 1979, с. 98 и 99).
693
Pantagruel, chap. 20 (ed. par L. Moland, p. 168).
694
«La Raison par alphabet». Gen6ve, 1769; Dictionnaire philosophique, ou La Raison par alphabet. Londres, 1770.
695
Liguori 1753—1755; Delerue 1929.
696
Diderot 1962.
697
Ranae, 1477—1478:
τίσ οιδεν ει το ζην μέν έστι κατθανείν, τό πνεΐν δε δειπνεΐν, τό δε καθεΰδειν κώδιον;
(Кто знает, быть может, жить — то же, что умереть, дышать — попойка, а почить — овчинка?)
В стихах 1080—1082 той же комедии Еврипид укоряется за то, что через своих персонажей подал гражданам и специально гражданкам примеры крайнего кощунства: «и рожать в святилищах, и любиться с родными братьями, и говорить, что жизнь — это не жизнь» (ού ζην τό ζην).
698
По другому чтению — «у смертных».
699
Fragm. 639 Nauck (cf. fragm. 830 Nauck).
700
Отрицание наивного равенства себе понятий жизни и смерти, игра мысли и игра слова вокруг этого отрицания — это распространенное «общее место». В разрыве инерции общепринятого были заинтересованы не только рационалисты, но также их наиболее крайние противники — мистики, тоже склонные к установке на разоблачение видимости и вскрытие парадоксального несоответствия между ней и сущностью, на отталкивание от естественного восприятия вещей. Яркий пример — слова Хуана де ла Крус: «mueroporquenomuero», т. е. «я умираю от того, что не умираю» (смысл — отсутствие физической смерти составляет преграду на пути к вечной жизни и постольку является в некотором смысле духовной смертью; см.: Spanish Verse, p. 182—185; иногда стихотворение приписывается Тересе из Ави- лы). Цветаева хорошо знала цену высокой риторике. В ее «Новогоднем» сказано: «…Значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть…» Позднее она оспаривала старое общее место: «…И что б ни пели нам попы,// Что смерть есть жизнь, и жизнь есть смерть…»
701
Epitres, CIV. A I'auteur du livre des Trois Imposteurs, v. 22.
702
Ср.: Панченко 1980, с. 144—162.
703
Diets 1922, Bd. II, Kritias В 25, S. 319—321.
704
Как известно, еще в 1740 г. пожелания, исполненные в дальнейшем изданием «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера, были высказаны главой парижской масонской ложи герцогом Д'Антеном; издатель Jle Бретон, приступивший к организационной работе, также был членом ложи. См.: Venturi 1963.
705
Wieland 1799.
706
Имеются сведения, что первоначально И. Шиканедер, автор либретто, наделял двух главных магов оперы иными характеристиками; в это легко поверить: добро и зло здесь нетрудно поменять местами.
707
Textes choisis de ίEncyclopedic.
708
Licurgus, с. 6, 9, 43d; с. 27; Numa, с. 4; с. 8, с. 15.
709
Ср.: Momigliano 1975, р. 92—95, 120—122.
710
См.: Мелетинский 1982, с. 25—28 (имеется дальнейшая библиография).
711
Numa, с. 4 (Плутарх 1961, т. 1, с. 81).
712
«…On a besoin d'un Dieu que parle au genre humain» («Нужен Бог, который говорил бы к роду человеческому»), — сказано в поэме Вольтера о лиссабонском землетрясении.
713
«Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла быть вместе с тем и принципом всеобщего законодательства» (Кант 1897, с. 38. Этот перевод точнее нового).
714
Один пример из многих — те дерзкие предположения об устройстве космоса, характерные для поздней схоластики, которые подготавливали исподволь новую картину мира, но имели эмпирической исходной точкой догмат о всемогуществе Божием.
715
Нам приходилось говорить об этом в другом месте; см.: Аверинцев 1976а, с. 23—27.
716
Впрочем, мы слишком легко забываем об определенных зонах средневековой литературы, где античные жанровые формы сохранялись и воспроизводились с замечательной верностью; достаточно вспомнить явление латинского овидианст- ва во Франции XI-XII вв. Инвариантом в составе античной, средневековой, ре- нессансной и барочной литератур была жанровая форма эпиграммы (ср.: наст, изд., с. 158—190).
717
Точнее: средневековая литература была таковой в той мере, в которой она сознательно строила себя и воспринималась в качестве художественной литературы (см. наст, изд., с. 154—155, прим. 1).
718
Ср. наст, изд., с. 147—148.
719
Этому общему положению не противоречат черты нового, выявлявшиеся у мыслителей вроде Буридана (см. выше прим. 32), Как бы значительны они ни были, они до поры до времени остаются на периферии.
720
Norden 1898, Bd. 2.
721
Уместно вспомнить семантическую амплитуду слова λόγος от бытового λόγον διδόναι «давать отчет» до λογική «логика».
722
«Вся философия есть «критика языка» »(Витгенштейн 1958, с. 44, § 4.0031).
723
Сюда же относится, конечно, грамматическая наука. Достаточно упомянуть учебник Дионисия Фракийца (2–я пол. II в. до н. э.).
724
«Всякое определение и всякая наука имеют дело с общим» («Aristotelis Metaphysica», lib. XI, с. 1, р. 1059Ь25, пер. А. В. Кубицкого. Аристотель 1976, с. 273).
725
Ср. наст, изд., с. 158—190.
726
Ср.: Dempf 1964.
727
«Thomae Aquinatis Summa theologiae», p. 1, q. 2, 3 с.
728
«Aristotelis Metaphysica», lib. XII, c. 7, p. 1072b.
729
Ibid, р. 1073а.
730
См.: Аверинцев 1984, с. 48—49.
731
Рафаэль дважды изобразил именно такой диспут на двух фресках Станца делла Сеньятура: один раз это диспут теологов, другой раз («Афинская школа») — философов. На третьей его фреске в этом же зале («Парнас») изображено вневременное состязание поэтов.
732
Dante 1962, v. 3, p. 351 (Appendix DC: Astronomy in Paradise).
733
«Apulei Florida», 20.
734
Нам приходилось говорить об этом в другом месте; см. наст, изд., с.357—359.
735
Maistre 1837, р. 124—125 (9–me entretien).
736
Hieron. ер. XXII, 30.
737
Petrarca 1906, р. 79.
738
Daniel 1862, р. 266:
Ad Maronis mausoleum Ductus, fudit super eum
Piae rorem lacrimae; Quern te, inquit, reddidissem, Si te vivum invenissem, Poetarum maxime!
739
Иная точка зрения — У Α. X. Горфункеля (Горфункелъ 1977, с. 72): «Подобная «христианизация» языческого мыслителя означала высшую меру оправдания. Данте избавил античных поэтов и мудрецов от адских мучений. Петрарка готов включить их в свой «пантеон»». «Пантеон» — в данном контексте слишком сильное слово: сказать, что если бы языческий мудрец ознакомился с христианством, он признал бы его превосходство над своей мудростью, — не совсем то, что поставить его мудрость наравне с христианством или хотя бы в один ряд с ним. Но самый важный практический вопрос при выяснении историко–культурной специфики Петрарки как человека Ренессанса сравнительно с его средневековыми предшественниками — это вопрос о том, как выглядит данное место на фоне аналогичных мест христианской литературы предыдущих эпох. К сожалению, в талантливой книге Α. X. Горфункеля он даже не ставится: отсчет ведется прямо от Данте.
740
Lagardeed. 1881.
741
Hieron. ер. LIV, 7.
742
August, ер. CLXTV, 4.
743
Lact. Inst, dtv., IV, 24.
744
Tert. De anima, 20.
745
Bar/owed. 1938.
746
Hieron. Deviris illustr., 12.
747
Лосев 1930, с. 804: «Платонизм есть философия монашества и старчества. Монашество и старчество — диалектически необходимый момент в платоновском понимании социального бытия».
748
Например, в своем учении о брачной верности, требуемой не только от женщины, но и от мужчины, и притом таким образом, что знать в своей жизни только одну женщину, — для него не просто долг, но счастье (Cato iunior, 7, 3).
749
«Quant au Ciceron, je suis du jugement commun que, hors la science, il n'y avait pas beacoup d'excellence en son ame: il etait bon citoyen, d'une nature debonnaire, comme sont volontiers les hommes gras et gausseurs, tel gu'il etait; mais de molesse et de vanite ambi- tieuse, il en avait, sans mentir, beaucoup» (Essais, 11, 10).
750
Lact. Inst, div., VI, 18.
751
Lact. Inst, div., Ill, 25.
752
August. Confessiones, III, 4.
753
Petrarca. Op. cit., p. 98.
754
Пер. Φ. Φ. Зелинского (Зелинский 1922, вып. 1, с. 37).
755
Tusc., V, 2, 5.
756
Cicero ар. Lact. Inst, theol., Ill, 14.
757
Lact. Inst, theol., Ill, 14.
758
Cic., De orat., Ill, 21, 79—80, пер. Φ. А. Петровского (см.: Цицерон 1972, с. 220—221).
759
Именно снят, хотя известен и поставлен; именно таково соотношение между двумя посланиями Петрарки к Цицерону.
760
Об этом автору приходилось говорить в статье «Древнегреческая поэтика и мировая литература» (см. наст, изд., с. 146—157).
761
Ср. наши замечания по этому поводу: Аверинцев 1979, с. 41—-81, особенно с. 62—65.
762
«Риторика» Аристотеля начинается с фактического приравнивания риторики тому, что Аристотель называет диалектикой (Rhet. I, 1, 1354а). О риторических занятиях неоплатоников см.: Kustas 1973, р. 6–12, 19–26, 86—95, 174—179 а. о.
763
Plut. Pericl., 2, I, p. 153a.
764
Luc. Somnium, 8,11.
765
Petrarca. Op. cit., p. 112.
766
Важен не только и не столько тот случайный факт, что книга Витрувия оказалась в исключительном положении единственного дошедшего от античности и освященного авторитетом античности пособия по архитектуре. Такая роль принадлежала ей уже во времена так называемого каролингского Возрождения, когда ее прилежно изучали; но только благодаря Ренессансу книга Витрувия для барокко и классицизма перешла от статуса практического пособия к статусу некоего культурного символа, духовной ценности, значимость которой не ограничена профессиональными рамками.
767
Ср. Аверинцев 1973, с. 167 и прим. 33 на с. 255.
768
Hist. Nat., XXXV, 36, 1.
769
Hist. Nat., XXXV, 36, 2.
770
Hist. Nat., XXXV, 36, 3.
771
Hist. Nat., XXXV, 36, 5.
772
Hist. Nat., XXXV, 36, 10.
773
Hist. Nat., XXXVI, 4, 4.
774
Vasari 1896, p. 489.
775
Ibid., p. 942.
776
Deorat., I, 10, 40.
777
Deorat., I, 23, 106.
778
De orat., Ill, 2, 6.
779
Inst, orat., II, 16, 17.
780
Inst, orat., IV, 1, 70.
781
Inst, orat., X, 1, 83.
782
De arte poetica, 400 etc.
783
Цицерон называет Платона «как бы неким богом философов» (Denat. deor. II, 12, 32); еще более яркий пример — поэтическое обожествление Эпикура у Лукреция.
784
Обычно divus, но также divinus princeps, например, в панегирике Назария Константину Великому, XXXV, 3. В самом центре мира поздней античности стоят фигуры мудреца и монарха, как образы соотносительные и как раз поэтому соперничающие; уже на пороге эпохи стоит многозначительный «агон» легендарной встречи Александра и Диогена.
785
Ср.: Burckhardt 1908, S. 180.
786
A. Politiani epigrammata latina, LXXXVI (МагиПо, Poliziano, Sannazzaro 1976, p. 82).
787
Thlto 1878, p. 2.
788
Trist., IV, 10, 1.
789
«Leviorum artium studium».
790
См.: Tatarklewicz 1962.
791
Elegantiae Linguae Latlnae, praef.
792
Dolci 1557, p. 164.
793
Vasari. Op. cit., p. 343.
794
Florida, 9, 32 Oudenorp.
795
Dionis or. XII.
796
Enneades, V, 8, 40.
797
Orator, 2, 8.
798
Dionisor, XII, 70—71.
799
Ср. Брагинская 1981, с. 224—289; Она же 1976, с. 146—149.
800
Deorat., I, 166—203.
801
Florida, 20.
802
Пер. Б. JI. Пастернака.
803
Перевод выполнен по изданиям: Aristote/es 1877, 1959и 1976.
804
При ссылках на эти статьи указываются только страницы настоящего издания.