Приложение для Apple и Android
Полностью бесплатно
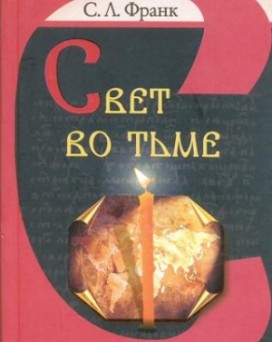
По своему внешнему облику мое размышление носит характер богословского трактата. Я хотел бы предупредить читателя, что — худо ли это или хорошо — этот внешний облик не вполне соответствует внутреннему существу моей мысли. Правда, всем моим умственным и духовным развитием я был приведен не только к высокой оценке традиционной христианской мысли, но и к признанию абсолютной истинности Христова откровения; и я пришел к убеждению, что все бедствия человечества имеют своим последним источником уже давно происшедший и все углубляющийся отрыв его от христианской традиции и что, напротив, все лучшие и высшие упования человечества, разумно осмысленные, суть лишь выражения исконных требований христианской совести С другой стороны, однако, я боюсь и не хочу быть богословом — не только потому, что по своему образованию и духовному складу я не богослов, а свободный философ, но и потому, что не могу преодолеть ощущения, что всякому отвлеченному догматическому богословию присуща опасность какого–то греховного суесловия. По глубокому, истинно религиозному замечанию Гёте, «о Боге можно, собственно, говорить только с Богом». Реальность Бога и Божьей правды открывается нам только в духовном опыте молитвенной обращенности к Богу; и когда сам Бог говорит нам через глубины нашего духа, можно только либо смолкать в трепете покаяния, либо пророчествовать, но нельзя рассуждать. И хотя по свойству нашего ума мы вынуждены логически осмысливать этот опыт, но всякой такой попытке выразить его в системе отвлеченных понятий грозит опасность оторвать содержание религиозной истины от его живого опытного корня, заменить подлинную веру чисто умственным построением. К тому же религиозный опыт неотделим от жизненного опыта, от судьбы — от личной судьбы каждого из нас в отдельности и от судьбы поколения или эпохи — во всем ее трагизме и несовершенстве, во всей ее фрагментарности и смутности. Бог узнается только в трагическом борении и в муках человеческого существования; это хорошо выразили такие одинокие мыслители нового времени, как Паскаль и Кьеркегор. Этому резко противоречит претензия на законченность, так сказать, самоуверенность всякой объективной богословской системы. И хотя мы понимаем, что опыт всего человечества — а для христианина это значит: опыт христианской церкви — богаче и глубже нашего личного опыта и что мы можем и должны учиться из него, но и истины, отсюда извлекаемые, становятся существенными для нас, лишь сопоставленные с нашим опытом и на нем проверенные; ни на мгновение мы не должны отрываться от внимания к тому, что Бог говорит непосредственно нам и теперь. Иначе наша вера легко вырождается в то, что можно назвать богословской псевдоверой, — в чисто умственное или даже словесное утверждение того, во что мы, собственно, не верим, а только хотим верить. При всем необходимом уважении к религиозной мудрости прошлого, к «вере отцов», мы должны остерегаться, как бы оно не увлекло нас на почитание Бога устами, а не сердцем, на подмену Божьей правды «учениями, заповедями человеческими».