Приложение для Apple и Android
Полностью бесплатно
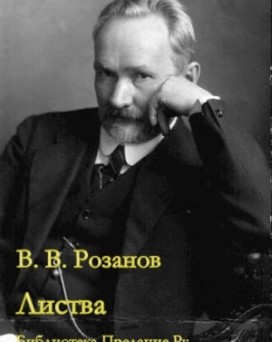
В «Плане полного собрания сочинений», составленного В. В. Розановым в 1917 г. есть такой пункт: «Серия VIII.Листва. т. 39—41. Уединенное, Опавшие листья. Смертное, Сахарна, Новые опавшие листья и проч.» Т. е. эта часть Полного собрания сочинений Розанова должна была объединить работы Розанова в жанре «Листьев».
В этой книге мы попытались осуществить задумку Василия Розанова. Сюда вошли: «Эмбрионы», «Новые Эмбрионы», «Уединенное», «Опавшие листья», «Опавшие листья. Короб второй и последний», «Смертное», «Сахарна» («Перед Сахарной», «Сахарна», «После Сахарны», записи не вошедшие в основной текст «Сахарны»), «Мимолетное. 1914 год», «Мимолетное. 1915 год», «Последние листья. 1916 год», «Последние листья. 1917 год» и «Апокалипсис нашего времени» (весь корпус, а не только «классическая версия»).
Несколько знаменитых розановских листьев:
«Куприн, описывая «вовсю» публ. д., — «прошел», а Розанов, заплакавший от страха могилы («Уед.»), — был обвинен в порнографии.»
* * *
«Почему я так не могу перенести смерти? перенести не вечности радостей земных.
Цари умирали. Умер Александр III. Почему же я не могу перенести?
Не знаю. Но не могу перенести. «Я умру» — это вовсе не то, что «он умрет». С «я умру» сливается (однокачественно) только…. умрет; даже чудовищнее: п. ч. я грешный.
Да, вот в чем дело: для всего мира я тоже — «он умрет», и тоже — «ничего».
Каждый человек только для себя «я». Для всех он — «он». Вот великое solo. Как же при этом не зареветь с отчаянием.»
* * *
«Ты не прошла мимо мира, девушка… Ты испуганным и искристым глазком смотрела на него. Задумчиво смотрела… И сердце стучало. И ты томилась и ждала. И шли в мире богатые и знатные. И говорили речи. Учили и учились. И всё было так красиво… И тебе хотелось подойти и пристать к чему-нибудь… Но никто тебя не заметил и песен твоих не взяли. И вот ты стоишь у колонны. Не пойду и я с миром. Не хочу. Я лучше останусь с тобой. Вот я возьму твои руки и буду стоять. И когда мир кончится, я всё буду стоять с тобою и никогда не уйду.»
* * *
«Nihil в его тайне. Чудовищной, неисповедимой… Тьма истории. Всему конец. Безмолвие. Вздох. Молитва. Рост… Ах: так вот откуда в Библии так странно, ‘концом на перед’, изречено: ‘и бысть вечер (тьма, мгла, смерть) и бысть утро — День первый’. Строение Дня и вместе устройство Мира. Боже. Боже… Какие тайны. Какая Судьба. Какое утешение. А я-то скорблю, как в могиле. А эта могила есть мое Воскресение.»
* * *
«Как не целовать руку у Церкви, если она и безграмотному дала способ молитвы: зажгла лампадку старуха темная, старая и сказала: «Господи помилуй» (слыхала в церкви, да и «сама собой» скажет) — и положила поклон в землю.
И «помолилась» и утешилась. Легче стало на душе у одинокой, старой.
Кто это придумает? Пифагор не «откроет», Ньютон не «вычислит».
Церковь сделала. Поняла. Сумела.
Церковь научила этому всех. Осанна Церкви, — осанна как Христу — «благословенна Грядущая во имя Господне».»
* * *
«Нагими рождаемся, нагими сходим в землю.
Что же такое наши одежды?
Чины, знатность, положение?
Для прогулки.
День ясный, и все высыпали на Невский. Но есть час, когда мы все пойдем «домой». И это «домой» — в землю.»
* * *
«Философы, да и то не все, говорили о Боге. О бессмертии души учил Платон. Еще некоторые. Церковь не «учила», не «говорила», а повелевала верить в Бога и питаться от бессмертия души… Она несла это Имя, эту Веру, это Знамя без колебания со времен древних и донесла до наших времен. О сомневающемся она говорила: «Ты — не мой». Нельзя представить себе простого дьячка, который сказал бы: «Может быть, бессмертия души и нет»… Сумма учений Церкви неизмерима сравнительно с платоновой системой. И так все хлебно, так все просто. Она подойдет к роженице. Она подходит ко гробу. Это нужно.Вот нужного-то и не сумел добавить к своим идеям Платон».»
* * *
«Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали. Миллион лет прошло, пока моя душа выпущена была погулять на белый свет, и вдруг бы я ей сказал: ты, душенька, не забывайся и гуляй «по морали». Нет, я ей скажу: гуляй, душенька, гуляй, славненькая, гуляй, добренькая, гуляй, как сама знаешь. А к вечеру пойдешь к Богу. Ибо жизнь моя есть день мой, и он именно мой день, а не Сократа или Спинозы.»
* * *
Даже не знаю, через»h»или»е»пишется»нравственность»
И кто у нее папаша был — не знаю, и кто мамаша, и были ли деточки, и где адрес ее — ничегошеньки не знаю.
* * *
«Заботится ли солнце о земле?
Не из чего не видно: оно ее «притягивает прямо пропорционально массе и обратно пропорционально квадратам расстояний».
Таким образом, 1-й ответ о солнце и о земле Коперника был глуп.
Просто — глуп.
Он «сосчитал». Но «счет» в применении к нравственному явлению я нахожу просто глупым.
Он просто ответил глупо, негодно.
С этого глупого ответа Коперника на нравственный вопрос о планете и солнце началась пошлость планеты и опустошение Небес.
«Конечно, — земля не имеет об себе заботы солнца, а только притягивается по кубам расстояний».
Тьфу.»
* * *
«Я мог бы наполнить багровыми клубами дыма мир… Но не хочу.
[«Люди лунного света» (если бы настаивать): 22 марта 1912 г.].
И сгорело бы все… Но не хочу.
Пусть моя могилка будет тиха и «в сторонке».
(«Люди лун. св.», тогда же).»
* * *
«С выпученными глазами и облизывающийся — вот я.
Некрасиво?
Что делать.»
* * *
«При этом противоречия не нужно примирять: а оставлять именно противоречиями, во всем их пламени и кусательности. Если Гегель заметил, что история все сглаживает, что уже не «язычество» и «христианство», а Renaissance, и не «революция» и «абсолютизм», а «конституционный строй», то он не увидел того, что это, собственно, усталая история, усталость в истории, а не «высший примиряющий принцип», отнюдь — не «истина». Какая же истина в беззубом льве, который, правда, не кусается, но и не доит. Нет: истина, конечно, в льве и корове, ягненке и волке, и — до конца от самого начала: в «альфе» вещей — Бог и Сатана. Но в омеге вещей — Христос и Антихрист.
И признаем Одного, чтобы не пойти за другим. Но не будем Сатану и Антихриста прикрывать любвеобильными ладошками.
Противоречия, пламень и горение. И не надо гасить. Погасишь — мир погаснет. Поэтому, мудрый: никогда не своди к единству и «умозаключению» своих сочинений, оставляй их в хаосе, в брожении, в безобразии. Пусть. Все — пусть. Пусть «да» лезет на «нет» и «нет» вывертывается из-под него и борет «подножку». Пусть борются, страдают и кипят. Как ведь и бедная душа твоя, мудрый человек, кипела и страдала. Душа твоя не меньше мира. И если ты терпел, пусть и мир потерпит.
Нечего ему морду мазать сметаной (вотяки).»
* * *
«Метафизика живет не потому, что людям «хочется», а потому что самая душа метафизична.
Метафизика — жажда.
И поистине она не иссохнет.
Это — голод души. Если бы человек все «до кончика» узнал, он подошел бы к стене (ведения) и сказал: «Там что-то есть» (за стеной).
Если бы перед ним все осветили, он сел бы и сказал: «Я буду ждать».
Человек беспределен. Самая суть его — беспредельность. И выражением этого и служит метафизика.
«Все ясно». Тогда он скажет: «Ну, так я хочу неясного».
Напротив, все темно. Тогда он орет: «Я жажду света».
У человека есть жажда «другого». Бессознательно. И из нее родилась метафизика.
«Хочу заглянуть за край».
«Хочу дойти до конца».
«Умру. Но я хочу знать, что будет после смерти».
«Нельзя знать? Тогда я постараюсь увидеть во сне, сочинить, отгадать, сказать об этом стихотворение».
Да. Вот стихи еще. Они тоже метафизичны. Стихи и дар сложить их — оттуда же, откуда метафизика.
Человек говорит. Казалось бы, довольно. «Скажи все, что нужно».
Вдруг он запел. Это — метафизика, метафизичность.»
* * *
Приснилась мне глубокая, глубокая зима, какая-то не местная, а планетная. Полное безмолвие, и темь, и пустынность. Однако сказать, что это умерла земля, — нельзя было. Умерли как бы мои чувства в отношении к земле, но чувства опять же одной определенной категории и в одном направлении ползущие; и тотчас, как они погасли, мне показалось, что и категория земных явлений, обнимаемых этим чувством, тоже исчезла. Но сама-то земля другими своими категориями жила, шумела, и даже, пожалуй, более, чем прежде. Но мне-то до этого шума не было дела, и все направление моего ума сосредоточилось на одной точке, «которой нет больше». Что-то такое жалкое и темное и вместе злое стояло в моей душе. «Грустно. Но пускай будет еще грустнее, и когда будет совсем грустно, даже страшно: тогда-то и будет великолепно». И вот мне стало сниться, что я бреду, ненужный и среди ненужного.
* * *
И соскальзывает сердце мое с острой иголки христианства.
П. ч. я не хочу страдать. О, не хочу, не хочу. Так страшно.
И отваливает от цветка язычество.
П. ч. я не хочу Победы.
Что же я? Кто я?
Я в тенях. Вижу христианство и подаюсь в язычество.
Вижу язычество и бросаюсь к христианству.
Испуган. Да. Вот сердце мое — в испуге.
И бьется оно. Умирает. И никак не может умереть. И все ищет воскресения.
Я в полусне и в полувоскресении. И кто хватает меня, говоря, вот ты где? — он уже находит «совсем другого Розанова».