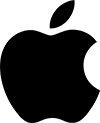Приложение для Apple и Android
Полностью бесплатно

Уильям Шекспир (1564-1616) — почти с полной уверенностью величайший драматург мира. Человек биография, которого до сих не может оставить многих в покое. Достаточно вспомнить два хрестоматийных события жизни Шекспира: браконьерство в юности и его завещание, по которому своей жене он оставил… кровать. До сих пор многие и многие с упорством, достойным лучшего применения, доказывают, что пьесы Шекспира написал не он. Об этом хорошо писал Юрий Домбровский: «. Шекспир же живет в мире людей. Он очень крепкий и хороший современник своей эпохи, — его весомый, грубый, зримый след проходит по нотариальным и судебным актам, по купчим крепостям и регистрам книгопродавцев (вот тут мы благодарны Уилсону). Он запечатлен в отзывах друзей и недругов, в списке ролей, в скорбном и таком человечном документе — завещании и, наконец, в тихой книге мертвых — в метриках собора св. Троицы, где он был сначала крещен, а потом похоронен. Но самое главное, он нам оставил около сорока больших произведений, и каждое из них мог написать только человек с его биографией. Вчитываясь в них, мы узнаем, как с годами менялся автор, как, пылкий и быстрый в юности, он взрослел, мужал, мудрел, как восторженность сменялась степенностью, разочарованием, осторожностью и как все под конец сменилось страшной усталостью.
Словом, весь жизненный путь Шекспира прослеживается по его книгам. И этот путь настолько прост и достоверен, что любой миф, самый убедительный и расчетливо построенный, неизбежно разлетается при столкновении с этой горькой действительностью. Мастера Шекспира не смешаешь ни с одним из его сиятельных двойников. Они все, выражаясь словами самого же Шекспира, сделаны из того вещества, из которого состоят сны. […] Великий человек умирает. Помимо его книг от него остаются дела, портреты, воспоминания и часто документы, остаются анекдоты и сплетни о нем короче, остается модель человека, как ее воспроизвели современники и соглядатаи его жизни, его нравственный костяк. Эту модель можно признать примерно точной или не признать совсем, но вовсе отмахнуться от нее нельзя. Она существует, и все. Это, собственно говоря, не человек и даже не представление о человеке — это посмертный суд над ним.
Очень мало великих людей оказалось вне этого суда, — это те, о которых вообще ничего не известно — ни истории, ни сплетникам.
Шекспир как раз такой. Это тот нечастый случай, когда писатель оставляет биографа наедине с самим собой. Опереться не на что, документы двусмысленны, а все — даже, казалось бы, самые интимные и личные произведения при ближайшем рассмотрении очень мало дают для разгадки личности автора.
Образ простого, работящего, неутомимого, скромного труженика оказался непостижимым и недостижимым для исследователей и литераторов, как одна из величайших загадок человеческого бытия, и горе, поистине горе тому биографу, который не поверит в простоту и неисчерпаемое богатство обыкновенной человеческой души. Он так никогда ничего и не поймет в Шекспире, не свяжет гения с его произведениями.»
О Шекспире как писателе, возможном только в христианскую эпоху много писали. Приведем лишь две цитаты на этот счет.
Дэвид Харт в «Красоте бесконечного» пишет: «Если бы мы пожелали вникнуть в то, как христианская культура повлияла на трагедию, то нам следовало бы поразмышлять над Королём Лиром. Если б Король Лир был аттической трагедией, она, пожалуй, закончилась бы в пустоши, на пике безумия протагониста и в точке его максимального и самого демонического (то есть облагораживающего) отчаяния, в коем он достиг бы полного исчерпания страсти. Разумеется, не было бы странного и прекрасного воссоединения с Корделией, изобилующего образностью воскресения и разговорами о прощении, так как эта сцена примерения (устремленная к эсхатологической надежде) делает последующую смерть Корделии более ужасной, чем что-либо, возможное в аттической трагедии: как раз потому, что зрителю дается проблеск радости – которую бессильна омрачить трагическая мудрость, — радости возвращения любимого человека, — следующая за этим смерть видится как нечто абсолютно бессмысленное, безобразное, не сообщающее никакой мудрости, сопротивляющееся всякому встраиванию в какую бы то ни было метафизическую схему умопостигаемости или утешения. Стоит отметить также, что Шекспир опять и опять возвращался к этому мотиву утраченной и вновь обретенной дочери в «проблемных» и «романтических» пьесах – в Перикле, Цимбелине и (особенно волнующе) в Зимней сказке, но всегда уже помещая в конец пьесы «воскресение».»
У. Х. Оден, великий английский поэт, в своих лекциях о Шекспире, в частности писал: «Шекспир, как и все мы, обладает душевным складом христианина. Можно до хрипоты спорить о том, во что именно верил Шекспир, но его понимание психологии основано на христианских допущениях, которые одинаковы для всех людей. Все люди равны не с точки зрения их способностей, а с точки зрения присущей каждому свободы выбора. Человек подвержен искушениям, его поступки и страдания помещены во время — среду, в которой он осуществляет свой потенциал. Неопределенность времени означает, что последствия событий также не окончательны. Добрые могут пасть, злые — раскаяться, а страдание может обернуться возмездием или даже триумфом. Языческое понятие середины как идеала исчезает. Человек должен обладать беспредельным порывом к добру или злу. Древнегреческий идеал «среднего» обращает человека в приспособленца, вроде Розенкранца и Гильденстерна. Нехристианские посылки подразумевают, во-первых, что характер определяется рождением или средой, и, во-вторых, что человек может стать свободным через знание и что тот, кто познал добро, возжелает творить добро. Знание, как убедились елизаветинцы, лишь усиливает опасность. В чистом виде поиск свободы через знание — довольно редкое явление, и сомнительно, что его можно непосредственно изобразить средствами драматургии, однако елизаветинцы были зачарованы этой темой и ее связью с христианским понятием acte gratuit. Интерес к искушению знанием подвиг Шекспира на развитие образа негодяя — от традиционного, всем знакомого Ричарда III до неузнаваемого Яго. Остальные елизаветинцы остановились на персонажах, подобных Ричарду III и Арону-мавру. Третья нехристианская посылка состоит в восприятии Бога как карающего судьи, вследствие чего успех считается добром, а неудача — злом, а для прощения или жалости не остается места. В современных книгах персонаж всецело подчинен обстоятельствам, что порождает мечту о человеке-ангеле, могущество которого запредельно. Кроме того, современные книги часто отражают веру в то, что успех тождественен поступательному движению истории, а значит и справедливости.
Как трагедии, так и комедии Шекспира обращены к идее первородного греха и к неискоренимой склонности человека питать иллюзии, причем опаснейшая из них состоит в видимости свободы от иллюзий, то есть в кажущейся бесстрастности. В комедиях персонажи переходят от иллюзии к реальности. Комедии начинаются с прустовской иллюзии, но не останавливаются на этом. Действие находит разрешение в браке, в котором иллюзии, по большей части, исчезают, а то, что от них осталось, отныне воспринимается как часть действительности. Комедии Шекспира содержат картины страданий, но эти пьесы отличаются от классической или джонсоновской комедии, в которой люди смеются над горбунами и другими несчастными. У Шекспира вы страдаете вместе с персонажами, пока не поймете, как осознали они, что их страдания происходят из самообмана.
В трагедиях трясина самообмана затягивает персонажей все глубже, пока они не уподобляются Тимону и Яго, которым кажется, что они возвысились над иллюзиями. Трагическая вина шекспировского героя состоит не в гибрис, не в античном представлении о том, что с вами не может произойти ничего плохого, а в гордыне и тревоге, происходящих из недостаточности, в решимости обрести самодостаточность. Естественная реакция естественного человека на сложные ситуации может проявиться как цинизм Макиавелли, как римский стоицизм Сенеки или как скептицизм Монтеня. Невозможно доказать, разделял ли Шекспир какие-либо из этих воззрений, и говорить об этом можно разве что в отрицательном смысле. На закате дней Шекспир, быть может, чуть приоткрывает свои карты, так как драматург, в той или иной мере, отражает интеллектуальные веяния эпохи. Однако драматургическое несовершенство таких пьес, как, скажем, «Гамлет» и «Троил и Крессида», показывает, что хотя скептицизм Гамлета и цинизм Терсита могли выражать настроения века, сами персонажи жестоко страдали от этих качеств. Монтень был безмятежен в тиши библиотеки, но скептицизм Гамлета — это мука ума, а цинизм Терсита — мятеж ума, так что эти состояния не могут служить для них пристанищем. При встрече с циником Шекспир чаще всего снабжает вас списком причин, призванных объяснить отношение персонажа к жизни и показать, что циник не вполне безучастен. Нигилизм Глостера в начале «Короля Лира» происходит из его дурных поступков, о которых нам становится известно.»