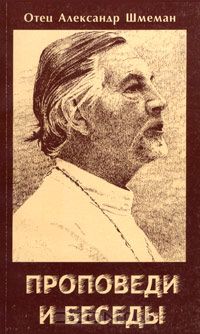Проповеди и беседы
I. ЦИКЛ БЕСЕД О МОЛИТВЕ ГОСПОДНЕЙ «ОТЧЕ НАШ…»
1
Христос оставил людям только одну молитву, которая поэтому называется обычно «молитвой Господней». Когда ученики сказали Ему: «Научи нас молиться» (Лк. 11:1), Он в ответ дал им следующую молитву: «Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки веков. Аминь» (Мф. 6:9—13).
Эта молитва Господня безостановочно повторяется вот уже две тысячи лет. Нет часа, буквально нет минуты, чтобы в какой–нибудь точке земного шара люди не произносили ее, не повторяли те самые слова, которые когда–то произнес Сам Христос. И нет поэтому лучшего пути к уразумению самой сущности христианской веры и христианской жизни, как эта такая короткая и на первый взгляд такая простая молитва. Но, по–видимому, не такая уж простая на глубине, если не раз просили меня объяснить ее.
Я начну это объяснение с того, что скажу прежде всего о неисчерпаемости ее смысла, о невозможности дать ей одно, окончательное и исчерпывающее объяснение. Как и Евангелие, молитва «Отче наш» всегда обращена к каждому из нас по–новому, и обращена так, что кажется только для каждого из нас — для меня, для моих нужд и моих вопросов и для моих исканий — составленной. И одновременно она вечна и неизменна в своей сущности и всегда зовет нас к главному, последнему, высшему.
Чтобы услышать молитву Господню и войти в нее, нужно прежде всего преодолеть в себе ту внутреннюю рассеянность, ту раздробленность внимания, ту духовную расхлябанность, которой мы почти всегда живем. Пожалуй, самое страшное в нас, что мы всегда прячемся от всего слишком высокого и духовно значительного. Мы как бы подсознательно выбираем быть мелкими и поверхностными: так легче жить. (Помните, у Толстого, в «Анне Карениной», образ Свияжского, который как будто все понимал и мог рассуждать обо всем, но как только разговор доходил до главного, до последних вопросов о смысле жизни, что–то в нем закрывалось, и за эту защитную черту он никого уже не пускал. Это подмечено Толстым с гениальной верностью.)
Действительно, так много внутренних усилий в нас направлено именно на то, чтобы заглушить внутренний голос, зовущий к встрече лицом к лицу с главным.
Так вот, необходимо хотя бы самое минимальное усилие, чтобы войти в тот лад, в тот строй, в то устроение души и духа, в которых эта молитва всех молитв не только начинает как бы звучать, для нас звучать, но и открывается во всем глубочайшем значении и становится насущной потребностью, пищей и питием для души.
Так вот, соберемся, как хорошо говорят, с духом и начнем. Начнем с обращения, с этого короткого, одновременно и призыва, и утверждения: «Отче наш».
Первое, что открывает Христос тем, кто просит научить Его молиться, первое, что оставляет Он им как некий бесценный дар, и утешение, и радость, и вдохновение, — это возможность Бога назвать Отцом, узнать Его как Отца.
Чего только не думал человек о Боге, каких только теорий не создавал! Он называл Его — Абсолют, Первопричина, Господь, Вседержитель, Творец, Мздовоздаятель, Бог и т. д., и т. д. И в каждой из этих теорий, в каждом из этих определений есть, конечно, и доля истины, и подлинный опыт, и глубина созерцания. Но вот одно слово «Отец» и прибавленное к нему — «наш» включает в себя все это и одновременно раскрывает это как близость, как любовь, как единственную, неповторимую и радостную связь.
«Отче наш» — тут и знание о любви, и ответ на любовь, здесь уже опыт близости и радость этого опыта, здесь вера делается доверием, зависимость претворяется в свободу, близость, раскрывается как радость. Это уже не домыслы о Боге, это уже знание Бога, это уже общение с Ним в любви, в единстве и доверии. Это уже начало знания вечности. Ибо сам Христос сказал: «Сия же есть жизнь вечная да знают Тебя» (Ин. 17:3).
Это обращение, следовательно, не только начало, но и основа всей молитвы, то, что делает все другие прошения ее возможными и наполняет их смыслом. Христианство есть в самом глубоком и первичном смысле этого слова религия отцовства, и это значит, что оно основано не на домыслах разума и не на доказательствах философии, а на опыте любви, которую мы ощущаем изливающейся на нашу жизнь, и на опыте любви личной.
Все это сказано, все это заключено, все это живет в начальном обращении молитвы Господней: «Отче наш». И сказав это, мы прибавляем: «иже еси на небесех» — «который на небе». И этим самым вся молитва (а в молитве и вся наша жизнь) обращена ввысь, поднята к небу, ибо небо, конечно, — то вертикальное измерение жизни, та обращенность человека к горнему и духовному, которую так страстно ненавидят, над которой так плоско издеваются все сторонники сведения человека к одному животному и материальному.
Это не физическое или астрономическое небо, как стараются всегда доказать казенные пропагандисты безбожия, — это небо как высший полюс человеческой жизни: «Отец, сущий на небе». Это вера человека в распростертую над миром и весь мир пронизывающую Божественную Любовь. И это вера в мир как отражение, отсвет, отблеск этой любви, это вера в небо как конечное призвание славы и достоинства человека, как его вечный дом.
Радостным утверждением всего этого, радостным призывом ко всему этому начинается молитва, которую Сам Христос оставил нам как выражение Богосыновства. «Отче наш, иже еси на небесех».
2
За радостным, торжественным и любовным обращением: «Отче наш, иже еси на небесех», следует первое прошение, и оно звучит так: «Да святится имя Твое». О чем же молимся мы, чего просим, чего хотим, произнося эти слова? Что значит святить Имя Божие?
Я убежден, увы, что большинство верующих, говоря это, попросту не задумываются об этих словах. Что же касается неверующих, то они, наверное, только лишний раз пожимают плечами на это непонятное и таинственное словосочетание: «Да святится имя Твое».
Святым, священным издревле называл человек то, что он признавал стоящим над собой как высшую ценность, требующую почитания, признания, восхищения, благодарности, но вместе с тем и притягивающим к себе, вызывающим стремление к обладанию и близости. Мы говорим о священном чувстве Родины, о священной любви к родителям, о священном трепете перед красотой, совершенством, прекрасным. Священное — это, следовательно, высокое, чистое, требующее напряжения всего самого лучшего, лучших чувств, лучших стремлений, лучших надежд в человеке. И особенность того, что мы называем священным, в том как раз и заключается, что оно требует от нас внутреннего признания самоочевидным свободным требованием; не только просто признания, но и действий, но и жизни, согласной с этим признанием. Признание того, что дважды два — четыре, или того, что вода закипает при такой–то температуре, не делает нас ни лучше ни хуже; в таком признании сходятся праведник и негодяй, глупый и умный, исключительный человек и посредственность. Но вот если открылось нам священное в виде будь то красоты, будь то нравственного совершенства, будь то глубинной интуиции в сущность мира и жизни — открытие это немедленно чего–то требует от нас, что–то совершает в нас, куда–то нас зовет, обязывает, влечет.
Об этом так прекрасно и вместе так просто писал Пушкин в своем знаменитом стихотворении «Я помню чудное мгновенье…». Поэт забыл «виденье», порыв «бурь мятежных» «рассеял прежние мечты», но вот, пишет Пушкин, «душе настало пробужденье, и вот опять явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и Божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь». Здесь описывается опыт священного как красоты. Этот опыт меняет всю жизнь, наполняет ее, как говорит Пушкин, и смыслом, и вдохновением, и радостью, и Божеством.
Религиозный опыт есть опыт священного в его самом чистом виде. Каждый, кому так или иначе дан этот опыт, знает, что он пронизывает всю жизнь, требует изменения и внутреннего преображения. Но он знает также и то, что стремление это наталкивается на инертность, слабость, мелочность нашего существа, и прежде всего на тот почти инстинктивный испуг человека перед священным, то есть возвышенным, чистым и Божественным, испуг, о котором я говорил в прошлой моей беседе. Сердце и душа как будто ранены этим священным, в них зажигается вдохновение — это стремление сделать всю жизнь сообразной с ним. Но вот, как говорит апостол Павел, находим мы в себе закон, противоборствующий этому стремлению (Рим. 7:23).
«Да святится имя Твое» — это вопль человека, увидевшего и познавшего Бога и знающего, что только тут, в этом видении, в этом знании — и подлинная жизнь, и подлинное вдохновение, и подлинное счастье.
«Да святится имя Твое» — пусть все в мире, прежде] всего моя жизнь, мои дела, мои слова будут отражением этого священного и небесного имени, которое открылось и даровано нам. Пусть станет снова жизнь восхождением к свету, трепетом, хвалой, силой добра. Пусть наполнено будет все Божественным смыслом и Божественной любовью.
«Да святится имя Твое» — это также и вопль о помощи в этом трудном подвиге восхождения и преображения, ибо со всех сторон обнимают нас и в нас самих одолевают тьма, злоба, мелочность, поверхностность, суета. За каждым взлетом следует падение, за каждым усилием — такой припадок слабости и уныния, как горестно сказал когда–то Тютчев: «Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет — и не может…».
Опыт священного — это таинственное «прикосновение мирам иным», это «мимолетное виденье чистой красоты» — не легче, а труднее делает жизнь, и подчас завидовать начинаешь людям, просто и бодро живущим, погруженным и в суету, и в мелочи жизни, без всякой внутренней борьбы. Однако только в этой борьбе исполняет человек по–настоящему свое высокое призвание, только тут, в этом усилии, в этих подъемах и падениях может почувствовать себя человеком.
И вот обо всем этом — первое прошение молитвы Господней. Такое короткое, такое одновременно и радостное, и трудное: «Да святится имя Твое».
Все лучшее во мне не только произносит эти слова, но и подлинно живет ими, все во мне хочет новой жизни, жизни, которая светилась бы и горела, как священное пламя, сжигая всю нечистоту, все недостойное данного мне видения, тянущее меня вниз. Боже мой, как трудно это прошение, какое бремя возложил на нас Христос, оставив его нам, открыв нам, что в нем единственно достойная и потому наипервейшая молитва наша к Богу! Как редко мы произносим эти слова, сознавая все это, и все–таки хорошо, что повторяем их снова и снова.
Ибо только пока звучит в мире это «Да святится имя Твое», пока не забыты эти слова, не может окончательно расчеловечиться человек, до конца изменить тому, к чему призван и для чего создал его Бог…
«Да святится имя Твое».
3
Второе прошение молитвы Господней звучит так: «Да приидет Царствие Твое». Как и по поводу первого прошения: «Да святится имя Твое», уместно задать вопрос: что вкладывает в эти слова человек, христианин, верующий, произносящий эту молитву, на что, к чему направлены в эту минуту его сознание, его надежда, его желание? Я боюсь, что на вопрос этот ответить так же трудно, как и на предыдущий — о первом прошении.
Когда–то, на самой заре христианства, смысл этого прошения был прост, вернее, оно воплощало, выражало в себе, можно сказать, главное в вере и надежде христиан. Ибо достаточно один раз прочитать Евангелие, чтобы убедиться в том, что понятие Царства Божия стоит в самой сердцевине проповеди и учения Христа. Пришел Иисус, проповедуя Евангелие Царствия, и сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17). О Царстве Божием почти все притчи Христа. Он сравнивает его с сокровищем, ради приобретения которого человек продает все, что у него есть; с зерном, из которого вырастает тенистое дерево; с закваской, которая поднимает все тесто.
Всегда и всюду это — одновременно таинственное и притягивающее обещание, возвещение, приглашение в Царство Божие. «Ищите же прежде Царства Божия» (Мф. 6:33), да будете «сынами Царствия» (Мф. 13:38). И потому, может быть, самое удивительное в длинной истории христианства, что это сердцевинное, центральное понятие, это сердцевинное содержание евангельской проповеди нам сегодня приходится как бы заново разгадывать, словно мы забыли или потеряли его где–то по дороге. Но как же молиться нам о Царстве Божием, как говорить и Богу и себе: «Да приидет Царствие Твое», если мы сами не знаем хорошенько, что значат эти слова?
И трудность здесь состоит прежде всего в том, что в самом Евангелии это понятие Царства как бы двоится. С одной стороны, оно как будто отнесено к будущему, к концу, к запредельному; оно как будто соответствует тому, что всегда говорят о христианстве его враги — пропагандисты безбожия, а именно — что христианство центр тяжести полагает в каком–то другом, неведомом нам загробном мире и поэтому равнодушным оказывается к злу и несправедливости этого мира, христианство–де есть религия одного потустороннего. А если так, то молитва «Да приидет Царствие Твое» есть молитва о конце мира, о его исчезновении, молитва о наступлении как раз вот этого потустороннего, загробного царства.
Но почему же тогда Христос говорит и о том, что Царство приблизилось, на вопросы своих учеников отвечает, что оно посреди них и внутри них? Не указывает ли это на то, что понятие Царства не может быть просто отождествлено с потусторонним миром, имеющим наступить в будущем, после катастрофического конца и обрыва этого нашего земного мира?
Тут–то и подходим мы к самому главному. Ибо все дело в том, что если разучились мы понимать Евангелие Царства и не знаем толком, о чем молимся, произнося слова молитвы Господней: «Да приидет Царствие Твое», то это потому, конечно, что забываем и почему–то не слышим их во всей полноте. Мы всегда начинаем с себя, с вопросов о себе, даже так называемый «верующий» человек очень часто кажется заинтересованным в религии только постольку, поскольку она отвечает на его вопросы о себе — бессмертна ли моя душа, неужели со смертью все кончается или, быть может, есть что–нибудь там, за страшным и таинственным прыжком в неизвестность?
Но Евангелие говорит не об этом. Оно называет Царством встречу человека с Богом, Который есть подлинная и Жизнь всякой жизни, Который есть Свет, Любовь, Разум, Мудрость, Вечность. Оно говорит, что Царство приходит и начинается тогда, когда человек встречает Бога, узнает Его и с любовью и радостью отдает себя Ему. Оно говорит, что Царство Божие приходит тогда, когда моя жизнь до краев наполняется этим светом, этим знанием, этой любовью. И оно говорит, наконец, что для человека, пережившего эту встречу и наполнившего свою жизнь этой Божественной жизнью, все, включая саму смерть, открывается в новом свете, ибо то, что он встречает, и то, чем наполняет свою жизнь здесь, сейчас, сегодня, и есть сама вечность, ибо есть Сам Бог.
О чем же мы молимся, когда произносим эти действительно единственные во всем мире слова: «Да приидет Царствие Твое»? О том, прежде всего, конечно, чтобы произошла эта встреча, сейчас, здесь и сегодня, чтобы в этих обстоятельствах, в этой моей будничной и трудной жизни прозвучало это: «Приблизилось к вам Царство Божие», и чтобы засияла моя жизнь силой и светом Царствия, силой и светом веры, любви и надежды. О том, далее, чтобы и другие, и все, и весь мир, так очевидно лежащие и пребывающие во зле, в тоске, в страхе и суете, увидели бы и восприняли этот свет, воссиявший в мире две тысячи лет назад, когда на далекой окраине Римской империи прозвучал тот одинокий, но доселе звучащий голос: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3:2). О том еще, чтобы помог нам Бог не изменять этому светлому Царствию, не отпадать от него все время, не погружаться в затягивающую нас тьму, и о том, наконец, чтобы пришло оно, это Царство Божие, в силе, как говорит Христос.
Да, в христианстве есть всегда устремление к будущему, ожидание любимого, надежда на конечное торжество на земле и на небе: «Да будет Бог все во всем» (1 Кор. 15:28), «Да приидет Царствие Твое». Это даже не молитва, это ритм сердцебиения у каждого, кто хоть раз в жизни увидел, почувствовал, полюбил свет и радость Царства Божьего и кто знает, что оно есть и начало, и содержание, и конец всего, что живет.
4
«Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли» (Мф. 6:10) — пусть будет Твоя воля на земле, как и на небе. Таково третье прошение молитвы Господней.
Прошение это из всех кажется самым простым, самым понятным. Действительно, если верит человек в Бога, казалось бы, он, очевидно, и подчиняется воле Божией, и принимает ее, и хочет, чтоб воля эта царствовала вокруг него, на земле, как предположительно царствует она и на небе. На деле же, конечно, мы имеем дело здесь с самым трудным из всех прошений.
Я сказал бы, что именно это прошение: «Да будет воля Твоя», заключает главное мерило веры, мерило, позволяющее нам отличать, в себе прежде всего, конечно, подлинную веру от неподлинной, подлинную религиозность от поддельной. Почему? Да потому что на деле даже верующий человек слишком часто, если не всегда, от Бога, о Котором он говорит, что верит в Него, хочет, и ждет, и просит исполнения своей, именно своей, а совсем не Божьей воли. И больше того, только для этого, только поэтому и верит, или говорит, что верит в Бога. И лучшее доказательство этому — Евангелие, рассказ о жизни Христа.
Не ходят ли поначалу за Христом несметные толпы народа? И не потому ли ходят, что Он исполняет как раз их волю? Исцеляет, помогает, утешает… Но как только Он начинает говорить о главном, о том, что человек должен отказаться от себя, если он хочет следовать за Ним, о том, что нужно любить врагов и полагать жизнь свою за братьев, как только учение его становится трудным, возвышенным, призывом к жертве, требованием невозможного, как только, иными словами, Христос начинает учить о том, что есть воля Божия, люди оставляют Его, бросают Его, больше того, оборачиваются к Нему злобой и ненавистью. Это улюлюкание толпы у креста, этот неистовый вопль: «Распни, распни Его!» (Лк. 23:21) — разве не потому он, что не исполнил Христос воли людей?
Они хотели только помощи и исцелений, а Он говорил о любви и прощении. Они хотели от Него освобождения от врагов и поражения врагов, а Он говорил о Царстве Божием. Они хотели, чтобы Он исполнил их обычаи и привычки, а Он нарушал их, ел и пил с мытарями, грешниками и блудницами. Разве не тут, в этом разочаровании во Христе, корень и причина измены Иуды? Иуда ждал, что Христос исполнит его волю, а Христос вольно отдал Себя на поругание и смерть.
Это все описано в Евангелии. Но и потом, на всем протяжении двухтысячелетней истории христианства, вплоть до наших дней, разве не видим мы все то же самое? Чего мы все вместе и каждый из нас в отдельности хотим и ждем от Христа? Признаемся — исполнения нашей воли. Мы хотим, чтобы Бог обеспечил нам наше счастье. Мы хотим, чтобы Он поразил наших врагов. Мы хотим, чтобы Он исполнил наши мечты и чтобы нас признал хорошими и добрыми. И когда не исполняет Бог нашей воли, мы возмущаемся и негодуем и готовы снова и снова отказываться и отрекаться от Него.
«Да будет воля Твоя», — но на деле мы разумеем: «Да будет воля наша», и поэтому это третье прошение молитвы Господней есть прежде всего некий суд над нами, над нашей верой.
Действительно ли хотим мы Божьего? Действительно ли желаем принять то трудное, возвышенное, так часто кажущееся нам невозможным, чего требует от нас Евангелие? И это прощение есть также проверка нашего желания и устремления в жизни: чего я хочу, что составляет главную, последнюю ценность моей жизни, где то сокровище, про которое сказал Христос, что где оно, там будет и сердце наше (Мф. 6:21)?
И если история религии, история христианства полна измен, то измены эти не столько в грехах и падении людей, ибо согрешивший всегда может раскаяться, падший всегда может подняться, больной всегда может выздороветь. Нет, гораздо страшнее эта постоянная подмена воли Божией нашей волей, моей волей, или, можно сказать, нашим своеволием. Из–за этой подмены и религия становится нашим эгоизмом, и тогда она заслуживает обвинения, которое направляют на нее ее враги. Тогда она становится псевдорелигией, и, пожалуй, нет на земле ничего более страшного, чем именно псевдорелигия. Ибо она, эта псевдорелигия, и убила Христа.
Его предали на смерть, и распяли, и издевались над Ним, и хотели Его уничтожения люди, искренне считавшие себя религиозными. Но одни из них видели в религии национальное превозношение, и Христос был для них опасным революционером, говорившим о любви к врагам; другие видели в религии только чудо, только силу, и для них висящий на кресте, окровавленный и нищий Человек был позором для религии; третьи, наконец, были разочарованы в Нем потому, что Он учил их не тому, что они хотели услышать. И так, повторяю, продолжается всегда, и потому это третье прошение молитвы Господней: «Да будет воля Твоя», — так бесконечно важно.
«Да будет воля Твоя». Это значит прежде всего: дай мне силы, помоги мне понять, в чем Твоя воля, помоги мне преодолеть ограниченность моего ума, моего сердца, моей воли, чтобы различить Твои, пускай и непонятные для меня, пути, помоги мне принять все трудное, все то, что мне кажется невыносимым и невозможным в Твоей воле, помоги мне, иными словами, захотеть того, чего хочешь Ты.
И тут–то и начинается для человека тот узкий путь, о котором говорил Христос. Ибо стоит только захотеть этого Божьего, трудного и высокого, как отворачиваются от нас люди, изменяют друзья, и человек оказывается одиноким, гонимым и отвергнутым. Но это всегда признак того, что человек принял волю Божию, и это всегда обещание того, что увенчает этот трудный и узкий путь победа — не человеческая, временная и преходящая победа, а победа Божья.
5
«Хлеб наш насущный даждь нам днесь» (Мф. 6:11). Таково четвертое прошение — о хлебе насущном. Насущный в переводе со славянского значит — существенный, необходимый для жизни. И потому это слово также переводилось как ежедневный, нужный нам каждый день. Если первые три прошения относились к Богу, были нашим желанием, чтобы святилось Его Имя, наступило Его Царство, совершилась не только на небе, но и на земле Его воля, то теперь, с этим четвертым прошением, мы как бы переходим к нашим собственным нуждам, начинаем молиться о себе. Под хлебом в этом прошении разумеется, конечно, не только хлеб как таковой, и даже не только пища, но и все то, что нам нужно для жизни. Все то, от чего зависит наша жизнь, наше существование на земле.
Чтобы понять всю глубину, весь смысл этого прошения, нужно прежде всего вспомнить все то, что связано с символом пищи в Библии, ибо только тогда прошение это перестает быть ограниченным, если так можно выразиться, одной физической жизнью человека и раскрывается нам во всем своем подлинном значении.
Смысл пищи мы находим в первой же главе Библии, в рассказе о творении человека. Создав мир, Бог дает его в пищу человеку, и первое, что это значит, — зависимость человеческой жизни от пищи, следовательно, от мира. Человек живет от пищи, претворяет пищу в свою жизнь. Зависимость эта человека от внешнего, от материи, от мира столь самоочевидна, что один из основателей материалистической философии заключил человека в знаменитую формулу — «человек есть то, что он ест». Но учение и откровение Библии не исчерпывается этой зависимостью. Пищу, то есть саму жизнь, человек получает от Бога. Это Божий дар человеку, и живет он не для того, чтобы есть и утверждать таким образом свое физиологическое существование, а чтобы осуществить в себе образ и подобие Божие.
Таким образом, сама пища есть дар жизни как знание свободы и красоты духа. Пища претворяется в жизнь, но жизнь с самого начала показана как победа над этой зависимостью от только пищи, ибо, создав человека, Бог дает ему заповедь обладать миром. Таким образом, получать пищу от Бога как дар Божий означает наполнение человека жизнью| Божественной. И поэтому с пищей же связан и библейский рассказ о грехопадении человека.
Это знаменитый рассказ о запретном плоде, который съел человек втайне от Бога, чтобы стать как Бог. Смысл этого рассказа простой — человек поверил, что от одной пищи, от одной зависимости от нее он получит то, что дать ему может только Бог. Путем пищи он хотел освободиться от Бога, и это привело его к рабству пище, порабощению миром; человек стал рабом мира. Но это значит также — и рабом смерти, ибо пища, давая ему физическое существование, не может дать ему той свободы от мира и от смерти, которые может дать ему только Бог. Пища — символ и средство жизни — стала также символом смерти. Ибо если не ест человек, он умирает. Но если ест, то тоже умирает, ибо сама пища есть причастие смертному и смерти. И потому, наконец, и спасение, и восстановление, и прощение, и само воскресение связаны в Евангелии опять–таки с пищей.
Когда искушаемый диаволом Христос почувствовал голод, диавол предложил Ему превратить камни в хлебы. И Христос отказался, сказав: «Не хлебом единым будет жив человек» (Мф. 4:4), Он преодолел и осудил ту самую всецелую зависимость человека от хлеба единого, от физической жизни, которой обрек себя в библейском символе первый человек. Он освободил себя от этой зависимости, и пища снова стала даром Божиим, причастием Божественной жизни, свободе и вечности, а не зависимостью от смертного мира.
Ибо таков на глубине смысл той новой, Божественной пищи, с первых же дней христианства составляющей главную радость, главное таинство христианской Церкви, которое христиане называют Евхаристией, что значит «благодарение». Евхаристией, верой в причастие новой пище, новому и Божественному хлебу завершается христианское откровение о пище. И только в свете этого откровения, этой радости, этого благодарения и можно по–настоящему понять всю глубину четвертого прошения молитвы Господней: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Подай нам — сегодня — необходимую для нас пищу.
Да, конечно, это прежде всего прошение о том, что нам нужно для жизни, о самом простом, необходимом и насущном: о хлебе, о пище, о воздухе, обо всем том, причастие чему претворяется в нашу жизнь. Но это не все. «Дай нам» это значит, что последний источник всего этого для нас — Сам Бог, Его любовь, Его забота о нас; от кого бы и как бы мы ни получали дар — все от Него. Но это значит также, что и последний смысл этого дара или этих даров — Он Сам.
Мы получаем хлеб, мы получаем жизнь, но для того, чтобы раскрыть смысл этой жизни. И смысл этой жизни в Боге, в знании Его, в любви к Нему, в общении с Ним, в радостной Его вечности и той жизни, которую Евангелие называет «жизнью с избытком» (Ин. 10:10).
Боже мой, как далеки мы от маленького и слепого крота, имя которому Фейербах. Да, конечно, как говорил он, человек есть то, что он ест. Но ест он дар Божественной любви, но приобщается–то он свету и славе и радости, но, живя, он живет всем тем, что даровал ему Бог.
«Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Дай нам в любви Твоей все это сегодня, дай нам не просто существовать, но именно жить, той полной, осмысленной и в пределе Божественной и вечной жизнью, для которой Ты создал нас, которую Ты дал и вечно даешь нам и в которой мы узнаем, и любим, и благодарим Тебя.
6
«И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим» (Мф. 6:12). Так по–церковнославянски звучит пятое прошение той главной христианской молитвы, которую мы находим в Евангелии и которую Сам Христос оставил своим последователям. По–русски это прошение можно выразить так: «И прости нам наши грехи, потому что и мы прощаем тех, кто согрешил против нас».
Заметим сразу же, что в этом прошении соединено сразу два акта — прощение наших грехов Богом связано с прощением грехов против нас. Христос говорит: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14—15). И конечно, именно тут, в этой связанности, в этом соединении — глубокий смысл этого прошения молитвы Господней.
Но, может, прежде чем в эту связь вдуматься, необходимо остановиться на понятии греха, ибо оно стало совсем чуждым современному человеку. Этот последний знает понятие преступления, которое связано прежде всего с нарушением того или иного закона. Понятие преступления относительно. Так, например, в одной стране может быть преступлением то, что не является преступлением в другой. Ибо если нет закона, то нет и преступления. Преступление не только соотносится с законом, но оно, в какой–то степени, рождено им. А закон, в свою очередь, порожден прежде всего социальными потребностями. Ему нет и не может быть дела до того, что происходит на глубинах человеческого сознания. Пока не нарушает человек мирной жизни общества и не наносит очевидного вреда другим или же установленному порядку, преступления нет, как нет и закона. Ненависть, например, не может быть составом преступления, пока она не привела к какому–то действию: удару, убийству, ограблению. С другой стороны, закон же и не знает прощения, ибо само назначение его в том, чтобы защищать и поддерживать порядок в человеческом обществе — порядок, основанный на действии закона.
Поэтому так важно понять, что, когда мы говорим о грехе, мы говорим о чем–то глубоко отличном по самой своей сущности от социального понятия преступления. Если о преступлении мы узнаем от закона, о грехе мы узнаем от совести. Если нет в нас, если ослабевает в человеческом обществе понятие совести или, лучше сказать, непосредственный опыт совести, то, конечно, чуждым, непонятным и ненужным делается религиозное понятие греха и связанное с ним понятие прощения.
Что же такое совесть? Что такое грех, о котором говорит нам, который являет нам наша совесть? Это не просто некий внутренний голос, говорящий нам о том, что плохо и что хорошо. Это не просто врожденная способность человека отличать добро и зло, это что–то еще более глубокое, еще более таинственное. Человек может твердо знать, что он ничего не сделал плохого, ни в чем не нарушил закона, не причинил никому никакого зла, и все–таки иметь нечистую совесть.
Чистая совесть, нечистая совесть — эти привычные словосочетания, может быть, лучше всего выражают таинственную природу совести. Иван Карамазов у Достоевского знает, что он не убил отца. И столь же твердо знает, что и он виноват в убийстве. Совесть и есть вот это чувство вины на глубине, сознание своего участия не в преступлении или зле как таковом, а в этом глубоком внутреннем зле, в той нравственной порче, из которой вырастают все преступления на этой земле, перед которой бессильны все законы. И когда произносит Достоевский свою знаменитую фразу о том, что «каждый перед всеми за всех виноват», — это не риторика, не преувеличение, не болезненное чувство вины, это — правда совести. Ибо дело совсем не в том, что каждый из нас иногда, кто реже, кто чаще, нарушает те или иные законы, повинен в больших или, гораздо чаще, маленьких преступлениях; дело в том, что все мы приняли как самоочевидный закон то внутреннее разъединение, ту внутреннюю противопоставленность друг другу, ту разбитость жизни, то недоверие, то отсутствие любви и связанности, в которых живет мир и неправду которых и являет нам наша совесть.
Ибо подлинный закон жизни совсем не в том, чтобы только не делать зла, а в том, чтобы делать добро, и это значит прежде всего — любить, и это значит прежде всего — принимать другого, это значит осуществлять то единство, вне которого даже самое законное общество все равно становится внутренним адом. Вот это и есть грех. И о прощении этого греха — греха всех грехов — мы и молимся, молимся в пятом прошении молитвы Господней.
Но осознать все это как грех, но просить прощения этого греха — это ведь и значит осознать свою разделенность с другими, это и значит стремиться к ее преодолению, и это значит уже простить. Ибо прощение есть таинственный акт, которым восстанавливается утраченная целостность и воцаряется добро; прощение есть акт не законный, а нравственный. По закону всякий согрешивший против меня должен быть наказан, и пока он не наказан, законность не восстановлена, а по совести, по закону нравственному важно восстановление не законности, а целостности и любви, восстановить которые никакой закон не может. Это может сделать только взаимное прощение. Если мы прощаем друг друга, то и Бог прощает нас, и только в этой взаимной связанности прощения нашего и прощения свыше очищается совесть и воцаряется свет, которого на глубине и ищет, и жаждет человек.
Ибо по–настоящему важны для него не внешний порядок, а чистая совесть, тот внутренний свет, без которого не может быть подлинного счастья. Поэтому «остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим» — это прошение о нравственном очищении и возрождении, без которого не поможет в этом мире никакая законность.
Может быть, страшная трагедия нашей эпохи, тех обществ, в которых мы живем, как раз в том, что они много говорят о законности и справедливости, много цитируют всевозможные тексты, но при этом в них почти совсем утрачена сила и нравственная красота прощения. Поэтому прошение молитвы Господней о прощении грехов тех, кто согрешил против нас, нами и наших — Богом составляет, возможно, центр того нравственного возрождения, перед которым мы стоим в эту эпоху.
7
Последнее прошение главной христианской молитвы, молитвы «Отче наш», звучит так: «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго» (Мф. 6:13). Прошение это издревле вызывало непонимание и подвергалось всевозможным толкованиям. Прежде всего, что может означать это «не введи»: значит ли это, что Сам Бог искушает нас, посылает нам те страдания, испытания, искушения и сомнения, которыми наполнена наша жизнь и которые делают ее так часто такой мучительной? Или иначе, неужели Сам Бог мучит нас, хотя бы для того, чтобы в конечном итоге это мучение, скажем, просветило или спасло нас?
Далее, о ком идет речь, когда мы молимся, чтобы избавил нас Бог от «лукаваго»? Слово это переводили и переводят просто как «зло»: «избави нас от зла», ибо греческий оригинал «апо ту пониру» может быть переведен и как «от злого», и как «от зла».
Так или иначе, откуда же это зло? Если есть Бог, почему же в мире все время торжествует зло и торжествуют злые? И почему присутствие сил зла настолько очевиднее присутствия силы Божией? Если есть Бог, как Он допускает все это? И если, скажем, спасет меня Бог, то почему же Он не спасет всех тех, кто так очевидно страдает и гибнет кругом?
Скажем сразу, что вопросы эти не могут получить легкого ответа. Или еще ясней — на них вообще нет ответа, если под ответом разуметь рациональное, разумное, так называемое «объективное» объяснение. Все попытки так называемой «теодицеи», то есть рационального объяснения существования в мире зла при наличии всемогущего Бога, были неудачными и неубедительными, против этих объяснений сохраняет всю свою силу знаменитый ответ Ивана Карамазова у Достоевского: «Если будущее счастье построено на слезинке хотя бы одного ребенка, я почтительнейше возвращаю билет на такое счастье».
Но что же тогда ответить?
Тут–то и начинает, может быть, раскрываться смысл, и даже не столько смысл, сколько внутренняя сила последнего прошения молитвы «Отче наш»: «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго». Ибо прежде всего зло приходит к нам именно как искушение, как вот это как раз сомнение, разрушение веры, воцарение темноты, цинизма и бессилия в нашей душе.
Страшная сила зла не столько в нем самом, сколько в разрушении им нашей веры в добро и в то, что добро сильнее зла. Вот это и есть искушение. И даже сама попытка объяснить зло, узаконить его, если так можно выразиться, какими–то рациональными объяснениями есть все то же искушение, есть внутренняя сдача перед злом. Ибо христианское отношение к злу как раз и состоит в том, что зло не имеет никакого объяснения, никакого оправдания, никакой основы, что оно есть плод восстания против Бога, отпадения от Бога, отрыва от Подлинной Жизни и что Бог не объясняет нам зло, а дает нам силу бороться со злом и дает нам силу побеждать зло. И победа эта опять–таки не в том, чтобы мы поняли и объяснили зло, а в том, чтобы мы противопоставили ему всю силу веры, всю силу надежды и всю силу любви, ибо вера, надежда и любовь и есть преодоление искушения, ответ на искушение, победа над искушением и поэтому победа над злом.
И именно эту победу одержал Христос, вся жизнь Которого была одним сплошным искушением. Вокруг Него все время торжествовало зло во всех его видах, начиная с избиения невинных детей при Его рождении и кончая страшным одиночеством, предательством всех, физическими мучениями и позорной смертью на кресте. Евангелие есть в каком–то смысле рассказ о торжестве зла и о победе над ним, рассказ об искушении Христа.
И Христос ни разу не объяснил и поэтому ни разу не оправдал и не узаконил зло, но Он все время противопоставлял ему веру, надежду и любовь. Он не уничтожил зло, но Он явил силу борьбы с ним и эту силу оставил нам, и вот как раз об этой силе мы и молимся, когда говорим: «И не введи нас во искушение».
Про Христа сказано в Евангелии, что когда Он изнемогал один, ночью в саду, всеми брошенный, когда Он начал, как говорит Евангелие, «скорбеть и тосковать» (Мф. 26:37), когда, иными словами, легла на Него вся тяжесть искушения, явился Ангел с неба и укреплял Его.
Вот об этой таинственной помощи молимся и мы, чтобы в зле, страдании и искушении не дрогнула наша вера, не ослабела надежда, не иссякла любовь, чтобы не воцарилась тьма зла в нашей душе и не стала сама источником зла. Молимся о том, чтобы мы доверились Богу, как доверился Ему Христос, о том, чтобы разбивались о нашу силу все искушения.
И мы молимся также о том, чтобы избавил нас Бог от лукавого, и тут дано нам еще одно — не объяснение, а откровение, откровение о личном характере зла, о личности как носителе и источнике зла.
Нет действительной сущности, которую можно было бы назвать ненавистью, но она является во всей своей страшной силе, когда есть ненавидящий; нет страдания, но есть страдающий; все в этом мире, все в этой жизни лично. И потому об избавлении не от какого–то безличного зла, а от злого молимся мы в молитве Господней. Источник зла — в злом человеке, а это значит — в человеке, в котором зло парадоксально и страшно стало добром и который живет злом. И быть может, именно тут, в этих словах о лукавом, и дается нам единственно возможное объяснение зла, ибо тут раскрывается нам оно не как какая–то безличная сущность, разлитая в мире, а как трагедия личного выбора, личной ответственности, личного решения.
Но потому–то и только в личности, а не в отвлеченных структурах и устроениях побеждается зло и торжествует добро, потому–то и молимся мы прежде всего о самих себе, ибо всякий раз преодолевается в нас искушение, всякий раз выбираем мы веру, надежду, любовь, а не тьму зла.
Начинается в мире как бы новый причинный ряд, открывается новая возможность победы, и поэтому звучит наша молитва: «Не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго».
8
Этой беседой мы заканчиваем очень краткое и, конечно, далеко не полное объяснение молитвы «Отче наш». Мы видели, что за каждым ее словом, за каждым прошением раскрывается целый мир духовных реальностей, духовных отношений, о которых мы никогда не думаем, которые мы растеряли в суматохе повседневной жизни. С этой точки зрения молитва «Отче наш» — больше чем молитва, это явление и раскрытие того духовного мира, для которого мы созданы, той иерархии ценностей, которая одна позволяет нам все расставить на свои места в нашей жизни. В каждом прошении — целый пласт нашего собственного самосознания, целое откровение о нас самих.
«Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое» — это значит, что моя жизнь отнесена к высшему и Божественному, абсолютному бытию, и только в этой отнесенности находит свой смысл, свой свет, свое направление.
«Да приидет Царствие Твое» — это значит, что моя жизнь предназначена к тому, чтобы наполниться этим Царством добра, любви и радости, чтобы в нее вошла, ее просветила сила Царства, открытого и дарованного людям Богом.
«Да будет воля Твоя, якоже на небеси и на земли» — чтобы этой благой волей мерил и судил я свою жизнь, чтобы в ней находил непреложный нравственный закон, чтобы перед ним смирял свое своеволие, свой эгоизм, свои страсти, свое безумие.
«Хлеб наш насущный даждь нам днесь» — чтобы получал я всю свою жизнь, все ее радости — но и все ее горе, красоту — но и страдание, как дар, из руки Божией, с благодарностью и трепетом, чтобы жил я только насущным — главным и высоким, а не тем, на что мелочно разменивается бесценный дар жизни.
«И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим» — чтобы был во мне всегда этот дух прощения, это стремление все существование построить на любви, чтобы все недостатки, все долги, все грехи моей жизни покрывались светлым прощением Божиим.
«И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго» — чтобы умел я с помощью Божией и отдаваясь этой таинственной и светлой воле побеждать всякое искушение, и прежде всего главное, самое страшное из них — ослепление, не позволяющее, не дающее в мире и жизни видеть присутствие Божие, отвергающее жизнь от Бога и делающее ее слепой и злой; чтобы не поддался я силе и очарованию злого человека, чтобы не было во мне двусмыслицы и лукавства зла, всегда прикрывающегося добром, всегда принимающего образ ангела света.
И молитва Господня заканчивается и увенчивается торжественным славословием: «Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки» (Мф. 6:13) — три ключевых слова и понятия Библии, три главных символа христианской веры. Царство — «приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17), «Царство Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21), «Да приидет Царствие Твое», — приблизилось, пришло, открылось — как? — в жизни, в словах, в учении, в смерти и, наконец, в воскресении Иисуса Христа, в этой жизни, наполненной таким светом и такой силой, в этих словах, ведущих нас так высоко, в этом учении, отвечающем на все наши вопросы, и, наконец, в этом конце, с которого все снова началось и который стал сам началом новой жизни.
Когда мы говорим о Царстве Божием, мы говорим, следовательно, не о чем–то загадочно–отвлеченном, не о другом, загробном мире, не о том, что будет после смерти. Мы говорим прежде всего о том, что сообщил, что дал, что обещал нам — верующим в Него и любящим Его — Христос, и мы называем это Царством, потому что ничего лучше, прекраснее, полнее и радостнее не было открыто, дано и обещано людям. И вот это и значит: «Яко Твое есть Царство…»
«… и сила», — говорим мы дальше. Какая же сила у этого Человека, умершего одиноко на кресте, ни разу Себя не защитившего и не имевшего «где приклонить голову» (Мф. 8:20)? Но вот сравните Его с любым сильным — сколько бы ни набрал человек силы, какой бы силой ни окружил себя, как бы ни заставил всех трепетать перед собой, неизбежно наступает момент, когда падает и разрушается все это в пух и прах, так что ничего не остается от этой силы. А вот Этот, «слабый» и «бессильный», живет, и ничто, никакая сила, не может вытравить память о Нем из человеческого сознания.
Люди уходят от Него, забывают о Нем, а потом снова возвращаются. Они увлекаются другими словами, другими обещаниями, но в конце концов, рано или поздно, остается только она — эта маленькая, такая простая книга, и в ней записаны слова, из нее сияет образ Человека, говорящего: «На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы» (Ин. 9:39); говорящего также: «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга» (Ин. 13:34); и говорящего, наконец: «Я победил мир» (Ин. 16:33). И потому Ему мы говорим: «Яко Твое есть Царство, и сила» — и, наконец, «слава».
Призрачной, кратковременной, хрупкой оказывается всякая слава на этой земле. И, кажется, меньше всего славы искал Христос. А вот если есть подлинная и неразрушимая слава, так это только та, что вспыхивает и горит всюду, где Он, — слава добра, слава веры, слава надежды. Это прежде всего Человек, который Сам внезапно становится светоносным, из Которого начинает исходить луч света, подобного Которому нет на земле. И глядя на Него, мы понимаем, что сказал поэт, когда воскликнул, что «Он горит звездной славой и первозданною красой!».
Мы понимаем, и не разумом, а всем существом, чего так страстно ищет и жаждет человек во всех метаниях своих, во всей неуспокоенности своей: ищет, чтобы вспыхнул этот свет, просветилось все этой небесной красотой, засияло все этой Божественной славой.
«Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки веков» — так кончается молитва Господня. И пока не забыли мы ее, пока повторяем ее, направлена наша жизнь в Царство, исполнена силы, светится славой, и против этого бессильны тьма, ненависть и зло.
II. ПРАЗДНИКИ
1. Благовещение Пресвятой Богородицы
«Благовествуй, земля, радость великую, пойте, небеса, Божию славу!»
Мало в христианской Церкви, в религиозной традиции, в религиозной памяти христианских народов столь радостных и светлых праздников, как весенний праздник Благовещения. А вместе с тем, кажется, ни одно из событий, описанных в Евангелии, не вызывает у неверующего, у скептика, у рационалиста столько недоверия и скептицизма, как именно это странное событие. Этот ангел, посылаемый с неба к юной женщине, это странное обещание, этот непонятный разговор… Нет, даже если и готов скептик, как он говорит, признать некую историческую основу у христианства, если готов не все скопом отрицать, то не здесь, не в этой детской сказке. И выходит, что вся наша радость, весь этот взрыв ликования: «Благовествуй, земля, радость великую, пойте, небеса, Божию славу!» — что все это, так сказать, — ни о чем, о легенде, о мифе, или даже еще страшнее… об обмане.
Но пройдите по музеям всех стран, и со всех стен будут сиять на вас эта лазурь неба, этот радостный и трепетный лик ангела, обращенного к Деве, Ее смирение, Ее неземная красота. Войдите в храм в вечер под Благовещение и дождитесь этого торжественного момента, когда в наступившей тишине раздастся эта сладостная песнь, которой мы ждем целый год: «Архангельский глас вопием Ти, Чистая: радуйся!» Что это?
Обман, самообман, длящийся почти две тысячи лет? И если обман, то как же ему радоваться и о чем эта особенная благовещенская радость?
Вот тут, в такие минуты так ясно становится то трагическое, слепое, тупое и злобное непонимание, которым обращено к религии неверие. Это какой–то вечный, неистребимый Смердяков, с прихихикиванием развенчивающий стихи
[1]. Действительно, кто же это говорит в «стихах–с» — глупо и ненужно. И торжествует Смердяков свою вечную победу, и кажется ему, что со стихами покончено, ибо как можно серьезно защищать их — глупость, и дело с концом. Но вот и после Смердякова люди не только пишут стихи, но и зачитываются ими, и они нужны им неизмеримо больше, чем та плоская и утилитарная премудрость, о которой возвещают, что она приведет человечество к полному и окончательному счастью. Но вот и после всех развенчаний религии приходится собирать совещания по вопросу, «что делать с ростом религиозности у молодежи». Слышите? — У молодежи, а не у уходящих и обреченных поколений. Ибо ведь вот оно, то, чего никогда, никогда не поймет Смердяков. Не поймет, что есть другая правда, высшая правда, та, к которой неприменима таблица умножения и химический опыт, неприменима даже наша обычная, рассудочная, рациональная речь. Эту правду нам дает, сообщает, раскрывает поэзия. И эту же правду, на неизмеримо большей глубине, дает, сообщает нам религия.
Да, это, конечно, детские слова, да, это своего рода сказка: «Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве Мария». И потом: «Радуйся!» (Лк. 1:26—28), и это обещание, и это сомнение, и эта самоотдача… И, конечно, неприменимы к этому таинственному рассказу наши обычные категории — как, когда, каким образом, — как неприменимы они и к торжественному утверждению Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Ибо и речь идет тут не о событиях в нашем понимании этого слова, а о событии духовного порядка, об откровении душе и сердцу. На этой плоскости это именно правда, и правда более глубокая, чем все наши земные и ограниченные правды; и доказательством тому эта радость, что вот уже две тысячи лет ключом бьет и разражается светлым ливнем хвалы: «Благовествуй, земля, радость великую, пойте, небеса, Божию славу!».
Ведь вот, даже пословица говорит — нет дыма без огня. Но какой же тогда должен быть этот огонь, что и горит, и светит, и греет, и побеждает в нашем темном, холодном и таком плоском, смердяковском мире? Благовещение, благая весть — новость, никогда не переставшая быть новостью — новой, неслыханной и ослепительной. Ведь вот — вчерашние новости истлевают в желтеющих ворохах газетной бумаги. Но вечно новой остается эта весть о спасении, о радости, о пришествии к нам Бога. И вечно трепетным остается это смиренное принятие: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему» (Лк. 1:38). И вечно новым остается это сочетание неба и земли, красоты небесной и красоты земной, Божественного голоса и человеческого приятия. А все это и есть праздник Благовещения.
И в Церкви в этот вечер мы не рассказываем о прошлом и не вспоминаем того, чего не можем помнить. Все это как будто на наших глазах, на этой земле случается с нами. Мы — свидетели и участники не события и не факта, а таинственной глубины того, что за всеми событиями и за всеми фактами, той глубины, которая находит наконец в жизни свой последний смысл, свою высшую цель, свою внутреннюю ценность.
Христианство начинается с благовещения, начинается со слышания нами небесного голоса. И с нашего принятия этой вести. Благовещение — это действительно и в полноте своей праздник Божественной любви и человеческой свободы. Свободы, свободно принимающей любовь. Именно поэтому: «Благовествуй, земля, радость великую, пойте, небеса, Божию славу!». Вот скоро соберемся мы снова и услышим эти слова, услышим: «Архангельский глас вопием Ти, Чистая: радуйся!» И то, что произойдет с нами, — это чудо прикосновения к неземному, к такой чистоте, к такой любви, к такому послушанию, которых мы не знаем в этом мире и в наших грешных отношениях. Все это будет снова дано нам как некий небесный дар, а получение этого дара, слышание этого голоса и принятие и есть сущность праздника, сущность веры, сущность христианской жизни.
2. Крестопоклонная неделя
Посредине Великого поста, в конце третьей его недели, выносится во всех церквях на середину храма крест. И совершают верующие поклонение ему. И таким образом начинается наше приближение к самой главной, к самой таинственной из всех тем нашей веры — теме распятия, страдания и смерти.
Почему таинственной? Разве страдание не стоит в центре жизни? Разве каждый из нас не познал и не познает его, увы, слишком часто? Да, конечно, это так. Но ведь здесь речь идет не о нас, а о Христе. А про Христа мы говорим, что Он Бог. А от Бога, от веры разве мы не хотим облегчения (если уж не полного исчезновения наших страданий)? Разве не только друзья, но и враги веры, ее обличители не утверждают в странном согласии, что религия — это прежде всего помощь, утешение, некий, как говорят, бальзам на душу?
Но вот крест, но вот снова Великая пятница, и снова эти же слова: «Начал скорбеть и тосковать» (Мф. 26:37). И сказал: «Душа Моя скорбит смертельно» (Мф. 26:38). Не Он помогает апостолам, застывшим от горя и тоски, Он у них просит помощи: «Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною» (Мф. 26:38). А потом это одинокое мучение: сначала побои, насмешки, удары по лицу, плевки, потом гвозди в руках и ногах. И самое страшное — одиночество. Когда все, оставив Его, бежали. И как будто сокрылось само небо, ибо «около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46).
Нет, если только снова по–настоящему вглядеться в это, вслушаться, что–то странное тут происходит даже с самой религией. Как будто ничего не остается от самого ясного, привычного в ней — помощи, поддержки, гарантии. Поставил свечку, отслужил молебен или панихиду — и все будет хорошо, и в жизни Бог поможет, да и там тоже, после страшной и таинственной смерти. Ведь разве не с таким упрощенным пониманием веры живет большинство самих верующих? Разве уже тогда, при Иисусе Христе, не ходили они толпами за Ним, ожидая от Него кто исцеления, кто помощи, кто поучения? Но посмотрите, как в рассказе Евангелия постепенно тает эта толпа. Вот бросает Его богатый юноша, думавший, что он соблюдал все законы религии, но не смогший принять слов Христа: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мной» (Мф. 19:21). Вот, за торжественной трапезой любви, уходит от Него в ночь на предательство Его ученик. И, наконец, последнее, когда все, бросив Его, бежали…
В нашей жизни бывает как раз наоборот: сначала одиночество, непризнанность, потом признание и рост славы, толпа последователей. В Евангелии же, когда дело доходит до креста, Христос остается Один. Более того, и про будущее Он говорит: «Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15:20); «В мире будете иметь скорбь» (Ин. 16:33). И к нам обращает, в сущности, только один призыв, одно предложение — взять наш крест и нести его, и мы знаем уже, что такое этот крест.
Да, странное что–то происходит здесь с религией: вместо помощи — крест, вместо обещаний утешения, благополучия, уверенности: «Меня гнали, будут гнать и вас». И когда мы читаем в Евангелии о фарисеях, издевавшихся над распятым Христом: «Других спасал, а Себя Самого не может спасти! Если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него» (Мф. 27:42), — разве мы не вспоминаем, разве нам не приходят в голову теперешние насмешки и теперешние издевательства: «Ну, что, разве помог вам ваш Бог?»
И действительно, пока ждем мы от Бога вот только этой помощи, только чуда, которое убрало бы страдание из нашей жизни, — насмешки торжествуют. И будут торжествовать, ибо любая дешевая пилюля действительно лучше и скорей помогает от головной боли, чем молитва и религия. И не понять нам тайны креста, пока такой вот пилюли — неважно, для важного или незначительного, — ждем мы от религии. Пока это так, крест, несмотря на все золото, на все серебро, покрывшее его, остается тем, что еще на заре христианства сказал про него апостол Павел: «Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие» (1 Кор. 1:23); в данном случае иудеи — это те, кто ждут от религии только помощи, а эллины — те, кто хотят от нее только разумного и гладкого объяснения всего. И в этом случае крест действительно — соблазн и безумие.
Но вот опять выносится крест, и вот опять приближается та единственная из всех недель, когда приглашает нас Церковь не столько размышлять и обсуждать, а молча и сосредоточенно следовать за каждым шагом Христа, за его медленным, необратимым приближением к страданию, к распятию и к смерти. Приглашает как бы принять этот крест. И вот что–то странное происходит с нами. С себя, со своих проблем, со своих трудностей и даже со своих страданий мы обращаем взор на другого, на этого молча скорбящего и страдающего Человека, в эту ночь ужаса, измены и одиночества, но и торжества, и любви, и победы.
Что–то странное происходит с нами: сами того, может быть, не осознавая, мы чувствуем, как уходит от нас эта дешевая и эгоистическая религия, которая все хочет чего–то только для себя, которая самого Бога заставляет служить себе! И становится ясно, духовно ясно, что она, религия, на деле, на глубине — о чем–то совсем другом. И что в конце ее не помощь и не облегчение, а радость и победа.
Так вот, в следующих беседах проделаем хотя бы мысленно этот путь за Христом, несущим свой крест, идущим к Голгофе, — и, может быть, что–то бесконечное и бесконечно важное снова откроется вашей, нашей, моей душе. Вот почему посредине поста выносят крест в центр храма. Вот к этому призывает нас Церковь на так называемой Крестопоклонной седмице — чтобы мы начали наше собственное приближение к самой последней, может быть самой страшной, но в конечном итоге и самой радостной тайне нашей веры.
3. Вербное воскресение
Во всем христианском мире последнее воскресение перед Пасхой называется Вербным воскресением. В этот день вспоминают верующие, как за шесть дней до своих страданий и смерти Христос вошел в Святой город и встречен был восторженной толпой.
Вот рассказ Евангелия: «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: ‘Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязавши, приведите ко Мне. И если кто скажет вам что–нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их’. Все же сие было, да сбудется реченное чрез пророка, который говорит: ‘Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной’. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: ‘Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!’ И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили: ‘Кто Сей?’ Народ же говорил: ‘Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского’. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: 'Написано: ‘Дом Мой домом молитвы наречется’, а вы сделали его вертепом разбойников’. И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их. Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: ‘Осанна Сыну Давидову!’, вознегодовали и сказали Ему: ‘Слышишь ли, что они говорят?’ Иисус же говорит им: ‘Да! Разве вы никогда не читали: 'из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу’? И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь» (Мф. 21:1—17).
Чтобы понять всю глубину смысла этого текста, чтобы почувствовать радость этого каждый год возвращающегося праздника — Вербного воскресения, нужно вспомнить прежде всего, что этот торжественный вход в Иерусалим был единственным очевидным торжеством на протяжении земной жизни Христа. Он не искал нигде и никогда ни признания, ни власти, ни славы, не искал даже элементарного житейского благополучия. «Лисицы имеют норы, — говорил Он, — и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8:20). На все попытки прославить Его Он всегда отвечал решительным отказом, и все Его учение было учением о смирении и кротости: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:29). От рождения в пещере до позорной смерти на кресте рядом с уголовными преступниками — вся Его жизнь с нашей человеческой, земной точки зрения, по нашим нормам и мерилам была одной сплошной и трагической неудачей. И под конец даже те толпы, что следовали сначала за Ним, ожидая от Него чудес и исцелений, оставили Его, и тогда все, бросив Его, бежали.
Надо понять, что в центре, в сердце христианской веры стоит, действительно, житейская неудача, трагедия, земной крах. И на это часто указывали, над этим часто издевались враги христианства, начиная с тех, что стояли у креста и издевались над страдающим на нем Человеком: «Спаси Себя Самого! Если Ты Сын Божий, сойди с креста» (Мф. 27:40). Но Он не сошел, Он ничего не ответил им… А потом так же издевались Вольтер и представители так называемого Просвещения, а еще позже — Ницше и его последователи, носители идеи сверхчеловека. И, наконец, в наши дни — бесчисленные кандидаты философских наук, пишущие по указу свыше популярные антирелигиозные брошюры.
Надо прибавить, что иногда и сами верующие забывают об этом центральном парадоксе своей веры и приписывают Христу ту земную силу, мощь, власть и успех, от которых Он так решительно отказывался; и они легко забывают страшные слова Евангелия: «Начал скорбеть и тосковать» (Мф. 26:37). Но тогда совсем особенное, ни с чем не сравнимое значение приобретает это единственное земное торжество, прославление Христа, которое Он Сам вызвал, которого Он Сам хотел — «весь город пришел в движение» (Мф. 21:10). Мы знаем, что те слова, которые кричала толпа: «Осанна Сыну Давидову», что те символы, которыми она окружала Христа: пальмовые ветви, — все это «пахло» политическим восстанием, все эти символы относились по традиции к Царю, означали признание Христа Царем и отрицание правительства. «Не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя?» (Мф. 27:13) — спрашивали Христа представители власти. И тут Христос не отрекся от этой хвалы, не сказал, что это ошибка; итак, Он хотел этого торжества накануне предательства, измены, страданий и смерти. Он хотел, чтобы хотя бы на несколько мгновений, хотя бы в одном только городе люди увидели и признали и провозгласили, что подлинная власть и сила и слава не у тех, кто внешней силой и мощью получает ее, а у Того, кто не учил ничему кроме любви, подлинной внутренней свободы и подчинения только высшему и Божественному закону совести.
Этот вход в Иерусалим означал развенчание раз и навсегда власти силы и принуждения, власти, нуждающейся для своего сохранения в безостановочном самовосхвалении. На несколько часов в Святом городе просияло царство света и любви, и люди узнали и приняли его. И, самое важное, никогда не смогли до конца забыть о нем. Создавались и падали огромные империи, завоевывались и отвоевывались целые государства, достигали неслыханной власти, неслыханной славы всевозможные вожди и владыки — и потом исчезали, погружались в темное небытие. «Какая слава на земле стоит тверда и непреложна?» — спрашивает поэт
[2], и мы отвечаем: никакая. А вот царство этого нищего, бездомного Учителя стоит и светит все той же радостью, все тем же обещанием. И не только раз в году, на Вербное воскресение, но всегда, действительно во веки веков. «Да приидет Царствие Твое» (Мф. 6:10) — молятся христиане, и оно все время приходит, все время побеждает, сколь бы незаметна, невидима ни была бы эта победа в грохоте земных и преходящих побед.
4. Пасха
(посвящается о. Сергию Булгакову)
Христос воскресе! — Воистину воскресе! «Пасха, Господня Пасха, праздников праздник и торжество торжеств!»
[3].
Какие еще нужны слова? Действительно, сегодня пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее Царство.
Но вот произносишь эти чудные слова, радуешься им, веришь в них, и тут же приходит сознание, сколько миллионов людей в эту торжественную ночь, в этот лучезарный день не слышат их, может быть, никогда не слышали.
Скольким людям они ничего не говорят, ничего не возвещают, и сколько людей с враждой, со скепсисом, с иронией, слыша их, пожимают плечами. Как можно радоваться, когда столько людей не знают этой радости, отворачиваются от нее, закрывают ей сердце? И как объяснить, как тронуть этим их сердце? Ведь, опять–таки, что мы можем доказать? Христос сказал про таких, что даже «если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк. 16:31). Что же можем мы со своими бедными доказательствами? Но, быть может, вся сила, вся победная сила Пасхи именно в том, что доказать тут ничего нельзя, что весь бедный человеческий разум, все человеческие доказательства, как в одну, так и в другую сторону, оказываются здесь бессильными.
Вот в конце прошлого века в самом сердце России в семье священника растет мальчик Сергей, Сережа Булгаков. Растет, овеянный поэзией и красотой церковных служб, безотчетной, слепой, бездоказательной верой. Никаких вопросов, никаких доказательств. «Да они и не возникали, — писал он позже, — не могли возникнуть <…> в нас в самих, в детях, так мы сами были проникнуты этим, так мы
любили храм и красоту его служб. Как богата, глубока и чиста была эта наша детская жизнь, как озлащены были наши души этими небесными лучами, в них непрестанно струившимися »
[4].
Но вот пришло время доказательств и вопросов. И из этого детства, безотчетного, бездоказательного, вышел этот искренний, горячий, честный русский мальчик — в безверие, в атеизм, в мир только доказательств, только разума. Сережа Булгаков, сын смиренного кладбищенского священника, стал профессором Сергеем Николаевичем Булгаковым, одним из вождей русской прогрессивной революционной интеллигенции, русского научного марксизма. Германия, университет, дружба с вождями марксизма, первые научные труды, политическая экономия, слава, уважение, как тогда говорили, всей мыслящей России. Если кто–нибудь прошел весь путь вопросов и доказательств, так это действительно он. Если кто–либо постиг всю науку и ее якобы увенчание и вершину — марксизм, так это он. Если кто–либо отвернулся от бездоказательной, безотчетной веры, так это он. Несколько лет ученой славы, несколько толстых книг, сотни последователей. Но вот, постепенно, одно за другим, рухнули и в пыль обратились эти доказательства, вдруг не осталось от них ничего. Что случилось — болезнь, умопомешательство, горе? Нет. Ничего не случилось внешне — житейски; случилось то, что душа, что глубина сознания перестала воспринимать эти плоские вопросы и эти плоские ответы. Вопросы перестали быть вопросами, ответы — ответами. Вдруг стало ясно, что все это ничего не доказывает — рынки, капитал, прибавочная стоимость… Что знают они, что могут сказать они о душе человеческой, о вечной ее неутоленности, о той неизбывной жажде, что не умирает никогда на последней глубине, в последних тайниках этой души?
И началось возвращение. Нет, не просто к безотчетной детской вере, не просто к детству. Нет, на всю жизнь остался Сергей Николаевич Булгаков ученым, профессором, философом, только теперь о другом стали вещать его книги, о другом, совсем о другом загремело его вдохновенное слово.
Я вспомнил о нем в этой сегодняшней пасхальной радости, потому что лучше всех, мне кажется, отвечает он нам всей своей жизнью, всем своим опытом на вопрос — как можно доказать? И вот — снимает этот вопрос, ибо он–то знал всю силу и немощь всех доказательств. Он–то уверился, что Пасха не в них и не от них
[5].
Вот послушаем его в пасхальный день, под самый конец его жизни. «Когда отверзаются двери, — говорит он, — и мы входим в сверкающий огнями храм, при пении ликующего пасхального гимна, сердце наше заливает ликующая радость, ибо Христос воскрес из мертвых. И тогда пасхальное чудо совершается в наших сердцах. Ибо мы видим Христово воскресение; очистив чувствие, мы зрим Христа блистающего и приступаем исходящу Христу из гроба яко Жениху. Мы тогда теряем сознание того, где мы находимся, выходим из себя самих; в остановившемся времени в сиянии белого луча пасхального погасают земные краски, и душа зрит только неприступный свет воскресения. 'Ныне вся исполнишася светом, небо и земля, и преисподняя'. В пасхальную ночь дается человеку в предварении увидеть жизнь будущего века, вступить в Царство славы, в Царство Божье. Не имеет слов язык нашего мира, чтобы выразить в них откровение пасхальной ночи, это радость совершенная. Пасха — это жизнь вечная, состоящая в боговедении и богообщении. Она есть правда, мир и радость о Духе Святом. Было первое слово воскресшего Господа в явлении женщинам — ‘Радуйтесь!’ (Мф. 28:9) И слово Его в явлении апостолам — ‘Мир вам’» (Лк. 24:36).
Это, повторяю вам, слова не ребенка, не простачка, еще не достигшего вопросов и доказательств, — это слова того, кто уже после вопросов, после доказательств. Это не доказательство Пасхи — это свет, сила и победа самой Пасхи в человеке.
Поэтому в эту светлейшую и радостнейшую ночь нам нечего доказывать. Мы только можем всему миру, всем дальним и ближним, из полноты этой радости, этого знания сказать: «Христос воскресе! — Воистину воскресе Христос!».
5. В неделю Антипасхи
(Фомино воскресение)
Не поверил ученик Христа Фома, когда сказали ему другие ученики, что они видели воскресшего Учителя. «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20:25). И, конечно, то же самое вот уже веками повторяет человечество.
Разве не на этом — увижу, прикоснусь, проверю — основана вся наука, все знание? Разве не на этом строят люди все свои теории и идеологии? И не только невозможного, но как будто и неверного, неправильного требует от нас Христос: «Блаженны не видевшие, — говорит Он, — и уверовавшие» (Ин. 20:29). Но как же это так — не видеть и поверить? Да еще во что? Не просто в существование некоего высшего Духовного Существа — Бога, не просто в добро, справедливость или человечность, — нет.
Поверить в воскресение из мертвых — в то неслыханное, ни в какие рамки не укладывающееся благовестие, которым живет христианство, которое составляет всю его сущность: «Христос воскрес!»
Откуда же взяться этой вере? Разве можно заставить себя поверить?
Вот с печалью или же с озлоблением уходит человек от этого невозможного требования и возвращается к своим простым и ясным требованиям — увидеть, тронуть, ощутить, проверить. Но вот что странно: сколько он ни смотрит, ни проверяет и ни прикасается, все столь же неуловимой и таинственной остается та последняя истина, которую он ищет. И не только истина, но и самая простая житейская правда.
Он как будто определил, что такое справедливость, но нет ее на земле — все так же царят произвол, царство силы, беспощадность, ложь.
Свобода… Да где она? Вот только что, на наших глазах, люди, утверждавшие, что они владеют настоящим, всеобъемлющим научным счастьем, сгноили в лагерях миллионы людей, и все во имя счастья, справедливости и свободы. И не убывает, а усиливается гнетущий страх, и не меньше, а больше ненависти. И не исчезает, а возрастает горе. Увидели, проверили, тронули, все рассчитали, все проанализировали, создали в своих ученых лабораториях и кабинетах самую что ни на есть научную и проверенную теорию счастья. Но вот выходит так, что не получается от нее никакого, даже самого маленького, простого, реального житейского счастья, что не дает она самой простой, непосредственной, живой радости, только все требует новых жертв, новых страданий и увеличивает море ненависти, преследований и зла…
А вот Пасха, спустя столько столетий, и это счастье, и эту радость — дает. Тут как будто и не видели, и проверить не можем, и прикоснуться нельзя, но подойдите к храму в пасхальную ночь, вглядитесь в лица, освещенные неровным светом свечей, вслушайтесь в это ожидание, в это медленное, но такое несомненное нарастание радости.
Вот в темноте раздается первое «Христос воскресе!» Вот гулом тысячи голосов прокатывается в ответ: «Воистину воскресе!» Вот открываются врата храма, и льется оттуда свет, и зажигается, и разгорается, и сияет радость, которой нигде и никогда нельзя испытать, как только тут, в этот момент. «Красуйся, ликуй…» — откуда же эти слова, откуда этот вопль, это торжество счастья, откуда это несомненное знание? Действительно, «блаженны не видевшие и уверовавшие». И вот тут–то это как раз и доказано и проверено. Придите, прикоснитесь, проверьте и ощутите и вы, маловерные скептики и слепые вожди слепых!
«Фомой неверным», неверующим, называет Церковь усомнившегося апостола, и как примечательно то, что вспоминает она о нем и нам напоминает сразу же после Пасхи, первое воскресение после нее называя Фоминым. Ибо, конечно, и вспоминает, и напоминает не только о Фоме, а о самом человеке, о каждом человеке и обо всем человечестве. Боже мой, в какую пустыню страха, бессмыслицы и страдания забрело оно при всем своем прогрессе, при своем синтетическом счастье! Достигло луны, победило пространства, завоевало природу, но, кажется, ни одно слово из всего Священного Писания не выражает так состояния мира, как вот это: «Вся тварь совокупно стенает и мучится» (Рим. 8:22). Именно стенает и мучается, и в этом мучении ненавидит, в этих потемках истребляет самое себя, боится, убивает, умирает и только держится одной пустой бессмысленной гордыней: «Если не увижу, не поверю».
Но Христос сжалился над Фомой и пришел к нему и сказал: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим» (Ин. 20:27). И Фома упал перед Ним на колени и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28). Умерла в нем его гордость, его самоуверенность, его самодовольство: я, мол, не так, как вы, меня не проведешь. Сдался, поверил, отдал себя — и в ту же минуту достиг той свободы, того счастья и радости, ради которых как раз и не верил, ожидая доказательств.
В эти пасхальные дни стоят перед нами два образа — воскресшего Христа и неверующего Фомы: от Одного идет и льется на нас радость и счастье, от другого — мучение и недоверие. Кого же мы выберем, к кому пойдем, которому из двух поверим? От Одного, сквозь всю человеческую историю, идет к нам этот никогда не пресекающийся луч пасхального света, пасхальной радости, от другого — темное мучение неверия и сомнения…
В сущности, мы и проверить можем теперь, и прикоснуться, и увидеть, ибо радость эта среди нас, тут, сейчас. И мучение тоже. Что же выберем мы, чего захотим, что увидим? Может быть, не поздно еще воскликнуть не только голосом, но и действительно всем существом своим то, что воскликнул Фома неверующий, когда наконец увидел: «Господь мой и Бог мой!» И поклонился Ему, сказано в Евангелии.
6. Парадокс христианской веры
В пасхальные дни особенно чувствуется то, что можно назвать основным парадоксом христианской веры, — соединение в ней печали и радости: «Се бо прииде крестом радость всему миру». Крестом, то есть страданием, мучением, смертью. Пасхальной ночи, с ее ликованием и светом, предшествует мрак Страстной недели, печаль Великой пятницы, пронизанной этим воплем с креста: «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). И само учение Христа всегда, все время проникнуто этой двойственностью: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: я победил мир» (Ин. 16:33).
Этот парадокс особенно важно почувствовать в наши дни, в эпоху борьбы с религией, попыток выкорчевать ее из жизни и из сознания людей. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что на самой последней глубине именно этот парадокс христианской веры и является главной причиной ненависти к ней всех тех, кто прежде всего не желает креста, то есть узкого пути самоотречения, совершенствования, непрестанной внутренней борьбы.
Все современные идеологии борьбу за человеческое счастье, за осмысление человеческой жизни выносят из человеческой души наружу, все они полагают центр тяжести этой борьбы в политических, экономических и иных внешних формах устройства человеческого общества. Упрощая, можно сказать, что для этих идеологий человек является всегда не субъектом, а объектом исторического процесса; иными словами, начисто отрицаются внутренняя жизнь человека и решающее значение этой внутренней жизни для самого исторического процесса. Схематически столкновение этих идеологий с христианством можно изобразить так. Христианство говорит: все зависит от тебя, от того внутреннего решения, которое только ты один можешь принять и осуществить, судьба всего мира в каком–то смысле зависит от тебя, от твоей внутренней свободы, чистоты, красоты, совершенства. Все в этом мире, следовательно, бесконечно лично, и, таким образом, творцом исторического процесса является личность. Христос не сказал ни одного слова о политических и социальных проблемах своего времени. Весь Его призыв всегда был обращен к каждому, к личности, вот к этому ты, а между тем невозможно отрицать, что исторически христианство осуществило самую радикальную из всех революций, ибо его учение о личности изнутри изменило психологию государства, общества, да, наконец, и всей культуры.
Антихристианская идеология, со своей стороны, настаивает не только на том, что от личности ничего не зависит в истории, но в конечном итоге она отрицает саму эту личность, ибо человек, по этой идеологии, является продуктом общества, а не наоборот. И поэтому вся его жизнь целиком зависит от форм этого общества. Христианство устами святого Серафима Саровского говорит: спаси себя, и спасутся около тебя тысячи. Антихристианская идеология говорит: ты не спасешь себя иначе, как прежде всего переменой общества и его форм. Там — в христианстве — перемена и преображение всего мира зависят от личности. Здесь — в материализме и коммунизме — перемена зависит от внешнего преображения общества. Отсюда вытекает призыв христианства к личной свободе и личной ответственности человека и, напротив, стремление материалистического коллектива до конца подчинить себе человека, слить его без остатка с партией, обществом, государством и так далее.
Спор этот, конечно, старый; он–то и привел Христа к смерти; но в наши дни он возобновился с необычайной силой.
Технический прогресс, так называемые «завоевания науки», необходимость плана и организации как будто подтверждают учение антихристианское: все в этом мире настолько превышает возможности человека, так безнадежно, казалось бы, подчиняет его коллективу и растворяет в нем. Что могу я? — Больше чем когда бы то ни было может казаться, что, проповедуя примат внутреннего над внешним, личности над коллективом, христианство ошибается, или же оно проповедует религиозный эгоизм — какое мне дело до мира? Я занят своей бессмертной личной душой.
Но так ли это? Опять–таки, можно не вдаваться в отвлеченности, а посмотреть кругом себя, чтобы убедиться в том, в какой кровавый хаос, в какую бессмыслицу, в какой страх и страдание завели людей идеологии, утверждающие примат внешнего над внутренним, подчиняя человека всегда и во всем безличному коллективу. И не пора ли пересмотреть это ходячее и столь устаревшее утверждение, согласно которому религия, вера, христианство, сосредоточивая внимание христианина на его внутреннем мире, тем самым уводит его от заботы о внешнем мире?
Когда–то Достоевский сказал, что нет и не может быть никакой любви к человечеству без веры в бессмертие души. С первого взгляда это утверждение может показаться спорным, если не абсурдным, — при чем тут бессмертие души? Ведь нужно добиваться элементарной свободы, справедливости, сытости. Не надо ли, напротив, забыть о бессмертии, чтобы полюбить смертного человека на этой земле? Достоевский утверждает: если нет веры в бессмертие, все кончается ненавистью и рабством. Если вдуматься, то правда Достоевского, а за ним и правда христианства становятся самоочевидными, ибо если нет этого вечного и неразрушимого начала в человеке, того, что возвышает его над материей, то что же любить в нем? Так, рано или поздно, миру придется вернуться — увы, путем страшных страданий, крови и слез — к этим простым словам Евангелия: «Царство Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). И всякий, кто узнал его, живет его красотой, светом и истиной, в конечном итоге делает больше для мира и человечества, чем носители отвлеченных программ грядущего человеческого счастья, для которого сначала нужно лишить свободы и превратить в рабов чуть ли не всех людей.
Обо всем этом напоминают нам, свидетельствуют нам пасхальные дни. Ибо напоминают нам они об одном Человеке, не искавшем ничего кроме торжества в душе человеческой Царства Божия и вот, на протяжении тысячелетий, наполнившем мир Своим учением. Сейчас, по всей вероятности, мы достигли предела внешнего в мире. Но потому так показательно, что именно сейчас, сильнее чем когда–либо, звучат голоса одиноких людей, зовущих нас назад — к внутреннему, к вечному, к бессмертному. Нужно ли называть имена Пастернака, Солженицына и столь многих других? Своим мужеством, своим творчеством они зовут нас к тому подлинному, что одно может вывести нас из тупика безличных идеологий, и имя этого подлинного — вера.
7. Утешение
(Беседа после Пасхи о Духе Святом)
Есть поразительное, хотя и негромкое русское слово, которое, однако, все меньше и меньше умещается в словарь современности. Слово это — утешение. «Он утешил меня», — говорит человек про того, кто обрадовал, пожалел, посочувствовал или, наконец, просто обратил внимание на него. И то же слово употребляем мы, говоря про книгу, пришедшуюся нам по душе, про искусство, осветившее нас своим неподдельным светом, про Бога и веру, наконец.
Как поразительно поэтому и глубоко то, что в Евангелии Дух Святой назван Утешителем. В своей прощальной беседе за несколько часов до предательства, страдания и смерти Христос говорит своим ученикам: «А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: ‘куда идешь?’ Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 16:5—7).
Итак, от Самого Христа мы знаем еще одно Божественное имя, и имя это — Утешитель. И следовательно, все подлинное, все Божественное в мире действительно заслуживает быть названным этим чудным словом — утешение.
Я говорю об этом потому, что в отождествлении религии с утешением состоит одно из главных обвинений, направленных против религии антирелигией. Вся антирелигиозная пропаганда построена на этой аксиоме: религия — это не что иное как компенсация, как возможность утешиться в том зле, несправедливости и хаосе, что царят на земле. Поэтому религия — для слабых, для рабов, а не для сильных, поэтому религия — орудие эксплуатации, и так далее. Сильному религия не нужна, потому что ему не нужно утешение, ибо утешение — это всегда обман, иллюзия, бегство от реальности, а борец не бежит, он прямо смотрит в лицо реальности, какой бы она ни была.
Да, как будто это так, как будто эта «музыка слабости» проходит через все христианство и через само Евангелие: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28). И разве не называет наш народ свои святыни, свои чудотворные иконы именно вот такими сладостно–утешительными именами: «Скорбящих радосте», «Взыскание погибших»? Разве не возносилась все время с нашей земли эта мольба об утешении и помощи: «Заступнице усердная…»?
И все же я думаю, что христианству стыдиться всего этого нечего. Как не следует и скрывать того, что мир, в котором не будет нуждаться человек в утешении, из которого будет изгнано, в котором будет забыто это слово, будет миром бесчеловечным и античеловечным.
Нам достаточно того, что про Самого нашего Спасителя и Господа сказано в Евангелии, что в ту страшную ночь, в том темном саду, Он начал «скорбеть и тосковать» (Мф. 26:37). И хотел, и ждал, и просил и утешения, и помощи у учеников, у друзей своих, а те — спали, измученные страхом. Да, этого ужасающегося и тоскующего, одинокого Человека мы называем Богом и Господом, к Нему возводим и от Него получаем смысл всего существующего, и потому не считаем мы утешение слабостью или признаком слабости, и потому убеждены, что человек, не нуждающийся в нем, уже потерял что–то глубинно человеческое в себе. Ибо в том–то и все дело, что такой человек уже не способен видеть ни зла, ни страдания, ни пошлости в мире, он утерял в себе тоску по иному, по светлому и радостному. Вот, мол, и с тем, и с тем поборюсь, и то исправлю и подправлю, и это выкорчую, и будет мир на славу — удобный, прочный и счастливый. Ведь вот, в сущности, весь смысл той плоской идеологии, которую предлагают, навязывают нам взамен религии и во имя которой издеваются над утешением. И будут в этом плоском и счастливом мире ходить бесчувственные роботы, и даже, пожалуй, не узнают, не способны будут узнать, что счастье их — кошмарнее, бесчеловечнее самого страшного, самого неизбывного страдания и несчастья.
Ибо на деле, конечно, не в этом псевдосчастье сила человека, а именно в его способности нуждаться в утешении и утешать. Ибо утешение — это и есть настоящая сила.
Вот — спуститься в самую тьму, вот — оказаться в самой сердцевине страдания, начать «скорбеть и тосковать», — и не рухнуть, и не извериться в свете, любви и радости. Это и есть утешение. И поэтому имя Бога, имя Духа Святого — Утешитель.
«Царю небесный, Утешителю, прииди и вселися в ны…» — не об иллюзии просим мы, произнося слова этой молитвы, не об обмане и не о бегстве, а о том, чтобы не сдаться тьме, не отождествить эту тьму с самой реальностью, не потерять того света, которого, как сказано в Евангелии, тьме не объять (Ин. 1:5). И это так потому, что утешение — всегда от веры, всегда от надежды и — главное, самое главное — всегда от любви. Нелюбящий не может утешить, ведь утешают всегда и в горе, и в страдании не слова и не доводы, не разум и не философия, утешают всегда и только участие, любовь и сочувствие.
В эти пасхальные дни начинает жить Церковь ожиданием Утешителя. Ожиданием того, чтобы исполнилось обещание Христа о том, что придет Утешитель, что за всем горем и страданием, за всей бессмыслицей и скукой жизни наступит тот таинственный «третий час» и над миром, пускай и невидимо, воцарится утешение и будет сильнее той тьмы, что царствует вокруг нас.
В этом смысл тех пятидесяти дней, что начинаются в Церкви сразу после Пасхи и приводят нас к Пятидесятнице, к последнему и великому дню, в который вспоминаем мы «Духа пришествие, и ожидания исполнение, и утешения полноту». Так молится Церковь и знает, и проповедует всем отчаивающимся возможность этого утешения, потому что сила этого Божественного утешения не иссякнет в мире, как ни торжествовали бы в нем страдание, боль и злоба.
Поэтому эти пятьдесят дней — не отдых, не передышка в религиозной жизни, а, может быть, самые глубокие из всех периодов церковной жизни — время, когда мы начинаем понимать, что в мире, в котором умер и воскрес Христос, можно, нужно ждать великого и радостного Утешения Святого Духа.
8. День Всех святых, в земле Российской просиявших
В самый разгар революции, в эпоху междоусобиц и кровопролитий, Русская Церковь установила праздник Всех святых, в земле Российской просиявших. Празднуется он во второе воскресение после Троицы, через неделю после праздника Всех святых, и о нем уместно вспомнить в наши дни, когда перед сознанием не только русских, но и всех людей остро стоит вопрос об отношении к своей стране и родному народу — извечный вопрос о правильном или ложном патриотизме.
Человеку свойственно любить Родину. Еще древние римляне говорили: «Сладко и прекрасно умирать за Родину». А наш российский поэт сказал: «И дым Отечества нам сладок и приятен»
[6]. Но гораздо реже задумывался человек и задумывается над смыслом подлинной любви к Родине. И еще реже — над просветлением и очищением этого природного и естественного чувства. И вот именно тут, возможно, и поможет нам этот, в грозе и буре родившийся, праздник Всех русских святых.
Историки всех народов, в том числе и русского, приучили нас думать о развитии каждой страны как о прогрессе, то есть, во–первых, как о восхождении от худшего к лучшему и, во–вторых, как о прогрессе силы, завоевания и объединения земли, роста государственных учреждений, победоносной славы и так далее. И как о росте и развитии культурных ценностей, литературы, искусства, всевозможных памятников — это в–третьих. В эту обычную для всех схему представители той или иной идеологии вносят свои поправки. Так, например, коммунисты говорят об освобождении от эксплуатации и деспотизма, историки — антиколониалисты — об освобождении от империалистов. Но схема, в основном, остается той же — мой народ, моя страна, слава родины, смерть врагам. И поколение за поколениями людей упиваются этими чувствами национальной гордости и славы. Но мы, верующие, должны, обязаны посмотреть на патриотизм, на эту стихийную и повсеместную «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»
[7] с духовной, религиозной, христианской точки зрения. Не только про человека, но и про каждый народ можно и нужно сказать словами Христа: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16:26). Слишком часто кажется, что даже если к себе человек готов применить эти слова, то по отношению к народу, стране, государству он считает их ненужными, к делу не относящимися. Есть даже старая английская пословица, которой очень гордятся англичане: «Я за мою страну — права она или не права». Словно чувство морали, нравственная ответственность, критерии добра и зла исчезают, когда дело доходит до родины и патриотизма.
Так вот, если взглянуть глазами веры и духа на историю России, то находим мы в этой истории, а может и в истории каждого народа, не только рост территории, усиление государства, не только славу и победу, не только великие завоевания культуры или политики, но находим мы в ней и некую изначальную и постоянную поляризацию. Словно всегда на нашей земле противостояли два замысла, два устремления, две основные установки: одна как бы говорит — слава и сила, а другая отвечает — правда и дух. Одна говорит — все подчинено национальным интересам, другая отвечает — национальный интерес подчинен духу и правде. Одна говорит — живи для Родины, другая говорит — пусть Родина живет для вечного, высшего, духовного и истинного.
На самом деле, история — это не столько прогресс, сколько извечная борьба двух основоположных начал, высшего и низшего. В применении к России и к родному народу я назвал бы их — «Россией тяжелой» и «Россией легкой».
Да, была, есть и, возможно, всегда будет «Россия тяжелая» — это Россия силы и славы, это упоение собственным могуществом, это гимны шестой части суши, стране, в которой никогда не заходит солнце. Это Россия постоянного подчинения всех сил, всех людей вот этим земным интересам могущества, грозности, внешнего благополучия. Но сквозь эту «тяжелую Россию» как бы просвечивает светлый образ «России легкой», России, воплощенной в тех, кто с самого начала, буквально с самых первых веков ее исторического существования всей силе, всему могуществу, всем земным успехам предпочел торжество духа, сияние любви и жалости, трудный подвиг нравственного восхождения.
Есть древняя русская легенда о граде Китеже, утонувшем в лесном озере городе, олицетворяющем именно это легкое и светлое видение Родины. «Легкая Россия», затонувшая посредине «России тяжелой», но все еще притягивающая к себе, зовущая и призывающая колокольным звоном, красотой, духовностью, неземным своим полетом. Вот об этой России и напоминают, ее создали в себе и хранят эти бесчисленные русские святые — от Феодосия Печерского, который в самом сердце Киева создал очаг духовной жизни, от преподобного Сергия Радонежского, просветившего тьму северных лесов и безысходно тяжелой жизни, до преподобного Серафима Саровского с его светлой пасхальной радостью, до бесчисленных безвестных, тихих праведников наших дней, которые в основу всей своей жизни положили слова христианского призыва: «Духа не угашайте» (1 Фес. 5:19). Об этой легкой России, об ее красоте и правде говорить в наши дни не принято, напротив, ее приказано забыть, как если бы ее никогда и не было; но она была, есть и будет.
Не хлебом единым жив человек, и не человек только, но и целый народ. Ему можно без конца твердить о славе и могуществе, об экономике и земных успехах, но он знает, что у него есть не только тело тяжелое, как и всякое тело, он знает, что у него есть дух и душа и что ему нужна, насущно нужна вот эта мечта о духе и правде, без которой жизнь темна и бессмысленна. И вопрос истории каждого народа, каждой страны — в том, кто победит — тело или дух. Тяжелый замысел земли или легкий порыв к небу.
9. О духовности
(Две беседы на Троицу)
1
Современный человек живет в обществе, в мироощущениях, в идеологиях, отрицающих духовность, иными словами, отрицающих возможность для человека приобщиться высшей духовной реальности; более того, отрицающих именно духовное призвание человека, предназначенность его к одухотворению, к тому рождению от Духа (Ин. 3:5—8), о котором говорит Евангелие.
Но есть в русской истории событие, которое замалчивают казенные историки, но в котором эта духовная реальность, этот мир явлены. Событие это произошло не в столицах, не в центрах, не там, где шумит повседневная жизнь и общественная шумиха, а в отдаленных от этих центров лесах, серым, ничем не замечательным зимним днем. Это событие — разговор между, опять–таки, простым и ничем не замечательным человеком по имени Мотовилов и стареньким монахом Серафимом, с юности ушедшим в Саровский монастырь и жившим в одинокой избушке среди леса
[8].
Серафим не был ни известным, ни вождем, но слава его росла, люди к нему шли, и на все вопросы он всегда отвечал одно и то же. Он говорил, что цель жизни человека в стяжании Святого Духа, в одухотворении, вхождении, иными словами, в высшую духовную реальность, которая обычно закрыта бывает от нас нашими повседневными делами и делишками, заботами и суетой. Но Мотовилов не удовлетворился этим ответом или, может быть, не понял его, как не понимает его современный человек, требующий всему научных объяснений и научных доказательств.
Вот в одинокой беседе со старцем, беседе, которую он почти сразу после того записал, старец согласился поведать ему, в чем состоит, в чем выражается это одухотворение, это стяжание Святого Духа.
Но послушаем Мотовилова:
«Я сказал, — пишет Мотовилов, — что я все–таки не понимаю, почему я могу быть твердо уверен, что я в Духе Божием? Как мне самому распознать Его истинное явление? Старец отвечал мне: «Я уже сказал Вам, что это очень просто, и подробно рассказал Вам, как люди бывают в Духе Божием и как нужно понимать явление Его к нам. Что же Вам еще нужно?» — «Нужно, чтобы я понял это хорошенько». Тогда отец Серафим взял меня за плечи и сказал: «Мы оба теперь в Духе Божием с тобой. Что же ты не смотришь на меня?» Я отвечал: «Я не могу смотреть, потому что лицо Ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли». Отец Серафим сказал: «Не бойтесь, и Вы теперь сами светлы, как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Святого, иначе Вам нельзя было бы и меня видеть. Благодарите Бога за милость Его». Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на меня еще больший благоговейный ужас. Представьте себя в середине солнца: перед вами блистательная яркость полуденных его лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто–то вас руками держит за плечо, но не только рук этих не видите, ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет. «Что же Вы чувствуете теперь?» — спросил отец Серафим. «Необыкновенно хорошо». — «А как же хорошо, что именно?» — «Я чувствую такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу». «Это, — сказал отец Серафим, — тот мир, про который Христос говорил: «Мой мир даю вам, не так, как мир дает» (Ин. 14:27) — это мир, по слову апостола, который превосходит всякое разумение. Что же еще чувствуете Вы?» — «Необыкновенную сладость», — сказал я. А он продолжал: «Это сладость, про которую сказано в Писании: «Потоком сладости напоишь меня». От этой сладости сердца наши тают, ибо оба наполнены такого блаженства, которое никаким языком выражено быть не может. Что же еще Вы чувствуете?» — «Необыкновенную радость во всем моем сердце». И отец Серафим сказал: «Дух Божий радостью наполняет все, к чему бы он ни прикоснулся, это та самая радость, про которую Христос говорит: «В мире скорбны будете, но Я увижу вас и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не возьмет от вас» (Ин. 16: 22). Что же Вы еще чувствуете?» — «Теплоту необыкновенную», — сказал я. И отец Серафим отвечал: «Она–то и есть та самая теплота, про которую в молитвах сказано: «Теплотою Духа Твоего согрей меня». Так–то и должно быть на самом деле, потому что благодать Божия должна обитать внутри нас, в сердце нашем, ибо Господь сказал: «Царство Божие внутри вас» (Лк. 17:21). Вот это Царство Божие внутри нас теперь и находится, а благодать Святого Духа освящает и согревает нас, и наполняет сердце наше радостью неизглаголанной».
Вот маленькая часть этой удивительной записи. Конечно, можно не поверить ей, можно отвернуться от нее как от чего–то несущественного, странного, не имеющего отношения к нашей жизни, — одного только нельзя сказать: что это просто выдумка и ложь. Мотовилов не был журналистом, не был профессиональным писакой — это раз, а два — это то, что такого не выдумать, и значит, что–то было, значит, это было.
Но еще поразительнее то, что опыт этот не единичный. Оказывается, что то, что произошло в снегом заваленном лесу Сарова, происходило почти так же совсем в других местах, совсем в других условиях, давно и недавно, далеко и вблизи от нас, и происходит и сейчас. Мы живем окруженные свидетелями Духа и свидетельствами о духовности. Но в своей гордости, научности, занятости мы решили не замечать их. Но если о чем тоскует наша эпоха, так это о Духе и о дарах Его, свете и радости, тишине и мире, теплоте и вере. Пора, пора за суетой, нищетой нашей жизни увидеть другое, пора серьезно вспомнить о Духе и духовности.
Преподобный Серафим — только один из тысяч таких свидетелей о Духе. За его опытом, за его словами стоят опыт и слова тысяч людей. Неужели не найдется у нас времени послушать их?
2
Недавно в связи с праздником Сошествия Святого Духа я говорил о духовности, и сегодня я хочу вернуться к этой теме. Вернуться потому, что нет, по моему убеждению, темы более насущной, более актуальной, нет того, в чем больше бы нуждался современный человек, как именно в духовности.
Мы говорим обычно про человека, что он умный или глупый, говорим, что он добрый или злой, но мы совсем разучились видеть и распознавать в человеке еще одно, все другие превосходящее качество — его открытость или закрытость миру духовному, Духу. Разучились не потому, что это требует каких–то особых знаний, которых у нас нет, а потому, что мироощущение, которое пронизывает современность и которым мы, сами того не замечая, дышим, начисто отрицает и игнорирует эту самую духовность. Но отрицание это — и это самое главное — приводит, в свою очередь, к глубочайшему духовному заболеванию человечества, оно лежит в основе того несомненного, глубокого пессимизма, разочарованности, психического неблагополучия, примеров которого даже не стоит перечислять, до того они очевидны. Странное дело, человек отказался от духовного и духовности якобы во имя счастья — таков был лозунг так называемого Нового времени, эпохи, которая и по сию пору называется в учебниках эпохой Просвещения. Эта эпоха противопоставила себя якобы мрачной эпохе Средневековья с ее упором на духовность, с ее якобы отрицанием простого человеческого счастья во имя трудного, неотмирного счастья духовного. И вот пришли все эти Вольтеры, Дидероты, Жан–Жаки Руссо и сказали: довольно всей этой развоплощенной духовности, наш удел — земля, наша задача — построить на земле счастливую жизнь, а остальное не нужно. И вот началась эпоха, про которую можно сказать, что она была одержима идеей счастья: во имя этого счастья бушевали революции, освобождались народы, создавались громоздкие научные идеологии, научно же определявшие путь к счастью.
Что такое, например, весь марксизм, как не попытка научно построить счастье, окончательное и прочное счастье на земле? Что такое, с другой стороны, капитализм, как не другая теория счастья? И замечу здесь, что, хотя две эти идеологии, марксистская и капиталистическая, и вступили давно уже в смертельный поединок между собой, в основе обеих лежит, в сущности, то же основное убеждение, а именно — что счастье зависит только от материального устройства и организации жизни и ничего общего не имеет с тем, что сознательно или бессознательно называл человек духовным.
И вот уже свыше трехсот лет живем мы и живет мир в этой одержимости счастьем, в этой погоне за счастьем. Но почему, хочется спросить, нет счастья, которое так просто, я бы сказал, так весело провозгласили отцы и пророки современного мира? Почему, наоборот, ни в какую другую эпоху всей мировой истории не было в человеческом сознании столько отчаяния, столько разочарованности, столько печали? Почему мечется человечество, не находя себе места, не зная, за кем идти, во что верить, что думать? Почему половина земного шара живет в условиях тоталитарных режимов, режимов, как будто порожденных вот этой самой идеологией счастья? Почему философы ничего не могут предложить кроме философии абсурда, художники — кроме раздробленного и черного видения мира, поэзия — ничего кроме вопля отчаяния? Где же, спрашивается, оно, это счастье, казавшееся столь близким, простым, доступным?
И выходит так, что с тех пор, как замкнул человек свой горизонт только вот этой землей и маленьким земным счастьем, разучился он и землю понимать, и находить на ней счастье. А что если прав блаженный Августин, воскликнувший так давно: «Для Себя создал Ты нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдет Тебя»
[9]? А что если прав апостол Павел, сказавший, что «не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9)? А что если, в конце концов, правы те, кто всегда утверждал, что человек прежде всего существо духовное и что всякое отречение от Духа, всякий отказ от Духа, всякое забвение этой своей духовной сущности ведет неизбежно и неумолимо к распаду самого человека, к его заболеванию и разложению?
«Человек есть то, что он ест», — сказал Фейербах, и ему казалось, что он раз и навсегда покончил с какой бы то ни было духовностью. И Маркс вслед за ним строит на этой убогой теории все свое учение о грядущем счастье. И проходит сто лет, и теорию эту, и учение это нужно защищать штыками и цензурой, иначе они не продержатся и недели.
Человек — существо духовное, это значит: существо не только питающееся, и даже не только думающее, но и существо, предназначенное к обладанию духовными ценностями. Что это за ценности? По старинке их можно перечислить так — истина, добро, красота. Ценности совсем не обязательно прагматические, но которые несут и являют счастье в самих себе.
Если современному человеку кажется, что все в мире утилитарно, что, может быть, даже и нужно немножко истины, немножко добра, немножко красоты, чтобы жить и быть счастливым, то человек вечный, человек духовный знает, что он живет для того, чтобы постигать Истину, постигать Добро и Красоту и чтобы обладать ими. Он не просит счастья, но в этом познании и обладании получает его. А когда соединяются они — эта Истина, это Добро и эта Красота — в один опыт, в одно счастье, в одну реальность, человек говорит: Бог. И с этой минуты, что бы ни случилось с ним, как бы ни была трудна, печальна, горестна и одинока жизнь, он знает и имеет то счастье, которое никто уже не сможет разрушить. А ведь это–то самое и сказал Христос, как написано в Евангелии: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).
III. СПОР О ЧЕЛОВЕКЕ
1. Музыка нашей эпохи
Невероятный прогресс и успех человечества. Страшное, угрожающее падение и порабощение человеческой личности, человека. Так определил я то парадоксальное положение, в котором находимся мы в нашем великом и одновременно трагическом XX веке. Невольно вспоминаются пророческие строки блоковского «Возмездия»:
Двадцатый век… Еще бездомней, Еще страшнее жизни мгла (Еще чернее и огромней Тень Люциферова крыла). Пожары дымные заката (Пророчества о нашем дне), Кометы грозной и хвостатой Ужасный призрак в вышине, Безжалостный конец Мессины (Стихийных сил не превозмочь), И неустанный рев машины, Кующей гибель день и ночь, Сознанье страшное обмана Всех прежних малых дум и вер, И первый взлет аэроплана В пустыню неизвестных сфер…
И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне…
И черная земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи…
Что ж, человек? —
За ревом стали,
В огне, в пороховом дыму,
Какие огненные дали
Открылись взору твоему?
О чем — машин немолчный скрежет?
Зачем — пропеллер, воя, режет
Туман холодный — и пустой?
Мало где, мне кажется, выражена так глубоко специфическая музыка нашей эпохи. Музыка, упирающаяся в этот «туман холодный — и пустой». Но Блок не один слышит эту музыку и ужасается ей. На Западе, уже в наши дни, с такой же тоской, с таким же ужасом вслушивается в нее Альбер Камю, и ему все яснее становится, вплоть до его ранней гибели, что этот рев машины, это царство техники и технократии, этот пафос устройства коллективного, безличного, принудительного счастья чем дальше, тем больше делает большинство людей палачами и жертвами. Палачами — потому, что все включены в эту страшную механику принуждения и каждый волей–неволей вынужден давить другого, других. Жертвами — потому, что все подчинены и на каждого оказывается это давление. Об этом, конечно, и «Доктор Живаго» Пастернака, об этом одинокий голос, уже теперь, сейчас, Солженицына.
И дело, повторяю, не в одной политике и идеологии. Уже генетики спокойно, недрогнувшим голосом, научно заявляют, что они накануне того, чтобы научно регулировать подбор людей, их, так сказать, биологическое соответствие требованиям коллектива. Уже удаляется из школ и университетов все то, что так или иначе может укрепить, развить личное самосознание, и заменяется тем, что еще лучше приспособит, еще лучше подчинит человека нуждам современного мира. Уже как преступление перед миром, перед обществом рассматривается всякая малейшая попытка человека противостоять, пускай даже пассивно, обществу, просто отказаться участвовать в этом лихорадочном всеобъемлющем строительстве.
Обыватель, человек, чей умственный кругозор ограничен повседневностью, возможно, и не замечает всего этого. Общество, власть умело отвлекают его внимание от все усиливающегося нажима. Улучшается его материальное положение: квартира, домик, дача, а на горизонте — автомобильчик… Чего еще от жизни ждать и хотеть? И опять вспоминается Блок:
Будьте ж довольны жизнью своей, Тише воды, ниже травы! О, если б знали, дети, вы, Холод и мрак грядущих дней!
[10]Что же значит, возможно, спросят у меня, весь этот технологический прогресс? Значит ли, что такой, как вы говорите, успех человечества есть зло? И нужно отказаться от него, осудить его? Значит, хорош и нужен только индивидуализм, столкновение эгоистических личностей? Достижение каждым только своего счастья, своих целей, своих интересов? И откуда вы взяли, что каждая отдельная личность обязательно ищет добра, служит чему–то хорошему? И не есть ли этот современный примат целого, коллектива, общества, мира над частным, единичным, индивидуальным как раз победа над разнузданным эгоизмом личности? Не есть ли ваша личность — источник зла и страдания на земле?
Вот тупик, перед которым мы сегодня стоим. Вот страшный выбор, который угрожает нам. И только поняв ужас и безвыходность этой дилеммы, можем мы, кажется, понять и то, почему в центре этой дилеммы, в самой сердцевине этой проблематики человечества оказывается вопрос о религии. Только в религиозном подходе к человеку снимается безвыходность этого выбора — или человечество, или человек. И как странно, но и как показательно то, что там, где выбирается одно или другое, там начинается преследование религии.
Было время, когда религию изобличали и отрицали во имя правды личности, когда все было сосредоточено только на человеке, а не на человечестве. В наши дни — наоборот. Религию гонят во имя человечества, гонят как непрошеную защитницу личности. Ибо в том–то и дело, что только в религиозной, только в христианской интуиции есть место и тому, и другому — и человечеству как целому, и человеку как ни к чему не сводимой и абсолютной ценности. Только в Евангелии засиял, и до сих пор сияет, свет, в котором кончается, прекращается это страшное «или — или». Или тьма машины, ее туман, «холодный и пустой», или тьма индивидуализма, одинокой личности, которая в себе, только себя признает целью существования.
Христос всегда обращается к миру, ко всем, ко всему человечеству, и Христос всегда обращается к каждому — ко мне и к тебе, к единственному (и единичному) человеку. И в этом состоит и чудо и тайна Евангелия. В нем каждый находит себя, но в себе всех и все. В нем каждый находит все, но во всем себя. Вот об этой тайне, о которой все больше и больше забывает мир, которую никто не хочет принять во внимание при решении действительно страшных вопросов современности, которую гонят во имя счастья и людей и личности, — об этой тайне нужно сегодня кричать с крыш, ибо только в ней спасение.
2. Спор о человеке
1
Когда–то немецкий философ–материалист Фейербах написал свою знаменитую фразу: «Человек есть то, что он ест»
[11]. Этой фразой он думал покончить со всеми идеалистическими спекуляциями относительно природы человека; на деле же, сам того не зная, он выразил самую что ни на есть религиозную идею человека. Ибо задолго до Фейербаха то же определение человека дано было и Библией.
В библейском рассказе о творении человек показан как существо прежде всего алчущее, то есть голодное, а весь мир — как пища человека. Непосредственно после заповеди о размножении и об обладании землей Бог предлагает человеку питаться от земли: «Вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево … вам сие будет в пищу» (Быт. 1: 29). Чтобы жить, человек должен есть, он должен принимать мир в свое тело и претворять его в себя, в свою плоть и кровь. Да, действительно, он есть то, что он ест. И весь мир в Библии показан как некий пир, приготовленный для него. И этот образ пира, трапезы остается на протяжении всей Библии центральным образом ее, образом жизни. Это образ жизни при ее создании и это же образ жизни при ее конце, или исполнении. «Дабы Вы ели и пили за Моей трапезой в Моем Царстве», — говорит Христос (Лк. 22:30).
Я начинаю с этой темы пищи и еды, темы, которая верующим и неверующим кажется второстепенной с точки зрения религии, потому что перед нами стоит главный вопрос — о какой жизни идет речь в вечном споре между верой и неверием, религией и атеизмом. Неверующий упрекает верующего в равнодушии по отношению к жизни человеческой и ее нуждам. И надо сказать, что верующие сами очень часто дают повод к этим обвинениям. Ибо они слишком часто забывают то, что сказано о жизни в Библии, в Евангелии, о подлинной природе жизни, о которой говорит Христос.
С одной стороны, для части христиан слово «жизнь» означает «религиозная жизнь». И эта религиозная жизнь составляет как бы особый, в себе замкнутый мир, отделенный от всякой другой, светской или мирской жизни, — это мир, это жизнь чистой духовности, отрешенности, ухода в себя и в свою душу. Соблазн этой отрешенности, этого ухода существовал всегда, ибо всегда и всюду жизнь, с ее суетой, неудачами, страданиями, разочарованиями и наконец смертью, была трудной и часто непосильной для человека. И как тянет тогда уйти от всего и от всех, снять с себя всю ответственность, погрузиться в нирвану и тишину чистого созерцания, молитвы, покоя!
Поэтому при такой установке все, что в религии сказано о пище, понимается в смысле только духовной пищи. Здесь царствует пафос ухода, развоплощения, отрешенности. Но наряду с этим первым пониманием и жизни и религии всегда существовал и существует и сейчас другой подход к ним.
Некоторые видят назначение религии в улучшении жизни, в той помощи, которую она может оказать миру и людям. Здесь христианство понимается как определенная политическая или социальная программа, и это понимание также выводится из Евангелия, где Христос призывает к заботе о больных, голодных, страждущих, заключенных. И вот мы стоим перед парадоксом. Если христиане призывают к духовности, если они напоминают о словах Христа: «Ищите прежде всего Царствия Божия, а остальное все приложится вам» (Мф. 6:33), их обвиняют в равнодушии к жизни, бегству от мира и его борьбы. Если же они указывают на социальное содержание христианства, на свое призвание бороться за лучшую жизнь, их осуждают за вмешательство в чужие дела, в ту сферу, которая религии не подлежит. И, повторяю, сами христиане, сами верующие бывают разделены и в себе самих, и между собою по отношению к тому, что же составляет главный призыв Евангелия, в чем основное содержание христианской жизни. Что важнее всего: уйти и молиться, или же напротив — включиться в борьбу за то, что всевозможные мирские идеологии называют «светлым будущим»? Что нужно: одухотворять жизнь или же наоборот — обмирщать религию, ставшую такой далекой от реальных нужд и запросов современного человека? — Вот вопросы, мучительно стоящие сегодня перед сознанием и верующих и неверующих. И на них невозможно ответить, не вдумавшись по–новому в изначальное религиозное понимание того, что есть жизнь.
Человек есть то, что он ест. Но что же он ест и для чего? Вопрос этот казался глупым и ненужным как Фейербаху, так и его религиозным противникам. И для него и для них питание представлялось самоочевидной физиологической функцией. И единственным разделявшим их вопросом было: существует ли что–либо еще вдобавок к этой материальной функции? Есть ли у человека некая сверхматериальная, духовная надстройка, или нет? На этот вопрос религия отвечала — да, Фейербах отвечал — нет. Но для нас важно, что и «да» религии и «нет» материализма воспринимались в контексте одного и того же противопоставления материального духовному, телесного — душевному, и с этой точки зрения Фейербах, враг всего религиозного и духовного, был на деле результатом и плодом многовекового развития самой христианской мысли, принятия ею этого основоположного разделения между духом и телом, материей и спиритуальностью, природным и сверхъестественным, священным и профанным. Фейербах считал, что пришло время разрушить всю эту священную и сверхъестественную надстройку во имя реальности материи, во имя жизни, как она есть. И сказав: «Человек есть то, что он ест», он посчитал, что этой формулой покончил с религией. Но драма в том, что те, кто отвечали ему и спорили с ним с религиозных позиций, понимали еду, питание, зависимость человека от мира и материи, в сущности, так же, как он. И отстаивали только то, что над едой есть еще что–то духовное.
Но сводится ли спор, настоящий спор, к этому противопоставлению? Мы видели, что и Библия начинает с еды, что она тоже, в сущности, разделяет формулу Фейербаха, что она отвергает противопоставление и разделение материального и духовного, а имеет в виду целого человека. Что же говорит нам Библия о мире, о пище и об отношении к ним человека, о его зависимости от них? На этот вопрос мы и постараемся ответить.
2
«Человек есть то, что он ест». Приведя эту известную фразу Фейербаха, я указывал, что философ напрасно видел в ней формулу, приканчивающую все религиозные суждения о природе человека. Я говорил, что на деле и библейское учение о творении человека можно выразить в этой формуле, поскольку человек показан в первой книге Библии как существо прежде всего голодное, чья жизнь зависит от мира как пищи. Спор здесь, следовательно, идет не о пище как таковой и не о всецелой зависимости от нее человеческой жизни, а о смысле этой пищи. Я говорил, наконец, что библейское учение о человеке и его жизни было в известной степени извращено самими верующими, которые слишком легко восприняли не из Библии и не из Евангелия идущее противопоставление материального — духовному, мирского — религиозному. На деле, в Библии мы нигде не находим этого противопоставления; в Библии еда, которую человек ест, мир, от которого он должен питаться, чтобы жить, даны ему Богом, и даны как средства общения с Богом.
Мир как пища человека не есть нечто просто исключительно материальное, ограниченное своей материальной функцией и, как таковое, противоположное и даже враждебное специфически духовному. По Библии все, решительно все существующее — от Бога, и потому все свидетельствует о Боге, ведет к Нему, приводит к общению с Ним. Если Бог, по словам Евангелия, есть Любовь, то про мир можно сказать, что он есть Божественная любовь, данная нам в пищу, ставшая нашей жизнью.
Бог, по словам Библии, благословляет все то, что Он творит, и на библейском языке это означает, что Он делает все творение, все существующее знаком и средством Своего присутствия и мудрости, любви и откровения. «Вкусите и видите, яко благ Господь!» — восклицает древний библейский поэт, автор псалмов (Пс. 33:9).
Да, человек есть существо алчущее, голодное, но он алчет Бога. За всей нашей жизнью как голодом, желанием, стремлением — стоит Бог; всякое желание, в последнем счете, есть желание обладать Им. Человек — это ясно — не единственное существо, живущее голодом и желанием. Этот голод — закон всего мира, всего существующего. Но единственность человека в том, что он один в ответ на Божье благословение способен благодарить Бога за дар жизни, он один отвечает Богу принятием, благодарностью, знанием.
При описании в книге Бытия первоначальной жизни человека удивительно то, что про человека сказано, что он призван был назвать, наименовать все вещи. Так, например, по сотворении животных Бог приводит их к человеку, чтобы человек дал каждому из них имя, и как человек назвал всякое животное существо, говорит Библия, так и было его имя.
Но опять–таки нужно вспомнить и понять, что в Библии имя — это нечто неизмеримо большее, чем способ отличать одну вещь от другой. Для всей древней культуры имя есть выражение сущности данного существа, понимание ее назначения и смысла. Таким образом, назвать, наименовать вещь — это значит раскрыть смысл и назначение, данное ей Богом. Это значит ответить Богу пониманием, принятием, обладанием. Это значит принять дар.
Но тогда становится понятным, почему в Библии хвала, благодарение и поклонение суть не только слова и акты культа, а сама глубина, сама изначальная форма жизни. Бог, по словам Библии, благословил мир, благословил человека, благословил день седьмой, то есть время; и это значит, что Он все существующее наполнил своей любовью, своей «добротой», как говорит Священная Книга, все сделал «добро зело» (Быт. 1:25). Так что естественная реакция человека, ответ его на этот дар жизни и мира — это благодарение и радость.
Это значит, что он мир должен увидеть таким, каким Бог создал и любит его. И в этом акте благодарности и хвалы познать мир, наименовать его и обладать им. Все способности человека, умственные, духовные и волевые, все то, что отличает его от всех других тварей, находит свой источник, свой корень в этом благословении и благодарности, в знании того, чего в конце концов хотят, к чему в конце концов стремятся человеческий голод и человеческая жажда.
Ученые называют человека латинским термином homo faber — «кузнец», указывая на его способность возделывать мир. Другие называют его также homo sapiens, то есть «существом разумным», указывая на его способность думать. Но в первую очередь, еще до этих двух определений, человека нужно назвать homo adorens, то есть человек благословляющий, благодарящий и радующийся.
По происхождению и по призванию место человека в мире и в природе есть как бы место священника, он стоит в центре мира и своим знанием Бога Творца и Бога Любви объединяет весь мир в себе. Он принимает мир от Бога и посвящает и отдает в жертве хвалы мир Богу, и, наполняя мир этой хвалой и благодарностью, он преображает жизнь мира, делая всю ее общением с Богом.
Можно сказать, что весь мир был создан как материя или вещество одного всеобъемлющего космического таинства, совершить которое призван человек. И люди все еще понимают это — если не разумом, то чувством и инстинктом. Века отрыва от религии не смогли, например, превратить питание, принятие пищи в нечто только утилитарное — исключительно физиологическую функцию. Человек все еще относится к пище с благоговением, обед, трапеза все еще остаются обрядом, ритуалом, можно сказать, последним натуральным таинством семьи, дружбы, общения, — всего того, что в жизни больше и значительнее, чем просто еда, просто питье. Мы приглашаем к себе друзей и мы угощаем их. Как иначе выразить близость, общение, дружбу, любовь?
Итак, есть и пить, даже для современного, технологического, утилитарного человека, — это больше, чем просто поддерживать тело физиологически. Люди могли забыть источник и корень всего этого, но они все еще празднуют пищу и, в ней и через нее, таинство жизни. Да, человек есть то, что он ест, но ест–то он свою пищу, чтобы, живя от нее, саму пищу, то есть свою жизнь, наполнять светом, хвалой, творчеством, короче говоря — Богом. Это так в религиозном замысле, но сохранил ли все это человек? К этому вопросу мы теперь и перейдем.
3
Ни в чем так не любят обвинять христианство его враги, как в христианском учении о падении человека. В этом учении видят они унижение и оскорбление человеческого достоинства, а также пессимистическое к нему отношение. Но, может быть, в свете того, что я говорил в предыдущих моих беседах, обвинение это теряет свою демагогическую остроту.
Я начал эти беседы с цитаты из Фейербаха — основоположника современного материализма. Фейербах произнес крылатую фразу: «Человек есть то, что он ест». Только вместо того чтобы возмущаться этой якобы редукцией человека к пище, к материи, я утверждал, что, сам того не зная, Фейербах сказал буквально то же самое, что говорит о человеке Библия. Библия учит о человеке как о существе прежде всего алчущем и жаждущем, о человеке, претворяющем мир в свою жизнь. Но в отличие от Фейербаха, подчинившего человека пище и материи, Библия видит в этом претворении призвание человека сам мир сделать жизнью. И, таким образом, — путем к общению с миром, его началом, смыслом, Богом. Я говорил, что на Божий дар человеку — дар мира, пищи, жизни — человек отвечает благодарением и хвалой и ими наполняет мир и преображает его. И только в свете этого основного библейского учения можно понять и то, почему символом падения человека в Библии тоже является пища.
По мифическому (то есть символическому) рассказу Библии, весь мир был дан Богом в пищу человеку, кроме одного запретного плода. И вот этот плод человек съел, не поверив Богу, не послушавшись Его.
Что же значит этот рассказ, который звучит, как детская сказка? Он значит, что плод этого одного дерева, в отличие от всех других, не был даром человеку. На нем не было этого Божественного благословения. И это значит, что если человек съел его, то не для того, чтобы и в нем иметь жизнь с Богом, не для претворения в жизнь, а как самоцель, и поэтому, съев его, человек подчинил себя пище. Не от Бога он захотел иметь жизнь и не для Бога, а для себя.
Падение человека в том, что он захотел жизни для себя и в себе, не для Бога и в Боге. Бог сам мир сделал общением с Собой, но человек захотел мира только для себя. На любовь Бога человек не ответил любовью, он полюбил мир — как самоцель. Но в том–то и все дело, что сам по себе, сам в себе мир не может быть самоцелью, как не нужна и пища, не претворяемая в жизнь. Так и мир, переставший быть прозрачным для Бога, есть суета сует, бессмысленный круговорот времени, где все течет, все исчезает и наконец все умирает.
В Божественном замысле о человеке зависимость от мира преодолевалась претворением самого мира в жизнь. Жизнь же есть имя Бога. «В Нем, — говорит Евангелие, — была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин. 1:4). Но если мир не во что претворять, если жизнь перестает быть претворением в общение с Абсолютным Смыслом, с Абсолютной Красотой, с Абсолютным Добром, то этот мир становится не только бессмыслицей, он становится смертью. В себе и по себе ничего не имеет жизни, все исчезает, все растворяется. Отрезанный от своего стебля цветок еще может некоторое время жить в воде и украшать комнату, но мы знаем, что он уже умирает, уже подчинился тлению.
Человек съел запретный плод, думая, что он даст ему жизнь. Но сама пища вне и без Бога есть причастие смерти. Не случайно то, что мы едим, должно быть уже мертвым, чтобы стать нашей пищей. Мы едим, чтобы жить, но именно потому, что мы вкушаем нечто лишенное жизни, сама пища неуклонно ведет нас к смерти. И в смерти нет и не может быть жизни.
«Человек есть то, что он ест». Так вот, он ест… смерть. Мертвых животных, мертвую траву, сам тлен и сам распад. И он сам умирает, и, может быть, величайшее падение его в том и состоит, что эту смертную и распадающуюся жизнь, эту жизнь, от рождения тронутую тлением, эту жизнь, что течет и непоправимо утекает, он — человек — считает нормальной. И в этом его убеждают те, кто смеет христианство обвинять в пессимизме и унижении человека. Но когда Христос подошел ко гробу Лазаря, друга своего, и Ему сказали: «Не подходи, ибо он уже смердит» (Ин. 11:39), Христос не нашел этого нормальным — заплакал…
«Образ есмь неизреченныя Твоея славы», — но вот убирают, прячут, чтобы он не смердел и не мешал, кого — человека! — образ и подобие Божие, царя и венец творения! Да, вот эту страшную бессмыслицу мира, эту суету человеческую на космическом кладбище, эти смехотворные попытки построить что–то для уже умирающих, уже мертвых, и, наконец, признание всего этого нормальным и естественным — вот все это христианство провозглашает падением, изменой человека самому себе и своему Божественному и вечному назначению, с этим не хочет мириться, про это твердо и ясно утверждает: «Последний же враг истребится — смерть» (1 Кор. 15:26).
Мы начали эти беседы с пищи, с фейербаховского «человек есть то, что он ест». И мы увидели, что все христианство тоже ставит в центре своего понимания этот присущий человеку голод. Но только совсем по–другому отвечает христианство на вопрос, чего же в конце концов хочет человек, что одно может насытить его. О чем он голодает? Фейербах и материалисты всех оттенков отвечают на это: он хочет свободы, благоустройства, сытости. Но для чего свобода, благоустройство и сытость приговоренному к смерти? Зачем строить дачи на кладбище? Что бы мы ни делали, все упирается в ту бессмыслицу, которую так хорошо выразил Вл. Соловьев: «Смерть и время царят на земле…»
Христианство же на этот вопрос отвечает — человек хочет жизни, и не на миг, а на всю вечность, той жизни, которая в церковном песнопении так изумительно названа «жизнью нестареющей». Но эта жизнь не в пище, хотя через пищу человек получает ее, и не в воздухе, хотя воздух дает возможность искать и жаждать ее, и даже не в здоровье. Жизнь эта в Том, Кто Сам есть Жизнь, то есть в Боге, в знании Его, в общении с Ним, в любви, хвале и обладании Им. Поэтому павший в смерть и в рабство пище, ставший только тем, что он ест, человек должен быть спасен. В этом учении о спасении, восстановлении, воскрешении человека от смерти в Жизнь — следующая основная тема христианства.
3. Христианство как религия спасения
Христианство есть религия спасения. Но спасения от чего и спасения — как? Увы, сами христиане так часто упрощали и затемняли это спасение, так часто огрубляли его, что давали пищу такому же упрощению и огрублению врагам религии.
«Христиане — это маленькие и слабые люди, которым нужно спасение; нам не нужно спасения, мы сами себя спасем». «В борьбе обретешь ты право свое»; можно прибавить — и спасение… Так, или приблизительно так, тысячи вариантов, отвечает христианству антирелигия. Поэтому так насущно и так необходимо понять, что на языке Библии и на языке христианства означает спасение. Но понять это можно только в свете того, что говорили мы в прошлых наших беседах о падении человека. Ибо речь идет, конечно, не о спасении от тех или иных несчастий или несчастных случаев, болезней, страданий и так далее. Это, казалось бы, должно было бы быть ясно самим христианам, которые часто в своей религии видят как раз сверхъестественную помощь, как бы восполняющую помощь естественную, видят своего рода перестраховку. Скажем прямо, что такое понимание спасения есть понимание извращенное и огрубленное. Это должно быть ясно прежде всего из самого Евангелия, из той страшной главы, в которой рассказывается, как в ночь перед предательством и смертью, Один в саду, брошенный спящими учениками, Христос молился о том, чтобы миновала Его чаша, и, как говорит Евангелие, «начал ужасаться и тосковать» (Мк. 14:33).
Если бы христианство было действительно религией спасения от земных зол и печалей, его можно было бы считать провалившимся…
Нет, не об этом спасении идет речь. Речь идет о спасении от того падения, о котором мы говорили раньше. От той радикальной и трагической перемены, что произошла и происходит все время во взаимоотношениях человека с собственной жизнью, — перемены, исправить и починить которую уже невозможно человеку одному. Я приводил имя этой перемены, этого падения. Имя это — смерть. Смерть не только как конец жизни, но сама жизнь, как бессмысленная трата, утечка и угасание; сама жизнь как с момента рождения уже и умирание. Это превращение мира в космическое кладбище. Это безнадежное подчинение человека тлению, времени и смерти. Не слабый, а сильный хочет этого спасения, жаждет его. Слабый хочет помощи. Слабый хочет того муравьиного и скучного счастья, которое предлагают ему идеологии, раз и навсегда примирившиеся со смертью. Слабые согласны на то, чтобы пожить и умереть. Сильные считают это недостойным человека и мира. Так падает главное, исполненное презрения обвинение — дескать, слабенькие вы, если вам нужно спасение. Не нам одним оно нужно, но всему тому образу мира и жизни, что живет в человеке и всем своим существом противостоит этой бессмысленной суете на набитом трупами земном шаре.
Таким образом, христианское понятие спасения — это восстановление той жизни, Жизни с большой буквы, Жизни вечной и нестареющей, о которой знает человек, что он для нее создан. И не слабость, а сила человека в том, что этого спасения он ждет и его получает от Бога. Ибо Бог и есть та Жизнь, которую потерял человек, подчинив себя без остатка миру, растворив себя до конца во времени и смерти. И вот мы верим, и мы знаем, как говорит апостол Иоанн Богослов, что «Жизнь явилась» (1 Ин. 1:2).
Бог спас нас не силой, не чудом, не насилием, не страхом, не принуждением, — нет. А только явлением среди нас и нам, в мире и для мира, для самой жизни. Жизни как Божественной красоты, мудрости и добра. Жизни как красоты мира и человека. Жизни, способной в себе и собой претворить, разбить и изжить смерть. И явилась эта Жизнь не как еще одна философская теория, не как принцип организации, а как Человек. Да, христианство учит и возвещает, что в одном Человеке, в одной точке и времени, человеку явилась Божественная Жизнь в образе совершенного Человека — Иисуса Христа из Назарета Галилейского.
Ученый, техник, так называемый «современный человек», пожимает плечами: что за чушь! Но вот, чушь или не чушь, а на протяжении почти двух тысяч лет этот Образ, этот Человек, эта Жизнь сохраняют ни с чем не сравнимую власть над сердцами и жизнью людей. Нет учения, нет философии, которые бы не изменились, не исчезли за это время, ни одного государства, ни одной формы жизни, которая бы не ушла в вечность. И если было и есть в истории чудо, так это память о Человеке, не написавшем ни одной строчки, не заботившемся о том, что скажут о нем потом. О Человеке, умершем позорной смертью на кресте, как преступник, о Человеке, живущем, буквально живущем, в тех, кто верит в него. Он сказал про Себя — «Я Путь, Истина и Жизнь» (Ин. 14:6). И этим путем идут, эту истину хранят, этой жизнью живут миллионы людей, так что даже самое могущественное государство, организовавшее буквально всю жизнь людей, от пеленок до смерти, контролирующее каждое слово, каждую мысль, каждый вздох людей, — даже это государство ничего не могло с этой верой сделать.
Христос есть Спаситель мира — вот древнейшее христианское утверждение. И спас Он мир и нас тем, что дал возможность жить жизнью, от смерти и времени не зависящей, и это и есть спасение. Когда Павел, поверивший во Христа, после долгого гонения Его последователей, вдруг восклицает: «Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение!» (Флп. 1:21), мы можем сказать, что что–то радикально переменилось в мире.
Да, люди продолжают умирать по–прежнему, по–прежнему мир наполнен разлукой, печалью и страданием. Но в нем загорелся и горит свет веры. Не только в то, что где–то и когда–то за пределами жизни продолжится наше существование — в это верили люди и до Христа. А в то, что сам мир и сама жизнь снова получили смысл и глубину, что само время наполнилось светом, что вечность вошла в нашу жизнь уже сейчас и здесь. Вечность — это прежде всего знание Бога, открытое нам Христом. Нет больше одиночества, нет страха и тьмы, Я с вами, —говорит Христос, — с вами сейчас и навеки, всей любовью, всем знанием, всей силой. Вечность — это та заповедь любви, которую Христос нам оставил. «По сему узнают все, что вы — мои ученики, если будете любовь иметь между собою» (Ин. 13:35). И наконец, имя этой вечности — «мир и радость в Духе Святом» (Рим. 14:17), которой, по слову Христа, «уже никто не отнимет у вас» (Ин. 16:22). Вот все это и есть спасение.
4. Христианское понятие свободы
1
Сейчас много говорят во всем мире, в самых разных его частях, об освобождении. Это, пожалуй, одно из самых характерных, самых популярных понятий нашего времени. Освобождение от ненавистного тоталитарного режима, от партийного надзора, от партийной идеологии. Освобождение от колониального империализма. Освобождение от фарисейства и материализма общества, освобождение от половых табу, от морализма, от давления социального конформизма и так далее, и так далее.
Как–то почти внезапно человек почувствовал себя порабощенным, игрушкой в руках каких–то сил, которые он сам не контролирует, над которыми он не имеет власти, и стал страстно ждать и жаждать освобождения. И вот, я убежден, что главной опасностью этого стремления является то, что освобождение подавляющее большинство людей воспринимает в его отрицательном смысле — как ликвидацию того или иного препятствия к свободе, как борьбу прежде всего с чем–то, а не за что–то. Уберите колониализм — и все зацветет, уничтожьте постылую и ненавистную власть и партию — и будет свобода, откиньте фарисейские запреты на половую жизнь — и засияет чистая и свободная любовь. Увы, это большинство не знает, что отрицательным своим содержанием понятие освобождения исчерпано быть не может, что, говоря по–другому, недостаточно что–то убрать и что–то ликвидировать, чтобы наступила свобода.
Маркс считал, что достаточно уничтожить частную собственность и обобщить орудия производства, и почти автоматически совершится «прыжок из царства необходимости в царство свободы»
[12]. Но ведь мы знаем теперь, что это не так, что эта призрачная свобода обернулась на деле неслыханным закрепощением и порабощением человека. И потому нет сейчас более спешной задачи, более важной темы, чем выяснение, хотя бы самое общее, уже не отрицательного, а именно
положительного понятия освобождения, или, может быть, еще проще — таинственного, неуловимого, ослепительного понятия свободы.
Ведь вот, веками как зачарованный повторяет это слово человек, и все же остается она, эта свобода, каким–то недостижимым, недоступным идеалом, а это так потому, конечно, что не хватает у человека решимости и мужества по–настоящему заглянуть в эту бездну, по–настоящему заглянуть в лицо свободе. Достоевский даже прямо утверждал, что на деле человек боится этой свободы и бежит от нее, ибо слишком тяжко это бремя для его слабых сил, и что инстинктивно, сам того не сознавая, ищет он того, чему бы мог подчиниться и во имя чего от свободы своей отказаться. Потом, правда, он начинает бунтовать против того, чему подчинился, но бунт — это еще не свобода. Бунт — это отрицание, но никогда не утверждение.
И вот пора, пора напомнить и себе и другим, откуда возникло, пришло к нам это таинственное, почти неуловимое понятие свободы. Ведь его тысячелетиями не знал человек, не знали даже великие и древние цивилизации. Античная Греция, например, разумела под свободой свободу города от других городов, независимость народа от других народов, но отлично уживалась с рабством и с подчинением всех абсолютной власти. Древний Рим создал систему права, но, как только какие–то странные люди отвергли божественность и абсолютизм самого Рима, он бросил этих людей на съедение львам и распял их на крестах. И тут тоже царило рабство, царил неподвижный сакральный строй, поставить который под вопрос считалось уже преступлением, заслуживающим смерти.
Нет, совсем не так просто и не так самоочевидно это понятие свободы, как думают современные пророки и идеологи всевозможных освобождений, ибо в том–то и все дело, что понятие это прежде всего парадоксальное и, значит, не выводимое самоочевидно из человеческого жизненного опыта.
Ведь в природе — надо ли это доказывать? — нет свободы. В ней, действительно, царит абсолютный детерминизм, железный закон причинности, и вся наука, в сущности, только на то и направлена, чтобы закон этот понять и определить. Но тогда и человек, если он всего лишь часть этой природы, если он только природа, не может ни на какую свободу претендовать. Тогда он тоже, хотя и более сложно, подчинен тому же закону детерминизма, причинности, — закону, не терпящему, не допускающему исключений. И тогда все его рассуждения о свободе не что иное, как болтовня, не имеющая никакого внутреннего содержания.
Я знаю, многие просто пожмут плечами, когда я скажу, что единственным, подчеркиваю, единственным содержанием самого слова свобода является религиозное понимание человека, то есть такое понимание, которое не сводит его к одной природе. Если мы хотим от отрицательного понятия освобождения перейти к положительному понятию свободы, мы не можем не обратить своего взора туда, где впервые слово это засияло по–новому, наполнилось действительно неслыханным содержанием и небывалой силой, а значит — к Евангелию и учению Христа.
Есть эти таинственные слова Христа в Евангелии: «Познаете истину, — говорит Он, — и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32), или по–другому: освободит вас. И далее, тот ученик Христа, который более всего сделал, чтобы учение Христа распространить по всему миру, чтобы донести его до внимания людей совсем другой культуры, совсем других психологических предпосылок, этот ученик — Павел — тоже свел все учение Христа к одной проповеди свободы. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подчиняйтесь снова игу рабства» (Гал. 5:1) — вот его слова.
Свобода в Евангелии — что она может означать, какая ее связь с истиной, какая ее связь, с другой стороны, с тем пониманием человека, нуждающимся в спасении, нуждающимся в Боге, которое мы находим во всем Священном Писании? А между тем, повторяю еще раз, только там слово «свобода», которое до этого имело только национальный и государственный смысл, — только там, в Евангелии, оно стало относиться, было отнесено к человеческой личности.
Вот об этом источнике свободы в нашем мире мы и поговорим в следующей нашей беседе.
2
В прошлой нашей беседе мы говорили о свободе. И пришли к выводу, что никакой свободы не дано, так сказать, в природном и натуральном порядке вещей. Более того, если мы можем порядок этот постигать, создавать постепенно величественное здание знания и науки, то именно потому, что все в нем определено причинностью, зависимостью одних явлений от других, отсутствием непредвиденного, то есть опять–таки свободы. И поэтому мы поставили вопрос: откуда взялась, где и как возникла эта неумирающая мечта о свободе, которой грезит человек, ради которой готов на самые последние жертвы? И, далее, в чем же состоит она, в чем сущность этой свободы, ее жизнь? И другого ответа на этот вопрос мы не могли дать, кроме того что понятие свободы и жажда свободы — религиозного корня и происхождения.
И я знаю, что утверждение это может показаться странным и диким людям, которых воспитали в уверенности, что религия — это и есть главный синоним рабства, которым вбили в голову, что настоящее освобождение начинается с освобождения от религии. И потому я знаю и то, как трудно убедить человека в обратном: что произошла страшная, трагическая путаница понятий, что о свободе говорят и от ее имени действуют те, кто не только не верит в нее, но у кого в их миропонимании нет и не может быть никакого места для свободы. И что рабством называют тот один источник и то одно понимание жизни, мира и человека, из которых вечно рождается лучезарное видение свободы и жажда это видение воплотить.
Но как бы то ни было трудно, нужно все–таки попытаться, и поэтому начнем с начала, и прежде всего подчеркнем еще раз, что речь здесь идет не о религии вообще, ибо явление это сложное и многообразное и у него были и могут быть разные корни. Речь идет о том религиозном мироощущении и миропонимании, которое было заложено уже в Библии, но которое свое воплощение и выражение в обществе, в культуре, в жизни нашло в христианстве.
Я утверждаю и попытаюсь доказать, что в самом сердце этого миропонимания и мироощущения стоит именно благовестие свободы, понятие свободы, вещание свободы. Далее, я утверждаю, что вне этого миропонимания понятие свободы не только не имеет смысла, но делается, как это ни звучит странно и даже трагически, одним из источников самого настоящего рабства.
В чем смысл библейского рассказа о человеке, этого символического рассказа о творении человека? Ясно, что это не история, не факты биологические или физические; это именно духовное объяснение человека, основоположное, решающее откровение о нем. И заключается оно в том именно, что он свободен, и призван к свободе, и в этой реализации свободы его функция и призвание в мире, до конца подчиненном природному детерминизму.
Да, в том–то и все дело — и об этом библейский рассказ, — что свобода не может прийти снизу, не может прийти от природы, ибо в природе нет свободы. Свобода может прийти только сверху, только если есть Свободный и Творческий Абсолютный Дух, только если над миром природы и детерминизма царит Божественная Свобода, никем и ничем не детерминированная. И вот, конечно, смысл библейских слов «сотворим человека по образу нашему и подобию» (Быт. 1: 26): человек — снизу и сверху одновременно. Человек снизу — земля, материя, плоть, до конца подчиненная закону причинности и закону детерминизма, и об этом знает религия: «Земля еси и в землю отыдеши». Но это как раз то одно, что и видит в нем, к чему сводит его и материалист, тут же каким–то образом говорящий и о свободе. Но, повторяю, не может прийти свобода снизу — ибо нет свободы внизу. И потому, с другой стороны, человек сверху. Он образ и подобие Свободного Божественного Духа, он носитель свободы в мире природы. Он не только земля и земное, но и дух.
Библейская христианская религия начинает, таким образом, с признания человека существом сложным, тогда как всякая антирелигия стремится упростить его. Да, христианство говорит, что человек пал. Но само это падение, саму эту возможность падения выводит не из низкого, а из высокого в человеке — из его свободы, ибо только высокое может пасть и только падение высокого есть трагедия. Если падает и разбивается на куски кусок глины, в этом нет трагедии; если падает и разбивается драгоценный сосуд — это трагедия.
Да, человек пал и все время падает, и только для него одного во всем мире падение — это трагедия, только для него ставится в этом падении вопрос о свободе. Только тут появляется тоска по свободе и вся жизнь становится жаждой и исканием свободы. Но теперь нам нужно спросить, в чем же содержание этой свободы? Свобода от чего? Свобода в чем? Мы так привыкли и поэтому так оглохли к этому слову…
Я говорил уже в моей предшествующей беседе, что слово «свобода» отождествляем мы почти исключительно с отрицательным значением, с освобождением от чего–то, но в христианском и религиозном понимании этого слова свобода не только понятие отрицательное, освобождающее от чего–то и кого–то, свобода есть само содержание жизни, свобода есть ее полнота. Свобода есть наполненность человека чем–то, и вот это что–то, что и содержит в себе настоящую и подлинную свободу, также льется, также приходит к нам из все того же религиозного библейски–христианского понимания и ощущения человека.
Нас призывают к свободе во имя всех возможных идеологий, но на деле — и мы к этому еще вернемся в дальнейшем — каждая из идеологий порабощает человека мертвой догме, мертвым предпосылкам, мертвой системе. Свобода неизбежно на этой земле, в этом мире оборачивается рабством. Поэтому недостаточно сосредоточиться на отрицательном и освободительном понимании свободы. Освобождение во имя чего? В чем же эта последняя истина, последняя полнота свободы? На эти вопросы мы попытаемся ответить в следующей нашей беседе.
3
В прошлых моих беседах я говорил о религиозных, точнее, христианских корнях и истоках свободы. О том, что, что бы ни утверждали присяжные враги религии, никакой другой основы нет у свободы, кроме христианского понимания человека, мира и жизни.
Сегодня вдумаемся, вслушаемся в это мое утверждение поглубже, вдумаемся потому, что я знаю, каким парадоксом звучит оно не только для открытых врагов религии, но, что гораздо грустнее, так часто и для самих религиозных людей. Многие из них столь привыкли сводить религию к одному лишь послушанию, слепой вере, безотчетному хранению даже непонятных для них преданий и обычаев, что они уже не слышат и не понимают, о каком послушании идет речь. Не слышат всей глубины евангельского благовестил: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подчиняйтесь опять игу рабства» (Гал. 5:1). Им и в голову не приходит, что само послушание, сама верность и самоотдача, стоящие в сердцевине христианства, неотделимы от этого благовестия свободы.
Но, прежде всего, о какой свободе, о свободе от чего говорит Евангелие и возвещает Христос? Свобода тут противополагается рабству, а под рабством разумеется сначала и превыше всего порабощенность человека греху и смерти. Опять–таки, для нас, понимающих и признающих грех в лучшем случае как нарушение того или иного правила, как то или иное преступление против Закона, эта идея порабощенности человека греху попросту непонятна. Подавляющее большинство из нас чувствуют себя неплохими людьми — не хуже и не лучше, чем другие, как мы обыкновенно выражаемся. Что же касается недостатков, тех или иных грешков, сделок с совестью, падений, то все это мы считаем, в сущности, нормальным — в порядке вещей. У кого же этого нет — все мы люди, все мы человеки, слабые и грешные. Но все же — совсем недурные люди.
Нужно ли говорить, что в этой атмосфере самодовольства и нравственного минимализма христианство по–настоящему не звучит, не применимо, не имеет смысла, а если имеет, то не тот, что мы находим в Евангелии, а тот, что сами вкладываем в него. Ибо под грехом имеет в виду христианство совсем не тот или иной грешок, недостаток и, может быть, даже не падение — нет, под грехом разумеет оно как раз то самое внутреннее отпадение от Бога, от его Истины и духовного закона, которое выражается в первую очередь вот в этом нашем самодовольстве, нравственном минимализме. Грех не в том, что мы падаем и грешим, а в том, что мы уже не замечаем настоящего падения, не замечаем падшести самой нашей жизни, «нормальной», «естественной». И достаточно сравнить это наше маленькое самодовольство и это маленькое признание греха с тем чувством греха, с тем воплем о раскаянии и прощении, который льется почти с каждой страницы Библии, чтобы убедиться в потрясающей, коренной разнице между ними.
Короче говоря, мы не ощущаем и не сознаем своего рабства греху, своей порабощенное™ грехом, а потому и не хотим свободы от них. Как птица, родившаяся в клетке, не улетает из нее на свободу, даже если перед ней открывают дверцу, так и мы уже не сознаем больше, что вся наша жизнь искалечена, отравлена и изуродована грехом. Что мы не те и не такие, какими бы могли и должны были бы быть.
И то же самое можно сказать и о порабощенности человека смертью. Сколько бы мы ни боялись смерти, сколько бы мы ни трепетали перед нею, мы признаем ее вполне законным и нормальным явлением, одним из тех пресловутых законов природы, в которых нас учат даже искать мудрости и подчиниться которым нас всегда призывают.
Человек смертен. Вот и все. Неприятно, но ничего не поделаешь. Подчиняйся и примиряйся, и говори еще при этом никому не нужные слова о покое и отдыхе. Но как же тогда нам услышать евангельское благовествование о том, что «последний же враг истребится — смерть» (1 Кор. 15:26)?
И что именно от этого ужасного рабства человека смерти пришел нас освободить Христос? Что же делать с рабами, которые так привыкли к своему рабству, что уже даже не ощущают его как рабство, что они даже не знают, чем они должны были быть, что они были свободными?. Что делать с рабами, которые, забыв о подлинной свободе, играют в игрушку, называемую ими свободой, как если бы переходить из одной тюремной камеры в другую называлось в тюрьме освобождением?
Но вот христианство говорит: пока порабощен человек греху и смерти, пока примиряется он с ними и даже не ощущает их как страшное и неизбывное рабство, призрачны и пусты все человеческие рассуждения о воле. И речь идет только о более длинной или более короткой цепи, которой прикреплены мы все к тому же столбу, к тому же рабству. И потому только по отношению к нему, к этому рабству, можно строить и понятие свободы. Ибо для христианства понятие это означает не временное освобождение от той или иной зависимости, но прежде всего коренную и внутреннюю перемену человеческого сознания, а потому и всей человеческой жизни. Для христианства эта внешняя свобода, вернее, то, что мы называем свободой и что всегда временно и преходяще, немыслимо, не имеет никакого значения без внутреннего освобождения человека, без возвращения к нему его врожденной способности к свободе. Ибо именно эта способность к свободе, жажда подлинной свободы, свободы от греха и смерти, разбила в нем то рабство, о котором мы только что говорили. Поэтому прежде чем применять это христианское понятие свободы к нашим земным реальностям и нуждам, нужно во всей полноте услышать евангельское благовестив о Том, Кто являет свободу.
5. Опыт встречи человека с Богом
Что лежит в основе религии? — Опыт встречи человека с Богом.
Я говорю это и чувствую, до какой степени ответ этот одновременно и прост и сложен. Прост потому, что каждый верующий немедленно с ним согласится, скажет: да, именно встреча, ибо другого слова не подыщешь; не логический вывод, не результат рассуждений, споров, доводов, доказательств, а встреча, столь для души, для сознания несомненная, что после нее просто непонятным становится, как можно было не верить, а также и то, о чем, собственно, велись споры и рассуждения.
Но ответ этот и сложен, ибо как только пытаешься разъяснить, рассказать, в чем состояла эта встреча, передать это привычными и обычными словами, сразу же чувствуешь всю бесконечную трудность, может быть даже невозможность слова эти найти, другому передать то, что случилось с тобой. И потому так часто это бывают неудачные слова, не те, не о том.
В так называемой Третьей книге Царств, одной из древнейших книг, входящих в Библию, есть удивительный рассказ именно об опыте такой встречи человека с Богом. Там рассказывается, как явился Бог пророку Илии.
Пророк Илия стоял в горной пещере, и вот, рассказывает древний автор, был «большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом; но не в ветре Господь. После ветра землетрясение; но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь; но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь» (3 Цар. 19:11–12).
Какие удивительные слова — веяние тихого ветра, в славянском переводе Библии — «глас хлада тонка», — и в нем Господь! Что же значит этот рассказ, эти удивительные, ни на какие другие не похожие слова?
Прежде всего значат они, конечно, то, что не во внешних и внешностью своею принудительных явлениях совершается эта встреча души, сознания человеческого с Богом. Буря, землетрясение, огонь, — все это символы именно внешних событий, всего того в нашей жизни, что действует на нас своею силой, непреодолимостью того, перед чем мы чувствуем себя беззащитными, что вызывает в нас страх, заставляет нас как угодно и где угодно искать спасения и хотя бы на время порабощает нас, лишает нас внутренней свободы. И именно в страхе перед такого рода грозными и пугающими событиями видят, например, материалистические враги религии ее корень, зарождение ее в человеческом сознании. Человек–де ищет веры, потому что ему страшно.
Этим рассказом, написанным тысячелетия назад, Священное Писание утверждает — нет, не в этих явлениях, не в бурях, не в землетрясениях и огне, не в принуждении ума и сознания начало веры. Не тут встреча с Богом и сущность религиозного опыта — не в этом. А в веянии тихого ветра, в «гласе хлада тонка».
Как раз и нет в этой встрече принуждения, давления, устрашения, ибо не в том ли весь внутренний смысл этого тихого веяния, что его можно не заметить, что мимо него можно пройти, будучи занятым чем–то другим, что кажется нам важным и, так сказать, первоочередным, что заполняет целиком наше сознание, мешает нам это тихое веяние почувствовать, этот глас хлада тонка услышать нашим внутренним слухом.
Как удивительно, как абсолютно противоречит всем казенным утверждениям антирелигиозной пропаганды через все Священное Писание, через весь Ветхий и Новый Завет проходящее откровение — не насилует нас Бог, не принуждает верить в Себя, не заставляет ощутить Себя. И только вот в этом незаметном, почти неощутимом, веянии встречаем мы Его — не как боязливые запуганные рабы, а как свободные люди.
Вот как в другой книге Священного Писания, у пророка Исайи, дается нам образ будущего Спасителя, образ того, как совершается последняя и решающая встреча человека с Богом.
Пророк пишет: «Нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и болезней, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. <…> Он был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:3—5).
Верующие всех времен в этом пророчестве Исайи всегда видели пророчество о Христе. И действительно, что другое можно сказать об образе Христа, каким извечно светит Он нам со страниц Евангелия? И не в том ли вся глубина и единственность христианской веры, что последнюю, решающую встречу человека с Богом оно увидело в этом Человеке — не имевшем ни вида, ни величия, бездомном, гонимом, распятом и, главное, ненавидимом всеми теми, кто только в потрясении, во внешнем, принудительном ищет смысл истории и жизни?
Но не было, да и сейчас нет, принудительных причин верить во Христа, принимать Его, любить Его, сказать про Него то, что сказал про Него стоявший у креста римский сотник: «Воистину Человек сей Сын Божий» (Мф. 27:54). К Христу приводит только свобода, ибо весь Он, все Его учение, вся Его проповедь к нам есть именно «веяние тихого ветра». И потому только на самой глубине чувствует душа это тихое веяние и в нем встречает Бога.
6. Цикл бесед о христианском понимании смерти
1
Скажем прямо и без обиняков: вопрос о религии, о Боге, о вере неотделим в человеческом сознании от вопроса о смерти. Или, вернее, от вопроса о том, есть ли что–нибудь после смерти или нет. Это пресловутый, не перестающий мучить человека вопрос о загробном мире и загробной жизни. А так как никаких научных, то есть позитивных, очевидных, поддающихся проверке доказательств по этому вопросу нет, ни в одну, ни в другую сторону, ни положительных, ни отрицательных, то остается вопрос этот вечно открытым и вызывает вот уже тысячелетиями страстные и мучительные споры.
Правда, официальные отрицатели потустороннего мира претендуют на то, что они доказали что–то научно, то есть что именно позитивно и научно можно отрицать и существование чего–либо после смерти, и бессмертие души. Но все эти доказательства можно разбить так, как их разбивает почти мимоходом Владимир Набоков в одном из своих рассказов (заметим при этом, что сам Набоков человек неверующий).
В одном из его романов умирает после долгой и мучительной болезни человек, и за несколько минут до смерти он приходит в себя, он очнулся от длительного бреда, и к нему со всей силой возвращается в последний раз вопрос — есть ли что–либо там — после, или же нет. В комнате, где лежит умирающий, закрыты ставни и за окном слышится журчание воды. И вот умирающий говорит себе: «Конечно, ничего нет, это так же ясно и очевидно, как то, что за окном идет дождь». «А между тем, — замечает Набоков, — за окном сияло радостное весеннее солнце, и квартирантка верхнего этажа поливала цветы на подоконнике, и вода, журча, лилась на нижнее окно».
У Набокова это ироническое опровержение всех так называемых «доказательств» — да, падает дождь, ясно и очевидно, а на деле нет никакого дождя — есть солнце.
Поэтому, очевидно, не к науке нужно обращаться с вопросами о загробной жизни и о том, что происходит после смерти. Науке, в сущности, тут делать нечего, ибо в том–то все и дело, что наука занимается исключительно посюсторонним миром, и все ее методы, инструменты, гипотезы и выводы только к нему, к его изучению и приспособлены.
Но если не к науке, то к кому же, к чему же? К философии? Да, начиная с самой зари человеческой мысли пыталась философия дать окончательный ответ на этот мучительный вопрос.
Вот знаменитый диалог Платона «Федон», целиком посвященный доказательству бессмертия души. Это, по всей вероятности, одна из самых глубоких книг, написанных на эту мучительную тему. И не случайно, конечно, герой другого литературного произведения в одном романе Алданова
[13] судорожно ищет именно эту книгу перед тем, как покончить жизнь самоубийством: «Вот сейчас узнаю, говорит он, есть ли там что–либо или нет». Правда, книги он не находит.
Но все же и доказательства Платона действуют, кажется, только на тех, кто и без него уже верит в бессмертие души. Что–то не слышно на протяжении всей истории человечества, что кто–либо, прочтя платоновский «Федон», сказал бы — да, я раньше не верил в бессмертие души, но вот Платон доказал его, и теперь я верю.
И то же можно сказать про почти все философские попытки это сделать, причем дополнительная трудность или же недостаток доказательств вроде платоновских в том, что в целях утверждения другого мира они, в сущности, подтачивают реальность, ценность этого, посюстороннего мира.
«Вся жизнь мудреца, — говорит Платон, — есть одно вечное умирание». В этом мире только страдание, только бессмыслица, только перемена, значит, — таков аргумент Платона — должен быть другой мир, где все счастье, все вечность, все блаженство, все неизменность. И так почти всегда — плохо здесь, поэтому ждите того, что там.
Но ведь именно против этого развенчания нашего, единственного ведомого нам мира, против его отрицания, обесценивания и обессмысливания и произошел в мире великий бунт, именно благодаря этому произошел великий отход человека от религии. Ибо не может же быть так, что Бог сотворил мир и жизнь, и всю их красоту, и все их возможности только ради того, чтобы человек отрицал их и отказывался от них во имя неизвестного, всего лишь обещанного ему другого мира? Поскольку же именно к этому призывает религия, все религии, то — долой религию, обойдемся без нее, станем как можно лучше жить здесь, на земле.
И получается так, что формально человечество разделилось как бы на два лагеря, вечно враждующих друг с другом — из–за чего? Из–за смерти. Из–за ее осмысления. Одни во имя потустороннего, загробного мира действительно обесценивают этот мир, эту жизнь, уступают ее бессмыслице и злу, ибо только там, говорят они, нет бессмыслицы и нет зла. Другие во имя этого мира, во имя здесь, отрицают какую бы то ни было возможность вечности, но таким образом делают человека явлением случайным, мимолетным, временным.
Но можно ли признать одно из этих решений приемлемым? Неужели правда: выбор, стоящий перед нами, — это выбор между, в последнем итоге, двумя бессмыслицами? С одной стороны, вера в Бога–Творца — и отрицание Его творения, жажда уйти из этого Божьего мира; с другой стороны, утверждение мира, ужасающего по своей бессмысленности, ибо тот, кто один только и может пользоваться и наслаждаться им, — человек — есть в этом мире случайный гость, обреченный на полное уничтожение. И вот эта бессмысленная и страшная дилемма и приводит нас к тому вопросу, который каждый из нас должен задать, — как я, на самой последней глубине, отношусь к этому неизбывному, всем присущему, постоянному вопросу о смерти?
Что говорит христианская вера, построенная на учении о преодолении смерти и воскресении, по этому поводу? — Вот вопросы, с которых начинается настоящее обсуждение мучительной, бесконечно мучительной проблемы смерти. И может быть, все дело в том, что настало время подойти к ней с мужеством и смирением?
«Последний же враг истребится — смерть» (1 Кор. 15:26) — так на самой заре христианства пишет апостол Павел, обратившийся ко Христу после яростного преследования Его, после страстной ненависти к христианам.
Я говорил в прошлой моей беседе, что вопрос о смерти, точнее недоумение о смерти, стоит в самой сердцевине человеческого сознания и, в конечном итоге, отношение человека к жизни, то, что мы называем его мироощущением или мировоззрением, определяется на глубине его отношением к смерти. Я говорил также, что существуют в основном два таких отношения, оба очевидно неудовлетворительных, оба не дающих настоящего ответа.
С одной стороны, это своего рода отрицание жизни во имя смерти: я цитировал слова греческого философа Платона. «Жизнь праведника, — говорил он, — есть вечное умирание». Здесь, как и во многих религиях, побеждает неизбывность, неизбежность смерти, обесценивающая жизнь. Ибо если неизбежно умереть, то лучше все надежды, все упования перенести туда, в таинственный потусторонний мир.
Но этот ответ я называю неудовлетворительным, потому что именно об этом потустороннем мире и не знает ничего человек. А как можно сделать предметом своей любви то, чего не знаешь? Отсюда восстание человечества против этих «похоронных», «погребальных» религий, отрицание этих печалью пронизанных мировоззрений. Но отрицая их во имя
этой жизни, во имя
этого мира, человек все же не освобождается от навязчивого ощущения и сознания смерти. Напротив, лишенный перспективы вечности, он делается еще более хрупким, еще более эфемерным на этой земле. «И мы по квартирам / Пойдем с фонарем, / И тоже поищем, / И тоже умрем», — писал Пастернак
[14].
И вся современная цивилизация оказывается пронизанной страстным желанием заглушить этот страх смерти и вытекающее из него, как капающий яд, ощущение бессмысленности жизни. Что такое эта напряженная борьба с религией, как не безумное стремление выкорчевать из человеческого сознания память и вопрос о смерти и, следовательно, вопрос: для чего живу я этой короткой хрупкой жизнью?
Итак, два ответа, оба в конечном итоге никакого настоящего ответа не дающих. И это, как я говорил, и заставляет нас спросить, что же о смерти говорит христианство, ибо даже если мы почти ничего не знаем о христианстве, мы не можем не помнить смутно, что его подход к смерти — другой, не могущий быть сведенным ни к одному из тех двух, о которых мы только что говорили.
2
«Последний же враг истребится — смерть». И вот сразу мы попадаем как будто в совсем другое измерение: смерть — это враг, который должен быть истреблен. И вот мы оказываемся так далеки от Платона и от его усилий заставить нас не только привыкнуть к мысли о смерти, но полюбить эту мысль, сделать саму нашу жизнь «упражнением в смерти».
Христос плачет у гроба Своего умершего друга Лазаря — какое это потрясающее свидетельство! Он не говорит: «Зато он теперь в раю, ему хорошо; он освободился от этой трудной и печальной жизни». Христос не говорит всего того, что говорим мы в своих жалких, неутешительных утешениях.
Он не говорит ничего, Он — плачет. И затем, по рассказу Евангелия, Он воскрешает Своего друга, то есть возвращает его как раз в ту жизнь, освобождение от которой мы должны воспринимать как якобы благо.
И далее, разве не стоит в самом центре христианства Пасха, с ее радостной вестью о том, что смерть побеждена? «Смертию смерть поправ» — разве не вошло христианство в мир и не побеждало его столетиями этой неслыханной вестью о том, что «побеждена смерть победой»? Разве не есть христианская вера прежде всего вера в воскресение Христа из мертвых? В то, что «восстанут мертвые и сущие во гробах возрадуются»?
Да, конечно, все это так, но, пожалуй, и в самом христианстве, и у самих христиан тоже ослабела эта победная, эта действительно новая и с точки зрения мира сего безумная вера; и христиане стали тоже тихонько возвращаться к Платону с его противопоставлением не жизни и смерти как двух врагов, а противопоставлением двух миров: «этого» и потустороннего мира, в котором якобы блаженствуют бессмертные души людей.
Но ведь Христос говорил совсем не о бессмертии души, он говорил о воскресении мертвого! И как не видеть, что между двумя этими явлениями существует целая пропасть! Ведь если дело только в бессмертии души, тогда и смерти никакой нет, зачем тогда все эти слова о победе над ней, о разрушении ее и о воскресении?
«Последний же враг истребится — смерть». Так вот, спросим себя: в каком же смысле враг — смерть? Чей она враг? И как же стал этот враг царем земли и владыкой жизни? Помните стихотворение Владимира Соловьева: «Смерть и Время царят на земле, — / Ты владыками их не зови…»
[15]? Но как же можем мы не звать владыками все то, что стало нормой, законами существования, с чем давно уже примирился сам человек, против чего он сам перестал протестовать и возмущаться и в своей философии, в своей религии и культуре ищет с этим врагом какого–либо примирения и компромисса? Да, неслыханно христианское учение о смерти, и сами христиане его не выдерживают, ибо не о примирении со смертью, а о восстании против смерти идет речь в христианстве. И когда об этом говорят так, как писал безумный русский философ Федоров, то сразу раздается голос разума, голос примирения, голос неизбежности. Но если так, повторяю, бессмысленна христианская вера, ибо апостол Павел сказал: «Если Христос не воскрес, ваша вера тщетна» (1 Кор. 15:14). Вот к этой теме — христианскому пониманию смерти — мы и перейдем в следующей нашей беседе.
3
В прошлой моей беседе я упоминал евангельский рассказ о Христе, плачущем у гроба Своего друга Лазаря. Надо еще раз задуматься над смыслом этих слез, ибо тут, в этот момент, совершается своего рода революция внутри религии, внутри извечного религиозного подхода к смерти.
Я уже говорил о смысле этой революции. До этого момента смысл религии, как и смысл философии, заключается в том, чтобы примирить человека со смертью, сделать ее, смерть, если возможно, желанной. Смерть как освобождение от темницы тела, смерть как избавление от страданий, смерть как избавление от этого изменчивого, суетного, злого мира, смерть как начало вечности — вот, собственно, сумма религиозных и философских учений до Христа и вне Христа — в древней религии, в греческой философии, в буддизме и так далее. Но Христос плачет у гроба и являет тем самым свое возмущение смертью, свой отказ принять ее и примириться с ней. Внезапно смерть как бы перестает быть естественным, натуральным явлением, вскрывается как нечто недолжное, противоестественное, страшное и уродливое, провозглашается врагом. «Последний же враг истребится — смерть».
И чтобы почувствовать всю глубину, всю революционность этой перемены нужно начать с начала, с истоков этого совершенно нового, неслыханного подхода к смерти. Истоки же эти определены и описаны с предельной краткостью в другом месте Священного Писания; там сказано: «Бог смерти не сотворил» (Прем. 1:13), и это значит, что в мире, в природе воцарилось и царствует нечто, что не восходит к Богу, чего Он не восхотел, не сотворил, что против Него, вне Его. Бог сотворил жизнь. Бог всегда и всюду называется Сам Жизнью и Жизнеподателем. Бог, в вечно детском, вечно новом рассказе Библии, радуется своему миру, его наполненности светом и радостью жизни.
Заостряя, доводя до конца рассказ и откровение Библии, можно сказать так: смерть — это отрицание Бога, и если смерть натуральна, если она последняя правда о жизни и о мире, высший и непреложный закон всего существующего, то тогда Бога нет, тогда — обман весь этот рассказ о творении, о радости и о свете жизни.
Но тогда основной, самый важный, самый глубокий вопрос всей христианской веры — это вопрос о том, откуда же возникла смерть и как и почему стала сильнее жизни. Как и почему воцарилась так, что сам мир стал неким космическим кладбищем, местом, где кучка приговоренных к смерти людей либо в страхе и в ужасе, либо в попытках забыть о смерти суетится на одной вселенской всепоглощающей могиле?
На этот вопрос христианство отвечает так же твердо, кратко и уверенно. Вот этот текст: «И грехом вошла в мир смерть» (Рим. 5:12). Для христианства, иными словами, смерть есть явление прежде всего нравственного порядка, катастрофа духовная. В каком–то последнем, непередаваемом словами смысле человек захотел смерти, или, может быть, лучше сказать, не захотел той жизни, которую свободно, в любви и радости, дал ему Бог.
Жизнь — и нужно ли это доказывать? — есть одна сплошная зависимость. Человек не имеет, говоря словами Священного Писания, жизни в себе. Он всегда получает ее извне, от других, и она всегда зависит от другого: от воздуха, от пищи, от света, тепла, воды; и именно эту зависимость подчеркивает с такой силой материализм. И он прав в этом, ибо действительно человек до конца, натурально, биологически, физиологически подчинен миру.
Но там, где материализм видит последнюю правду о мире и человеке — ведь он принимает этот детерминизм как самоочевидный закон природы, — там христианство видит падение и извращение мира и человека, видит то, что называет первородным грехом.
Ибо в библейском рассказе Бог дает мир как пищу человеку, и это значит, что пища — дар Божий — дана человеку для того, чтобы он жил; но жизнь–то сама не в пище и не в зависимости от мира, а в Боге. Жив человек Богом, в этом смысл того удивительного рассказа о том, как Бог беседовал с человеком «в прохладе дня» (Быт. 3:8—19).
Мир — это вечное откровение Бога о Самом Себе человеку, это только средство общения, это постоянная, свободная и радостная встреча с единственным содержанием жизни — с Жизнью самой жизни — Богом.
«Для Себя Ты создал нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдет Тебя!» (Бл. Августин)
[16].
Но вот — ив этом смысл христианского учения о грехе — этой–то жизни с Богом и для Бога и не захотел человек. Он захотел жизни для себя, он в себе самом увидел и цель, и смысл, и содержание жизни. И в этом свободном выборе себя, а не Бога, в предпочтении себя Богу человек, сам до конца того не сознавая, стал рабом мира, рабом своей зависимости от мира. Он ест, чтобы жить, но в своей пище он приобщается смертному, ибо нет в пище жизни как таковой.
«Человек есть то, что он ест», — сказал Фейербах. Да, это правда, но ест–то он только то, что умерло; он ест, чтобы жить, а стал жить, чтобы есть, и в этом дурном и порочном круге заключен страшный детерминизм человеческой жизни.
Смерть, таким образом, есть плод отравленного и вечно действующего распада жизни, того распада жизни, в котором человек себя свободно подчинил смертному, не имеющему в себе самом жизни, миру.
«Бог смерти не сотворил». Ее ввел в мир человек, свободно захотевший жизни только для себя и в себе, оторвавший себя от источника, от цели и от содержания жизни — от Бога, и потому смерть стала верховным законом жизни. Смерть как распад, смерть как разлука, смерть как временность, преходящность, призрачность всего на земле.
Чтобы утешить себя, человек построил мечту о другом мире, где смерти нет, и тем самым отдал этот мир, подчинил его до конца смерти. И только если понять это христианское учение о смерти как плоде изменения самим человеком понятия самой сущности жизни, можно услышать снова как новое христианское благовесте о разрушении смерти воскресением.
4
Все то, что в прошлых наших беседах сказали мы о смерти, теперь вплотную подводит нас к главной, сердцевинной теме христианства — благовестию воскресения. Подчеркиваю — не просто бессмертия души после ее разделения с телом, не просто какого–то таинственного развоплощенного существования в каком–то таинственном эфирном потустороннем мире, а именно воскресения.
«Восстанут мертвые, и сущие во гробах возрадуются». Как гремят эти слова! Как торжественно и радостно, как обещание, как уже видение будущего, падают они поздней ночью в Великую пятницу, когда уже сквозь мрак и печаль гроба, креста, плащаницы начинает подспудно разгораться свет наступающей, нарастающей Пасхи. И самое древнее христианское исповедание веры, так называемый апостольский символ, так просто и утверждает: «Верую в воскресение тела».
После воскресения Христа, когда Он являлся испуганным, растерянным ученикам, они, по слову Евангелия, думали, что видят привидение. Но Он сказал им: не бойтесь, это Я. Осяжите Меня, убедитесь в этом, потому что привидение не имеет тела. И потом Он взял пищу — рыбу и хлеб — и ел перед ними (Лк. 24:36— 43).
С проповедью воскресения вышли из Иерусалима апостолы, о воскресении из мертвых проповедовали до концов земли. И эту веру, эту радостную новость, это благовестие принимали, и о нем радовались, и им жили те, кто благовестие апостолов делал своим.
А для тогдашнего мира это была неслыханная, абсурдная проповедь, Тог мир еще мог как–то, с грехом пополам, неохотно, поверить в бессмертие души, но для него абсурдом казалось это воскресение тела. Когда об этом заговорил апостол Павел в Афинах, самом сердце греческой мудрости и просвещения, философы, слушавшие его, рассмеялись и сказали Павлу: «Ну, об этом мы послушаем завтра» — и ушли (Деян. 17:32).
Но я не побоюсь сказать, что и теперь, спустя две тысячи лет после основания христианства, трудно, почти невозможно принять человеку и понять эту проповедь, понять, почему именно с ней стоит и с ней падает само христианство. Да, мы празднуем Пасху, да, несомненно, что–то происходит в нас и с нами, когда слышим мы каждый год, как разрывается ночная тишина этим единственным возгласом: «Христос воскресе!», этим единственным ответом: «Воистину воскресе!»
Но если и тогда мы начинаем думать о смысле всего этого, о том, что же все–таки мы празднуем в пасхальную ночь, чему и о чем радуемся и что значит радость эта для нас, для меня, все смутным и непонятным становится для нас.
Воскресение тела — что же это значит? Где оно, это тело, растворившееся в земле, вернувшееся в таинственный круговорот природы? Что, эти кости воскреснут? Да для чего нам тело в этой, таинственной для нас, потусторонней духовной жизни? Не научили ли нас философы и мистики всех времен, что в том–то и положительный смысл смерти, что она освобождает нас от этой, как говорят они, тюрьмы тела, от этой вечной зависимости от материального, физического, телесного, делает, наконец, нашу душу до конца легкой, невесомой, свободной, духовной?
Но, может быть, все эти вопросы предстанут для нас в ином свете, если мы вдумаемся глубже в понятие тела. Причем не абстрактно, не отвлеченно философски, а, так сказать, опытно, если задумаемся, иными словами, об участии тела, о месте его в нашей, в моей жизни.
С одной стороны, конечно, совершенно очевидно, что тело каждого из нас — это то, что изменчиво и непостоянно. Ученые–биологи подсчитали, что все без исключения клеточки, составляющие наше тело, меняются каждые семь лет. И что, таким образом, физиологически каждые семь лет у нас новое тело. Итак, то тело, которое в конце жизни полагают в могилу — хоронят или сжигают, не больше мое тело, чем все предшествующие тела, ибо, в конечном итоге, тело каждого — это не что иное, как воплощение каждого в мире, как вид моей зависимости от мира, с одной стороны, моей жизни, моего действия в мире — с другой.
Тело — это, в сущности, мое отношение к миру, к другому, это моя жизнь как общение и как взаимосвязь. Все, решительно все в теле, в человеческом организме создано для этой связи, для этого общения, для этого как бы выхода из себя. Не случайно, конечно, в теле находит свое воплощение любовь, наивысшая форма общения; тело — это то, что видит, слышит, чувствует и, таким образом, выводит меня из одиночества моего я.
Но тогда, может быть, нужно сказать наоборот: не тело — темница души, а тело — ее свобода, ибо тело есть душа как любовь, душа как общение, душа как жизнь, душа как движение. И поэтому, теряя тело, отделяясь от тела, душа, в сущности, теряет жизнь, умирает, даже если это умирание души есть не полное исчезновение, а успение, или сон.
И вот, действительно, всякий сон, а не только сон смерти, есть некое умирание организма, ибо во сне спит и бездействует именно тело, и вот нет тогда жизни, кроме призрачной, нереальной, нет ничего, кроме сна. А если так, то когда говорит христианство об оживлении тела, то говорит оно не об оживлении костей и мускулов, ибо и кости, и мускулы, и вся материя, и вся ткань нашего мира — это те же несколько основных элементов, в итоге — атомов; и нет ведь в них ничего специфически личного — ничего вечно моего.
Христианство говорит о восстановлении жизни как общения, оно говорит о том теле духовном, которое сами мы за всю свою жизнь создали себе любовью, интересом, общением, выходом из себя; оно говорит не о вечности материи, а об окончательном ее одухотворении, о мире, до конца, целиком становящемся телом, а это значит — жизнью и любовью человека; о мире, до конца становящемся приобщением к Жизни.
Культ кладбищ и памятников — не христианский культ, ибо не о растворении в природе части материи, бывшей кому–то телом, идет речь в христианском благовестии, а о воскресении жизни во всей ее полноте и целостности, осуществленных любовью.
В этом смысл Пасхи, в этом последняя сила и радость христианства. «Поглощена смерть победой» (1 Кор. 15:54).
7. О вере и неверии
Верующий, неверующий — какие это, в сущности, отвлеченные слова! Как будто верующий всегда, все время верит. Как будто неверующий все время живет своим неверием. Вот в Евангелии отец больного ребенка бросается к Христу со словами: «Верую, Господи! Помоги моему неверию» (Мк. 9: 24), — ив этих словах больше правды о человеке, глубокой, подлинной правды, чем во всех отвлеченных спорах о вере и неверии. Вот в саду у первосвященника трижды отрекается от Христа апостол Петр. И Христос взглянул на него, и Петр вспомнил, как обещал он Христу умереть за Него, и сказано про него, что он вышел вон и «плакал горько» (Мф. 26:75). И наконец, сам Христос в предсмертной муке обращает к Богу эти страшные слова: «Боже Мой, Боже Мой, почему Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). И что по сравнению с этими примерами могут значить все ученые доказательства?
Верующий как нечто само собою разумеющееся доказывает свою веру. Неверующий так же снисходительно, как само собою разумеющееся доказывает правду своего неверия. Но верующий, если только он правдив сам с собою, знает, что он слишком часто живет так, как если бы не было никакого Бога, так часто в суматохе и шуме жизни как бы где–то теряет, растрачивает свою веру. А в ином неверующем больше печали по Боге, больше тоски по Свету и Истине, чем в ином самодовольном фарисее–верующем. Поэтому и так пусты, так беспредметны на последней глубине все споры о вере и неверии. Ибо никогда еще и ни в ком не родилась вера от доказательств и аргументов, не родилась даже от чудес.
Евангелие полно рассказов о чудесах Христа, но как же вышло так, что в последнем счете все оставили, все бросили и все предали Его? А вот когда не было никакого чуда, когда, всеми брошенный, Он умер на кресте, воскликнул сотник, распинавший Его: «Воистину Человек сей Божий Сын» (Мф. 27:54).
Вспоминается другой библейский рассказ, о пророке Илии, которому сказано было, что он увидит Бога. И сначала была буря, но не в буре Бог, а потом был огонь, и не в огне Бог, и наконец был — как чудесно сказано в Библии — «глас хлада тонка» (3 Цар. 19:12) — ив нем был Бог. Был, иными словами, тихий голос — дуновение, прикосновение чего–то и кого–то к душе человеческой. Была таинственная встреча. И вот о такой–то вере и говорит все христианство. В ней его суть; оно не о громе, не о буре, не об огне. И доходит оно по–настоящему только до того, кто может — как опять–таки сказано в Евангелии — вместить, то есть принять, таинственные слова: «Дух дышит, где хочет» (Ин. 3:8). Кто способен услышать неслыханную весть о Царе Небесном в рабском виде, невозможное благовестие о смиренном Боге?
Эти мысли приходят в голову, когда читаешь и слушаешь споры о религии. С обеих сторон несется хвастовство о своих победах и торжествах, сила против силы, пропаганда против пропаганды, ненависть против ненависти, и в конечном итоге, так часто, зло против зла. Но все христианство утверждает, что злом не разрушить зла, ненавистью не победить ненависти — все это мир сей, про который давно сказано, что он «во зле лежит» (1 Ин 5:19).
И не пора ли нам, называющим себя верующими, вспомнить этот сердцевинный парадокс христианства — что побеждает в нем только крест, его непобедимая, непостижимая сила, его единственная красота, его дух захватывающая глубина. Не пришел Христос спасти нас ни силой, ни внешней победой, но заповедал нам, чтоб мы знали, какого мы духа, чтоб была в нас сила крестная. И вот поразительно, что и сейчас, там, где идет борьба с религией, там побеждают те, кто силе противопоставляют только правду, ненависти — только любовь и жертву, шуму и грохоту пропаганды — вот тот самый «глас хлада тонка», тишину и свет подлинной веры. И вот над шумом слышен только их голос, во тьме светит только их свет, действительного этого света тьме не объять.
Когда–то Владимир Соловьев написал книгу с парадоксальным заглавием «Оправдание добра»; в ней он так ясно показал, что слабость христиан почти всегда в том, что они сами не верят в свое добро и, когда приходит час борьбы со злом, противопоставляют ему такое же зло, такую же ненависть и тот же страх. Так вот, пора, пора оправдать добро, и это значит — снова поверить в его силу, в его внутреннюю Божественную непобедимость.
Пора миру, лежащему во зле, противопоставить не чудо, не авторитет и не хлеб, как в легенде о великом инквизиторе Достоевского, а тот ликующий облик добра, любви, надежды и веры, от отсутствия которых задыхается человечество. И только тогда, когда мы в самих себе оправдаем добро и поверим в него, начнем мы снова побеждать.
В эти послепасхальные дни все еще поется в Церкви: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Смертию — смерть, ибо до воскресения Он самое страшное из всех зол — смерть, разрушение — наполняет добром, любовью, жертвой, самоотдачей. Саму смерть наполняет Жизнью, и когда разрушает Он смерть, тогда, только тогда, наступает светоносное утро воскресения. Тогда, и только тогда, тем, кто отдают ему всю земную любовь и идут, ни на что не надеясь, ко гробу, чтобы помазать Его тело, Он говорит это единственное из всех слов: «Радуйтесь!» (Мф. 28:9), — и тогда начинается христианство…
Об этом думаешь, об этом тоскуешь в наши дни разгула ненависти, страха и подлости.
8. Религия или идеология?
1
Мы живем в эпоху торжества идеологий — ужасное слово, возникшее, в сущности, совсем недавно и уже почти непоправимо отравившее наш мир, нашу жизнь. Что такое идеология? Это учение или теория, не только выдающая себя за абсолютную и всеобъемлющую истину, но и предписывающая человеку определенное поведение, действие. На глубине идеология — это, конечно, эрзац, подмена религии. Но разница, и огромная разница, между религией и идеологией в том, что религия, вера — это всегда нечто очень личное, невозможное без глубокого личного и внутреннего опыта, тогда как идеология, всякая идеология, начинает с того, что просто все личное отрицает и отвергает как ненужное.
Религия — призыв верить — всегда обращена к человеку. Идеология всегда обращена к массе, коллективу, в пределе к народу, к классу, человечеству. Цель, сущность религии — в том, чтобы, найдя Бога, человек нашел бы себя, стал собой. Цель и сущность идеологии — в том, чтобы подчинить себе без остатка человека, чтобы человек стал исполнителем и слугой идеологии. Религия говорит: «Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» (Мф. 16: 26). Идеология говорит: нужно весь мир приобрести для осуществления идеологии. Религия в другом человеке призывает видеть ближнего; идеология всегда направлена на дальних, безличных, отвлеченных людей.
Повторяю: мы живем в эпоху торжества идеологий, их страшного владычества над людьми. В одном только нашем веке — а ему всего семьдесят лет — погибли миллионы, миллиарды людей во имя отвлеченных идеологий, во имя призрачных идеологий. И нет у человека сегодня более спешной и насущной задачи, как отвержение и развенчание именно этого идеологического засилья, тирании над человеком идеологий.
Но исполнить эту задачу можно только, если удастся над всеми идеологиями поставить как всех их превышающую и ограничивающую идею личности, а это значит — живого, конкретного, единственного и неповторимого человека. Закат религии и торжество идеологии привели к почти полному отмиранию идеи личности и стоящего за нею опыта. Опыт же этот, конечно, в первооснове своей религиозный. Только в религии, только из религии возможна идея личности — вот чего не понимают, не могут, не хотят понять современные люди, все жаждущие спасения от той или иной идеологии.
Мне скажут, что сама религия в эпоху своего торжества в истории очень часто попирала идею личности, что сам принцип прав личности, свобод и т. д. родился в борьбе с религией. Отчасти это правда. Но правду эту нужно понять во всей ее сложности.
Да, конечно, Христа распяли религиозные люди. Но распяли–то они Его за то как раз, что Он изобличил их религиозность как религиозность ложную, или, говоря нашим современным языком, изобличил их за превращение религии как раз в идеологию. Ибо весь смысл конфликта Христа с теми, кто распял Его, сводился к одному. Он, Христос, человека поставил выше всего, сделал его, и только его, предметом любви, предметом как бы абсолютного внимания. А враги Христа от религии хотели порядка, спасения Родины, самодовольства — чего угодно, и ради всего этого требовали слепого подчинения безличным законам.
Обо всем этом Христос не сказал ни слова. Как не сказал Он ни слова о государстве, обществе, истории, культуре — обо всем том, что извечно составляет предмет всех идеологий. Его внимание все время было обращено на живых людей, окружавших Его. Но Он даже не говорил об их правах. Он всего лишь только обратил на них свою любовь, участие, сострадание, интерес. И вот за это, за то, что Он живого человека поставил над всем в мире, Он и был осужден. Но в этом осуждении — и это пора понять — переродилась и сама религия. Из идеологии она стала живой силой, и над миром навсегда воцарилась идея личности.
Потом, в истории, и само христианство — это надо признать — слишком часто вырождалось в идеологию, требовало себе слепого подчинения, служило побочным целям… Но все же не во всем этом его сущность. А сущность его — в евангельском образе Христа, в образе человека, обращенного к другому человеку, в нем видящего ближнего, в нем полагающего цель и смысл жизни.
И нет в истории человечества другого обоснования личности. Нет ее в великой и глубокой греческой философии, нет ее в Риме, создавшем идею права, но раба не считавшего человеком. И конечно, нет этой идеи личности ни в одной современной идеологии, занятой всегда человечеством, но ради человечества преспокойно уничтожающей миллионы людей.
Я утверждаю, что идея личности религиозна, потому что очевидно: если нет ее высшего корня, если человек не «сверху», а «снизу», если он всего лишь только мимолетное явление, то тогда, действительно, нечего о нем особенно волноваться, и над миром царит тогда только закон больших чисел. Тогда — и к этому мы скоро придем — уродов, и больных, и старых нужно уничтожать, тогда заботиться нужно только об естественном подборе. Тогда знаменитая «слезинка ребенка» у Достоевского есть бессмысленная сентиментальность.
Очень просто сказать это можно так: если нет Бога, то, в сущности, нет и человека. А есть только люди — безличная масса, о животном благополучии которой и заботится идеология, не считаясь с расходами. Вот в таком страшном идеологическом мире, в мире массы, классов, коллективов, мы сейчас и живем.
И об этом нужно думать, этому нужно ужаснуться, пока не поздно. Пока еще не заменена живая личность простым порядковым номером. Пока не стал еще человек действительно только «винтиком» все более сложной, все более огромной машины. Вопрос о религии сейчас — это прежде всего и превыше всего вопрос именно о личности, поэтому к этому важнейшему из всех современных вопросов мы и вернемся в следующих наших беседах.
2
Я говорил, что понятие личности может быть обосновано только в религиозном миросозерцании. Я говорил также, что вне этого понятия, признания, интуиции личности все современные заботы о человечестве в целом оказываются призрачными и обречены на неудачу.
Между тем даже те — увы, все более и более немногие, — кто отстаивает человеческую личность и борется за ее права, как будто уже не могут или не хотят видеть ее связи с религиозным учением и часто даже стараются как бы отмежеваться от религии.
Вот в последние годы много говорили, пока грубым насилием не было установлено молчание, о «социализме с человеческим лицом», и говорили, по всей вероятности, вполне искренне. Но можно и совсем не риторически, совсем не коварно задать вопрос: «А почему, собственно, у социализма должно быть человеческое лицо?» И что, собственно, кроется за этим с виду красивым словосочетанием?
Мне кажется, что те, кто это словосочетание употребляет, даже не чувствуют всей его внутренней парадоксальности; ведь лицо — это как раз нечто предельно личное, индивидуальное, это — лик, личность. Нет лица вообще, есть мое, твое, его лицо. А ведь социализм как раз всегда принципиально, научно общее ставит над частным, над личным, над индивидуальным. Он не только утверждает, что человек живет в обществе с другими людьми, что самоочевидно, но именно сводит человека к этому общему, обрекает его почти на полную зависимость от класса, нации, расы и общества и так далее. И я повторяю, что в любой перспективе, кроме религиозной, это сведение неизбежно, ибо в пределах материалистического, атеистического мировоззрения совершенно невозможно доказать, почему собственно личность как таковая, лицо, отдельный человек имеют вообще какую–то особую ценность и какие–то прирожденные права. В атеистическом мировоззрении все эти права человек получает от общества, которое априори есть ценность высшая, в этом мировоззрении — неужели это еще нужно доказывать? — не общество существует для человека, а человек для общества.
Сейчас некоторые благодушные, благонамеренные и по–своему героические люди пытаются доказать, например, что для самого общества и для его целей полезны и свобода, и большее уважение к личности. При свободе и производство станет лучше, и наука будет развиваться быстрее, и всяческих оппозиций станет меньше. Но и тут, очевидно, и свобода, и личность продолжают мыслиться только исключительно с точки зрения пользы общества. Но и из этого подхода, сколь благородными чувствами он бы ни определялся, ничего в конце концов не выйдет. Любой крестьянин знает, что, если лошадь не накормить и не дать ей отдохнуть, она перестанет работать.
Утилитарное обоснование свободы и личности не только не достаточно, но оно на деле попросту человека не достойно, ибо конечная ценность человека здесь определяется только его пользой для коллектива, его как бы продуктивностью: дайте немножко свободы, чтобы он лучше продуцировал, дайте ему меньше бояться — и он станет полезнее, — тут все еще остается этот кошмарный миф о полезном члене общества, ради которого миллионы людей сидели и сидят в исправительно–трудовых лагерях. Из пользы, из общества, из коллектива никакой личности, никаких настоящих прав не выведешь, эти права мыслимы, если признать личность абсолютной ценностью, а абсолют — это по–латыни то, что не зависит ни от чего другого и ни к чему другому не сводимо.
Признать каждого человека абсолютной ценностью — это не только дать ему какие–то не зависящие от общества права, но — и это неизмеримо важнее — лишить абсолютного значения все остальное в мире, и прежде всего как раз само общество. Это значит поставить вниз головой все наши привычные представления, и это значит, наконец, признать человека выделяющимся из простого природного порядка, признать его существом высшим. А это про человека говорит только религия, научно вывести этого нельзя. В это можно только верить.
Не случайно, конечно, яростный ненавистник христианства Ницше восклицал: «Любовь к ближнему мы заменим любовью к дальнему!»
[17]. Дальний — это никто, дальний — это кого не видишь, это какой–то собирательный, еще не существующий человек. А ближний, по Евангелию, — это тот, кто рядом со мной, это его единственное лицо, это всегда живое, конкретное и единичное. И так же, конечно, не случайно, что все то в мире, все философии, идеологии и программы, которые направлены к дальнему, общему, коллективному, так люто ненавидят религию и всегда, по некоему непреложному закону, борются с ней. Они знают, конечно, что выкорчевать религию — это и значит уничтожить понемногу и личность. Потому им страшны не те, кто декламирует о свободе и правах, а те, кто верит в божественный дух и бессмертную душу, кого поэтому не сведешь просто ни к какой земной пользе.
«Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» (Мф. 16:26). Пока звучат эти слова на земле, пока помнят люди ту парадоксальную евангельскую арифметику, по которой один всегда ценнее и важнее девяноста девяти, не удастся уничтожить человеческую личность, не удастся, следовательно, и построить до конца уже коллективизированного человечества, которое свое рабство назовет свободой, свое подчинение безличной пользе — правами, свою тюрьму — земным раем.
Как страшно, что столь многие не понимают еще, что тоталитаризму во всех его видах противостоит на нашей земле только одно — вера в Бога, сотворившего человека по образу Своему и по подобию, призвавшего его к свободе и к вечности, — это, и ничто другое. Спор нашей эпохи — спор религиозный и спор о религии; не понимать этого, не видеть связи всех страшных проблем современности с глубинами религиозного миросозерцания — это то же самое, что прятать голову по подобию страуса под крыло. Дальний или ближний? Человек или человечество? С чего начать, во имя чего творить? — Вот вопросы, на которые рано или поздно, но придется всему человечеству ответить.
9. О личном опыте веры
Несколько лет тому назад одно французское издательство обратилось к ряду известных людей — писателей, философов, людей искусства — с просьбой написать небольшую книгу на тему: «Во что я верю». Большинство этих людей верующие и при этом члены одной и той же Церкви — Католической, то есть Церкви, меньше чем другие допускающей так называемую «свободу мнений», и это значит в основном требующей конформизма. И вот, несмотря на это, ответы опрошенных оказались глубоко разными, и каждый из них читается с захватывающим интересом. Одна и та же вера, преломляясь в личном опыте, в личном восприятии и переживании, становится новой и личной, а вместе с тем не перестает быть единой и общей.
Я заговорил об этом потому, что в наши дни очень часто говорят о вере, о религии, о христианстве прежде всего в плане безличном, объективном, догматическом. Не только враги религии, но и сами верующие привыкли рассуждать о том, как и чему учит христианство, что и как утверждают верующие. Между тем вера по самой природе и сущности своей есть нечто глубоко личное, и только в личности и личном опыте она и живет по–настоящему. Только тогда, когда то или иное учение Церкви, тот или иной догмат, то есть утверждение некой истины, становится моей верой и моим опытом и, следовательно, главным содержанием моей жизни, только тогда вера эта живет.
Если вглядеться и вдуматься в то, как совершается передача веры от одного человека к другому, то очевидным становится, что по–настоящему убеждает, вдохновляет и обращает именно личный опыт. В христианстве же это особенно важно потому, что христианская вера, на глубине своей, есть личная встреча со Христом, принятие в конце концов не того или иного учения или догмата о Христе, а Самого Христа. Христианство, иными словами, предельно лично. Это совсем не значит, что оно индивидуалистично, ибо встречают, узнают, любят люди Одного и Того же Христа. Это значит, тем не менее, что Христос обращен к каждому, и каждая вера, вера каждого, будучи укоренена в общей вере, вместе с тем и единственна.
Напомнить же это важно, потому что в наши дни враги веры пытаются свести спор о вере и о религии к какому–то научному спору, разбить верующих научными аргументами. Если бы речь шла об объективно познаваемом явлении природы, тогда, как в этом научном, лучше же сказать, ложно–научном плане, все то, что утверждают христиане как содержание своей веры, действительно недоказуемо. Для них, однако, оно и не требует никаких доказательств. Ибо оно для них — в их опыте. Они знают непосредственно реальность этого опыта, как знает человек в себе реальность любви, восхищения, жалости, сострадания. А это значит, что если веру нельзя доказать, то о ней можно рассказать.
Таким рассказом о вере, а не научной сводкой о фактах, является, в сущности, и само Евангелие. Это передача теми, кто видели и слышали Христа, и поверили Ему, и полюбили Его так, что Он стал их жизнью, — передача ими именно своего опыта. И потому и остается Евангелие навеки живым, потому–то и ударяет прямо в сердце, тогда как философские и богословские трактаты так часто оставляют и ум и сердце холодными. И что больше всего нужно нашему холодному и жестокому веку, это именно живой рассказ о живой вере, передача не просто знаний, не просто фактов, а самого опыта веры.
Пускай каждый из нас, верующих, знает твердо и несомненно, что, хотя вера его слабая, недостаточная, хотя и к нему обращены слова Христа: «О вы, маловерные» (Мф. 8:26), — все же, в лучшие минуты, есть у нас этот опыт, единственный и ни с чем не сравнимый, ибо если не было бы его у сотен людей до нас, откуда бы пришла к нам эта вера, почему бы мы знали, что две тысячи лет назад произошло в мире событие, имеющее непосредственное, решающее значение для нашей жизни сейчас? А ведь именно в этом и состоит вера: в таинственной уверенности, что все то, что сделал и сказал Христос, Он сделал для меня, сказал мне, что не отделен Он от меня ни веками, ни пространством, ничем, кроме моего маловерия, моего забвения, моих бесчисленных измен Ему.
Так вот, я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе. Что бы я ответил, если бы мне сказали: что значит для вас Бог? Что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Кто для вас Христос? Вот, говорят христиане, что Он умер за нас, что Он воскрес из мертвых, что в Нем побеждена смерть, вот поют в ваших церквах: «И мертвый не един во гробе», — а вокруг нас продолжает царствовать смерть. И что же все это значит, не на словах только, не в ссылках ученых книг, что значит это в реальной и живой жизни одного человека? Вы говорите о Церкви — в чем же ее смысл? Вы говорите о Троице, о Духе Святом, о благодати и таинствах, о прощении грехов, и за всеми этими словами ведь должен же стоять некий живой и личный опыт, иначе что же они значат? А вместе с тем в нашем мире, так далеко ушедшем от веры, так трудно прорваться к нему, к этому опыту, так трудно по душам поговорить о нем. Так вот — попробуем.
За тридцать лет своего священства я понял, что самое трудное в мире — это говорить о самом простом, о самом насущном, гораздо легче излагать чужие мысли, ссылаться на чужой опыт, говорить чужими словами, и так трудно — от сердца к сердцу. Так вот, в следующий раз попробуем начать с начала всех начал — с Бога.
«Есть Бог», — говорит верующий; «нет Бога», — говорит неверующий, но чем же наполнено, чем живет, чем действует это слово во мне?..
10. «Будьте как дети»
Как простым, обыденным, рассудочным языком говорить о самом важном, о самом непередаваемом в человеке — о его религиозном опыте? В том здесь и все дело, что опыт этот действительно почти непередаваем, что, как только пытаешься излагать его словами, получается совсем не то, получается что–то холодное, тусклое и отвлеченное. И вот почему такими нудными так часто кажутся и все споры о религии. И при этом с обеих сторон так редко в этих спорах договариваются до главного.
И не потому ли и в Евангелии сказано: «Будьте как дети» (Мф. 18:3)? — Что это может значить? Ведь вся наша цивилизация направлена на то как раз, чтобы детей сделать взрослыми, такими же умными, рассудочными, прозаическими существами, как мы сами. Не рассчитаны ли все наши доказательства, рассуждения и споры именно на этого взрослого, для кого детство только и всего лишь время роста, подготовки, время изживания именно детства в самих себе?
Но вот, «будьте как дети», — говорит Христос, и еще: «Не мешайте детям приходить ко мне» (Мф. 19:14). И если так сказано, то нам, верующим, незачем стыдиться несомненной детскости, присущей и самой религии, и всякому религиозному опыту.
Не случайно первое, что мы видим, входя в храм, — это образ именно ребенка, образ юной Матери с ребенком на руках, — точно это самое главное в Христе, точно Церковь заботится, чтобы мы не забыли об этом самом первом, самом важном явлении Божественного в мире. Ибо та же Церковь далее утверждает, что Христос — Бог, Мудрость, Мысль, Истина. Но все это сначала, прежде всего, явлено в образе этого ребенка, точно именно это явление — ключ ко всему остальному в религии.
Спросим себя: что же значат, что могут значить эти слова — «будьте как дети»? Вряд ли, во–первых, это значит какое–то искусственное опрощение, отрицание роста, образования, накопления роста, развития, то есть всего того, что мы называем в детстве подготовкой к жизни, умственным, душевным и физическим созреванием. И про самого Христа сказано в Евангелии, что Он «возрастал в премудрости» (Лк. 2:40).
Следовательно, «будьте как дети» никак не означает какого–то инфантилизма, не есть противопоставление детства взрослости; это не означает, что для того, чтобы воспринять религию или религиозный опыт, нужно стать каким–то простачком, или еще грубее — дурачком. Я настаиваю на этом, потому что так говорят, так понимают религию ее враги. Они сводят ее к сказкам, басням и выдумкам, на которые только дети, или же взрослые дети — недоразвившиеся люди, — могут клюнуть.
Но что же тогда означают слова Христа? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала задать другой вопрос, — вопрос не о том, что приобретает человек, становясь взрослым, ибо это ясно и без слов, а о том, что теряет он, выходя из детства. Ибо нет сомнения в том, что он именно теряет что–то, столь единственное и драгоценное, что потом всю жизнь вспоминает о детстве как о потерянном рае, о некоем золотом сне, с концом которого жизнь стала печальнее, пустее, страшнее.
Я думаю, что если бы нужно было определить это что–то одним словом, то слово это было бы «целостность». Ребенок не знает еще этого раскола жизни на прошлое, настоящее и будущее, этого печального опыта утекающего безвозвратно времени. Он весь в настоящем, он весь в полноте того, что сейчас, будь то радость, будь то горе. Он весь в радости, и потому говорят о «детском» смехе и о «детской» улыбке; он весь в горе и отчаянии, и потому говорят о слезах ребенка, потому так легко, так неудержимо он и плачет, и смеется.
Ребенок целостен не только в отношении ко времени, но и ко всей жизни, он отдается весь — всему; он воспринимает мир не рассудочно, не аналитически, не каким–либо одним из своих чувств, а всем своим существом без остатка, — но потому и мир раскрыт ему во всех своих измерениях. Если для него звери говорят, деревья страдают или радуются, солнце улыбается, а пустая спичечная коробочка может чудесно засиять, как автомобиль, или аэроплан, или дом, или что угодно, то это не потому, что он глуп и неразвит, а потому что ему в высшей степени дано и открыто это чувство чудесной глубины и связи всего со всем. Потому что он имеет дар полного слияния с миром и с жизнью, потому что, вырастая, мы действительно безнадежно теряем все это.
Теряем прежде всего вот эту самую целостность. Мир постепенно распадается в нашем уме и сознании на свои составные элементы, но вне этой их глубинной связи между собою все они, все эти элементы, становятся только собой, и, став только собой, становятся ограниченными, плоскими, пустыми и скучными.
Мы начинаем все больше и больше понимать и все меньше и меньше воспринимать, мы начинаем знать обо всем, но уже ни с чем не имеем настоящего общения.
Но ведь эта чудесная связь всего со всем, эта возможность во всем увидеть другое, эта способность к полной самоотдаче и слиянию, это внутреннее открытие, это доверие ко всему — ведь все это и есть суть религиозного опыта, это и есть чувство Божественной глубины, Божественной красоты, Божественной сущности всего, это и есть непосредственный опыт Бога, наполняющий все во всем!
Само слово религия по–латыни означает «связь». Религия не есть одна из частей опыта, не есть одна из областей знания и чувства, религия есть именно связь всего со всем и потому–то последняя правда обо всем. Религия — это глубина вещей и их высота; религия есть свет, льющийся из всего, но потому и все освещающий; религия есть опыт присутствия во всем, за всем и надо всем той, последней реальности, без которой ничто не имеет никакого смысла. Эта целостная Божественная реальность и постигается только целостным восприятием, и вот это–то и значит — «будьте как дети».
К этому и призывает Христос, когда говорит, что «кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Мк. 10:15). Ибо увидеть, захотеть, почувствовать, воспринять Царство Божие — это и значит увидеть эту глубину вещей, то, о чем они в лучшие минуты нашей жизни нам вещают, тот свет, который начинает литься из них, когда мы возвращаемся к детской целостности.
11. «Вечная детскость Бога»
«Кто не приимет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Мк. 10:15) — эти удивительные слова мы находим в Евангелии. В Евангелии вообще много, часто говорится о детях. «Будьте как дети», «таковых бо есть Царство небесное» (Мф. 19:14) — что это значит? Тот мир, в котором мы живем, та цивилизация, которая определяет все наши взгляды, мысли и вкусы, пожалуй, почти не способна уже услышать эти евангельские слова, поверить им и, я прибавлю, — обрадоваться им. Ибо этот мир, эта цивилизация прежде всего предельно и угрюмо серьезны, и они гордятся этой своей серьезностью.
Недавно, поддавшись этому общему настроению, даже некоторые христиане на Западе стали утверждать, что, поскольку мир, как они говорят, достиг совершеннолетия, поскольку человек стал совершенно взрослым, старая детская религия уже не подходит ему, ее нужно перетолковать и пересказать ему по–взрослому. А это значит, по мысли этих «взрослых» христиан, переложить ее на язык современной науки. Даже религиозно настроенные люди стали стесняться, таким образом, своей детской веры, пытаться приспособлять ее к взрослому, научному мировоззрению нашей цивилизации.
Но, может быть, стоит и нужно прежде всего спросить себя — что означают эти евангельские слова, этот призыв быть как дети, принять Царство Божие как дитя, ибо вряд ли, конечно, они означают принципиальный отказ от развития, знания, роста науки и так далее. В том же Новом Завете мы находим столько призывов именно к возрастанию, желанию достичь полной меры возраста Христова; все христианство есть один сплошной призыв именно расти, развиваться, искать пути совершеннейшего. Поэтому, повторяю, этот призыв Христа быть как дети нельзя никоим образом выдавать за отказ христианства от знания, за его желание сохранить человека примитивным, темным и непросвещенным. И нужно ли снова и снова доказывать, что та самая наука, во имя которой теперь развенчивают веру, религию, христианство, началась в монастырях, что первые университеты были созданы Церковью, что на заре нашей цивилизации практически все просвещение, или как говорили тогда — книжность, вдохновлялось именно религией. Философия, физика, медицина — все вышло из этого христианского вдохновения, вдохновения на познание мира Божьего, вдохновения любви, вдохновения помощи ближнему. Слова «доктор», «магистр», «кандидат» взяты из церковного календаря, ибо первоначально все научные степени давались Церковью.
Поэтому отбросим то легкое, несправедливое и клеветническое толкование, согласно которому быть как дети — это оставаться на принципиально низшей ступени образования и развития и, как результат, путем обмана и при помощи невежества, эксплуатировать этих неразвитых и темных людей.
Но вот, Христос говорит: «Кто не приимет Царства Божьего, как дитя, тот не войдет в него». Он говорит: «Будьте, как дети, таковых бо Царство Небесное». Что же составляет сущность этой детскости? В чем ее вечное, непреходящее значение?
Для правильного ответа на этот вопрос нужно, я думаю, напомнить тот общеизвестный и действительно универсальный факт, что для всех почти людей детство остается именно золотым детством — раем, потеряв который, человек неустанно в воспоминании возвращается к нему, с радостью и с тоской, с любовью и с печалью. Иными словами, теряя детство, человек теряет что–то, чего ему затем всю жизнь болезненно не хватает, о чем он непрестанно жалеет, к чему он все время мысленно возвращается. Что же это такое? А ответить можно одним словом — целостность. Это та таинственная способность, которая позволяет детям, и только детям, нераздельно, всем существом отдаваться как радости, так и горю, благодаря которой ребенок всегда весь целиком во всем, что он делает и к чему он относится.
Вот упала у него из рук игрушка, и, Боже мой, какое горе, как он плачет, как все его существо надрывается безысходным горем. Но вот кто–то поднял и вернул ему эту игрушку, и он держит ее в своих маленьких ручонках, и вот он уже снова весь — радость, и залитое слезами лицо сияет такой полнотой жизни, так благодарно и светло, что все кругом освещено этим светом и ликует этой радостью.
Именно эту целостность теряем мы, уходя из детства. И с этой точки зрения взрослость — это торжество в нас раздвоенности, нецелостности, неспособности уже целиком, без остатка, отдаться ничему; это глубокий, все разъедающий скепсис, это глубочайшее внутреннее недоверие и как их следствие — страх, отравляющий постепенно наше сознание. Посмотрите кругом себя, и вы убедитесь в том, что наш мир, наша цивилизация как раз и построена на этом скепсисе, взаимном недоверии и страхе, имеет в своем сердце эту грустную взрослую раздвоенность.
И вот все христианство есть один сплошной призыв вдруг, со стороны увидеть всю эту взрослую грусть, весь этот безрадостный мир, в котором все время раздваивается, распадается все, в котором все отравлено, все пронизано недоверием, враждой, скукой. «Ищите же прежде всего Царства Божьего…» (Мф. 6:33). И мы спрашиваем, что такое это Царство Божие? — И слышим в ответ: «Радость и мир в Духе Святом» (Рим. 14:17). Что же это за радость и мир, которых, по слову Христа, никто и ничто не может отнять у нас, как не возврат к этой детской способности жить целостно? И все христианское учение — это учение о том, прежде всего, как вернуться к этой целостности, как восстановить ее в себе.
«Кто не примет Царства Божьего, как дитя, тот не войдет в него»: кто не полюбит в самой глубине своего сознания, своим сердцем и душой, другого образа жизни, кто затем не начнет медленного и трудного возврата к нему, тот не поймет никогда последней и глубочайшей сущности христианства и не услышит его тайного благовестия.
Для чего тысячу дней и тысячу ночей стоял на камне в лесной гуще в одиночестве Серафим Саровский, как не для того, чтобы в самом конце этого длинного подвига собирания души, просветления сознания, очищения ума вернуться наконец к подлинной детскости, то есть именно к целостности; как не для того, чтобы снова увидеть Божий мир и в нем каждого человека как брата, как радость, ибо с этими словами: «Радость моя!» — обращался он к каждому приходящему к нему.
Да, мир растет в знании, в технике, в умении, как мы говорим, управлять силами природы; и все это будет ни к чему, все это ни на йоту не улучшит жизни на земле, пока каждый из нас не приимет в самое сердце того, что один великий поэт (П. Клодель) назвал «вечной детскостью Бога».
IV.«ОБРАЗ ВЕЧНОСТИ»
(БЕСЕДЫ О ЛИТЕРАТУРЕ)
1. Писатель–христианин
(Две беседы о творчестве А. И. Солженицына
в связи с присуждением ему Нобелевской премии)
1
В своем романе «Раковый корпус», говоря об одном из своих героев, Солженицын пишет: «… весь смысл существования — его самого <…> и всех вообще людей представлялся ему не в их главной деятельности, которою они постоянно только и занимались, в ней полагали весь интерес и ею были известны людям. А в том, насколько удавалось им сохранить неомутненным, непродрогнувшим, неискаженным — изображение вечности, зароненное каждому»
[18].
Изображение вечности, зароненное каждому… Сознавал ли Солженицын, когда писал эти удивительные строки, что он давал лучшее определение своего собственного творчества, духовный портрет самого себя? Ибо, как это ни покажется странным, все творчество его, кишащее, до отказа заполненное людьми, их заботами, их горестями и радостями, их маленькими победами и поражениями, страхом и надеждой, есть все–таки и прежде всего изображение вечности. И именно это делает Солженицына сейчас писателем действительно несоизмеримым, писателем с большой буквы. Открывая любую вещь Солженицына, только приступая к чтению, мы сразу знаем, что все в ней отнесено к чему–то другому, главному, несказанному, но тому одному, из–за чего не только можно — нужно с такой любовью, с таким вниманием быть обращенным к людям и к их всегда маленькой, всегда быстротекущей и почти призрачной жизни.
Символом этой отнесенности в романе «В круге первом», например, является Рождество. Действие романа происходит в рождественские дни. Об этом сказано очень мало — немного вначале и затем в этом вопросе, который появляется то тут, то там, на протяжении всего произведения, вопросе о елке — устроить ли елку? Позволят ли елку?..
Зачем понадобилось Солженицыну это Рождество? О нем, кроме группы иностранцев, никто как будто не думает на этой страшной шарашке. Но вот, оно есть, оно вспыхнуло своим светом вначале, и этот свет незримо озаряет все эти страницы, всю эту мучительную безнадежную повесть. И оно есть в повести потому, что для Солженицына оно есть в мире. Так же, как есть в мире эта странная, ни на что не похожая книжка рассказов Толстого
[19], случайно попадающая в палату «Ракового корпуса», попадающая только для того, чтобы отнести всех этих страдающих и умирающих людей к главному — чтобы ясным стало изображение вечности, зароненное каждому.
Мы говорим сегодня о Солженицыне, потому что он получил Нобелевскую премию — высшую награду, высшее признание, которое может на этой земле получить писатель. Мы знаем, конечно, что не Солженицыну нужна эта премия, она нужна нам — русским людям, где бы мы ни находились. Нужна, потому что ею явлена миру настоящая Россия, а не та — отдельная, казенная и тюремная, вечным изображением которой останется солженицынская шарашка.
Но на глубине, конечно, не в премии дело, не в этом человеческом признании. На глубине для нас важно то, что Солженицын, как и его предшественник на этом пути славы и мученичества, Пастернак, — христианин.
Мир отрекается от Христа, мир гонит Христа, мир утверждает, что ему не нужен Христос. И впереди этого безбожного мира, отрекшегося от изображения вечности в себе, стоит, увы, наша страна — и это наш позор, и это наш ужас. И вот из недр этой страны приходят и вырастают один за другим эти гиганты духа, и говорят «нет», и смывают с нас и с России этот позор и этот ужас. И мир в них, а не в постылой казенщине, узнает и признает и приветствует подлинную, вечную, необходимую — как говорит постановление Шведской Академии — Россию.
Дорогие слушатели! Какая чистая и глубокая радость знать и сознавать, что великие писатели безбожного и материалистического периода нашей истории — Ахматова, Пастернак, Солженицын — начертали имя Христа, веру во Христа, радость о Христе на своем творчестве. Что изображение вечности, которым озарено это творчество, — это образ Царства Божия, той радости и мира в Духе Святом (Рим. 14:17), в котором родилось христианство.
Нам говорят: нет и не бывает чудес. Но разве не чудо этот светоносный взрыв солженицынского творчества над мрачной и унылой тучей страха, подлости, приспособленчества и уродства? Разве не чудо этот удивительный человек, смотрящий так умно, так пристально, так любовно на своих фотографиях, прямо в душу каждому из нас, и как бы говорящий: «Не бойся!» Я не боюсь, и ты не бойся. Ибо есть высшая правда, есть совесть, есть Бог, есть Христос, и есть подлинная и вечная Россия.
Когда–то Тютчев написал свое знаменитое стихотворение о России:
Изнуренный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
И тогда многим это показалось преувеличением. Но теперь мы знаем, что это правда. Знаем от Ахматовой, знаем от Пастернака, знаем теперь от Солженицына. Знаем, что никакие гонения, никакие диалектики и никакие обманы не убили и не отравили главного — изображения вечности, зароненного не только каждому человеку, но и каждому народу.
Внешне творчество Солженицына наводнено рабами. Рабы — Володин, Герасимович, Костоглотов, Иван Денисович, — рабы, изнуренные «ношей крестной». Но вот, все творчество Солженицына о том, что эти рабы — свободны, — той свободой, которой у них никто отнять не может. Свобода — на шарашке, а страшное рабство и одиночество — в ночном кабинете Сталина и в бесчисленных кабинетах бесчисленных аппаратчиков.
Поэтому ко всему творчеству Солженицына хочется поставить один всеобъемлющий эпиграф — слова Христа: «В мире печальны будете, но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).
2
Я говорил в моей прошлой беседе, что никто и никогда не сможет уже изменить или замолчать того, что в 1970 году Нобелевская премия по литературе присуждена была писателю, открыто, во всеуслышание исповедавшему себя верующим христианином. Что через пятьдесят с лишком лет после прихода к власти людей, задавшихся целью искоренить религию, людей, которые всеми возможными силами поколению за поколением внушали, что религия — это вздор, отсталость, некультурность, суеверие, — лучший представитель культуры всем своим творчеством доказывает, что вздор и некультурность — это то, что говорят эти люди. Что все их идеи безнадежно отстали, устарели, никуда не годятся и держатся только насилием и страхом.
Солженицын вырос, воспитался при безбожной, воинственно антирелигиозной власти. Его–то уж никак не зачислишь в пережитки прошлого, ему–то уж никак не припишешь буржуазного атавизма, не сделаешь мракобесом, если он предпочел и свободно выбрал Христа, христианство, веру и отбросил мракобесие диамата, и поэтому свидетельство это нужно признать имеющим потрясающее значение. Теперь безбожию во всех его видах можно спокойно и твердо сказать — ты провалилось. Но, конечно, недостаточно просто указать на все это, просто возрадоваться свидетельству Солженицына.
Солженицын писатель, а это значит — творец миров, создатель некоей духовной реальности, художник, учащий нас смотреть и видеть. И поэтому по отношению к нему недостаточно просто сказать: он верующий. Нужно еще спросить, как же эта вера отражается в его творчестве. Почему этот творец, этот художник осознал так глубоко и твердо необходимость веры? Ибо творчество Солженицына как таковое не специально обращено к религиозным темам. Ни Иван Денисович, ни Костоглотов в «Раковом корпусе», ни обитатели шарашки в «Круге первом» не говорят о своей вере и не заявляют себя верующими. Поверхностному читателю может даже показаться, что творчество Солженицына не имеет прямого отношения к религиозному вопросу. С другой же стороны, все, что пишет Солженицын, все его творчество столь же несомненно пронизано трагизмом. Трагически кончается «В круге первом», обратно в ссылку, не исцелив своей страшной неизлечимой болезни, уезжает из ракового корпуса Костоглотов, безысходной печалью и безнадежностью пронизан «Один день Ивана Денисовича».
Поэтому, повторяю, меня могут спросить, что же Вы тычете верой Солженицына, если о ней почти ничего не сказано в главном его жизненном деле — в его писательском творчестве? И вот на это я твердо отвечу — все это так, и все–таки творчество Солженицына — творчество христианское в глубочайшем и всеобъемлющем смысле этого слова, и оно христианское потому, что трагизм у Солженицына христианский. Что это значит? Попытаюсь объяснить. Мир, создаваемый Солженицыным, несет на себе отпечаток трех основных христианских утверждений. Во–первых, несмотря на весь ужас и на все трагедии, это мир, пронизанный светом. Тот самый мир, о котором сказано в Библии, что Бог, создав его, сказал о нем: «добро зело» (Быт. 1:25). Нигде, никогда, ни разу не поддается Солженицын соблазну метафизического пессимизма и нигилизма — все–де абсурдно и ничто не имеет никакого смысла.
И только потому, что над этим миром и в нем разлит смысл, красота, добро, только поэтому — и это второе христианское утверждение — мир этот и можно показать как падший. Не абсурдный, не бессмысленный, а именно падший, отравленный, грешный, злой. Мы называем человека больным только потому, что сначала признаем нормой здоровье, что болезнь соотносим со здоровьем.
Но в этом падшем мире — и таково третье христианское утверждение — возможно возрождение, возможно восстание, возможно спасение и выздоровление. Выздоравливает духовно Костоглотов, спасается духовно Володин, герои на шарашке узнают, что совесть важнее всего. И когда везет их страшная машина обратно в ад, на душе у них мир.
У Солженицына, в его творчестве, мир Божий, мир падший — мир, призванный к возрождению, мир, в котором все время происходит это возрождение и побеждает. И наконец, что важнее всего, в чем больше всего от христианства и от христианского восприятия человека, — это мир, в котором человек остается всегда свободным. Вот эта основная творческая установка Солженицына и делает все его творчество самым христианским в наши дни.
Ибо вокруг нас царит и побеждает как раз отказ от того понимания человека, что принесено было в мир Христом. Человека сводят либо к одной материи, до конца подчиняют безличному детерминизму и, следовательно, лишают самой основы свободы, делают действительно и по существу рабом, либо же, всячески возвеличивая его, отрицают страшную силу зла и падения в нем. В нашем мире сейчас царствует карикатура на человека, но не его подлинный образ. И вот подлинный его образ и восстанавливает как раз Солженицын в своем творчестве, и человек явлен в нем таким, каким он раз и навсегда провозглашен в Евангелии — он, человек, есть образ неизреченной славы Божией, он на темном дне падения и зла, и он, наконец, тот, которому сказано: «Восстани, спящий!».
Из слабости и из страха, из шкурничества и карьеризма выходит почти внезапно возрожденный человек. Он находит совесть; находя совесть, он находит свободу; находя свободу, он находит любовь; находя любовь, он находит мир, спокойствие и счастье.
И потому так светло в трагическом и темном творчестве Солженицына. Один ужас, одно поражение, но за этим ужасом светит, его преодолевает свет подлинной человечности. Давно не было в мире писателя, подошедшего к человеку с таким уважением, с такой жалостью и с такой верой. Но ведь именно так подошло к человеку и обратилось к нему и Евангелие. Этот подход, определяющий все его творчество, Солженицын мог найти только в своей вере, только у Христа.
2. Вопрос о совести
(по роману А. И. Солженицына)
1
В романе Солженицына «В круге первом» молодой преуспевающий дипломат Иннокентий Володин почти накануне новой и интересной командировки в Париж совершает очень странный поступок. Движимый какой–то ему самому не понятной силой, он звонит по телефону почти незнакомому старому доктору, предупреждая его о готовящейся против него провокации. Телефонный разговор кто–то обрывает, два дня до ареста Володин проводит в мучительном страхе и размышлениях о том, что привело его к этому шагу, который прекратит не только его счастливую карьеру, но и его жизнь.
Солженицын пишет: «За последние годы <…> Иннокентий набросился на чтение. Оказалось, что и читать — тоже надо уметь, это не просто бегать глазами по строчкам. Так как Иннокентий с юности был огражден от книг неправильных, отверженных, и читал только заведомо правильные, то и привычка укоренилась в нем: верить каждому слову, вполне отдаваться на волю автора. И так теперь, читая авторов противоречащих, он долго не мог восстать, не мог не поддаваться сперва одному автору, потом другому, потом третьему.
Он поехал в Париж, работал там в системе Экономического и Социального Совета в ООН и там еще много читал, что успевал за службой. И на какой–то поре почувствовал, что сам словно держит руль.
Не то, чтоб он открыл за эти годы много, но кое–что.
Раньше истина Иннокентия была, что жизнь дается нам только раз. Теперь созревшим новым чувством он ощутил в себе и в мире новый закон: что и совесть тоже дается нам один только раз.
И как жизни отданной не вернуть, так и испорченной совести.
Так стал понимать и думать Иннокентий, когда в субботу, за несколько дней до новой поездки в Париж, он на беду свою узнал о готовящейся провокации с простаком Доброумовым. Он давно уже был умным, чтобы понять, что не одним профессором окончится такое дело, что целую кампанию сумеют вывести из этого профессора.
Несколько часов с расступившимся умом он бродил по служебному кабинету, шатался, качался, брался за голову. И решился–таки звонить, хотя представлял, что телефон Доброумова могли уже взять под контроль <…>
Это было как будто давно, а на самом деле только вчера».
Это короткий отрывок из романа Солженицына, но по существу вся его огромная, замечательная, потрясающая книга написана именно о совести. Совесть — это ее герой, ее внутренняя сила, ее мерило. Все люди в ней, от Сталина до дворника зэка Спиридона, делятся на тех, кто вот так, как Володин, знают или открыли для себя, что совесть, как жизнь, дается нам один раз и что, как пишет Солженицын, как жизни отданной не вернуть, так и испорченной совести, [и тех, кто этого не понимает].
Но что же такое эта совесть, эта странная сила, способная поверхностного эгоиста и эгоцентрика Володина, ничем кроме жажды жизни и жажды удовольствий не замечательного молодого человека, превратить так просто и почти незаметно в героя и мученика?
Как бы прощаясь с ним в последних главах романа, показывая нам его в последний раз, уходящего на первый допрос, Солженицын пишет: «С высоты борьбы и страдания, куда он вознесся, мудрость великого философа древности казалась лепетом ребенка. «На допрос, руки назад». Володин взял руки назад и с запрокинутой головой, как птица пьет воду, вышел из бокса».
Солженицын велик тем, что всем своим творчеством он ставит самый насущный, самый главный вопрос нашего времени — вопрос о совести. Ставит и свидетельствует — есть совесть и она неистребима. Но потому–то и нужно себе задать вопрос, что же такое эта совесть, что значат эти простые и потому–то такие таинственные выражения: «по совести могу», «по совести не могу»? Что это за голос, который внезапно и часто помимо нас властно врывается в нашу судьбу и коренным образом меняет ее, так что то, что казалось белым, привычным, правильным, оказывается так очевидно черным, а то, что, кажется, вообще молчало, вдруг начинает говорить?
И вот в том–то и все дело, что совесть принадлежит к тем явлениям, которые не поддаются определению, не укладываются ни в какие логические и юридические нормы. Нельзя сначала определить совесть, а потом жить по ней, она в нас, a вместе с тем как будто говорит нам, обращается к нам откуда–то извне, из какой–то глубины или вышины, которых в себе мы обычно как будто и не сознаем. Материалистическая наука о человеке просто отвергает наличие совести в человеке, она пытается объяснить ее социальным инстинктом, давлением наследственности, коллективным сознанием, то есть опять–таки сводит ее к детерминизму, к отрицанию свободы у человека. Поэтому, с ее точки зрения, поступок Володина, будучи асоциальным — то есть выступлением против коллектива, — оказывается тем самым и поступком вредным и нехорошим.
Христианство очень просто и очень спокойно утверждает, что совесть — это врожденная, изначально данная человеку способность различать добро и зло. Но именно в их не социальной, относительной форме, а как бы абсолютно. Совесть от Бога. И потому — есть свидетельство о Боге. Совесть — это голос Божий в душе человека, и вот почему он говорит хотя и изнутри, а вместе с тем как бы извне. Совесть — это и есть то, что христианская религия называет образом и подобием Божиим в человеке.
Человек может, человек свободен заглушить в себе совесть, и поразительным примером этого отказа от совести является Сталин. У него остаются понятия добра и зла, но их мерилом становится он сам: добро то, что служит ему, зло то, что ему сопротивляется.
Человек может бороться с совестью, и этому примером в романе Солженицына то множество измученных людей, измученных этой борьбой, либо, как Володин, Герасимович, Нержин, избирающих совесть, либо, как Дьяконов, после мучительной вспышки ее, ее отвергающих. Но, так или иначе, все с нею, с совестью, связано, все становится в мире на свои места по отношению к ней, все сводится к последнему вопросу — если есть совесть, есть человек, есть свобода, есть возрождение и, наконец, есть счастье. Если ее нет, есть только ад, будь то на свободе, будь то в бетонированной даче Сталина или в тюрьме.
В наши страшные десятилетия люди спорят о чем угодно: об экономике, о кибернетике, о будущем устройстве мира, — но ничего не значат все эти споры, пока не воссияет над людьми только одно все освещающее, все животворящее солнце — совесть, эта таинственная частица, сила, слава Божества в слабом и нищем человеке.
3. «Образ вечности, данный каждому»
У Солженицына в «Раковом корпусе» про одного из героев сказано: «… весь смысл существования — его самого <…> и всех вообще людей — представлялся ему не в их главной деятельности, которою они постоянно только и занимались, в ней полагали весь интерес и ею были известны людям. А в том, насколько удавалось им сохранить неомутненным, непродрогнувшим, неискаженным — изображение вечности, зароненное каждому»
[20]. Это замечательные, но одновременно и таинственные слова. Что это за изображение вечности, зароненное каждому? И как сохранить его неомутненным, неискаженным, непродрогнувшим? О чем тут идет речь?
Быть может, одна из удивительных функций русской литературы в том и заключается, что она — на своих вершинах, конечно, — вся — вот об этом изображении вечности, что она о нем говорит и к нему возвращается в каждом читателе.
Помните небо, внезапно увиденное князем Андреем Болконским, когда он упал раненый в кровавой каше Аустерлицкого сражения? Помните тихую и торжественную ночь, в которую выходит Алеша Карамазов после смерти старца Зосимы, и этот странный восторг, это «касание» его души «мирам иным»? Помните: «Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит»? Так вот и у Солженицына. Его рассказы, его «Раковый корпус», его «В круге первом» наполнены, казалось бы, до предела ужасом, злом, страданиями, а вот кончаешь книгу, и первое ощущение — это ощущение тишины, света и вечности. Образ вечности, данный каждому… Но чтобы это было так, нужно, чтобы действительно образ этот был, чтобы он действительно был дан каждому. Дан, как некое тайное сокровище, которым мы на последней глубине измеряем и оцениваем нашу жизнь. Значит, жизнь наша не сводится, не может свестись к одной этой бессмысленной суете, в которой мы все время живем и в которой так — по мелочам — растрачивается и сгорает что–то бесценное, вечное, высшее, что мы ощущаем в себе.
Вот спорят, спорят, до бесконечности спорят, нудно и скучно, о том, есть ли Бог или нет Его, и все пытаются спор этот сделать научным, каким–то образом втиснуть его в химическую лабораторию, в таблицу логарифмов, геометрию; и так очевидно, что, втиснутый в эту плоскость, спор этот теряет всякий смысл, что в этой плоскости вести его невозможно и не нужно. Ибо с точки зрения логарифмов приведенные слова Солженицына не имеют ни малейшего смысла.
Образ вечности, неомутненное, неискаженное, непродрогнувшее хранение его. Таблица логарифмов не может ни продрогнуть, ни исказиться, ни замутниться, на то она и таблица логарифмов. А человеческая душа — может. Да, она может пасть, испачкаться, загрязниться, и она может очиститься, взлететь, возвыситься, потому что может, знает, что означает этот образ вечности, о котором говорит Солженицын. Что же он такое?
Очень приблизительно, словами заведомо недостаточными, неподходящими, можно, быть может, ответить так: это прежде всего чувство присутствия, присутствия в жизни, во времени, в каждой их частице как бы другого измерения, другой стороны, сразу, простым глазом, простым слухом невидных и неслышимых, но становящихся видимыми и слышимыми, как только мы, вот как князь Андрей на Аустерлицком поле, выходим из всепоглощающей суеты, духовно и внутренне освобождаемся от нее. Нет, это не все чувствует глаз, это не все чувствует ухо, за этим есть еще и то, вот то таинственное присутствие, тот странный зов, призыв, сигнал о чем–то другом: луч солнца падает на какой–то предмет, одна секунда, одна вспышка — и все проходит. Внешне, с точки зрения таблицы логарифмов, это чисто физическое явление, на которое не стоит обращать внимания. Но этот свет, оставшийся в душе, но эта радость, чувство, это знание, что мне что–то сказано, открыто, явлено, — как это выразить, как передать? Но реальность этого опыта самоочевидна, иначе не было бы в нашем языке слов «красота», «дух», «вдохновение». И с этого начинается ощущение того образа вечности, данного каждому, о котором говорит Солженицын. Ощущение чего–то высшего, прекрасного и вечного.
Верующие говорят здесь о Боге, но они не говорили бы о Нем, если бы не это изначальное чувство, ибо, повторяю, никто и никогда не поверил в Бога на основании научных и логических выкладок, никто и никогда не пришел к Нему одним умом. Всегда было и есть это «касание мирам иным», этот свет и эта любовь, растопляющая сердце, этот зов и этот ответ. «Я не искал бы Тебя, — говорит Паскаль, — если бы сначала не нашел Тебя». «Для Себя создал Ты нас, Господи, — говорит Августин, — и не успокоится сердце наше, пока не найдет Тебя». Да, все пронизано лучами этого света, все полно этого таинственного присутствия.
Можно, конечно, все это проглядеть, проспать, можно ничего не увидеть и ничего не услышать. Но лучшее в мире зовет к этому. Зовет не дать в себе дрогнуть, замутиться этому образу вечности, и как утешительно знать, что спустя полвека после официального отрицания этого опыта приходит Солженицын и так спокойно и просто, с абсолютно твердой уверенностью говорит: «образ вечности, данный каждому». И как будто не было этих пятидесяти лет отрицания, издевательств, низведения всего к логарифмам и лабораториям. Все снова стоит на своих местах, свет снова светит; остается постараться заткнуть глотку, не дать написать, не дать напечатать, попытаться перекричать, но даже и это не удается. Тихий голос сказал что–то важное, сказал что–то душе, и весь мир услышал. Другие кричат годами, и их никто не слушает. Назовет ли снова человек это присутствие, этот свет и этот зов Богом, сумеет ли вернуться к образу вечности, научится ли побеждать темную суету, суетливую тьму — мы не знаем; мы знаем, что никогда не переведутся (найдутся?) свидетели этого присутствия. Мы знаем, что «Свет во тьме светит, и тьме Его не объять» (Ин. 1:5).
4. Цикл бесед о религиозности русской поэзии
1
«О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была» — все помнят, конечно, эту незабываемую строчку из лермонтовского «Ангела». Вот почти случайно возникает она в памяти, сначала бессознательно–машинально, а потом внезапно поражает, заставляет задуматься, потрясает так, как если бы услышал ее в первый раз. Ведь написал эту строчку юноша, почти мальчик, написал в одном из самых удивительных, чистых стихотворений русской поэзии.
Не преувеличивая, можно было бы поставить именно эту строчку эпиграфом ко всей русской литературе. Что бы нам ни твердили, как бы нам ни заговаривали зубы всевозможные казенные литературоведы, поразительна эта несомненная, очевидная связь русской литературы с Богом, поразительна эта пронизывающая всю ее некая печаль по Богу, поразительна звучащая в ней хвала.
В нашей стране давно уже воцарилась и насильно насаждается идеология, не только отрицающая религию, но и считающая одним из достижений прогресса уничтожение религии, выкорчевывание Бога, памяти о Нем, хвалы Ему из человеческих сердец. Религия опровергается этой идеологией на почве науки: научное знание исключает–де Бога, религия препятствует росту научного сознания, также построению «научного» счастья на земле. При этом, конечно, не говорится никогда, какая точно из множества существующих наук пришла к этим выводам. Но это и не так уже важно. Важно то, что религию, веру, Бога считают подсудными именно науке, науке и полиции: наука доказала, а полиция осуществляет. Но если оставить этот бесплодный спор, никогда никого ни в чем не убедивший, если забыть науку, никогда, в сущности, вопросом о Боге как таковым не занимавшуюся, если обратиться к человеческому опыту и человеческому творчеству в целом, то не может не поразить одно — чем выше и чище этот опыт, чем подлиннее творчество, тем очевиднее в них религиозное вдохновение, тем яснее чувство, трепетное и светлое чувство Бога.
Я назвал русскую поэзию и шире — русскую литературу. Как же объяснить тот факт, что литература, — это величайшее, несомненнейшее достижение русской культуры в целом, — что литература эта, вне всякого сомнения, пронизана религиозным чувством? Ведь даже самые закоренелые защитники материализма не отрицают человечности, свободолюбия, правдивости или, как они любят выражаться, прогрессивности русской литературы, не записывают ее в лагерь черной реакции, эксплуатации, крепостничества, напротив, в ней видели и видят великую освободительную силу.
Но при этом всегда забывают сказать, что наряду со всеми теми качествами, которые мы только что перечислили, русская литература еще и религиозна, в самом глубоком, самом подлинном смысле этого слова.
Это не значит, что все русские писатели и поэты одинаково верили, придерживались тех же религиозных догматов, были убежденными церковниками, — нет. Мы говорим о чем–то более глубоком, о некоем последнем вдохновении, о некоей последней интуиции, которые объединяют всех этих русских творцов и в которых светлый Пушкин сходится с тяжелым и меланхолическим Гоголем, бунтарь Лермонтов — с консерватором Тютчевым, Достоевский — с Толстым, даже официально неверующий, скептик, агностик Тургенев — с Чеховым… Можно даже сказать еще сильнее: именно эта подспудная религиозность русской литературы является ее объединяющим принципом и началом. Историки литературы и литературоведы без конца спорят друг с другом, распределяют писателей, поэтов по категориям, изучают различные школы, влияние одних писателей на других и так далее, и все это, должно быть, очень полезно, очень нужно, но если, помимо всех этих классификаций, существует еще и русская литература как целое, как некий мир, в который можно войти, в котором можно жить, у которого свой неповторимый и единственный воздух, то это потому, что всю ее, эту литературу, связывает воедино вот эта подспудная тема: «О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была». Потому, что особенностью этой литературы, от Державина до Солженицына, от Пушкина до Ахматовой и новых современных поэтов, является то как раз, что вся она, так или иначе, обращена к тому таинственному и светлому полюсу бытия и мироздания, который человек издревле называет Богом. Потому, что, в отличие от литературы многих других народов, она не хочет и не может оторвать земли от неба и ограничить себя тем, что в своем чудном «Ангеле» Лермонтов назвал «скучными песнями земли». «И звуков небес заменить не могли, — говорит он, — ей скучные песни земли».
Какая трагическая ирония — именно эта ограниченность землей, это отречение от неба, этот нудный материализм насаждаются тупо, научно и зло в стране, вся культура которой жаждет небесного, жаждет того, чтобы небо и земля соединены были в одной хвале. И это, должно быть, не случайно, ибо где же им и действовать, этим «скучным песням земли», как не там, где больше чем где–либо услышаны были звуки небес и пронизали собой все лучшее, все самое подлинное и чистое в человеческом творчестве.
Так или иначе, вспомнить, понять, услышать все это необходимо сейчас, когда казенная идеология трещит по всем швам и люди снова начинают искать свои подлинные корни, глубинные пласты своего сознания и мировоззрения. Сейчас, когда снова начинается искание истины, истины не прагматической, не только такой, которую тут же можно было бы «приложить», а истины добра, красоты в самой себе. В этом, повторяю, великое наследие русской поэзии, и о ее религиозном вдохновении и должны мы вспомнить в первую очередь.
2
В прошлой моей беседе я говорил о религиозном вдохновении русской литературы, о том, что к ней, в ее целом, можно было бы поставить эпиграфом изумительную строчку из лермонтовского «Ангела»: «О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была».
Попытаемся сегодня, хотя бы кратко и поверхностно, вслушаться в эту хвалу, в это единство религиозного вдохновения, объединяющее литературу больше, чем какое–либо преемство школ, влияний и стилей. За неимением времени оставим в стороне XVIII век, хотя вряд ли забудется когда–либо органная торжественность и высокое славословие державинского «Бога», метафизическое устремление Ломоносова, Кантемира и других зачинателей великой поэзии. Именно тогда, в XVIII веке, был взят тот высокий тон, обретен был тот горний чистый воздух, в которых не переставала жить русская литература и снижение которого, выход из которого всегда почитались в ней изменой и грехом.
По–настоящему же, конечно, этот тон, это постоянное «прикосновение мирам иным» даются русской поэзии на заре XIX века Жуковским. Все его творчество действительно пронизано потусторонним светом, какой–то светлой тайной; о чем бы он ни писал, он всегда чувствует незримое, но ощутимое присутствие того, кого в одном из своих стихотворений он назвал «Таинственным посетителем»
[21]:
Кто ты, призрак, гость прекрасный?
К нам откуда прилетал?
Безответно и безгласно
Для чего от нас пропал?
Где ты? Где твое селенье?
Что с тобой?
Куда исчез?
И зачем твое явленье
В поднебесную с небес? <…>
Иль в тебе сама святая
Здесь Поэзия была?..
К нам, как ты, она из рая
Два покрова принесла:
Для небес лазурно–ясный,
Чистый, белый для земли;
С ней все близкое прекрасно,
Все знакомо, что вдали.
Иль Предчувствие сходило
К нам во образе твоем
И понятно говорило
О небесном, о святом?
Часто в жизни так бывало:
Кто–то светлый к нам летит,
Поднимает покрывало,
И в далекое манит.
Вот в каком–то смысле первый, еще бесхитростный, почти детский аккорд той хвалы, что уже не перестанет звучать и светить в русской поэзии. Заметим, что в нем с самого же начала соединены два эти полюса — небо и земля. Одно пронизано другим, одно освящает другое. Сама земля как бы поднимается до неба, призывается стать вместилищем святого, высокого и небесного. Нет, никогда нет в русской поэзии мрачного осуждения мира, равнодушия к нему, отказа от него, всего того, в чем всегда обличает казенная безбожная идеология религию. Но в русскую литературу мечта о соединении неба и земли как раз и приходит от религиозного прозрения, вдохновения; в ней с самого начала земля как бы светится небом, рвется к небу, тоскует по небу.
Вот ровесник Жуковского — Батюшков, старший современник Пушкина, как и Жуковский, вот его «Послание к другу»
[22], и в нем тот же прорыв, тот же взлет, искание вечно чистого и непорочного.
Но где, скажи, мой друг, прямой сияет свет?
Что вечно чисто, непорочно?
Напрасно вопрошал я опытность веков
И Клии мрачные скрижали,
Напрасно вопрошал всех мира мудрецов:
Они безмолвны пребывали.
<…>
Так ум мой посреди сомнений погибал.
Все жизни прелести затмились:
Мой гений в горести светильник погашал,
И музы светлые сокрылись,
Я с страхом вопросил глас совести моей…
И мрак исчез, прозрели вежды;
И вера пролила спасительный елей
В лампаду чистую надежды.
Ко гробу путь мой весь, как солнцем, озарен:
Ногой надежною ступаю
И, с ризы странника свергая прах и тлен,
В мир лучший духом возлегаю.
Батюшков именно вере приписывает «души возвышенной свободу», и вера его — это не порабощение страху, не та компенсация, которую видят в ней теоретики научного безбожия, а наоборот, сила, освобождающая от рабства, дающая человеку его подлинную человечность, возможность «мыслей, чистых и глубоких». Батюшков пишет: «Все дар Его, и краше всех даров — надежда лучшей жизни»
[23].
Такова, следовательно, заря русской поэзии XIX века, сразу осознающей себя служением небесному на земле. Почти сразу же за этой зарей восходит солнце — Пушкин. Но прежде чем говорить о Пушкине и об удивительном, светлом мире, созданном им, подчеркнем еще раз этот религиозный корень русской культуры в целом.
Мы знаем, что Петр Великий секуляризировал или, во всяком случае, пытался всеми силами секуляризировать русскую культуру, да и саму Россию. С Запада, с детства пленившего его сознание, он принес в свою страну дух прагматического научного строительства, вдохновения землей и земным. И была своя, хотя и частичная, правда в этом великом замысле, в этом желании сдвинуть отставшую страну с ее сакрально–сонного застоя. На целое столетие Россия отдалась этой западной мечте. Результатом этого была великая империя, мощное государство, военная слава, развитие науки, мысли, торговли, — дело Петра Великого в этом плане удалось. Но не удалась ему секуляризация культуры, ее отрыв от последней глубины человеческих вопрошаний, от созерцания мира не только как действия, как строительства, как организации, но мира как отражения чего–то вечного и вечностью измеряемого.
Пушкин с этой точки зрения — плод Петра Великого, но и ответ ему. Он завершает дело Петра, вознося русскую культуру на небывалую высоту, и он же отвечает на замысел секулярной, земной культуры: отвечает светлой, небесной красотой, пронизавшей мир его поэзии. К нему мы и обратимся в следующей нашей беседе.
3
Пока есть на земле русские люди, они не перестанут любить Пушкина. И не только любить, но и видеть, или, вернее сказать, ощущать его как некое воплощение России, как ту мерку, по которой меряется и оценивается в конечном итоге все то, что называет себя русским.
О Пушкине написаны и будут еще написаны сотни и тысячи книг. Но мало кто имел мужество сказать, что последняя тайна Пушкина, последняя его глубина, то, что делает его никогда не стареющим, вечным мерилом России, укоренено в его религиозном мироощущении.
Как так? Не написал ли Пушкин кощунственную «Гавриилиаду»? Не был ли он страстным жизнелюбцем? Не пронизано ли все его творчество именно земной любовью, к земле и к земному, и не является ли грубым насилием и натяжкой навязывание ему какого–то религиозного мироощущения?
Но вот один из тонких знатоков русской культуры, профессор Федотов, называет «Капитанскую дочку» самым христианским произведением русской литературы. Но вот русский философ Шестов говорит, что Пушкину открылась великая правда. И вот Достоевский в своей знаменитой «Пушкинской речи» читает, что вся задача России состоит в том, чтобы эту светлую пушкинскую тайну разгадать. Что же это за тайна и что дает нам право говорить о религиозном мироощущении Пушкина и о том, что на последней глубине завет его России и русской культуре — именно религиозного порядка?
Да, Пушкин написал два–три глубоко религиозных стихотворения: «Пророк», «Когда для смертного умолкнет шумный день…» и несколько других, но не в них одних, конечно, наше доказательство.
Дело в том, что, сами того не замечая, мы постепенно сделали своим, приняли как правильное то определение религии, которое дают ее враги и во имя которого они и считают необходимым бороться с нею. Это определение религии как обязательно чего–то мрачного, всецело направленного к смерти и загробному миру, а в этом мире наполненного вздохами или сладкими елейными словесами и всевозможными суевериями. Да, такой религии у Пушкина действительно нет, как нет и специальной обращенности всего его творчества к специфически религиозным или церковным темам. Но религиозным в самом глубоком и самом подлинном смысле этого слова называем мы весь его подход к миру и к человеку.
В мире, созданном Пушкиным, много зла, много страдания и много греха. Прав Лев Шестов, написавший о Пушкине: «И не думайте, что он достиг этой цели, отвернувшись от действительности, чтобы не видеть ее ужасов. Наоборот, все самые мрачные стороны жизни приковывали его внимание и он с долгим, неустанным терпением вглядывался в них, пока не находил для них нужного объяснения»
[24]. Ибо одного действительно нет в пушкинском подходе к миру и к жизни — в них нет хулы и бессмысленности. Страдание, зло, падение, уродство только потому и ощущаются таковыми, что отнесены они к лучезарной основе бытия, к тому «добро зело», с которого начинается библейский рассказ о творении мира. «И увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1:8).
Так же и в человеке всегда видит Пушкин его сложность, его одновременно и высокое призвание, и падшесть. И подходит к нему как к чему–то бесконечно ценному, что сохраняется на последней глубине и в его падении. Религиозное мировоззрение Пушкина, таким образом, не вне его творчества, это не какая–то отвлеченная система убеждений, — нет, оно в самом творчестве, в том, как воспринимает поэт свое служение — как служение правде, добру и красоте. Вот это внутреннее, почти бессознательное мерило правды, добра и красоты — и делает творчество Пушкина религиозным не в каком–то специфическом смысле, а как отражение его внутреннего видения.
«Евгений Онегин» — что, казалось бы, в нашей литературе более светского, легкого, пронизанного юмором, чем этот с детства знакомый нам роман в стихах? А ведь вот, пишет тот же Лев Шестов (и вторит тут Достоевскому): «Весь смысл нашей литературы в этом, у нас герои не Онегины, а Татьяны, у нас побеждает не грубая самоуверенная, эгоистическая сила, не бессердечная жестокость, а глубокая, хотя тихая и неслышная вера в свое достоинство и достоинство каждого человека»
[25].
«Но я другому отдана и буду век ему верна», — все поняли, что в этих двух коротеньких стихах смысл всего огромного романа, что ими освящаются не только все действующие лица его, но, что нам важнее всего, сам Пушкин. Пушкин тут не мог и не должен был ошибиться. Вся задача его сводилась к тому, чтобы отыскать в жизни, в действительности такой элемент, перед которым распалась бы в прах дерзновенная, но пустая схема искателей духовных приключений, Онегиных. Пушкину нужно показать нам, что идеалы существуют, что правда не всегда в лохмотьях ходит. И что наряженная в парчу неправда, на самом деле, а не только в мечтах, склоняет свою надменную голову перед высшим идеалом добра.
Правда, добро и красота. Поэт, конечно, начинает с красоты. Но у Пушкина красота — это всегда хвала, благодарение, и потому она неотрываема от правды: во всем творчестве Пушкина нет лжи; и, наконец, неотрываема она от добра: все в этом творчестве залито участием, жалостью, сорадованием и сочувствием. И, наконец, над всем этим миром, в котором все измеряется добром, правдой и красотой, — светлый, благой и любящий Бог, велению Которого подчиняется поэт.
«Веленью Божию, о муза, будь послушна». Вот это внутреннее послушание на последней глубине бытия и называем мы религиозным в Пушкине, и этого–то, сами так часто не сознавая, ищем в его светлом и добром творчестве.
4
Мы говорили уже о религиозном вдохновении, присущем русской литературе и даже составляющем, как мы утверждаем, ее внутреннее единство. В последней нашей беседе мы говорили о Пушкине, и говорили о нем не только как о вершине русского литературного творчества, но и как о внутреннем его мериле. И мы утверждали, что мерило это как раз в том, что в своем творчестве Пушкин создал и явил тот мир, мир одновременно Божий и человеческий, прекрасный и падший, добрый и грешный, из которого русская литература, в отличие от литературы западной, никогда уже больше не вышла, выход из него почитая изменой.
За Пушкиным в русском сознании всегда следует Лермонтов. И нас с детства научили не только соединять их, но и противополагать друг другу. Пушкин — светлый, гармонический, моцартовский, Лермонтов — печальный, пессимистический, байронический. Пушкин — добрый, Лермонтов — гневный, и так далее. Конечно, есть в этом противоположении своя и очень глубокая правда. Давно уже сказано, что в чисто литературном плане линия, мелодия Пушкина оборвалась его смертью и уже не была восстановлена в русской литературе. В нее, в эту литературу, вошел «миллион терзаний», и, как опять–таки было сказано, вышла она в послепушкинскую эпоху гораздо более из гоголевской «Шинели» и из лермонтовского «Героя нашего времени», чем из ясности и света онегинской Татьяны.
Все это правда, и нечего с этим спорить. Но мы говорим здесь о другом, о чем–то гораздо более глубоком, и в этом глубоком плане не только можно доказать преемственность русской литературы от Пушкина, но и утверждать, что сам–то этот «миллион терзаний», что сама эта нравственная взволнованность присущи ей, что безостановочный порыв ее — к чему–то запредельному, что все это возможно–то стало потому, что русская литература жила и развивалась в духовном мире, созданном Пушкиным.
Только по отношению к этому пушкинскому миру, так твердо отнесенному к истине, добру и красоте, могла эта литература на следующем этапе углубить свое собственное восприятие действительности, осознать всю трагедию человеческого существования, ибо там, где нет отнесенности к абсолютному, доброму и прекрасному, там нет, да и не может быть никакой трагедии, там уродство, смрад и злость — норма жизни, ее содержание, но совсем не падение и не трагедия.
Начиная с Лермонтова, обращалась русская литература к трагическому разладу, царствующему в мире, но, повторяю, потому что сначала познала она свет и добро пушкинского творчества. Отсюда то «таинство печали»
[26], как говорил Баратынский, которым отмечена и поэзия самого Баратынского, и поэзия Лермонтова, и творчество более поздних русских поэтов.
Лермонтов, в отличие от Пушкина и в противоположение ему, остро переживает разлад, царящий в мире, так часто торжествующие в нем зло, бессмыслицу и страдание. Но всякий, кто хотя бы один раз погружался в драматический мир лермонтовской поэзии, не мог не почувствовать, что и этот бунт, и эта печаль, и это вечное томление Лермонтова — бесконечно высокого порядка. Точно раз и навсегда вошло в его сознание, в его внутреннее знание и зрение видение такой бесконечной красоты, исполненное Такого света, что уже нестерпимой кажется всякая измена ему в этом падшем и обыденном мире. Поэт, в семнадцать лет создавший «Ангела» — один из чистейших и прекраснейших аккордов, прозвучавших когда–либо на земле, — этот поэт религиознее бесконечного количества людей, снизивших религию до своей маленькой жизни, сделавших ее отражением своего «человеческого, слишком человеческого».
«И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли».
И вот сквозь всю эту печаль Лермонтова, сквозь его разочарование и даже бунт неизменно и всегда светит свет этого чудного желания, раздается отзвук непритворной хвалы, что услышала его душа в этом ангельском славословии.
Двадцать восемь коротких несчастных лет, но остается в русской литературе потрясающее свидетельство, которого не разрушить современным насадителям огнем и мечом «скучных песен земли», фанатикам редукции человека к материи и к закону необходимости. И потрясающе в этом свидетельстве, конечно, то, что злу, бессмыслице и страданию противостоит в нем не какая–то идеология, а противостоит всегда и неизменно Сам Бог, Его правда, Его красота. «И счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога»
[27]. Противостоит как раз то самое религиозное вдохновение, без которого не было бы и самой поэзии Лермонтова.
Как в религии всегда одновременно входят в душу и свет и печаль — и свет Божьего присутствия, и печаль нашей измены Богу, Свет Бога и падшесть мира, — так и в поэзии Лермонтова нашла свое вечное и бессмертное воплощение сама глубина этого религиозного вдохновения.
За Пушкиным — Лермонтов, за хвалой — молитва, за светом — печаль… Но и свет этот, и печаль эта — о том же. Вот почему в страшные годы измены и отступничества с такой радостью, с такой благодарностью приникаем мы к этим вечно живым ключам подлинной русской литературы. Вот почему лермонтовская поэзия, поэзия, в которой столько раз видели мрак и слышали мрак, на самом деле в наши дни начинает источать свой подлинный свет, свет не какой–то легкой успокоенности и легкого примирения, а свет трудной веры, «строгого рая»
[28], того напряжения человеческого сознания и совести, которое знал Лермонтов и которое и создает всю глубину его единственной в своем роде поэзии.
5
Говоря о религиозном вдохновении русской литературы, мы беседовали до сих пор о двух ее гигантах и основоположниках — Пушкине и Лермонтове. Сегодня черед другого — великого из великих — Тютчева.
В русской поэзии — и нужно ли доказывать это? — и его голос, и его мир, этим голосом созидаемый, являемый, не спутаешь ни с чьим другим. С Тютчевым входит в русскую поэзию некое почти физическое прикосновение к иррациональной, таинственной глубине мира и жизни. Если мир Пушкина — прозрачный и светлый, несмотря на отравляющие его страдания и зло; если мир Лермонтова — мир падший, но над которым торжественно и чудно сияет отблеск божественной красоты, то мир Тютчева, прежде всего, таинственный, его подлинный лик — это ночь, а не день. Правда о нем открывается ночью, день — это только блистательный покров, «златотканный покров», наброшенный на мир
[29]:
Но меркнет день — настала ночь; Пришла — и с мира рокового Ткань благодатного покрова, Сорвав, отбрасывает прочь… И бездна нам обнажена С своими страхами и мглами, И нет преград меж ей и нами — Вот отчего нам ночь страшна!
Бездна, темнота, тайна, страх — нам твердят теоретики материалистической идеологии, что ничего этого на деле нет, что все это страхи первобытного человека, но стоит обратиться к науке, и все становится как дважды два четыре ясным.
Но вот Тютчева вряд ли можно причислить к первобытным людям, уличить в невежестве, упрекнуть в необразованности. Знал он и науки, и читал всех тех, кого приказано чтить как пророков научного счастья людей, но в том–то все и дело, что отворачивается он от них, как от плоских всезнаек, как от болтунов, заговаривающих зубы. И когда уже, как теперь, все устали от этих болтунов, сводящих всю тайну мира и жизни к «прибавочной ценности» и какой–то классовой борьбе, мы обращаемся к этой удивительной поэзии, как бы наполненной до краев тайнозрением.
Жизнь прежде всего предстоит нам в этой поэзии как стояние у какой–то бездны, как погруженность в страшную, полную страхов и мглы ночь. Но разве можно быть по–настоящему человеком, никогда этой бездны, этой тайны, этой глубины до конца не почувствовав? Читаешь Тютчева и вдруг понимаешь, что и весь треск, и вся суета, разводимые болтунами на земле, — как раз потому, что ею, этой суетой, и этим треском стараются заглушить они страх перед бездной, скрыть от себя эту тайну.
Поэзия Тютчева — непреходящее свидетельство о первичном опыте человека, о его метафизическом одиночестве в таинственном мире стихий.
Но что же противостоит этой бездне, что ее побеждает? О нет, не наука, с ее знанием только покрова, но никак не сущности вещей, и не идеология, сводящая все к организации, к внешнему и опять–таки поверхностному, — что же тогда? На вопрос этот, как бы и не отвечая, отвечает второй полюс тютчевской поэзии. Безличному, страшному и ночному миру противостоит только одно, и это одно — любовь, живая, личная, все собой побеждающая, все собой животворящая любовь.
Все поэты всегда и всюду пишут и всегда писали про любовь. Но у Тютчева любовь возвышается до какого–то метафизического взлета. Его поэзия не просто о любви, часто и болезненной, и безнадежной; сама его поэзия есть какое–то потрясающее откровение любви. Вот пишет он в годовщину смерти любимой женщины
[30]:
Вот бреду я вдоль большой дороги В тихом свете гаснущего дня… Тяжело мне, замирают ноги… Друг мой милый, видишь ли меня? Все темней, темнее над землею — Улетел последний отблеск дня… Вот тот мир, где жили мы с тобою, Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали, Завтра память рокового дня… Ангел мой, где б души ни витали, Ангел мой, ты видишь ли меня?
Откуда этот небесный свет? Почему это, такой печали исполненное, стихотворение несет с собой такой мир и такое просветление? Почему оно звучит как молитва, и нет уже никакой бездны, и никакого страха? И эта надвигающаяся ночь несет с собой не бессмыслицу, а обещание и надежду. И так же в другом знаменитом стихотворении:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя
[31].
Тютчев словно говорит нам своими стихами: нет страха там, где царит или даже пускай только сквозит и тайно светит любовь. Этой победы не дано ни гордой науке, ни претенциозным идеологиям. Все всегда возвращается к одному тому, что над всеми, во всем, и что одно лишает бездну ее страха, ночь — ее ужаса.
Тютчев углубляет религиозное вдохновение русской поэзии, ее свидетельство о религиозной природе мира, жизни и человека. Он подводит человека к последней страшной бездне, и он являет силу и победу над этой бездной простой, скромной, горестной, но и Божественной, только от Небесного возникающей любви.
Пушкин, Лермонтов, Тютчев. Три разных аспекта одного и того же вдохновения, три разных его измерения, а за ними надвигается в русскую литературу уже полным голосом говорящая вера и связанные с нею сомнения и мучения — Гоголь, Достоевский, Толстой.
5.«Сосредоточенное устремление»
В «Опавших листьях» Розанова есть такая запись: «Имей всегда сосредоточенное устремление, не гляди по сторонам. Это не значит — будь слеп. Глазами, пожалуй, гляди везде: но душой никогда не смотри на многое, а на одно»
[32].
Как верно это сказал Розанов и как именно этого «сосредоточенного устремления» не хватает современному человеку! Не хватает, иными словами, глубины. Вся современная цивилизация построена на сознательном или подсознательном отрицании глубины, и все ее споры, увлечения, драмы — в последнем счете о неважном, о второстепенном.
Но ведь то, что сказал Розанов, в сущности, давно сказано в Евангелии: «Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» (Мф. 16:26). Душой же и называет Евангелие именно глубину человека, тот внутренний его мир, который и составляет, на самом деле, ценность, неповторимость, единственность человеческой личности.
Вот борются с религией, борются потому, что она–де — форма эгоизма, что она призывает человека заботиться о своей душе и пренебрегать всеми так называемыми «проблемами» мира, общества и так далее. Человек будто бы не смеет, не имеет права ни на секунду отрываться от своего общественного долга, он должен все время служить вот этим общественным целям, быть, как говорится, полезным членом общества. Это внушается людям буквально с колыбели. И строится общество, в котором все труднее и труднее остаться человеку наедине с собой, углубиться в себя и, как говорилось у нас в старое время, подумать о душе.
И вот, мне кажется, что религия должна спокойно и с чистой совестью принять это обвинение, спокойно и твердо ответить: да, душа человека, личность человека, действительно, важнее, интереснее и ценнее, чем все общественные проблемы вместе взятые. Да, мир существует и создан для каждой души человеческой, и только для нее. И об этом, конечно, весь спор, вся борьба нашей мутной и во многом страшной эпохи.
Одни говорят: мир, общество, человечество, история, — и всему этому подчиняют, ко всему этому сводят, в сущности, человека. Другие, которых почти уже и не слышно, говорят: душа человека, человек, — и прибавляют: «Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» И борьба между двумя этими установками ведется не на жизнь, а на смерть. И в центре этой борьбы стоит, конечно, вопрос о религии.
Ибо религия и есть, прежде всего и превыше всего, вот это сосредоточенное устремление человека на одно, на главное. Религия есть прежде всего забота о душе. И потому позволить религии существовать — это значит признать, что есть что–то важнее, чем все эти общественные проблемы. Это значит, в конце концов, подпилить то дерево, которое с таким пафосом насаждают идеологи современности; это значит освободить человека от той его принудительной духовной коллективизации, которая составляет самую сущность современной идеологии.
И нужно понять глубину и остроту этого спора. У нас ведь есть и такие, которые думают, что все дело тут в каком–то недоразумении, думают, что можно соединить в гармоническом единстве идеологию и религию, что по сущности своей они не должны были бы мешать друг другу. Трагическая ошибка! Ибо сталкиваются здесь два понимания человека, две глубинные интуиции его природы, его жизни, и тут: или — или. Общество, человечество оказались обожествленными, потому что в какой–то момент стали отрицать душу человека, а его самого свели к природе, сделали всего лишь частью целого.
И тогда сказали человеку — ты только часть, а поэтому и жизнь твоя имеет смысл только в целом. А если так, то не помогут никакая либерализация и никакие «оттепели», ибо всегда останется опасность ради этого целого принудить, ограничить и подчинить часть. Только если человек не часть, и не производная от общества, и не винтик какой–то безличной машины, только если, иными словами, он — душа, и ценность его в душе, возможна та пресловутая свобода, которой так охотно, с таким риторическим восторгом прикрываются те, кто на деле всей своей идеологией отрицают ее.
Да, религия — о душе. Религия есть призыв поставить свою душу, свою глубину — в центре своей жизни. Религия — это забота о душе, и нечего этого стыдиться, ибо никакой другой ценности и нет у человека. Если нет души, остаются мускулы, более или менее одинаковые у всех, остается объективный безличный ум, остается чрево. Но тогда и общество человеческое, и история человеческая есть бессмысленное столкновение мускулов и больше ничего.
И потому есть только одна настоящая проблема и у человека, и у человеческого общества — это оградить душу, оградить глубину жизни человеческой личности, сделать так, чтобы действительно личность, а не безличное человечество, стала и целью, и заботой самого общества. Ибо если «приобретет человек весь мир, а душе своей повредит», то мир обернется тюрьмой, концлагерем, адом, страшным муравейником, и уже на наших глазах оборачивается.
И потому не стыдиться нужно этого примата души и личности в религии, а провозглашать и исповедовать этот примат как единственную, повторяю — единственную защиту, единственное противоядие тому бесчеловечному, бездушному тоталитаризму, который постепенно обволакивает и изнутри опустошает жизнь людей.
Вот это и имел в виду Розанов, когда задолго до катастроф, обрушившихся на нас, писал о том, что устремление человека к одному, к самому важному и самому главному и есть единственная задача человеческой жизни. Глазами смотреть везде, а душой на одно. И только о душе, о глубине, о подлинности жизни и стоит заботиться человеку.
6. О «прекрасном человеке»
У Розанова, в его «Опавших листьях», есть такая запись: «Прекрасный человек, и именно в смысле добрый, благодатный, есть лучшее на земле, чтобы увидеть его»
[33].
Стоит только вдуматься в эту фразу, как понимаешь, чего так страшно не хватает в нашем мире, во всей нашей современной цивилизации, в самом воздухе нашего времени. Не хватает именно вот этой простой доброты, выражающейся в участии, в сочувствии, в согорести, в сорадовании. Наш мир до краев переполнен криками и спорами о принципах, о программах, об идеологиях. И нет программы, нет идеологии, которая не ставила бы своей целью, не претендовала бы спасти мир и человечество. Поистине можно сказать, что не было во всем прошлом человечества эпохи более принципиальной, чем наша. Но вот как–то так выходит, что посреди всей этой принципиальности, всех претензий на универсальное счастье нет, не оказывается места простой человеческой доброте, и не оказывается именно в ее принципах, во имя спасения человечества и разрешения всех мировых проблем. Все ненавидят всех, и мировая принципиальность оборачивается мировой злобой.
В той же записи Розанов пишет: «Вот пример. Смеркалось, все по дому измучены как собаки, у двери я перетирал книги, а Надя — худенькая бледная горничная, об муже и одном ребенке, домывала окна. Костыляет моя жена мимо к окну, и захватив правой — здоровой рукой шею Нади, притянула голову и поцеловала, как своего ребенка. Та, испугавшись: «Что Вы, барыня!» — Заплакав, ответила: «Это Вас нам Бог послал. И здоровье у Вас слабое, и дома несчастье, муж болен, лежит в деревне без дела, а у ребенка грыжа, а Вы все работаете и не оставляете нас». И отошла, не дождавшись ни ответа, ни впечатлений». «Есть вид работы и службы, — продолжает Розанов, — где нет барина и господина, владыки и раба, а все делают дело, делают гармонию, делают работу, потому что она нужна, — ящик, гвоздик, вещь. Вещи пропали бы без ящика, ящик нельзя сколотить без гвоздей, но и гвоздь — не самое главное, потому что все для вещей, а с другой стороны, ящик обнимает все и больше всего». «Это понимал Пушкин, — говорит Розанов, — когда не ставил себя ни на капельку выше капитана Миронова из Белгородской крепости. И капитану было хорошо около Пушкина, и Пушкину было хорошо с капитаном».
Но как это непонятно теперь, когда все раздирает злоба. Действительно, Розанов показывает, намекает на что–то уже совершенно непонятное современному человеку. Этот современный человек, прочтя розановскую запись, завопит со всем авторитетом своих мировых и мировыми принципами начиненных авторитетов, идеологии: «Эксплуатация, отрицание достоинства личности, социальное неравенство, да еще прикрываемое елейным патернализмом», и что–нибудь еще в этаком роде, и будет очень доволен собой. Он высказался принципиально, он указал на корень зла, он все возвел к принципам. Но ему и на ум не приходит, что всем принципам, сколь бы справедливы они ни были, грош цена, если нет вот этой простой доброты, доброты, фактически не отличающей важного от неважного, а все заливающей теплотой и своим участием.
Вот почему все христианское учение построено на заповеди любви к ближнему. И тут, в этой заповеди, — коренное различие между христианством и всеми современными идеологиями. Эти последние, в сущности, построены на любви к дальнему и во имя этого дальнего отрицают любовь к ближнему. Евангелие, христианство никогда, ни разу не говорит о дальнем, о мировых проблемах и универсальных перспективах, но вот, по словам Евангелия, Христос взглянул на кого–то — и сжалился над ним, но вот умер друг Его Лазарь — и Христос заплакал, вот не хватило вина на простой человеческой свадьбе — и Христос принял участие. Все в Евангелии основано на этой любви к ближнему, на этом участии. Ах, какая бесперспективность, какое отсутствие широких принципов! Разве вы не знаете, что участие в горе одного человека не решает горя всех людей? Разве можно жить только частным, не возводя все прежде всего к общему и принципиальному?
Что же, пора спокойно и не стыдясь ответить на этот вопрос так: а разве вы не видите, что все ваши идеологии и принципы, якобы ведущие к счастью, уже веками наполняют мир кровью, страданием и горем, и нет еще, не было еще человека, которого бы они сделали по–настоящему счастливым. А вот всякий раз, когда вспыхивает и загорается на земле эта простая доброта, счастье и радость от нее распространяются далеко кругом. Поэтому прав Розанов, который о добром человеке говорит, что сам мир был создан, чтобы увидеть его. Тут, только тут, в этой личной доброте, торжествует добро над злом, тут, только тут, добро не идея и не принцип, а живая реальность, опыт и сила. Потому–то и христианство проповедует не отвлеченные христианские принципы, идеи и программы, а проповедует, являет Христа — то есть образ живого Человека, и Человека, чья жизнь, чья Сущность, все призвание Которого — в этой преизбыточествующей доброте…
Иисус взглянул на него и сжалился над ним. И когда спросили у Него, кто этот ближний, которого нужно жалеть, любить, соучастием и сочувствием включать в свою жизнь, Он указал на того незнакомого, но живого и конкретного человека, который сейчас, тут и сегодня, хочет от нас помощи, участия и доброты. И потому уходят в небытие, развенчивают себя одна за другой наши земные идеологии, а остается царящим над миром образ Того прекрасного Человека, о котором Розанов сказал, что сам мир создан, чтобы увидеть Его.
7. Памяти Франсуа Мориака
На днях скончался в Париже в очень преклонном возрасте один из самых знаменитых французских писателей, нобелевский лауреат, Франсуа Мориак.
Про него можно действительно сказать, что он был «последний из могикан», последний из той плеяды, что прославила собой французскую литературу после первой мировой войны. Мориак был современником, если не ровесником, таких всемирно известных писателей, как Клодель, Жид, Кокто, Пруст
[34]. Слава его начала возрастать с двадцатых годов и уже не прекращала расти до самой его смерти.
Но меня в этой беседе интересует главным образом то, что всю свою долгую жизнь, сквозь всю свою литературную деятельность, Мориак был, и открыто себя исповедовал, верующим христианином. Интересует потому, что в наши дни и особенно там, где воцарилась марксистская, материалистическая диалектика, религия провозглашена признаком отсталости, некультурности, варварством, и все делается, чтобы вытравить ее из человеческой памяти, из человеческой истории. И многие, увы, верят в эту новую религию антирелигии, верят главным образом потому, что до них не доходят другие голоса, и уже привыкли к этому состоянию так, что оно кажется им нормальным.
Так вот, пора во всеуслышание сказать, и смерть Мориака — хороший для этого повод: наш век останется в истории культуры как век совершенно неожиданного, поразительного по своим размерам и своей глубине расцвета именно христианской литературы. Ибо в том–то и все дело, что Мориак не был совершенно одиноким. Но, чтобы понять размеры этого явления, нам нужно на минуту заглянуть в прошлое.
Вторая половина девятнадцатого века могла казаться, в плане культуры во всяком случае, эпохой торжества позитивизма, низкопоклонства перед наукой, почти полного вытеснения религии из области культуры. Если, например, ограничиться той же Францией, общепризнанной в то время водительницей и светочем европейской культуры, то все мало–мальски значительное в ее литературной жизни казалось окончательно и именно отрицательно решившим вопрос о вере. Неверующими были Стендаль, Бальзак, Золя, Анатоль Франс, неверующей была Сорбонна и Университет. Католическая Церковь казалась безнадежно скомпрометированной реакционностью папы Пия IX, осудившего в своем знаменитом «Силлабусе» фактически все новое в науке, философии, политике, казавшегося безнадежно слепым по отношению к миру и его реальной жизни
[35]. Повсюду торжествовала поверхностная оптимистическая вера в разум, в неограниченные возможности науки, в неизбежность наступления эры всеобщего счастья и благоденствия. Бог и религия казались окончательно отжившими понятиями или, как в марксистской мифологии, — союзниками эксплуатации и обмана.
Ударом, страшным ударом по этому поверхностному и легкомысленному благодушию оказалась кровопролитная и, в сущности, бессмысленная война четырнадцатого — восемнадцатых годов. На протяжении четырех лет самые передовые, культурные, рациональные страны этого мира являли собой зрелище какого–то кровавого хаоса, причем от начала до конца никто так и не знал, за что, во имя чего гибли миллионы людей. Война стала для многих и многих путем углубления своего сознания, постижения той иррациональной пропасти, в которую падает человек, забывающий или отрицающий вечный и божественный закон жизни. И хотя еще до войны начался во Франции возврат самых тонких и одаренных людей к вере — достаточно вспомнить здесь обращение величайших поэтов, Поля Клоделя и Артюра Рембо, — во время войны этот процесс усилился и углубился.
К началу войны Франсуа Мориаку было тридцать лет, и, хотя он никогда не терял веры, именно кровавый кошмар войны сделал его сознательным и деятельным христианином, не прекращавшим до глубокой старости свидетельствовать о Христе, о его учении, о радости и глубине христианской веры. А вместе с тем никто не посмеет Мориака записать в лагерь эксплуататоров, капиталистов, мракобесов, ибо еще до войны он примкнул к небольшому тогда движению внутри Католической Церкви, искавшему социальной правды, посвятившему себя борьбе с неравенством, бедностью. Этому движению, этой настроенности он остался верен до конца.
Но, конечно, самое важное то, что после Достоевского и Толстого он продолжил в литературе ту линию, которая доказывает не только совместимость веры с творчеством, но и то, что вера есть глубочайший источник творчества. Как и мир Достоевского, так и мир романов Мориака — это мир иногда трагический, раздвоенный и даже злой и больной. Мориак не приукрашивает человека, но он и не лжет о нем. Человек призван к свободе, и свобода — это самый трудный дар, данный ему; он одновременно животное, но и духоносец; он слаб, но и силен; но он никогда до конца не подчинен, как в марксистском детерминизме, рабству безличных железных законов.
Как это ни странно покажется людям, которым с детства долбят об освобождающей силе безбожия, факт в том, что настоящую, глубокую свободу, свободу личности показала, воплотила в своем творчестве и защищала за последние сто лет именно христианская литература, и больше никто. По–настоящему свободные люди — у Достоевского, у Мориака, у Солженицына. Свободные потому, что авторы, создающие их, всем своим существом верят в человеческую личность, в лицо, в неповторимость человека, каждого человека. И смерть великого христианского писателя Мориака дает возможность говорить об этих заслугах христианской литературы.
8. Памяти о. Петра Струве
Недавно погиб в автомобильной катастрофе под Парижем молодой русский священник отец Петр Струве. Ехал туманной ночью к больному в пригороде, не увидел грузовика перед собою и, налетев на него, был убит на месте.
Я хочу сказать о нем несколько слов, не потому только, что я лично хорошо его знал, а потому что русским людям по всему пространству нашей Родины хорошо бы и нужно узнать о нем.
Не знаю, помнит ли еще молодежь гремевшее некогда по всей России имя знаменитого деда этого священника — Петра Бернгардовича Струве: он был одним из основоположников русского научного марксизма, издателем эмигрантского революционного журнала «Освобождение», профессором экономики. Но, конечно, важнейшим фактом его биографии, да и не только его биографии, а духовной истории России, был его отход вместе со знаменитой группой «Вех» от марксизма и революции, изживание им, как и его друзьями, бесплодия материализма. Я говорю о деде отца Петра, чтобы дать почувствовать его корни, атмосферу, его воспитавшую. Это была атмосфера беззаветного и бесстрашного служения Родине и тем духовным ценностям, которые она воплощала на протяжении своей тысячелетней истории.
После революции Петр Бернгардович Струве со своей многочисленной семьей оказался за рубежом, где до самой смерти в сороковых годах продолжал свою научную и идейную работу. За рубежом, в Париже, родился и внук его Петр. Казалось бы, ребенку, никогда не видевшему Родины, не дышавшему ее воздухом, так легко было раствориться в чужой среде, стать для нее своим. Но вот, нога отца Петра никогда не коснулась родной земли, а был он с ног до головы, каждой клеточкой души и тела, насквозь и всецело русским. Жил в Париже, учился во французской школе, стал врачом, но ничто из всего этого не изменило, в сущности, его русской души и призвания. Даже внешне в последние годы был он больше всего похож на Чехова — с его интеллигентской бородкой и близорукими глазами, безразличием к одежде и к внешним, материальным благам мира сего.
Первым призванием молодого Петра стала медицина — он стал врачом, но врачом в старом, русском, земском стиле. В одном из самых бедных кварталов Парижа открыл он свой кабинет, и уже через несколько лет слава о враче–бессребреннике вышла за пределы этого квартала, и к нему потянулась беднота буквально со всех концов огромного города. Так вдали от Родины воскресил он, и безо всякой позы, просто, я бы сказал — самоочевидно, эту старую традицию, этот образ русского врача и путь его жизни как служения.
Но и этого было мало внуку знаменитого русского общественного деятеля. Годы его детства и юности были годами расцвета на Западе, и особенно в Париже, Русского студенческого христианского движения, Религиозно–философской академии Бердяева, «Православного дела» матери Марии, Парижского богословского института. Когда в начале двадцатых годов советская власть выслала за пределы Родины группу, может быть, самых блестящих, самых талантливых и творческих представителей духовного русского ренессанса двадцатого века, она не знала, что этим самым давала возможность этому ренессансу, этому духовному взлету продолжиться еще на несколько десятилетий за рубежом.
Подумать только, что к этой группе принадлежали самые крупные русские философы и мыслители: Булгаков, Франк, Лосский, Бердяев, Степун; и вот в нищете, отрезанные от родной страны, но с неумирающей любовью к ней они продолжили духовный подвиг, который в эти же годы был под запретом и гонением в России. В те годы — двадцатые, тридцатые — в Париже была совершенно особая, незабываемая атмосфера, которую хорошо выразил один русский парижский поэт:
… но веял над нами
Какой–то таинственный свет,
Какое–то легкое пламя,
Тут дописывал свою богословскую систему смертельно больной раком горла отец Сергий Булгаков; тут гремел против всех удушителей свободы Николай Александрович Бердяев; здесь создавал свою удивительную книгу «Непостижимое» Семен Людвигович Франк; тут в заботах о бедных, в полной самоотдаче готовилась к мученической смерти в газовой камере монахиня Мария — бывшая русская революционерка и подруга Блока; тут люди, потерявшие Родину, прошедшие огонь междуусобицы, растерявшие, казалось, все в жизни, шли в монахи, чтобы служить вечному идеалу Святой Руси, отрицавшемуся и попиравшемуся безбожной властью.
Вот в этой атмосфере рос и духовно, и умственно молодой Петр Струве. И когда начали, один за другим, уходить в вечность последние великие могикане русского духовного возрождения, когда появилась угроза пресечения этой традиции, ему стало ясно — нельзя дать ей пресечься, и он стал священником, соединив это новое свое служение со служением врача.
Теперь он уже мчался на своем автомобильчике в любой час дня и ночи не только с сумкой врача, но и со словами надежды и утешения, с крестом и Святыми дарами. И так же, как слава о нем как о враче далеко вышла за пределы его квартала, так и священство стало притягивать к нему старых и молодых, создавать вокруг него новую духовную семью алчущих и жаждущих правды, вечного, небесного. Потянулись к нему и французы, и он стал служить для них по–французски, и через него многим начала приоткрываться красота и глубина Православия.
В эпоху движения к христианскому единству отец Петр не мог остаться равнодушным, и можно было видеть его в его светлом подряснике, приветливого, горячего, радостного, всюду, где люди встречались, чтобы пересмотреть веками наросшие разделения и непонимания. Еще этим, прошлым летом он был в Швеции, в Упсале, на Всемирном христианском съезде.
Неизвестно, когда он спал, когда находил время для жены и четырех детей, неизвестно, когда не было у него в доме толпы людей, больных, ожидающих приема, молодежи, спорящей о вечных вопросах, стариков, ищущих утешения. Уже это была не жизнь, а горение и сгорание. Еще раз, по–новому, вспыхнул идеал, старый вечный русский идеал жертвенной самоотдачи и служения.
И так он и ехал в эту последнюю свою ночь в далекий пригород, в дожде и в тумане, к кому–то — к ближнему, к тому, кто нуждался в нем. Ехал только потому, что в Евангелии навсегда дано одно простое правило: «Я был болен, и вы пришли ко Мне, Я был в темнице, и вы посетили Меня» (Мф. 25:36). Это был канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, праздника христианского студенческого движения, праздника воцерковления всей жизни. И в эту ночь суждено было сгореть до конца этой свече, но сго–реть так, чтобы свет ее отныне разгорался, ибо будет известно, что в наш век, в наше материалистическое и смутное время все живет и не умирает в мире служение Христа в тех, кто любит Его и верит в Него.
9. Иосиф Бродский читает свои стихи
Мы живем, погруженные в события и проблемы и в их нескончаемое, скучное, шумное обсуждение. На нас все время и отовсюду льется поток слов, раздутых, разжиженных, раздутых мутной водицей всяческих пропаганд и самодовольных — грошовых, без всякого труда и боренья приобретенных — истин.
Но в один действительно прекрасный вечер — и как по–новому, как подлинно звучит это самое избитое из всех словосочетаний! — совершается некое чудо. Чудо освобождения от этой, по выражению русского философа Вышеславцева, «спекуляции на понижение», которая торжествует в мире.
В какой–то случайной зале, перед почти случайной толпой Иосиф Бродский читает свои стихи. Вот он, ярко освещенный электрическим солнцем, молодой, невысокого роста, рыжеватый, с очень светлыми глазами, очень простой и сразу близкий. Столько мы слышали о нем, а вот теперь услышим его.
Он начинает — не читать, ибо в его руках нет текста, а — как бы это назвать?.. — петь или оглашать свои стихи. И сразу ясно становится, что настоящее событие совершается здесь, в этой зале, совершается этим голосом, тут, перед нами и для нас, заново рождающимися в своей первозданности стихами.
Звук его голоса. На мгновение удивляешься, настораживаешься, — разве так звучали его стихи, когда читались они глазами или голосом для себя? Почти испуг. Но сразу же отдаешься этому напеву — странному, ни на что не похожему, и понимаешь, почему Ахматова назвала эти стихи магическими.
Заклинание, напор слов, напор ритма, властность, гневность, радость и сила этого напора, словно эти стихи не только должны родиться в звуке, прозвучать, дойти, но и еще что–то разрушить, разломать и смести, что–то, что мешает им, не дает им места в этом тусклом, глухом, акустики духа лишенном воздухе, пространстве и времени.
Бродский читает, почти не двигаясь, без жестов, засунув руки в карманы, только все напряженнее становится выражение его лица, только все сильнее бьет его голос, как если бы физически ощущал он, а с ним и мы, таинственное сопротивление, как если бы все больше усилий нужно было, чтобы его пересилить и преодолеть.
И вот каждое стихотворение — как победа. Когда падает голос и наступает тишина, это не чтение кончено, это не стихотворение подано нам в своей законченности, а сделано некое высокое, чистое и светлое дело, совершен некий добрый подвиг, за всех тех слепых и глухих, кто не понимает, не знает, не видит, какая и за что ведется в этом мире борьба.
Религиозная поэзия. Слушая Бродского, еще раз узнаешь, что словосочетание это — в сущности, жалкая тавтология.
Не знаю, что знает, что читал о религии Бродский, во что и как он верит…
Один древний русский праведник в своем похвальном слове князю Владимиру Святому спрашивал: «Откуда повеяло на тебя благоухание Святого Духа?» Но он знал, как знаем и мы, что на этот вопрос нет точного ответа, нам сказано: «Дух дышит где хочет, и не знаем, откуда приходит и куда уходит» (Ин. 3:8), однако нет в жизни большей радости, чем благоухание это явственно ощутить.
Так вот, послушайте о Сретении, о старце Симеоне, уходящем из храма в смерть, после того как держал он на своих руках Младенца:
Сретенье
Анне Ахматовой
Когда она в церковь впервые внесла
дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро затеряны в сумраке храма.
Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взора небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.
И только на темя случайным лучом
свет падал младенцу; но он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.
А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,
реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем, что глаза мои видели это
дитя: он — Твое продолженье и света
источник для идолов чтящих племен, и слава Израиля в нем».
— Симеон умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,
кружилось какое–то время спустя над их головами,
слегка шелестя под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.
И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. «Слова–то какие…»
И старец сказал, повернувшись к Марии:
«В лежащем сейчас на раменах твоих
паденье одних, возвышенье других, предмет
пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым
терзаема плоть его будет, твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око».
Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значенье и в теле
для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шагал по застывшему храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.
И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога
пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.
Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.
(март 1972)
Ни о цене подарка, ни о том, откуда он, спрашивать не принято, за подарок можно только благодарить.
V. «ДУХОВНЫЕ СУДЬБЫ РОССИИ»
Выступление на съезде в Сиклиффе, штат Нью–Йорк
Мой доклад, озаглавленный в программе съезда «Духовные судьбы России», я начну с вопроса, который, во–первых, можно объективно поднять и который, во всяком случае, я сам к себе обращаю и обратил, когда готовился к выступлению; а именно: кто я, чтобы об этих судьбах что–то говорить, брать на себя какие–то по этому поводу рассуждения, предложения и так далее? Даже вот сейчас, в этом собрании, находятся люди, которые прожили значительную часть своей жизни, и, пожалуй, большую, в России, которые действительно суть плоть от плоти и кровь от крови ея. И, собственно, они могут спросить: а кто Вы такой, чтобы об этом говорить? Вы там не были! И правда — я там не был. Все это может быть чисто отвлеченным, абстрактным. И я считаю этот вопрос совершенно законным и хотел бы с него начать, ибо, в сущности, ответом на него является в каком–то смысле весь мой доклад.
Сейчас идет и, наверное, будет еще долго идти страстный, горячий спор о России. Надо сказать, что спор о России есть одно из постоянных измерений русской истории. Россия принадлежит к числу тех стран и наций, которые спорят о самих себе. (Никогда француз не просыпается утром, спрашивая себя, что значит быть французом. Он совершенно убежден, во–первых, что это очень хорошо — быть французом и что, во–вторых, это совершенно ясно. Тогда как русским свойственно пребывать в постоянном напряженном искании смысла своего собственного существования как России.) И тем более в наши дни, и по причинам, я думаю, вполне понятным, после того совершенно необычайного, страшного по своей глубине обвала, который совершился с Россией в 1917 году и в дальнейшем.
Этот спор опять возник, этот спор идет, и, хотим ли мы этого или не хотим, он будет идти и дальше. А это значит, что становится возможным и даже нужным всякое подлинное мнение, подлинный вопрос, сколь бы частичек он ни был, — вопрос о смысле и духовной судьбе России.
Я думаю, что только в этом контексте, из–за того, что этот спор идет и в нем мы все так или иначе участвуем, имеют право голоса и такие, как я и как часть моего послереволюционного поколения, которое хотя и никогда не было в России, не было причастно ее непосредственной жизни, тем не менее (даже родившись за рубежом) не растворилось до конца в западном море, но осталось обращенным к России…
Отсюда некоторый автобиографизм моего доклада, — не в смысле каких–то подробностей: я совсем не хочу вас занимать своей персоной, — но поскольку это применимо не только ко мне одному, но в каком–то смысле и ко всей эмиграции, хотя я и не считаю эмиграцию сколько бы то ни было однородным явлением.
Особенность моего эмигрантского поколения заключается в том, что мы начали свою жизнь с некоторого парадокса. Я, например, родился эмигрантом. Если понятие «эмигрант» предполагает, что человек откуда–то эмигрировал, то я, например, ниоткуда никогда не эмигрировал, я просто родился эмигрантом. И всегда, с тех пор как я себя помню, хотя никогда и не жил в России, сознавал себя, как нечто самоочевидное, безусловно русским. И это несмотря на то, например, что, проживи до тридцати лет во Франции, я также ощущаю французскую культуру — нет, не французскую нацию — очень близкой, почти своей.
А последние двадцать пять лет, могу сказать без всякого преувеличения, я не только принял Америку, но и большую часть своей жизни посвящаю тому, что считаю бесконечно важным, более важным, чем все остальное, — это не без воли Божией совершившееся распространение на весь мир православной веры, которая прежде отождествлялась главным образом с Востоком, с Балканами и Малой Азией, со славянскими землями. И вдруг в XX веке, в эпоху умаления Православия, уничижения его в местах, где оно цвело, Господь Бог каким–то таинственным образом распространил его по всему миру… И для себя я всегда ощущал это как некий зов и обязанность. И тем не менее ни отдача себя этому делу, ни французское образование никогда не ощущались мною как отход от или как забвение России. По всей вероятности, и умру я в этом странном сочетании, как говорят на богословском языке, разных воипостазирований — соединении нескольких природ в одной ипостаси.
Итак, с этого я начал, потому что я и люди моего поколения, те, которые осознали — может быть, их очень мало на самом деле, но они есть, — прошли, по–моему, через следующие стадии отношения к проблеме «Церковь, Православие, духовная судьба России».
Я помню с первых лет своей жизни, можно просто сказать, буквально с самого начала — первую стадию, которую можно выразить в фразе, которую я слышал всегда, одну из ключевых эмигрантских фраз: «Церковь — это все, что осталось у нас от России». Я просто вырос с этим постулатом. Хотя должен сказать, что мне довольно рано стало казаться, что для определения Церкви его явно не достаточно. Что кроме этого есть в Церкви еще нечто. Тем не менее в этом была и своя глубокая правда.
Эмиграция могла очень много и очень часто вспоминать о России, думать о России, писать, спорить о России, работать, как тогда говорили, для будущего России. Помнить, думать, спорить — все это в эмиграции возможно. Одно невозможно в эмиграции — это быть в России.
Исключением из такой невозможности с самого начала и стал храм, церковь.
Входя в церкви (я говорю главным образом про свой детский, парижский опыт), в эти наши знаменитые церкви, переделанные из гаражей и подвалов, из квартир, русский эмигрант, какого бы он ни был возраста, отдавал ли он себе в этом отчет или нет, несомненно входил, вступал в Россию. Это была действительно святая правда! Отсюда и такая сосредоточенность эмигрантской жизни вокруг храма. Вы могли не знать, где вы — в Белграде, Париже, Берлине или еще где–то, — когда входили в русские православные храмы, которые были столь же храмами, сколь и возможностью войти, пережить, прикоснуться к тому, чего эмигранты в своей катастрофе отделения от России были лишены. И таким образом даже те, кто никогда не бывал в России, тоже получали эту возможность через вхождение в храм, через жизнь храма, церковную жизнь и связанную с ней жизнь бытовую приобрести опыт русскости, опыт России, по всей вероятности самый главный; обо всем остальном русские эмигранты, как и вообще эмигранты, спорили.
Русские эмигранты всегда много спорили, потому что у них даже воспоминания о России были разными. Кто вспоминал свое служение в Бородинском полку, а кто вспоминал, как он в каком–то студенческом кружке готовил революцию. Были люди, которые со слезами вспоминали, как они 9 января 1905 года гнали демонстрантов с Сенатской площади, и те, которые с теми же слезами умиления вспоминали, как их гнали. Но и те и другие соединялись в наших храмах. И для тех и для других, какой бы они знак ни ставили, где бы ни расставляли «плюсы» и «минусы», в конце концов, храм был один. И тут происходило не то что идеологическое примирение (оно нам, русским, вообще противопоказано), но кончались споры, но все прикасались к тому, что несомненно.
Я вспоминаю себя мальчиком, учащимся французского лицея. У меня было как бы две жизни. Сидишь в лицее, в классе, и знаешь, что сегодня вечером, скажем, Похвала Богородице. Слава Богу, лицей был недалеко от кафедрального собора. И ничего — все было хорошо! В классе были Расин и Корнель, Столетняя война и Жанна д'Арк, а потом начиналась другая жизнь. Именно жизнь, а не просто и не только религия. Это было вхождение в другую жизнь.
И совсем не удивляло русских эмигрантов и меня в начале моего жизненного пути, когда выходил в Великую пятницу старенький митрополит и над плащаницей, так сказать, сказавши уже, отдавши долг тому, что это Христос во гробе лежит, переходил к «главному» — так, говорит, и Россия во гробе лежит. И вот, Христос воскрес, и Россия воскреснет! Ему это не казалось богословской натяжкой.
Или когда начинался Великий пост и пели в церкви удивительный псалом «На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом…», изгнание из рая многими воспринималось прежде всего как изгнание из своей страны, из России, которая чем больше проходило времени, тем больше приобретала признаки потерянного рая. Поэтому первая стадия в становлении была вот эта, я бы сказал — эмигрантская Россия. Конечно, это означало семью, язык, всевозможные эмигрантские организации и так далее.
Церковь, Православие мы получили вот от этой России, и получили прежде всего как некое ее воплощение, присутствие, ее частицу. И все время была эта некоторая светлая, но двусмысленность.
Я помню старушку учительницу математики в русской гимназии, где я одно время учился. В этой гимназии Великим постом было общее говение. И один мой приятель в то время решил, что он безбожник. Пришел к учительнице и честно сказал: «Я не хочу приобщаться, я не верю в Бога». А она ему сказала: «И дурак, это добрый, старый русский обычай». Я не знаю, что было лучше в этих словах: что это добрый обычай, старый обычай или обычай прежде всего? Но для нее это было самоочевидным. И мы вынесли из гимназии представление о вере главным образом как о части старого, доброго русского обычая…
Я это говорю, когда молодость, детство давно за плечами, когда даже эмигрантское детство кажется в каком–то смысле потерянным раем. Я говорю это не так, как сказал бы несколько десятилетий назад с какой–то запальчивостью, нет.
Так было. Так было! Я могу сказать, вспоминая об этом, что когда–то тогда я побывал в России. Не только потому, что тогда были бывшие. Стоишь в соборе, посмотришь вокруг — премьер–министр, граф Коковцев, два–три великих князя, и после литургии будет панихида лейб–гвардии Преображенского полка, европоходников и Смоленских институток, казанского купечества, саратовских благородных девиц и так далее. Мы побывали, мы были, мы прикоснулись.
И иногда даже сейчас, когда я встречаюсь с людьми, мне кажется, что мой опыт России даже немножко шире, потому что они не видали никогда графа Коковцева, а я с ним чай пил… И Шаляпина хоронил, стоял у гроба его. Это было неразличимое, неразделимое, абсолютно неразличимое одно целое — Россия, храм, Церковь, Православие.
Я перехожу ко второй стадии. Получивши от России Церковь и Православие, мы стали задумываться о самой Церкви. Или вернее, Церковь, вера сами стали жить в нас, требуя какого–то углубления, требуя ответа на вопрос, о чем мы вспоминаем, когда поем: «На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом…». Или можно ли в Великой пятнице видеть только символ смерти и воскресения России? Или она еще о чем–то другом говорит? В чем тут дело?!
И вот я попал в Православный богословский институт. В то время в нем преподавали настоящие корифеи. Я принадлежу к последнему классу, который еще слушал отца Сергия Булгакова; я был ассистентом по кафедре Антона Владимировича Карташева, слушал нравственное богословие у Бориса Петровича Вышеславцева, историю христианства и философию у профессора Мочульского. Там было что–то другое. Все эти деятели были чрезвычайно русскими людьми, цветом России. Но главное в институте было то, что Церковь, Православие и вера зажили для нас своей собственной жизнью.
Если раньше мы воспринимали их как часть русского опыта, может быть, лучшую часть, то теперь на этом новом для нас этапе в душах наших стала выстраиваться некая иерархия ценностей. И мы начали задавать себе вечный вопрос — что значат слова, сказанные Христом: «Ищите прежде всего Царствия Божия, а остальное все приложится вам» (Мф. 6:33)? Что к чему прикладывается? Что из чего следует? И что составляет тот религиозный центр, который делается центром жизни? Центром всего, потому что все в мире к нему соотнесено. Значит ли, что это самодовлеемость богословия в высочайшем смысле этого слова?
Помню, как я сидел с открытым ртом первые три года из пяти лет моего богословского образования, когда мне все время открывались абсолютно непостижимые прежде горизонты, когда где–то далеко даже весь мир остается…
Я и не предполагал раньше, когда был мальчишкой, архиерею посох выносил, что существует такой замысел, такой потрясающий божественный замысел о том, что такое мир, что такое человек и к чему они по–настоящему призваны. И что за пределами всех наших религий открывается человеку. Я вдруг понял, что каждый человек, что бы ни случилось с ним в жизни, всегда про себя может сказать: я изгнанник на этой земле.
Я никогда не мог понять, что могут быть какие–то зарубежные церкви, потому что христианство есть всегда некая зарубежная Церковь, потому что мы за рубежом мира сего, это прежде всего. Поэтому Церковь, ощутившая себя где–то дома, до конца у себя, забыла бы, предала бы свое призвание, которое положительно делает ее пришелицей и странницей на этой земле.
Все мы «не имеем здесь своего града, но грядущего взыскуем» (Евр. 13:14). Осознание этого и стало для меня обретением самой сущности Православия. Той сущности, к которой с середины XIX века начало возвращаться русское сознание через первое поколение славянофилов, через возрождение монашества от Паисия Величковского до преподобного Серафима, когда что–то такое засияло в Православии, нечто такое, что было как будто забыто со времен Византии и святых отцов.
Итак, сначала мы получили Церковь от России вместе с Россией. Затем Церковь, Православие стали для нас центром жизни. И уже не Церковь определялась по отношению к России, как во фразе «Церковь — это все, что у нас осталось от России», а Россия стала соотноситься с Церковью: «Какой ты хочешь быть, Россия, — Россией Ксеркса иль Христа?» (Вл. Соловьев). И наконец, погрузившись в православное боговедение, в православную историю, в православную иконопись и так далее, мы по–новому стали относиться и к России: путь России, ее настоящее, прошлое и будущее стали нами восприниматься по–другому.
Повторю еще раз: прежде Церковь была для нас только частью России — теперь же у нас появилась потребность понять, почему, по каким причинам именно в России, где на рубеже XIX — XX веков произошло возрождение Православия, случился такой страшный социальный обвал, вос–торжествовали те бесы, о которых писал Достоевский.
Как мы презирали Запад — я говорю «мы», имея в виду всю Россию, — сколько издевались над бельгийскими и французскими буржуа, над немцами (кто только их, бедных, не крыл!). Но случилось так, что они, как–никак, но живут–то свободно, а мы… Вот и возник вопрос: отчего это произошло, как возможно? Взлет преподобного Серафима, Достоевского и Хомякова, с одной стороны, а с другой — кровавая каша, в которую погрузилась Россия.
Понятным это стало для нас лишь в свете Церкви.
Определение того, чем является в мире Россия, требует такого критерия, который был бы вне ее и выше ее. И этим критерием является полнота Церкви. Не может быть какая–то часть критерием целого. Поэтому формула, что Церковь есть лишь проекция России, должна была быть навсегда отброшена. Так начался и продолжается наш поиск ответов на вопросы о прошлом, настоящем и будущем России, наш спор о ее духовных судьбах.
* * *
Теперь, после этого небольшого автобиографического резюме, я хочу сказать о том, какими я вижу духовные судьбы России, о том, какие возможности перед Россией открываются.
Понятие «Россия» мы употребляем здесь как некоторый образ, ведь понятие это можно по–разному трактовать — и в плане экономическом, и в планах политическом, географическом и т. д. Когда мы говорим «Россия», все мы чувствуем, что говорим не о судьбе населения, живущего на Восточно–Европейской равнине, восходящего к норвежскому племени русов. Не об этом мы говорим. Мы говорим о некоем духовном образе, к которому мы можем быть причастны, а можем быть и не причастны.
Говорить о духовных судьбах России — это прежде всего делать выбор: какой России мы взыскуем. Но выбор наш не может быть чисто субъективным: дескать, эта страна мне просто больше других нравится или мне близок ее фольклор. Нет. Наш выбор должен исходить из того главного духовного источника, каким является для нас христианство, а также из понимания того, что наша вера, наше исповедание есть только фрагмент единого и всеобъемлющего замысла Бога о мире. И, стало быть, мы должны постараться увидеть и понять, к какому выбору этот замысел Россию обязывает.
У нас, русских, есть тенденция, которая мне кажется очень сомнительной (она, правда, есть не только у русских, но у нас она особенно ярко выражена), — трактовать собственную историю как некое органическое развитие. Вообще единственное, что мы, русские, хорошо усвоили у немцев, это шеллингианское и гегельянское представление об органическом. И одновременно мы постоянно ищем в нашей истории некий золотой век, с которым хотелось бы себя соотнести, о котором можно было бы сказать: «Вот это была наша настоящая Россия».
Одни выбирают себе в качестве идеала Московскую Русь: обетованные времена, тишайший царь Алексей Михайлович. (А сколько при нем старообрядцев сгорело, при тишайшем–то царе!)
Другие берут себе за пример западничество, Россию петербуржскую, ее блестящий культурный взлет, где–то между Петром Великим и Александром III. (Опять здесь люди расставляют ударения по–разному.)
И с некоторых пор появились у нас еще любители Киевской Руси. Георгий Петрович Флоровский назвал ее золотым мерилом русской истории.
И действительно, в прошлом всегда можно при желании отыскать некий «золотой век», относительно которого мы изменились в худшую сторону, исказили его традиции и к которому необходимо вернуться. (Как в истории этого мира вообще можно к чему бы то ни было вернуться?) Но сейчас речь не об этом. А о самом видении и понимании истории. Мне кажется, что русская история всегда была поляризованной, неорганической. Никогда не было в ней момента какой–то устойчивости и равновесия. Изначально в российской истории присутствовало некое противоречие, существовало внутреннее борение. И прежде всего в чисто духовном плане.
В России параллельно формировались и развивались две в общем–то противоположные духовные и нравственные традиции. Первую я бы определил как традицию некоторой исторической гордыни. Митрополит Киевский Иларион в свое время так примерно ее обозначил: да, конечно, мы последние вошли в историю. Последние, в одиннадцатый час. И тут же вывод: но последние будут первыми! Да, конечно, куда нам до греков, куда нам до Византии! Но, братцы, уж если мы покажем, то покажем! И тут очень кстати пришлась идея третьего Рима — первый взлет русского самодовольства.
Затем имперский взлет при Петре, которому до третьего Рима никакого дела не было — жила бы Россия во славе. Появляется понятие славы. Древняя Русь хотя бы знала то, что мы теперь говорим после литургии: «ибо Тебе подобает честь, слава и поклонение», и только Тебе. Но тут явилась слава как нечто самодовлеющее: слава русского оружия, слава того, слава сего…
Потом самодовольство и гордыня стали расти, все дальше и дальше распространяться, уходить в такие глубокие и рыхлые пески нашей души. Мы ведь как привыкли рассуждать: конечно, мы так себе люди, но душа–то у нас не такая, как у всех! Никогда не подождем, пока другие скажут, что душа у нас хорошая, нет! Мы это объявили, сами себе назначили, декларировали, догматом сделали! У нас особенная стать, в нас можно только верить! Не можем мы себя, точно немцы какие–то, нравственными мерками мерить. (Блок вот писал, что сначала наплюем на Бога, а потом целуем иконы — ив этом вся Россия.) В таком бахвальстве воспитывалась и русская армия. Русская армия, дескать, непобедимая. Хотя она не один раз проигрывала войны. При Аустерлице побили, в Севастопольскую кампанию побили, в русско–японскую кампанию опять побили — все равно мы непобедимы. Что нам до фактов — факты нам только помеха!
В общем, национальная гордыня наша имела всевозможные измерения — от исторического до психологического. Но одновременно с этим самодовольством существовала и развивалась и другая линия русской духовности, русского самосознания. В чем же она проявлялась?
Мы, русские, всегда оглядывались, засматривались на Царь–град, на Византию. Но душа Руси с момента ее крещения мистически пребывала все же не там, а в Иерусалиме, у евангельского Христа. Там, где игумен Даниил ставил свечку за Русскую землю.
«Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь небесный исходил, благословляя…» — этот образ Христа полюбился России больше всего, больше всех византийских мозаик. Этот. Это было большим, чем все помыслы о земном величии, о мирской славе. Здесь угадывался поиск почти невозможной свободы. Свободы не только, как мы теперь думаем, от агрессии, от государства (хотя и от государства, конечно, тоже). По существу, это было искание свободы от тяжести земной жизни, свободы от мира сего.
И это чувство постоянно присутствовало в русской литературе. «Много нас по свету бродит, правды ищет.:.» Или Касьян с Красивой Мечи из «Записок охотника» Тургенева… Наш писатель, западник, но и он чувствует это! Жил в Баден–Бадене или Бужевале — и все–таки чувствовал. Или печальный агностик Чехов в своем «Архиерее» — разве не то же самое чувство выразил?
Как же далеки эта духовная неуспокоенность, это подвижничество, зачарованность высшей Правдой, эта традиция иерусалимско–евангельского христианства от всякой суетной гордыни и агрессии, от лозунгов вроде «Гром победы раздавайся», «Горжусь, что я русский!», «Мы русские — с нами Бог!» и т. п.!
Россия получила откровение такой красоты, такой духовности, что после него просто даже нелепо было всем этим державным славам предаваться. И тем не менее она предалась.
В постоянном сталкивании, противоборстве этих двух традиций — высокой, неземной почти духовности и национального самодовольства, прельщенности грезами о земном теократическом царстве — и проходила история Российского государства. Так что настала пора перестать уже искать органичности в нашем прошлом. И вместо этого начать всерьез над ним задумываться и выбирать: каким путем из названных России следовать дальше?
И здесь я должен употребить формулу бесконечно затертую, избитую, очень часто неверно понимаемую, которую я стремлюсь как можно реже произносить, знаменитую формулу «Святая Русь».
Коль скоро мы говорим о духовных судьбах России, давайте попытаемся найти для этой формулы, этого словосочетания соответствующее — истинное, а не надуманное — содержание.
Что же такое Святая Русь? Утверждение ли это факта?
Помню удивительную статью Антона Владимировича Карташева «Судьбы Святой Руси». Он пишет, что Англия вот называет себя старой доброй, Франция — я сейчас не помню, ну, допустим, веселой, Германия еще как–то, и только Россия назвала себя Святой. Когда народ называет свою страну — Святая Русь, то очень важно знать, в каком смысле он это говорит.
Понятие святости имеет два смысла. С одной стороны, оно применимо к сравнительно небольшому числу людей, которых Церковь канонизировала. С другой — апостол Павел и Православная литургия именуют всех нас, христиан, святыми: «Святая святым». Святость — святым. «Вы святы, потому что вы освящены».
Я думаю, что вот по этому критерию — нашего реального соответствия изначальной святости каждого христианина — мы и будем судимы Богом на Страшном суде. «Разве вы не знаете, — говорит апостол Павел, — что вы куплены дорогою ценою, что тела ваши суть храм Святого Духа, и вы не свои?» (1 Кор. 6:19). Вот для нас изначальное понятие святости.
Поэтому, когда мы произносим «Святая Русь», следует ясно отдавать себе отчет, что именно мы имеем в виду. Если мы твердо верим в то, что русское государство, историческая Россия, которая существовала прежде, и есть Святая Русь и нам остается только вернуться к ней (кому в Киев, кому в Москву, кому в Псков и Новгород, кому в Петербург, на выбор, — кто что под Святой Русью подразумевает), тогда мера нашей гордыни безусловно превышена и Бог заслуженно посрамил нас нашим страшным историческим падением.
Хотели бы мы и дальше при всех наших падениях и блужданиях мерить себя только этим критерием? К чему мы все–таки стремимся? К Босфору и Дарданеллам? К тому, чтобы наш русский флаг по всему миру развевался? Но тогда как раз советская власть и есть предел всех наших желаний, уродливая их карикатура. Ведь прежде Россия никогда не была так внешне сильна. Ни при Петре, ни при Екатерине, ни при Пушкине, ни при Достоевском, ни при одном из русских святых. Только при Сталине. Вот как оказывается все просто. Советский флаг был почти на стенах Царьграда.
Если наши желания только этим ограничиваются, тогда давайте раз и навсегда забудем о Святой Руси. Ибо ничего святого в том, чтобы богатеть земной славой, земным могуществом, нет. Демоническая, страшная сила большевизма и была направлена на то, чтобы установить свою власть над всем миром, чтобы весь мир перед ней дрожал. (Как сказал один из американских президентов: «Брежнев чихнет — и весь мир волнуется».) И если мы выбираем этот идеал, то у России нет будущего.
Святая Русь неотделима от свидетельства и опыта русских святых, от влюбленности в Истину, той влюбленности, в которой Семен Людвигович Франк видел хроническое заболевание русского духа. Пока же мы будем продолжать твердить: только Россия, все только для России, — мы свою гордыню не изживем.
Вы знаете прекрасно, что гордыня — это то, что из ангела света сделало дьявола. И там, где есть гордыня, там никогда не будет Христа. И самый страшный дьявол тот, который принимает облик ангела света. Дьявол никогда как дьявол не является, а всегда стремится облечься во что–то такое прельстительно–светленькое. Критерий же различения духов был и остается всегда один: там, где есть гордыня, там нет и не может быть Христа.
Ибо в этом и есть сущность первородного греха. Это первое.
Второе. Отказ от гордыни (который для нас очень не прост) предполагает покаяние. Я говорю не о простом перечне двух–трех исторически национальных грехов и не об истерическом биении себя в грудь, которое никогда не бывает настоящим покаянием, но часто оказывается формой самоуслаждения. Когда ко мне на исповедь приходит человек и говорит: «Я нагрешил как никто другой!», мне приходится его разочаровывать: «Вы знаете, максимум — как все». Не надо так — чтобы и в грехе кого–то переплюнуть. Необходимо трезвое покаяние. И если говорить о нашей истории, я его понимаю прежде всего как отказ от всех «золотых веков» вместе взятых. Не надо любоваться тем, чем не надлежит любоваться.
Что такое истинное духовное покаяние? Это попытка увидеть себя глазами Бога. Есть такое греховное кокетство — мы кокетничаем своими грехами, это наша слабость. А вот увидеть себя в свете Божием, и каждому увидеть в ту меру, в которую ему дано, — это наш общий исторический долг и путь. В свете божественной правды что было злом, то было злом, что было хорошим, то было хорошим. Только при таком подходе возможно в конечном итоге богопознание. Но без духовного очищения невозможно не только богопознание, но и вообще какое бы то ни было познание.
Мы видим мир лишь внешний. Изнутри можно все увидеть, но понять только в Боге. И нам дана эта возможность.
Говоря о покаянии, я говорю не о чем–то коллективном, внешнем, общественном. Я вообще боюсь коллективных покаяний, так как не понимаю, в чем они выражаются. Но если бы каждый из нас, русских христиан, перестал бы жить в состоянии исторической гордыни (только покаяние и делает возможным духовную трезвость), это был бы огромный шаг на том духовном пути, который ведет к Святой Руси.
Третье. Нам необходимо освобождение Церкви.
Никогда Церковь в России не была свободной. Она была официальной. Между тем Церковь есть то, что выходит за все земные рамки.
Что сказано о Церкви в Символе веры: Единая, Святая, Соборная и Апостольская. Если мы пойдем еще дальше, то скажем — Тело Христово. Если еще дальше и глубже, то скажем — Храм Святого Духа. Если мы хотим вглядеться в Нее, давайте посмотрим на образ Божией Матери Оранта, на Ту, к Которой обращена вся тварь: «О тебе радуется, Благодатная, всякая тварь». Так и в Церкви мы можем увидеть Жену, облеченную в солнце. А главное, через Церковь во всем мире присутствует тайна Божия, присутствует свет Божий.
Но что же происходит в действительности? Я никогда не был в Церкви, которая являлась бы Святой, Соборной, Апостольской и Единой. Нет, я всегда был либо в Русской, либо в Албанской, либо в Греческой, либо в Румынской и т. д. А разве не свидетельствует это о раздроблении Тела Христова? Что же мы делаем?
Скажу просто (хотя боюсь, я все же в этой Церкви вырос): мне совершенно не нужно прибавления к слову «Церковь» определения «Русская». Мне нужно прибавить «христианская» и «православная» — и все. Апостол Павел ведь никогда не обращался к Греческой Церкви. Он писал Церкви, пребывающей в Греции, Церкви, пребывающей в Коринфе, ибо Церковь странствует. И Церковь Русская — это значит Церковь, пребывающая в России, для спасения русских людей и России. Но что такое «Русская Святая Соборная»? При чем тут определение «Русская»?
И вот я говорю про освобождение Церкви не только в смысле юридическом. Хотя и юридически хорошо бы было ее освободить раз и навсегда. Антон Владимирович Карташев очень точно говорил, что тонкий организм Церкви похрустывал в объятьях Византийской теократии. Этот хруст ребер церковных мы слышим уже на протяжении веков. Так что пора бы уже сказать государству то, что когда–то сказал Максим Исповедник, когда его привели в тюрьму: «Не ваше дело заниматься Церковью». И сказал не кому–нибудь, а блаженнейшему, благочестивейшему, христианскому императору.
И пора понять, что никакой опеки Церкви никогда не было нужно. Не было нужно в прошлом. Не нужно в настоящем. Не нужно будет и в будущем. Не надо нам обер–прокуроров Победоносцевых, Куроедовых. Оставьте Церковь в покое. Поймите, что от Церкви нельзя требовать: так, вот тут послужи миру, там послужи миру. Церковь тем служит миру, что являет в нем неотмирное Царство. Это и есть ее служение в мире. Она служит миру только в ту меру, в какую она от мира абсолютно свободна. И в ту минуту, когда она себя миру хоть в чем–то порабощает, она изменяет своему призванию.
Поэтому так много было сказано русскими мыслителями об освобождении Церкви. И нам не нужно выдумывать нового, нам нужно вернуться к тем, кто это с такой остротой почувствовал и пережил.
Но вернемся к теме будущего России.
Если нет покаяния, если нет трезвого видения самих себя и своей истории, то нет и христианства, нет Церкви, потому что не бывает веры и Церкви без смирения и духовной трезвости.
Больше всего в мире меня сейчас пугает не только разлив зла, открытого зла, но и появление всюду и везде страшных вещей — ложного максимализма, апокалиптизма и кликушества во всех его формах. Многим сейчас, видите ли, недостаточно называть себя просто православными, надо обязательно еще добавить «подлинные» или «истинные». А уж если кто–то «истинно православный», то ему точно известно время второго пришествия Христа. А Христу было неизвестно, между прочим. Но зато у нас знают миллионы людей. Я могу вам дать телефоны в Нью–Йорке, где вы можете узнать, когда точно будет конец света и по каким причинам. (И из России довольно часто доходит до нас та же мутная волна этого ложного максимализма: что–то произошло — все, братцы, завтра ждите!) Каждый год какой–нибудь пастор объявляет о втором пришествии, все выезжают в пустыню, надевают белые рубашки и вечером возвращаются обратно.
Есть христианский эсхатологизм, и есть святая истина христианства: «Да приидет Царствие Твое!» (Мф. 6:10). «Да приидет!» Пусть сейчас придет или через два миллиона лет — все равно. Я живу в свете этого конца. Потому что этот конец во Христе придет. Потому что Истина объявлена.
А есть ложный максимализм, апокалиптизм, есть стращание, это навязывание всем и каждому какого–то надрыва, какой–то истерики; меня всегда это заставляет вспоминать слова В. В. Розанова, он писал, что Православие — для очень гармонического типа людей, а не для истерических людей. У нас же есть люди, которые не понимают и конца диалектики Достоевского, останавливаются на чем–нибудь вроде следующего: «Ты веришь в Бога? Я, — прохрипел Шатов, — я буду веровать в Бога!»
[37]. До этого он уже полтора часа о Боге говорил, а, оказывается, не верил. Здесь есть эта тональность, к которой очень многие сейчас склонны.
Я очень часто встречаюсь с людьми, которые приходят в Православие. И какой же мы, православные, наносим часто духовный вред, обращая их не в святую православную Истину, а, простите, в православную истерику! В какое–то сплошное бесконечное преувеличение, которое ничего общего не имеет со светом, входящим в мир и в образе преподобного Серафима, и в, в общем, бесконечно трезвой христианской литературе, которая порождена этим Православием.
Я уже говорил о необходимости воспитывать в себе умение различать духов. «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но различайте духов, от Бога ли они» (1 Ин. 4:1). «Не всякий, кто говорит Мне: «Господи! Господи!», входит в Царствие Божие» (Мф. 7:21). Не всякий, особенно сейчас, в эпоху ложного духоносничества, всяких сект, харизматиков, — как трудно становится различать, какие духи от Бога, и это относится прежде всего к России. К будущей России. Нужно, конечно, бояться и других опасностей — кровопролития и сведения счетов, но я больше всего боюсь другого: как бы, обретя наконец свободу, мы из–за нашего неумения различать духов не поругали бы ее.
Сейчас более всего нам нужен подвиг сосредоточенности, подвиг медленного собирания души, вглядывания.
Верность России состоит не в том, чтобы просто о ней все время говорить, а в том, чтобы собирать свое знание вокруг ее благодатных и грешных, прямых и извилистых путей. И постепенно создавать тот образ России, к которому нужно не возвращаться, а который будет началом нового, наверное, такого же трудного, такого же трагического, но свободного развития русского пути.
* * *
Сегодня перед нами по–прежнему стоит все тот же сакраментальный и пока еще не разрешенный вопрос: «Какой ты хочешь быть, Россия, — Россией Ксеркса иль Христа?»
У нас, у русских христиан, есть сейчас две путеводные звезды. Одна — это русские святые и русская святость (конечно, все святые святы, я молюсь святому не потому только, что он русский: святость Николая Чудотворца воплощается в любом народе); я говорю про русскую святость в ее целом. Святость как некое видение Бога, жизни, мира.
Я только намекну на то, что это означает. Профессор Вейдле писал о греческом храме Святой Софии, что снаружи он не производит никакого впечатления, но входишь в него — и обмираешь от того, что внутри открывается твоему взору. В русской же архитектуре часто присутствует другое — взор сразу должен на чем–то останавливаться (есть даже чисто декоративные купола, ко внутреннему убранству храма никакого отношения не имеющие); эта, казалось бы, незначительная деталь многое объясняет.
Антоний Великий или Пахомий уходили в какие–то страшные пустыни со скорпионами, а русский святой, хотя и называл место своего уединения пустыней, шел в какую–нибудь благословенную рощицу с березками. Что это такое?
Есть, есть в русской святости нечто с трудом определимое, но явственное, оно и в русском почитании Божией Матери, и в почитании святых выражается. Может быть, это наши иконы (вспомним преподобного Серафима, умирающего перед образом Умиления)? Так вот, это — главный наш золотой запас. Его нужно изучать и знать. Не только для того, чтобы раз в год праздновать день Всех святых, в земле Российской просиявших, а потому, что здесь мы находим некий камертон для настроя всей нашей духовной жизни.
Другая наша путеводная звезда, может быть, не в духовном, но в душевном, сердечном плане, — это русская культура, и как высшее, наиболее яркое ее проявление — русская литература. Русская литература в лучшем, что ею создано, в основной своей тональности, очень соответствует всему тому лучшему в русской истории, о чем я говорил. В ней нет гордыни, зато всегда присутствует острое чувство греха и покаяния. Есть в ней настоящая, осуществленная духовная свобода человека, но нет кликушества. Странно даже. В стране, в которой было столько преувеличений, перехлестов, в которой мысль металась, как наш великий насмешник писал: «От Канта к Конту, от Гегеля к Шлегелю», — и вдруг русская литература, с ее потрясающей трезвостью, скромностью и любовью.
Вот, например, в Пушкине вы не найдете ни безмерности, ни кликушества, ни апокалиптики; есть, правда, национальная гордость, но и та не без меры, а с какой–то даже прохладной отстраненностью.
Русской культурой, русской литературой во многом будет измеряться наше прошлое.
* * *
Итак, говорить сегодня о судьбах России — готовить себя к возвращению в прошлое. То, что случилось с Россией, было дано ей и нам как ужасное испытание и, одновременно, — как возможность для пересмотра всего нашего прошлого и для очищения.
Слово «кризис» означает «суд». И суд совершился. Потому всем нам сегодня нужно напрячь до предела совесть, именно совесть. Конечно, нужны ясные знания. Мы должны уметь анализировать, изучать, любить. Но совесть все же требуется прежде всего. Совесть объединяет все. Она позволяет заново увидеть Россию в ее прошлом и настоящем и, может быть, начать чувствовать, в чем должно состоять ее будущее.
На каждом из нас, русских христиан, лежит долг подвига — в меру своих сил, кто здесь, кто там, кто больше, кто меньше, но способствовать тому, чтобы духовная судьба у России была. И чтобы эта духовная судьба хотя бы в какой–то мере соответствовала тому удивительному, чистому и светлому определению, которое кто–то когда–то произнес и которое осталось как мечта и чудо, как замысел, как желание: «Святая Русь».
notes
Примечания
1
Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы», часть 2, книга V, гл. 2: «Это чтобы стихи–с, то это существенный вздор–с. Рассудите сами: кто же на свете в рифму говорит? И если бы мы стали все в рифму говорить, хотя бы даже по приказанию начальства, то много ли бы мы насказали–с? Стихи не дело, Марья Кондратьевна». — Прим. сост.
2
Из чина погребения мирян Иоанна Дамаскина. — Прим. сост.
3
Ирмос Пасхального канона. Песнь 1–я; стихира Пасхи. — Прим. сост.
4
См.: «Моя родина» // о. Сергий Булгаков. Автобиографические заметки. (Посмертное издание). Париж, 1946. С. 16. — Прим. сост.
5
Ср. с воспоминаниями о. Александра об отце Сергии, посвященными столетию со дня рождения С. Н. Булгакова и обращенными к тем «удивительным и, по–видимому, неистребимым «русским мальчикам», которые там, в России, в советском безвоздушии, взяли на себя героический подвиг восстановления русской духовной традиции, возвращения в подлинную Россию»: «Ибо я тоже был «русским мальчиком», только эмигрантским. И это значит — тоже, хотя и по–другому, чужим окружавшей меня действительности, тоже обреченным искать своего: того, чем можно было бы подлинно жить, чему можно было бы по–настоящему отдать себя, в чем можно было бы найти себя. Что дал мне тогда о. Сергий? Дал тот огонь, от которого только и может возгореться другой огонь. Дал почувствовать, что только тут, в этом прикосновении к Божественному свету, к его исканию и созерцанию — единственное подлинное назначение человека, та «почесть горнего звания», к которой он призван и предназначен. Окрылил своим горением и полетом, своей верой и радостью. Приобщил меня к чему–то самому лучшему и чистому в духовной сущности России. И я уверен, что то же самое дает он и тем, кто открывает его сейчас…» — Прот. Александр Шмеман. Три образа // Вестник РСХД. 1971. <0185> 101–102. С. 11–12. — Прим. сост.
6
Из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: монолог Чацкого, действие 1, явление 7; восходит к стихотворению Г. Р. Державина «Арфа». — Прим. сост.
7
А. С. Пушкин (отрывок 1830 г.). — Прим. сост.
8
Беседа преп. Серафима с Мотовиловым о целях духовной жизни см.: О цели христианской жизни. Беседы преп. Серафима Саровского с А. Н. Мотовиловым. Сергиев Посад, 1914. То же см.: С. Нилус. Великое в малом. Сергиев Посад, 1911, репринт — 1992. Гл. VII.
9
Ел. Августин. Исповедь. Кн. I. Гл. 1. — Прим. сост.
10
А. А. Блок. «Голос из хора» (1910—1914). — Прим. сост.
11
Л. Фейербах: «Человек есть то, что он ест». — Цитата из книги «Наука о природе и революция» («Die Naturwissenschaft und die Revolution», 1850); стала широко известна благодаря В. С. Соловьеву, который приводит эту строку в своем «Кризисе западной философии».
12
См.: Энгельс Ф. Анти–Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2–е изд. Т. 20. С. 295. — Прим. сост.
13
Имеется в виду Александр Браун, герой романа М. А. Алданова «Пещера»(1935). См.: АлдановМ.А. Собр. соч. в 6 т. М., 1991. Т. 2. С. 390–391, 408. — Прим. сост.
14
Л. Пастернак. Неточная цитата из стих. «Я понял: все живо…» (1935). («И мы по жилищам / Пройдем с фонарем, / И тоже поищем, / И тоже умрем.) — Прим. сост.
15
В. С. Соловьев. «Бедный друг, истомил тебя путь…» (18 сентября 1887 г.). — Прим.сост.
16
Бл. Августин. Исповедь. Кн. I. Гл. 1. — Прим. сост.
17
Ф. Ницше. «Так говорил Заратустра», ч. 1: «О любви к ближнему». — Прим. сост.
18
Солженицын А. И. Раковый корпус. Париж, 1968. Ч. 2. Гл. 30: «Старый доктор». С. 360—361. — Прим. сост.
19
«Чем люди живы?» (см. гл. 8, часть 1 романа: Солженицын А. И. Раковый корпус. Париж, 1968. С. 94—99). — Прим. сост.
20
Солженицын А. И. Раковый корпус. Париж, 1968. Ч. 2. Гл. 30: «Старый доктор». С. 360—361. — Прим. сост.
21
В. А. Жуковский. «Таинственный посетитель» (1824). — Прим. сост.
22
К. Н. Батюшков. «Послание к другу» (1815). — Прим. сост.
23
К. Н. Батюшков. «Надежда» (1815). — Прим.сост.
24
Лев Шестов. А. С. Пушкин // Лев Шестов. Умозрение и откровение. Париж, 1964. С. 338. — Прим. сост.
25
Там же. С. 337. — Прим. сост.
26
Е. А. Баратынский. «Когда, дитя и страсти и сомненья…» (1844). — Прим. сост.
27
М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…» (1837). — Прим. сост.
28
Е. А. Баратынский. «Молитва» («Царь Небес! Успокой…». 1842 или 1843). — Прим. сост.
29
Ф. И. Тютчев. «День и ночь» (1839). — Прим. сост.
30
Ф. И. Тютчев. «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.» Прим. сост.
31
Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья…» (13 августа 1855 г.). — Прим. сост.
32
«Имей всегда сосредоточенное устремление… на одно». — В. В. Розанов. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 299. — Прим. сост.
33
В. В. Розанов. Опавшие листья. Короб 1. // Соч.: В 2 т. Т. 2. М. 1990. С. 328. — Прим. сост.
34
Жид Андре (1869–1951), Клодель Поль (1868–1955), Кокто Жан (1889–1963), Мориак Франсуа (1885–1970). — Прим. сост.
35
Папа Пий IX (1846—1878), вскоре после своего избрания Папой объявил амнистию всем политическим заключенным и вообще отличался своими либеральными взглядами. Но после его бегства в Гаету в 1848 году, когда австрийские и французские войска занимали Италию, и возвращения после оккупации, итальянцы стали с презрением относиться к Пию IX. Папа стал преследовать всякое свободомыслие и либерализм. Синтез его суждений содержит энциклика «Quanta cura» и приложение к ней «Силлабус» — «Перечень главнейших заблуждений нашего времени» (1864), осуждающие лозунги социалистов, коммунистов и других заговорщиков, угрожающих свободе Церкви. — Прим. сост.
36
«Один русский парижский поэт» — Г. В. Адамович (1892, Москва — 1972, Ницца); неточная цитата из стихотворения «Без отдыха дни и недели…» (Единство. Стихи разных лет. Нью–Йорк, 1967. С. 10). — Прим. сост.
37
См.: Достоевский Ф. М. Бесы. Часть 2. Гл. I. «Ночь». VII. Прим. сост.