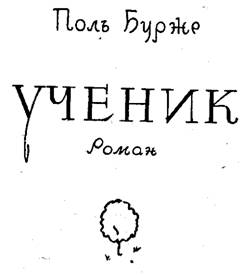Paul Bourget
Le Disciple
1889.
Перевод с французского Ант. Ладинского.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МОСКВА-1958.
Перевод под редакцией Е.Л. Гунста.
Предисловие Ф. Наркирьера.
Художник Г. Клодт.
ПОЛЬ БУРЖЕ И ЕГО РОМАН «УЧЕНИК»
Поль Бурже выступил как писатель в годы создания Третьей республики и скончался за несколько лет до ее падения. На протяжении полувека он считался одним из корифеев французской буржуазной литературы. Официальная критика объявила его классиком психологического романа. Чем же прославился Бурже? Поль Бурже родился в 1852 году в городе Амьене в семье преподавателя математики. Он окончил парижский лицей Людовика Великого, привилегированное учебное заведение, предназначенное, в первую очередь, для детей знати и крупной буржуазии. События, связанные с Парижской коммуной, застали его в Школе. Воспитанный в монархическом духе, Бурже с молодых лет придерживался консервативных политических взглядов. На всю жизнь он сохранил страх перед народом, поднявшим в марте 1871 года красное знамя восстания.
Первые свои произведения Бурже написал еще в лицее. В начале семидесятых годов он выступает с критическими статьями, стихотворениями. Начинающий писатель испытывает воздействие распространенной в те годы философии позитивизма, основателем которой был французский ученый Огюст Конт. Представители этого философского направления заявляли, что они опираются исключительно на «позитивные», то есть «положительные» знания и тем самым создают подлинно научное мировоззрение.
Однако позитивизм отрицал объективные законы природы и общества и сводил роль науки к описанию (а не объяснению) фактов. Позитивисты оказались в плену вульгарно-механистических представлений. Отождествляя человеческое общество с животным организмом, они полагали, что оно подчинено биологическим законам (так называемая «органическая теория общества» Герберта Спенсера, согласно которой отношения между классами, сложившиеся при капитализме, признаются «естественными», «вечными»). Психологию они рассматривали как часть физиологии. Позитивисты заявляли, что их учение возвышается как над материализмом, так и над идеализмом. На самом деле, позитивизм сочетал вульгарно-материалистические положения с идеалистическими и по всем основным вопросам оказывался на идеалистических позициях.
В области эстетики позитивистские принципы развивал известный французский критик и социолог Ипполит Тэн. Создатель теории «расы, среды и момента», он объяснял этими тремя факторами развитие человека и человеческой культуры. С вульгарно материалистических позиций Тэн подходил к решению вопросов морали. «Порок и добродетель, — заявлял он, — такие же вещества, как серная кислота и сахар». Тэн не считался с активной ролью мировоззрения писателя, отрицал общественную роль литературы и тем самым уводил ее от задач служения народу.
В своих известных критических работах «Опыты современной психологии» (1883) и «Новые опыты современной психологии» (1885) Бурже стремился, в духе Тэна, применить позитивистские взгляды к литературоведению. Он хотел доказать, что настроения, душевное состояние современного; ему поколения в зародыше существовали в теориях, мечтаниях, литературных памятниках предшествующего поколения. В этом свете он разбирает творчество нескольких известных авторов периода Второй империи (Бодлера, Ренана, Флобера, Александра Дюма-сына. Леконта де Лиля, братьев Гонкур и др.). Он связывает пессимистические настроения современной ему буржуазной молодежи с меланхолическими стихами Бодлера и романами братьев Гонкур.
В работах Бурже встречаются верные мысли, тонкие наблюдения, оригинальные суждения. Но, подобно Тэну, он рассматривал человеческое общество как биологический организм, отождествлял литературоведение с естественными науками. Попытка Бурже объяснить явления литературы тэновской теорией «расы, среды и момента» была механистической и, в конечном счете, несостоятельной.
Но уже в «Опытах современной психологии» Бурже кое в чем расходился с Тэном, не разделял полностью его веры во всемогущество научного знания. Постепенно он отходит от позитивизма. В восьмидесятые годы Бурже выступает в роли пропагандиста и теоретика психологического романа. Эволюция Бурже связана с общим ходом литературного процесса во Франции.
Обращение к народной теме, к герою из народа, из рабочего класса было знамением времени, одной из важнейших черт демократической французской литературы второй половины XIX века.
Принципиальное значение имел роман Золя «Жерминаль» (1885), где углекопы показаны как грозная революционная сила. С другой стороны, у французской буржуазии, напуганной красным призраком Коммуны, обостряется ненависть к пролетариату. Реакционные публицисты и критики ратуют за изгнание народной темы из литературы и искусства.
Со второй половины восьмидесятых годов во французской литературе все более резко обозначаются упадочнические тенденции. Крайности натуралистической школы используются правыми литераторами типа Брюнетьера для похода против реализма.
Правдивому изображению народных судеб эстетствующая критика противопоставляет роман из жизни так называемого высшего общества. Если Бальзак показал историческую обреченность французского дворянства, обрисовал аристократические салоны как «музей древностей», то писатель «конца века» находит в них источник высокой поэзии. В творчестве ряда крупных писателей усиливаются антидемократические тенденции, психологизм становится изощренным. Еще в предисловии к роману «Братья Земгано» (1879) Эдмон Гонкур призывал глубоко изучать «парижанина и парижанку из высшего общества». В своем последнем романе «Шери» он сосредоточивает все внимание на болезненных явлениях в психологии героини, девушки из знатной семьи. Автор «Милого друга» заканчивает свой творческий путь романами из жизни «света» — «Сильна, как смерть» и «Наше сердце».
Ратуя за развитие психологического романа, Бурже заявляет, что основная цель искусства состоит в изучении и воспроизведении трагедий человеческого сердца. Стремительному потоку общественной жизни противопоставляется мир человеческой души.
Но и этот мир мыслится Бурже только в границах Сен-Жерменского предместья — аристократического квартала Парижа. По точному выражению Октава Мирбо, Бурже отдает свое внимание только людям с доходом не менее чем сто тысяч франков. Писателя интересует жизнь аристократов и крупных буржуа, людей, ведущих паразитический образ жизни.
В. И. Ленин, говоря о паразитизме и загнивании капитализма, указывал на «необычайный рост класса или, вернее, слоя рантье, т. е. лиц, живущих «стрижкой купонов», — лиц, совершенно отделенных от участия в каком бы то ни было предприятии, — лиц, профессией которых является праздность»
[1]Эта праздность объявляется Бурже первым условием сложности человеческой натуры.
Утонченные чувства он видит только на верхних ступенях социальной лестницы. Простые люди из народа, по мнению Бурже, находятся во власти грубых инстинктов и не способны на «возвышенные» переживания благородных графов и прелестных маркиз.
В восьмидесятые — девяностые годы Поль Бурже публикует нашумевшие романы «Мучительная загадка» (1885), «Преступление против любви» (1886), «Андре Корнелис» (1887), «Ложь»,$1887), «Женское сердце» (1890 |, «Земля обетованная» (18Э2 |, «Космополиты» (1893).
В наиболее удачных романах Бурже нашли правдивое отражение некоторые стороны жизни «высшего» общества, его глубокая испорченность, прикрытая лоском хороших манер. В романе «Преступление против любви» тщательно выписан Арман де Керн, образ жизни которого точно характеризует запись в дневнике: «Завтраки, обеды. Обеды, завтраки. Званые вечера, свидания. Свидания, званые вечера». Опустошенный скептик, Арман разбивает жизнь полюбившей его женщины и совершает тем самым «преступление против любви». В романе «Ложь» печатью правдивости отмечен образ великосветской львицы Сюзанны де Морен. Сильная сторона произведения состоит в том, что лживость выступает в нем не столько как свойство характера героини, а как одна из отличительных черт «высшего» общества. Герой романа молодой драматург Рене де Венси, растративший свой талант на создание элегантных безделушек, — не столько жертва чар Сюзанны де Морен, сколько жертва общества, где человека ценят не по заслугам, а по размерам банковского счета. По сюжету «Ложь» напоминает «Утраченные иллюзии» Бальзака, которого Бурже считал своим учителем. Но Бальзак был дорог Бурже, главным образом, консервативными политическими взглядами; сравнение «Лжи» с одним из шедевров «Человеческой комедии» только подчеркивает то, что у Бурже нет социальных обобщений, отсутствует разящая сила критики.
Бурже переносит центр тяжести романа с внешнего мира на внутренний, с описаний среды — на переживания, с поступков персонажей — на их мотивировку, с диалогов — на внутренний монолог. В романах Бурже встречаются оригинальные психологические наблюдения, афоризмы, метко характеризующие светскую мораль. Но его психологический анализ не отличается глубиной. Бурже фиксирует психические факторы с той же тщательностью, с какой писатель-натуралист перечисляет все находящиеся в комнате предметы. Возникнув как реакция на натурализм с присущим ему фотографированием внешней среды, психологический роман перенес приемы натурализма на исследование мира человеческой души. От признания этого не мог уйти сам Бурже.
Говоря об исканиях близких ему авторов, Бурже в письме к Эмилю Золя подчеркивал: «Они обратились к изучению проблем духовной жизни путем внутреннего анализа, как вы обратились к изучению проблем общественной жизни путем анализа внешних фактов. То, что сейчас делается, и даже то, чего ищут, не стоит ни в каком противоречии с натурализмом».
Черты натурализма в творчестве Бурже связаны с тем, что позитивистские представления никогда не были преодолены им до конца. Позитивизм, отвергавший возможность проникновения в сущность явлений, не мог дать научного объяснения психологии человека. Бурже утверждает господство подсознательного, объявляет мир чувств непознаваемым. Он пишет о человеческой душе как о «непонятной и горестной, восхитительной и необъяснимой реальности» (предисловие к «Новым опытам современной психологии»).
В конце восьмидесятых годов в творчестве Бурже возрастают морализаторские тенденции. Роман «Ложь» заканчивается елейными поучениями католического священника. За греховные любовные похождения «земля обетованная» — брак с добродетельной женщиной — остается недоступной для героя Бурже (роман «Земля обетованная»). Теперь супружеская измена осуждается Бурже с точки. Зрения церковной морали как грех, за которым неизбежно последует божья кара. Бурже явственно склоняется к католицизму. Подобная эволюция была характерна для реакционной буржуазной мысли «конца века».
Буржуазная философия оказалась не в состоянии дать верного истолкования великим Научным открытиям второй половины XIX столетия. Вульгарный материализм пришел в очевидное противоречие с достижениями научной мысли. Слабости механистического объяснения мира были использованы в идеалистической философии для похода против материализма как такового, против науки, против разума. На рубеже восьмидесятых — девяностых годов во Франции усиливаются споры о так называемом «кризисе науки». Реакционные литераторы прибегают к хитроумнейшим софизмам, чтобы свергнуть «кумир» науки.
Перед писателями закономерно вставал вопрос о судьбах науки, ее роли в жизни человека. До конца дней сохранили глубокую веру в силу человеческого знания Эмиль Золя, Жюль Верн.
В последних книгах Флобера, в «Искушении святого Антония» и — в «Буваре и Пекюше», едкое осмеяние ложной науки сочетается с тревогой за судьбы науки истинной. В «Бессмертном» Альфонса Доде рассказ о том, как ловкий проходимец оставил в дураках Французскую академию, оборачивается безжалостной насмешкой над официальной наукой. В 1889 году — через год после напечатания «Бессмертного» Доде — вышел в свет «Ученик» Бурже.
«Ученик» — первый из проблемных романов Бурже. Здесь психологический анализ важен не сам по себе: он должен выяснить вопрос об ответственности писателя, ответственности ученого.
В решении этого вопроса Бурже исходит из ложного противопоставления морали и науки. Былая вера в научное познание сменилась у Бурже глубокой разочарованностью. Слабости позитивизма, отрицавшего существование моральных категорий, представляются ему пороками науки вообще.
В предисловии к «Ученику», которое представляет собою обращение к современной автору французской молодежи, Бурже предостерегал против разъедающего душу скептицизма, против холодной игры ума, не признающей ни добра, ни зла.
Однако автор «Ученика» сам впадал в неразрешимое противоречие: осуждая крайности буржуазного индивидуализма, он прославлял «стойкую и мужественную» французскую буржуазию, Бурже возлагает все свои надежды на этот класс, который должен «спасти» Францию от новой Коммуны и одержать победу в реваншистской войне против Германии. Корень зла Бурже видит в научном мышлении, которому он противопоставляет евангельские заветы.
Одним из источников романа «Ученик» послужило нашумев шее в восьмидесятых годах дело об убийстве старой молочницы неким Барре и его приятелем студентом-медиком Лебье. Спустя несколько дней после убийства Лебье выступил с докладом: ссылаясь на Дарвина, он пытался доказать право сильной личности безнаказанно распоряжаться жизнью рядового человека. Это дело вызвало многочисленные отклики. Альфонс Доде опубликовал драму «Борьба за существование» (1889), в которой буржуазная конкуренция, порождающая многочисленные преступления, связывалась с учением Дарвина. Пьеса Доде была подвергнута резкой критике со стороны Лафарга. Он справедливо утверждал, что не научные теории, а буржуазные общественные условия «неизбежно создают конкуренцию и ее последствия».
[2]Упрек Лафарга может быть отнесен и к «Ученику» Бурже.
В основу сюжетной линии романа Бурже положен несколько видоизмененный факт уголовной хроники: дело об убийстве в 1888 году неким Анри Шамбиж своей любовницы. Умело используя приемы детективного романа, Бурже придает повествованию остроту, занимательность. Но детектив важен здесь не сам по себе, тем более, что, как выясняется в дальнейшем, убийства, с юридической точки зрения, не было. Бурже обращается к преступлению как к наиболее острой форме проявления некоторых противоречий современной действительности. Вопрос: «Кто убил?» — уступает место вопросу: «Кто виноват?» Герой романа Робер Грелу, отвергая предъявленное ему обвинение в убийстве молодой аристократки Шарлотты де Жюсса-Рандон, отнюдь не отрицает своей вины в ее трагической гибели. Воспитанный в школе позитивизма, в преклонении перед экспериментальной психологией, он сделал попытку проверить свои взгляды на практике. Грелу поставил бесчеловечный психологический опыт: решил соблазнить Шарлотту, не любя ее, «из простого любопытства психолога», ради удовольствия «распоряжаться живой человеческой душой и непосредственно наблюдать в ней механизм страстей», до сих пор изучавшийся им только по книгам.
Робер Грелу, который считает себя вправе распоряжаться жизнью других людей, кое в чем напоминает Родиона Раскольникова. Горький справедливо отмечал влияние романа Достоевского на «Ученика», так же задуманного как роман о преступлении и наказании. («Преступление и наказание» вышло на французском языке в 1884 году и неоднократно переиздавалось в последующие годы.) Но герой «Ученика» не обладает душевным благородством Раскольникова, он отнюдь не мечтает о благе человечества. Грелу — бессердечный циник и эгоист.
«Не детерминизм, а гордость загубила Робера Грелу», — справедливо заметил Анатоль Франс в рецензии на «Ученика». Грелу — буржуазный индивидуалист, мнящий себя венцом мироздания.
Идеалистическое учение о множественности человеческого «я» он использует не только для оправдания лицемерия, но и для того, чтобы скрыть от других и от самого себя фактический распад своей личности. В отсутствии внутренней цельности, в том, что в нем уживаются различные, зачастую противоположные существа, он видит доказательство богатства своей натуры. Распад личности Грелу является, таким образом, обратной стороной того культа собственного «я», жрецом которого он себя считает. Внутренняя логика романа состоит в том, что индивидуализм, доведенный до логического конца, оборачивается против его носителя. Робер Грелу — жалкий потомок бальзаковского героя Рафаэля де Валантена, обладателя шагреневой кожи, дающей человеку власть, но обрекающей его на самоуничтожение. Место Робера Грелу — в самом конце вереницы столь характерных для французской литературы XIX века образов молодых честолюбцев, терпящих крушение. «Мы видим, — говорит Горький, — что «исповедь сына века» бесчисленно и однообразно повторяется в целом ряде книг и каждый новый характер этого ряда становится все беднее духовной красотой и мыслью, все более растрепан, оборван, жалок.
Грелу Бурже — дерзок, в — его подлости есть логика, но он именно «ученик»; герой Мюссе мыслил шире, красивее, энергичнее, чем Грелу».
[3]Как характерное свидетельство эпохи, Горький включил «Ученика» в выходившую в начале тридцатых годов под его редакцией серию романов «История молодого человека XIX столетия».
С большой силой запечатлен в «Ученике» крах буржуазного индивидуализма. Грелу развенчивается как человек и как мыслитель. Все ухищрения Грелу оборачиваются в конечном счете против него самого. Он стремился возбудить чувство у Шарлотты, но сам влюбился в нее. Психолог, веривший в могущество рас судка, оказывается бессильным разобраться в своих же чувствах; он подчиняется инстинкту, действует под влиянием силы, чуждой его сознанию. Грелу прибегает к сложной психологической дипломатии, чтобы произвести впечатление на Шарлотту. Эта «недостойная и смешная работа профана в науке любви» оказалась совершенно ненужной: девушка полюбила его с первого взгляда.
Он дал клятву соблазненной им Шарлотте покончить с собой вместе с нею и малодушно отказывается сдержать свое слово. Не думая о судьбе Шарлотты, он стремится спасти собственную жизнь, но приходит к неизбежной гибели.
Суд присяжных оправдал Робера Грелу, но над, ним, по мысли Бурже, свершился суд божий: его застрелил граф Андре, брат соблазненной Шарлотты. Андре де Жюсса-Рандон — прямая про тивоположность Роберу Грелу. Один воплощает мысль, другой — действие. Словесным поединкам Андре де Жюсса предпочитает жаркую схватку на поле боя. Если Грелу чуждо понятие родины, то граф Андре — националист, живущий мечтами о реванше.
Монархист и католик, он должен, в представлении Бурже, олицетворять добродетели французского дворянства. В конце романа в ранг великомучеников возводится не только Шарлотта, но и ее воинственный брат: пытаясь героизировать Андре, автор заставляет его дать на суде показания, приводящие к оправданию Грелу. Несмотря на все усилия Бурже, образ графа Андре не поднимается над уровнем тенденциозной схемы.
Пуля графа Андре сразила не только Робера Грелу. По меткому замечанию Анри Барбюса, в романе «Ученик» светский молодой человек выстрелом из пистолета убивал тэновскую психологию.
Грелу — всего лишь ученик знаменитого психолога Адриена Сикста. Если последняя глава книги называется «Граф Андре», то открывается роман главой «Современный философ». Андре де Жюсса и Адриен Сикст — два полюса романа, «положительный» и «отрицательный». Мы подходим к ответу на вопрос: «Кто виноват?» Философские взгляды Сикста нигде систематически не излагаются, но то, что его называют «французским Спенсером», позволяет видеть в нем позитивиста. Философия Сикста — эклектическое сочетание взглядов Тэна, Спенсера и других представителей позитивизма. Вера во всеобщий детерминизм, в причинную обусловленность всех явлений, перерастает у него в фатализм. «Все будущее, — говорит Сикст, — заключено в настоящем, как все свойства треугольника заключены в его определении…» Раз все закономерно и, по-своему, необходимо, стираются различия между добром и злом. С точки зрения Сикста, для философа не существует ни добродетели, ни порока, ни добра, ни зла, которые означают «совокупность известных условностей, иногда полезных, а порой совершенно вздорных».
Сикст отличается абсолютной честностью, безупречной нравственностью, он ведет аскетический образ жизни. Но этим только оттеняется его вина в преступлении, совершенном Робером Грелу.
Об ответственности Сикста кричат газеты; в один голос его обвиняют следователь по делу Грелу, мать преступника, отец жертвы.
Но приговор Сиксту выносится им самим. В исповеди Робера Грелу он получил «неоспоримое, очевидное, как сама жизнь, доказательство, что труд его отравил человеческую душу, что он заключает в себе тлетворное начало, которое продолжает распространяться по всему свету!» Роман заканчивается победой графа Андре и поражением Сикста. У изголовья мертвого ученика учитель признает бессилие своей мысли. Атеист и рационалист, Сикст становится в тупик перед «непознаваемой тайной судьбы»: слова молитвы невольно приходят ему на ум.
За осуждением Сикста стоит стремление развенчать научную мысль, возложить ответственность за совершенное преступление на материализм. Этот замысел Бурже был заранее обречен на провал. Дело вовсе не в том, что Робер Грелу отнюдь не материалист, а субъективный идеалист: ссылаясь на книги Сикста, он утверждает, что существует только наша личность, лишь «я» реально, а природа, люди служат не более чем поводом для ощущений. В учении Сикста, наряду с идеалистическими суждениями, имеются и вульгарно материалистические положения, однако он не считает себя материалистом. Бурже делает попытку выдать позитивизм, философию идеалистическую, за материализм. Но объективно он показал кризис буржуазной науки, кризис позитивизма, который открывал дорогу поповщине.
В романе нашли правдивое отражение некоторые черты реакционной буржуазной мысли конца XIX века. Именно ей, а отнюдь не философскому материализму свойственна оторванность от жизни, схоластические умозаключения, разъедающий скептицизм, безразличие к человеку. Не материализм, а буржуазная действительность порождает таких бесчеловечных мыслителей, как Адриен Сикст, таких моральных уродов, как Робер Грелу. «Ученик» — наиболее значительное художественное произведение Бурже, где мастерски применяется разработанный им ранее метод психологического анализа. В «Ученике» романисту уда лось в значительной мере преодолеть механистический подход к миру человеческих чувств, правдиво показать переживания героев.
«Ученик» принес Бурже шумный успех. Книга вызвала многочисленные отклики, привела к ожесточенной полемике. Отвечая Брюнетьеру, использовавшему роман Бурже для злобных нападок на науку, Анатоль Франс высоко поднял значение свободной человеческой мысли. «Ученик» привлек внимание Чехова. «Умно, интересно, местами остроумно, отчасти фантастично… — писал Чехов Суворину. — Если говорить о его недостатках, то главный из них — это претенциозный поход против материалистического направления. Подобных походов я, простите, не понимаю. Они никогда ничем не оканчиваются и вносят в область мысли только ненужную путаницу. Против кого поход и зачем? Где враг и в чем его опасная сторона? Прежде всего, материалистическое направление — не школа и не направление в узком газетном смысле; оно не есть нечто случайное, приходящее; оно необходимо и неизбежно и не во власти человека. Все, что живет на земле, материалистично по необходимости».
[4] Чехов дал резкую отповедь Суворину, приветствовавшему автора «Ученика» за поход против материализма.
В девяностые годы, в обстановке ожесточенных споров вокруг дела Дрейфуса, расколовшего Францию, завершается политическая эволюция Бурже. Он заявляет о своем окончательном «обращении» в католическую веру. Бурже становится воинствующим националистом и монархистом. С этих позиций он подвергает критике буржуазную демократию, нападает на парламентские учреждения, на всеобщее избирательное право, на демократию, как таковую. В работах Бурже по эстетике понятия «идейность» и «реализм» демагогически используются для утверждения реакционного искусства.
Закономерно, что Бурже — католик и националист — получает официальное признание: его избирают членом Французской академии. Но академические лавры не смогли спасти от гибели талант Бурже. Писатель «превращается в скучного и сухого моралиста, в духе католицизма, со склонностью к мистике…».
[5] Его творчество все более тесно смыкается с литературой декаданса.
Теперь Бурже применяет метод психологического анализа для создания так называемых социальных романов, где делается попытка решать большие общественные вопросы. В известной три логии Бурже социальная проблематика раскрывается через семейную. Он воюет против гибельного, по его мнению, для семьи бы строго перехода из «низших» классов в «высшие», нарушения этапов постепенного развития (роман «Этап», 1902). Он ополчается на развод, разрешенный законодательством, но отвергаемый католической церковью («Развод», 1904). Показывая распад дворянской семьи, Бурже возвеличивает старого аристократа, сторонника монархической реставрации. Однако автор критикует героя за политическую пассивность, делающую его своего рода эмигрантом («Эмигрант», 1907). Защита буржуазной и дворянской семьи от «разлагающего» влияния современных идей сопровождается нападками на демократию, на революционное движение.
Из последующих произведений Бурже интерес представляет только пьеса «Баррикада» (1910). В предвоенные годы во Франции резко обострялась классовая борьба, доходившая временами до резких, частью прямо революционных взрывов. Драма Бурже является своеобразной реакцией на рост рабочего движения во Франции. «Хроника социальной воины в 1910 году» — таков был первоначальный подзаголовок пьесы.
Если иные представители лагеря клерикалов и монархистов продолжали и в XX веке твердить, что классовой борьбы не существует, то писатель ставит буржуазию лицом к лицу с неприятными, но очевидными фактами. В пьесе показана забастовка в мастерской предпринимателя Брешара. Автор не закрывает глаза на то, что рабочие ненавидят буржуа, но пытается использовать 1ТО недовольство в целях реакционной пропаганды. Ловкий демагог, он становится в позу защитника интересов… рабочих, их «мирного» труда. Бурже всей душой за рабочих, но каких? — предателей своего класса, штрейкбрехеров. Всю вину за забастовку он возлагает на революционеров: один из них — беспринципный политикан и трус, другой — храбрый и субъективно честный — оказывается саботажником, поджигателем. В конце пьесы Брешар и его сын забывают о своих филантропических затеях и создают направленный против рабочих союз предпринимателей. Если в «Эмигранте» Бурже ратовал за политическую активизацию дворянства, то теперь он призывает к решительным; действиям буржуазию. Пьеса Бурже явилась характерным свидетельством того, что в канун первой мировой войны французская буржуазия отбросила либеральную маску, обнажила свое истинное лицо. «Реакционно, но интересно», — писал В. И. Ленин М, И. Ульяновой о «Баррикаде» 12 января 1910 года.
[6] В годы первой мировой войны Бурже выступал с шовинистическими заявлениями, писал ура-патриотические романы. Последние произведения Бурже говорят об окончательном оскудении его таланта. Умер Бурже в 1935 году: человек намного пережил художника.
Собрание сочинений Бурже насчитывает несколько десятков томов, но в историю литературы он вошел как автор одной книги — романа «Ученик».
Ф. Наркирьер
I. СОВРЕМЕННЫЙ ФИЛОСОФ

Когда жители Кенигсберга увидели, что философ Иммануил Кант неожиданно изменил обычный маршрут своей ежедневной прогулки, они поняли, что цивилизованный мир потрясло какое-то необычайное событие. И правда, в тот день знаменитый автор «Критики чистого разума» получил известие, что во Франции началась революция. Так по край ней мере рассказывает никем не опровергнутая легенда. Хотя Париж и не склонен к столь наивному удивлению, все же многие обитатели улицы Ги де ля Бросс были крайне поражены, когда в январе 1887 года, около часу пополудни на улице неожиданно появился философ, может быть и не столь знаменитый, как Кант, однако не менее пунктуальный во всех своих мельчайших поступках, не говоря уже о том, что аналитическая доктрина этого философа была еще более разрушительна, нежели учение Канта. Мы подразумеваем здесь того самого Адриена Сикста, которого англичане называют французским Спенсером. Следует добавить к этому, что улица Ги де ля Бросс, идущая от улицы Жюссье к улице Линнея, представляет собою настоящий провинциальный уголок, ограниченный со всех сторон Ботаническим садом, больницей Милосердия, винными складами и холмом св. Женевьевы.
А это означает, что для любопытствующего тут открыто огромное поле для всякого рода наблюдений, что немыслимо в центральных кварталах, в городской толчее, где волна за волной движутся экипажи и толпы пешеходов. Тут обитают мелкие рантье, скромные преподаватели, служащие Ботанического сада, погруженные в науку студенты и начинающие литераторы, которые в своем одиночестве опасаются соблазнов Латинского квартала. Лавчонки здесь торгуют бойко, и покупатели у них всегда одни и те же, как в каком-нибудь захолустье. Служанки, отправляясь за провизией, говорят просто, что идут к булочнику, мяснику, бакалейщику, прачке или аптекарю, и даже не называя их по имени. Для конкуренции здесь нет места. Квартал этот обслуживается гласьерским омнибусом, а единственным украшением его служит фонтан, прихотливо загроможденный фигурами зверей в честь соседнего Ботанического сада. Посетите ли редко входят в Ботанический сад через ворота, расположенные напротив больницы. Поэтому даже в погожие весенние дни, когда в этом излюбленном прибежище мамок и солдат под сенью зазеленевших деревьев бродят толпы народа, улица Линнея, не говоря уже о соседних улицах, неизменно хранит свой мирный облик. А если в этом глухом уголке Парижа наблюдается иногда некоторое оживление, то это означает, что больница открыта для посетителей, и тогда на тротуарах можно видеть печальное шествие унылых человеческих фигур. Эти паломники являются сюда с гостинцами для какого-нибудь родственника, страждущего за серой стеной старой больницы, и всем обитателям нижних этажей, привратникам и лавочникам, подобные сцены хорошо известны. Впрочем, они не удостаивают этих случайных прохожих и взглядом, так кик все их внимание сосредоточено на привычных силуэтах, мелькающих мимо их окон ежедневно в один и тот же час. Для привратников и лавочников, как для охотника на лоне природы, существуют точные приметы, по которым они определяют не только время, но и то, какая завтра будет погода. Такими приметами служат для них прогулки местных обитателей. Этот квартал оглашается порой криками диких зверей из соседнего зверинца: то вдруг начнет кричать длиннохвостый попугай, то затрубит слон, то послышится клекот орла или кошкой замяукает тигр.
И вот, завидев, что со старым портфелем под мышкой, уплетая купленную впопыхах грошовую рогульку, бежит рысцой учитель, дающий частные уроки, эти тротуарные соглядатаи знают, что сейчас пробьет восемь.
Когда на улице появляется рассыльный из кондитерской с лотком, покрытым салфеткой, для всех ясно, что уже одиннадцать часов и скоро отправится завтракать отставной батальонный командир, проживающий в полном одиночестве на шестом этаже. — И так на протяжении всего дня. Всякая перемена в туалете модниц, которые показывают здесь свои более или менее кокетливые наряды, тоже отмечается, критикуется и истолковывается по меньшей мере двадцатью не очень-то снисходительными кумушками. Вообще, если воспользоваться образным выражением, которое в ходу в центральной Франции, поведение и даже малейший поступок обитателей этих четырех-пяти улиц тут у всех «на языке», а поступки г-на Адриена Сикста — в особенности; причины этого вполне может нам объяснить даже самая беглая его характеристика. К тому же подробности о жизни ученого дадут людям, интересующимся человеческой природой, возможность познакомиться с представителем довольно редкого социального типа, а именно: с профессиональным философом. Несколько образчиков людей подобного рода даны нам античными писателями, а если говорить о более близком времени, то в рассказах Колеруса о Спинозе и в рассказах Дарвина и Стюарта Милля о самих себе. Но Спиноза был голландцем XVII века, Дарвин и Милль выросли в среде — богатой и деятельной английской буржуазии, в то время как г-н Сикст жил в самой гуще Парижа конца XIX века. В дни юности, когда и меня интересовали подобные вопросы, я знавал некоторых людей, так же как и Сикст целиком погруженных в атмосферу отвлеченно го мышления. Но никто из встреченных на моем жизненном пути философов не помог мне лучше, чем г-н Сикст, понять существование какого-нибудь Декарта у его камелька в глуши Нидерландов или автора «Этики», у которого, как известно, не было среди его раздумий других развлечений, кроме удовольствия выкурить иногда трубку или наблюдать, как дерутся пауки.
Прошло ровно четырнадцать лет с той поры, как г-н Сикст вскоре после войны обосновался в одном из домов на улице Ги де ля Бросс, где теперь его знает каждый обыватель. В то уже довольно отдаленное время это был тридцатичетырехлетний человек, до такой степени погруженный в мир идей, что все признаки молодости в его облике совершенно исчезли, и по его бритому лицу невозможно было определить ни возраста его, ни профессии. Такие холодные и лишенные растительности, одновременно сухие и выразительные физиономии бывают, хотя и по совершенно разным причинам, у врачей, священников, полицейских и акте ров. Высокий и покатый лоб, волевой, выступающий вперед рот с тонкими губами, желчный цвет лица, воспаленные от постоянного чтения глаза, скрытые за темными очками, хилое, но ширококостное тело, неизменно облаченное в длинный сюртук, — зимой из мохнатой ткани, летом из тонкого сукна, — башмаки па шнурках, очень длинные, преждевременно поседевшие и тонкие волосы, выбивающиеся из-под шапокляка, в мгновение ока складывающегося и превращающегося в лепешку, — вот как выглядел этот ученый, все действия которого, словно у какого-нибудь священнослужителя, были рассчитаны до мелочей.
Адриен Сикст нанял за семьсот франков в год квартиру на пятом этаже. Она состояла из спальни, рабочего кабинета, столовой, не более обширной, чем пароходная каюта, кухни и комнаты для прислуги. Изо всех окон открывался широкий вид до самого горизонта. Философ имел возможность обозревать из своей квартиры всю территорию Ботанического сада, а вдали, слева, по ту сторону впадины, где протекает Сена, — холмы кладбища Пер-Лашез. Прямо перед окнами возвышались Орлеанский вокзал и купол Сальпетриер, а справа, на фоне деревьев Лабиринта, зеленых или голых в зависимости от времени года, выделялась темная листва кедра. Всюду среди этого обширного пространства, на сером или голубом небе, дымили фабричные трубы, и снизу доносился шум человеческого моря, парою прерываемый свистками локомотивов и пароходов. Выбирая это уединенное жилище, г-н Сикст, несомненно, руководствовался общим, хотя и не объясненным еще законом, которому подчиняются все созерцательные натуры. Ведь и монастыри построены обычно в таких местах, откуда можно охватить взором особенно широкие просторы. Быть может, эти необъятные и туманные дали как раз и помогают мысли сосредоточиться, в то время как слишком близко расположенные незначительные предметы только рассеивают внимание. А может быть, отшельники находят какую-то особую прелесть в этом контрасте между их мечтательным бездействием и кипучей деятельностью других людей? Но как бы ни решалась эта проблема, связанная с другой, тоже недостаточно изученной, а именно с проблемой чувственного восприятия у людей, занимающихся умственным трудом, — нет никаких сомнений, что печальный пейзаж, открывавшийся из окон, в течение пятнадцати лет был тем собеседником, с которым молчаливый труженик общался чаще всего. Хозяйство ученого вела одна из тех экономок, о каких мечтают все старые холостяки, не подозревающие, что порядок в доме зависит от размеренности жизни самого хозяина. Водворившись на новом месте, философ обратился к привратнику с просьбой найти для него служанку, которая убирала бы его квартиру, и указать ресторан, где бы он мог брать обеды на дом. Последствия этой просьбы могли быть самыми плачевными: небрежно убранные комнаты и отрава вместо еды. Но обращение к привратнику привело к тому, что в квартире г-на Сикста появилась особа, которая удовлетворяла его самым несбыточным требованиям, если у людей, занятых, по выражению Рабле, «извлечением квинтэссенции», еще остается время на какие-либо требования.
Как это часто бывает в домах с маленькими квартирами, привратник подрабатывал ручным трудом.
Он был сапожник, «шил обувь на заказ и занимался починкой», — как гласило объявление — листок бумаги, наклеенный на окне его каморки, выходившем на улицу. Среди постоянных заказчиков дядюшки Кар боне — так звали привратника — был священник, живший на улице Кювье. У этого престарелого, ушедшего на покой аббата служила некая Мариотта Трапенар, старая дева лет сорока, привыкшая за долгие годы службы у духовного лица вертеть всем домом, но вместе с тем сохранившая характер простой крестьянки и не разыгрывавшая из себя барыню. Работы она не боялась, но, ни за какие блага не поступила бы в дом, где ей пришлось бы столкнуться с другой представительницей слабого пола. Старичок священник скоропостижно умер за неделю до того, как г-н Сикст обосновался на улице Ги де ля Бросс. При взносе квартирной плиты новый жилец назвал себя простым рантье, однако дядюшка Карбоне сразу же догадался, к какому сорту людей принадлежит г-н Сикст, во-первых, по огромному количеству привезенных им книг, во-вторых, на основании рассказов горничной профессора Коллеж де Франс, занимавшего квартиру во втором этаже.
По крайней мере так аттестовали профессора расклеенные на стенах афиши о его лекциях в столь знаменитом учреждении. В этих фаланстерах мещанского Парижа все немедленно превращается в событие.
Горничная рассказала о новом жильце с пятого этажа своей хозяйке. Профессорша поделилась новостью с мужем. За столом этот последний завел разговор о г-не Сиксте, и из его слов горничная поняла, что новый квартирант, как и ее хозяин, работает «по письменной части». Карбоне не был бы достоин открывать дверь в парижском доме, если бы тут же не испытал вместе с супругой неодолимой потребности познакомить г-на Сикста с девицей Трапенар. Тем более, что г-жа Карбоне, пожилая и не очень здоровая женщина, еле справлялась с уборкой трех квартир и не могла взять на себя еще новые обязанности. А склонность к сплетням, которая наравне с фуксиями, геранью и бальзаминами цветет в привратницких пышным цветом, побудила почтенных супругов заверить ученого в том, что местные рестораторы кормят как в обжорке, и что во всем околотке есть только одна-единственная экономка, за которую они могут поручиться головой, и что эта экономка, бывшая служанка аббата Вэссье, — истинная жемчужина, образец скромности, порядка, бережливости и кулинарного искусства. Короче говоря, философ согласился повидать образцовую экономку, и его соблазнила очевидная честность этой женщины, а также мысль, что такое решение вопроса во многом упрощает его существование, избавляя на будущее время от необходимости отдавать какие бы то ни было распоряжения. Таким образом девица Трапенар поступила к новому хозяину, чтобы уже остаться у него до конца своих дней, с жалованьем в сорок пять франков в месяц, которое вскоре поднялось до шести десяти. Кроме того, ученый всегда дарил ей к Новому году пятьдесят франков. Он никогда не проверял ее счетов, без малейших пререканий оплачивал их по утрам каждое воскресенье. Трапенар сама имела дело со всеми поставщиками, без какого бы то ни было вмешательства г-на Сикста в ее коммерческие комбинации, проводившиеся, впрочем, с безупречной честностью. Словом, она стала царить в доме на правах хозяйки, и ее положение вызывало зависть у мелкого люда, с утра до вечера спускавшегося и поднимавшегося по общей лестнице, которую по понедельникам натирал полотер.
— Ну, мадемуазель Мариетта! Неплохой же но мерок вы вытянули, — говорил Карбоне экономке философа, когда она задерживалась на минутку, чтобы поболтать со своим благодетелем. За последние годы привратник стал сильно сдавать; теперь ему пришлось оседлать свой квадратный нос очками, и все же он с трудом попадал молотком по гвоздю, который забивал, надев кожаный передник и зажимая между коленями железную колодку. Уже несколько лет он держал у себя в каморке петуха, которого звали Фердинанд, хотя ни одна душа на свете не знала, почему птице дали такое имя. Петух бродил среди обрезков кожи и вызывал изумление посетителей той жадностью, с какой он глотал башмачные пуговицы. Когда петух пугался чего-нибудь, он искал прибежища у хозяина, совал лапу в его жилетный карман, а голову прятал у него под мышкой.
— Что с тобой, Фердинанд? — говорил Карбоне.
Поздоровайся же с мадемуазель Мариеттой! Петух принимался нежно поклевывать руку старой девы, а сапожник продолжал: — Я всегда говорю: не отчаивайтесь, если год выдался плохой. Вслед за ним придут два хороших. Они гонятся друг за дружкой, как Фердинанд за курами.
Эй ты, старый греховодник! — Что верно, то верно. Хозяин — «хороший человек, ничего не скажешь, — соглашалась Мариетта. — Только вот в отношении религии — настоящий басурман.
Можете себе представить! За пятнадцать лет ни разу не был у обедни! — К обедне и без него достаточно народу ходит, — возразил Карбоне, — а люди умные проводят втихомолку время повеселее…
Этот отрывок разговора дает представление о том, какое мнение составила Мариетта о своем хозяине.
Но мнение ее останется для нас совершенно непонятным, если мы не коснемся философских работ Адриена Сикста и истории его научных взглядов.
Адриен Сикст родился в 1839 году в Нанси, где у его отца была часовая мастерская, и с малых лет отличался выдающимися умственными способностями. У товарищей по школе он оставил о себе память как о тщедушном и молчаливом мальчике, наделенном, однако, такой душевной замкнутостью, что она мешала сверстникам сблизиться с ним. Сначала — он учился отлично, затем перешел в разряд средних учеников, — до того времени, когда в классе философии, или, точнее, логики, он обнаружил такие исключительные дарования, что преподаватель, пораженный его талантами в области метафизики, стал убеждать юношу готовиться к поступлению в Нормальную школу. Но Адриен сделать этого не пожелал и даже заявил отцу, что если говорить о профессии, то он предпочитает какое-нибудь ремесло. «Я буду часовщиком, как и ты», — отвечал он на доводы отца, который мечтал, как и все французские ремесленники и торговцы, обучающие детей в коллежах, что со временем его сын сделается чиновником. Впрочем, родители — мать — Адриена еще была жива — ни в чем не могли упрекнуть сына; он не курил, не шатался по кафе и никогда не появлялся на улице с девицей, словом, был их гордостью. Поэтому они скрепя сердце покорились его желанию и отказались от мысли, что сын «сделает карьеру»; но они ни за что не захотели отдать его в обучением какую-нибудь мастерскую, и таким образом молодой человек остался при родителях, без определенных занятий, имея возможность учиться, как ему заблагорассудится. Так он провел десять лет, посвящая время изучению английской и немецкой философии, естественных наук, математики и особенно физиологии мозга. Наконец он дошел до того «чудовищного энцефалита» (как выразился о нем один известный писатель), до того перенасыщения позитивными знаниями, которое было методом воспитания у Карлейля и Милля, Тэна и Ренана и почти всех выдающихся представителей современной философии. Когда в 1868 году сыну скромного нансийского часовщика исполнилось двадцать девять лет, он опубликовал труд в пятьсот страниц под заглавием: «Психология веры». И хотя он разослал его не более чем пятнадцати лицам, книга неожиданно имела скандальный успех. Этот труд, написанный в полнейшем духовном одиночестве, отличался двумя характерными особенностями: острым до жестокости критическим анализом и пылкостью отрицания, доведенного до фанатизма.
Не отличаясь поэтичностью, свойственной Тэну, Сикст не мог бы написать такого предисловия, какое предпослано трактату «Об уме», или хотя бы как тэновский отрывок об универсальном феноменализме, но он не был и столь сухим умом, как г-н Рибо, книга которого «Английские психологи» положила начало целой серии замечательных исследований этого ученого. Однако Адриен Сикст соединял в себе красноречие первого и проникновенность второго, и его книге было суждено, хотя это и не входило в планы автора, непосредственно коснуться самой волнующей проблемы метафизики. Брошюра видного епископа, негодующие намеки некоего кардинала в речи, произнесенной в сенате, и гневная статья одного из самых блестящих критиков из лагеря спиритуалистической философии во влиятельном журнале способствовали тому, что к этой книге было привлечено внимание молодежи, над которой уже веял дух революции, предвестник грядущих потрясений. Автор ставил перед собою задачу доказать необходимость «гипотезы о боге» действием психологических законов, в свою очередь обусловленных некоторыми мозговыми функциями чисто физического порядка. Этот тезис был выдвинут, доказан и раскрыт с такой атеистической резкостью, что она напоминала исступление Лукреция против верований его времени «И вот труд нансийского отшельника, задуманный и завершенный как бы в келье, сразу же после вы хода в свет оказался втянутым в шумную борьбу современных идей. Уже давно не приходилось сталкиваться с такой силой мысли в соединении со столь широкой эрудицией и с таким разнообразием доказательств в сочетании с самым смелым нигилизмом. Но, в то время как имя ученого уже гремело в Париже, его родители, которые воспитали его и жили с ним под одной кровлей, хотя и не могли понять сына, были совершенно подавлены таким успехом. Некоторые статьи в католических журналах привели г-жу Сикст в полное отчаянье. Старый часовщик боялся, что растеряет клиентов из среды городской аристократии. На бедного философа обрушились все невзгоды провинциальной жизни, и он уже решил, что лучше всего оставить отчий кров, как вдруг началось немецкое нашествие и разразилась ужасающая национальная катастрофа, отвлекшая от него внимание и родителей и соотечественников. Впрочем, в 1871 году его отец и мать умер ли, летом того же года Адриен Сикст потерял тетку, и в 1872 году, приведя в порядок денежные дела, он решил обосноваться в Париже. Благодаря наследству, полученному от отца и тетки, его состояние выразилось в восьми тысячах пожизненной ренты. Сикст решил, что он не женится, не станет бывать в обществе и не будет добиваться ни почестей, ни теплых местечек, ни славы. Весь смысл жизни заключался для него в одном слове: мыслить.
Чтобы лучше охарактеризовать этого редкостного человека, портрет которого может показаться неправдоподобным читателю, мало знакомому с биографиями великих философов, необходимо рассказать об образе жизни этого труженика науки. И зимой и летом философ садился за письменный стол в шесть часов утра, подкрепившись только чашкой черного кофе.
В десять часов он завтракал. Трапеза была настолько несложной, что уже в половине одиннадцатого он входил в ворота Ботанического сада. Там он прогуливался до двенадцати и иной раз доходил до набережной, в сторону Собора Парижской богоматери. Одно из его любимых развлечений состояло в том, что он подолгу простаивал перед клетками с обезьянами или возле слона. Дети и няньки, наблюдавшие, как г-н Сикст беззвучно смеется над жестокостью и циническими выходками макак и уистити, и не подозревали о мизантропических мыслях, какие вызывало это зрелище в уме ученого, сравнивавшего про себя человеческую комедию с обезьяньей, а свойственную человеку глупость — с мудростью благородного животного, которое до нас быль царем на земле. Около полудня г-н Сикст возвращался домой и снова занимался до четырех часов вечера. С четырех до шести, три раза в неделю, он принимал посетителей, студентов и профессоров, интересовавшихся теми же вопросами, что и он, или иностранцев, которых привлекала к нему его слава, ставшая к тому времени европейской. В остальные три дня недели он в эти часы сам делал необходимые визиты. В шесть часов ученый обедал, снова уходил из дому и на этот раз прогуливался вдоль ограды уже запертого сада до Орлеанского вокзала. В восемь он возвращался, занимался корреспонденцией или читал.
В десять часов во всех окнах его квартиры уже бывало темно. По понедельникам этот монашеский образ жизни прерывался отдыхом: философ заметил, что по воскресеньям окрестности Парижа полны гуляющих.
В понедельник он выходил из дому ранним утром, садился в пригородный поезд и возвращался только вечером. И за пятнадцать лет не было случая, чтобы он нарушил эту строгую размеренность жизни. Ни разу он не принял приглашения где-нибудь отобедать, не побывал ни в одном театре. Он совсем не читал газет, а для печатания своих работ обращался к услугам издателя и никогда не благодарил за написанные о нем статьи. Он был до такой степени равнодушен к политике, что ни разу не участвовал в выборах. К этому еще необходимо добавить, чтобы установить главные черты его исключительной личности, что он порвал всякие сношения с родственниками и что этот разрыв, равно как и все, даже мельчайшие его поступки, был основан на особой теории. В предисловии к его второй книге, которая называется «Анатомия воли», имеется следующая характерная для него фраза: «Социальные привязанности у человека, который желает познать и выразить истину в области психологии, должны быть доведены до минимума». Из соображений подобного рода этот человек, наделенный столь мягким характером, что за пятнадцать лет он не сделал и трех замечаний своей экономке, сознательно воздерживался от всякой благотворительности. Тут он рассуждал, как Спиноза, который в четвертой книге своей «Этики» говорит: «У мудреца, живущего согласно доводам разума, жалость — дурное и бесполезное свойство». Этот мирской праведник, как его можно было бы назвать наравне с почтенным Эмилем Литтре, считал христианство, болезнью человечества.
В качестве обоснования такого отношения к христианству Сикст приводил два довода. Во-первых, по его мнению, гипотеза о небесном отце и вечном блаженстве развила в душах излишнее отвращение к реальному миру и уменьшила в человеке способность подчиняться законам природы; во-вторых, он считал, что, основывая социальный порядок на любви, то есть на чувствительности, эта религия открыла дорогу самым вредным крайностям индивидуалистических учений.
Г-ну Сиксту, конечно, и в голову не приходило, что преданная экономка зашивает в его жилеты образки, и невнимание ученого к внешнему миру было настолько полным, что по пятницам и в другие положенные дни он соблюдал пост, не замечая тайных усилий старой девы хотя бы таким образом обеспечить своему хозяину вечное спасение. Говоря о нем, она повторяла, сама того не зная, знаменитое изречение: — Милосердный бог не был бы милосердным, если бы осудил его.
Годы непрерывного труда в обители на улице Ги де ля Бросс родили, кроме «Анатомии воли», трехтомную «Теорию страстей», выход которой в свет вызвал бы еще больший скандал, чем даже «Психология веры», если бы полная свобода печати в последнее десятилетие не приучила читателя к смелости описаний, с какой не могла соперничать спокойная и, так сказать, техническая выразительность ученого. В этих двух книгах и сосредоточилась доктрина Адриена Сикста, и ее необходимо изложить здесь, хотя бы в самых общих чертах, чтобы стала понятной драма, для которой эта краткая биография служит как бы прологом.
Вместе со всеми представителями критической школы, основоположником которой является Кант, автор этих трех трактатов допускал, что разум не в состоянии познать причины и субстанцию и должен ограничиться координированием феноменов. Однако, как и английские психологи, он считал, что некоторая группа этих феноменов, которая обозначена этикеткой «душа», все же может быть объектом научного познания, при условии применения строго научного метода. Пока что, как видит читатель, в этих теориях нет ничего такого, что отличало бы их от теорий, развитых в основных трудах Тэна, Рибо и их последователей. Оригинальные особенности трудов Адриена Сикста не в этом. Первая из них заключается в полном отрицании того, что Герберт Спенсер называет Непознаваемым. Как известно, великий английский мыслитель допускает, что всякая реальность покоится на некоей, находящейся во вне, сущности, постигнуть которую невозможно; следовательно, необходимо, если применить формулу Фихте, считать эту сущность непостижимой. Однако, как об этом свидетельствуют первые страницы «Основных начал», для Спенсера это Непознаваемое тем не менее является реальностью. Оно существует, поскольку мы живем им. Отсюда один только шаг до утверждения, что сущность всякой реальности представляет собою мысль, поскольку наша мысль проистекает из нее; она представляет собою и чувство, поскольку наше чувство берет в ней свое начало. Исходя из Непознаваемого, немало проникновенных умов предвидят теперь примирение религии и науки. Однако Адриену Сиксту такие теории представлялись лишь крайним выражением метафизической иллюзии, которую он во что бы то ни стало стремился разрушить, и он применял при этом такую силу аргументации, какой мы не наблюдали со времен Канта. Другой заслугой его как психолога явились выдвинутые им новые и остроумные положения о животном происхождении чувственной жизни человека. Благодаря неограниченной эрудиции и глубокому знанию естественных наук Сикст мог провести ту же самую работу для выяснения генезиса форм мысли, какую Дарвин выполнил для раз работки теории происхождения форм жизни. Применяя закон эволюции к тем явлениям, которые представляют собою выражение человеческих чувств, он пытался доказать, что наши самые тонкие ощущения, самые изощренные нравственные переживания, равно как и наши самые постыдные падения, не что иное, как конечное выражение или последняя метаморфоза простейших инстинктов, которые в свою очередь представляют собою видоизменение свойств первоначальной клетки. Таким образом, он приходит к выводу, что духовный мир точно воспроизводит мир физический в что первый является не чем иным, как мучительным или экстатическим отражением второго в нашем сознании. Такой метафизический вывод, предложенный Сикстом лишь в виде гипотезы, служит итогом его изумительных исследований. Среди них можно упомянуть хотя бы о двухстах страницах, посвященных любви и написанных с такой смелостью, которая под пером целомудренного ученого, может быть даже девственника, кажется чрезвычайно забавной. Но разве тот же Спиноза не разработал теорию ревности, которая грубостью своей может поспорить с идеями любого из современных писателей? И разве Шопенгауер в своих выпадах против женщин не соперничает в остроумии с Шамфором? Едва ли нужно добавлять к этому, что в книгах Сикста все, с начала до конца, отмечено крайним детерминизмом. Именно его перу мы обязаны некоторыми положениями, которые с необычайной убедительностью доказывают, что все одинаково необходимо в человеческой душе, даже наша иллюзия, будто мы обладаем свободой воли. Так", в одном месте он пишет: «Всякое действие является не чем иным, как актом сложения. Утверждать, что это действие вполне свободно, равносильно попытке доказать, что сумма больше совокупности слагаемых. В психологии это такой же абсурд, как и в арифметике». И далее: «Если бы нам было известно относительное положение всех элементов, составляющих нынешнюю вселенную, то мы могли бы уже сейчас с астрономической точностью рассчитать день, час и минуту, когда, например, англичане уйдут из Индии, когда Европа сожжет последний кусок каменного угля, когда такой-то преступник, пусть еще не родившийся, убьет отца или когда будет написана еще даже не задуманная поэма. Все будущее заключено в настоящем, как все свойства треугольника заключены в его определении…» Надо признать, что и магометанский фатализм не выражается с большей точностью.
Философские теории подобного рода позволяют предполагать в человеке ужасающую скудость воображения. Поэтому слова г-на Сикста, не раз сказанные им о самом себе: «Я беру жизнь с самой ее поэтической стороны», — казались тем, кто его слышал, абсурднейшим из парадоксов. И тем не менее эти слова вполне соответствовали действительности, принимая во внимание особую природу философского ума. Ведь существенное отличие прирожденного философа от прочих смертных заключается в том, что идеи, которые последним представляются в виде более или менее ясных формул, для философа облекаются в плоть и кровь как реальные живые существа. Чувства философа сообразуются с его мыслью, в то время как у всех нас существует более или менее полный разлад между сердцем и рассудком. Один христианский проповедник превосходно отметил природу такого разлада в следующем странном, но глубоком изречении: «Мы хорошо знаем, что мы умрем, но не верим этому!» Философ же, если он философ, по самой своей сущности, по призванию, не в состоянии понять эту двойственность, это противоречие между чувством и мыслью. Так и для Сикста универсальная необходимость существующего, вечное превращение одних феноменов в другие, колоссальная работа природы, находящейся в беспрестанном процессе созидания и разрушения, без отправной точки и без цели, а лишь в силу простого развития первоначальной клетки, параллельная работа человеческой души, воспроизводящей в виде мыслей, эмоций и желаний движение физиологической жизни, — все это было для него не более, чем объектом созерцания. Как загипнотизированный, Сикст погружался в наблюдение этих процессов и ощущал их всем своим существом. Таким образом, этот болезненный человек, сидевший среди книг за письменным столом, засунув ноги в меховой мешок и запахнувшись в старый халат, в то время как рядом на кухне стряпала экономка, мысленно участвовал в бесконечном творчестве вселенной. Он жил жизнью всех созданий. Он перевоплощался во все формы природы, пребывал в сонном бездействии вместе с минералом, прозябал вместе с растением, оживал вместе с простейшими животными, становился более сложным явлением вместе с более развитыми организмами, наконец раскрывался во всей полноте ума, способного отразить безграничный мир, — в человеке.
Упоение общими идеями, в котором есть нечто от опиума, делает таких созерцателей равнодушными к мелочам внешнего мира и, скажем прямо, почти совершенно неспособными к каким-либо житейским привязанностям. Ведь мы привязываемся только к тому, что ощущаем как вполне реальное; а для этих своеобразно устроенных голов реальностью является как раз абстракция, повседневная же реальная жизнь кажется некоей тенью, грубым и несовершенным отражением незримых законов. Возможно, что Сикст и любил свою мать. Но этим несомненно и ограничилась его душевная жизнь. Если он был добр и снисходителен к людям, то это происходило по той же самой причине, по какой он осторожно, без резких движений передвигал у себя в кабинете стул. Однако он никогда не испытывал потребности почувствовать около себя теплоту или нежность, семейный уют, познать любовь, преданность или хотя бь1 дружбу. Те немногие ученые, с которыми он поддерживал знакомство, были связаны в его представлении только с профессиональными беседами, какие он вел с ними, — с одним о химии, с другим о высшей математике, с третьим о заболеваниях нервной системы. Встречаясь с этими людьми, он совершенно не интересовался, есть ли у них семья, занимаются ли они воспитанием детей, обуревает ли их желание сделать карьеру. И как это ни покажется странным после подобной характеристики, он был счастлив.
Принимая во внимание характер ученого и распорядок его жизни, легко себе представить, какое впечатление произвели в рабочем кабинете на улице Ги де ля Бросс два события, последовавшие одно за другим в течение дня; во-первых, получение повестки, адресованной г-ну Адриену Сиксту с вызовом в камеру г-на Валетта, судебного следователя, «на предмет дачи показаний о фактах и обстоятельствах, о которых он будет поставлен в известность», как значилось в повестке в соответствии с формой подобных документов; во-вторых, визитная карточка г-жи Грелу, убедительно просившей г-на Сикста принять ее завтра около четырех часов, «чтобы переговорить о преступлении, в котором ложно обвинен ее несчастный сын». Я уже сказал, что философ никогда не читал газет. Но если бы он в течение последних двух недель случайно открыл любую из них, он нашел бы в ней отклики на дело молодого Грелу, о котором теперь уже стали забывать, так как внимание было приковано к новым.
судебным процессам. Поскольку же г-н Сикст пребывал в полнейшем неведении, вызов к судебному следователю и визитная карточка ничего ему Не говорили.
Однако, сопоставляя получение повестки и записку, написанную матерью, ученый сделал вывод, что между этими двумя фактами возможна какая-то связь, и ему тут же пришло в голову, не идет ли речь о том молодом человеке по имени Робер Грелу, с которым он познакомился в прошлом году, впрочем при самых обычных обстоятельствах. Но обстоятельства эти так не вязались с представлением о каком бы то. ни было уголовном деле, что ученый не мог построить никакой гипотезы и долго рассматривал то повестку, то визитную карточку, охваченный почти мучительным беспокойством, какое вызывает у людей со сложившимися привычками малейшее событие неожиданного и загадочного характера.
Робер Грелу… Адриен Сикст впервые прочел это имя два года тому назад под письмом, полученным им вместе с рукописью. Рукопись была озаглавлена так: «Опыт исследования множественности «я», а в приложенном к ней письме заключалась почтительная просьба о том, чтобы знаменитый ученый дал себе труд просмотреть эту первую работу молодого автора.
Грелу прибавил к своей подписи следующее пояснение: «Бывший ученик класса философии клермон-ферранского лицея». Работа, занимавшая страниц шестьдесят, свидетельствовала о таком преждевременно раз витом и тонком понимании вещей, о столь полном знакомстве со всеми новейшими теориями современной психологии и о таких аналитических способностях, что ученый почел нужным ответить автору подробным посланием. Вскоре Сикст получил от молодого человека письмо, в котором тот благодарил ученого и сообщал, что должен вскоре отправиться в Париж на устные экзамены для поступления в Нормальную школу, и просил разрешения навестить профессора. И вот однажды, после полудня, Сикст увидел у себя юношу лет двадцати, с красивыми черными, необыкновенно живыми и выразительными глазами, освещавшими очень бледное лицо. Только это и осталось в памяти у ученого. Подобно всем людям, погруженным в абстрактное мышление, он получал от внешнего мира лишь весьма смутные впечатления, и у него оставались о них столь же смутные воспоминания. Зато память на идеи была у него поразительная, и он до малейших подробностей помнил весь свой разговор с Робером Грелу. Среди многих молодых людей, которых влекла к нему его известность, ни один не изумил его такой необычайно ранней эрудицией и силой логики. Конечно, в голове этого юноши тоже было еще немало неустоявшегося и еще сказывалось то кипение мысли, которое вызывается слишком быстрой ассимиляцией чересчур обширных научных сведений. Но какая была у него чудесная способность к дедукции, какое естественное красноречие и вместе с тем какая искренность чувствовалась в его энтузиазме! И вот ученый представил его себе мысленно таким, каким он показался ему во время беседы, когда юноша, слегка жестикулируя, сказал: «Нет, вы и представить себе не можете, кем вы являетесь для нас и что мы переживаем, читая ваши книги… Вы человек, олицетворяющий для нас истину, человек, в которого можно верить… Да вот возьмем, например, хотя бы анализ чувства любви в вашей «Теории страстей»! Ведь это же целое откровение! В лицее ваша книга запрещена. Но у меня она есть, и в свободные дни два моих товарища приходили ко мне выписывать из нее целые главы…» А так как в душе каждого человека, выпустившего в свет книгу, даже такого бескорыстного, как Адриен Сикст, таится авторское тщеславие, то это преклонение со стороны кружка учащейся молодежи, простодушно высказанное одним из ее представителей, чрезвычайно польстило философу. Робер Грелу просил разрешения зайти еще раз и, признавшись во время вторичного посещения о провале на экзаменах в Нормальную школу, кое-что рассказал о своих дальнейших планах. Вопреки обыкновению и г-н Сикст позволил себе задать посетителю несколько вопросов частного характера.
Таким образом ему стало известно, что молодой человек — единственный сын инженера, который умер, не успев составить состояния, и что его матери пришлось пойти на большие жертвы, чтобы предоставить сыну возможность учиться. «Но так не может продолжаться, — рассказывал Робер, — поэтому я намерен еще в нынешнем году получить степень лиценциата, а затем буду добиваться места преподавателя философии в каком-нибудь лицее и одновременно работать над большим трудом о видоизменениях человеческой личности. Зародышем этой работы является тот опыт, который я предложил вашему вниманию…» Когда молодой человек стал излагать программу своей жизни, глаза его загорелись.
Оба эти посещения Робера Грелу имели место в августе 1885 года. Теперь шел 1887 год, и за этот промежуток времени Сикст получил от юноши пять или шесть писем. В одном из них Робер Грелу сообщал, что поступил в качестве домашнего учителя в какую-то аристократическую семью, которая проводит летние месяцы в родовом замке на берегу Эда, одного из самых живописных озер в Овернских горах.
Незначительная подробность поможет читателю понять, до какой степени взволновало ученого совпадение между получением повестки и визитной карточки г-жи Грелу: хотя на столе лежали гранки его статьи для «Философского обозрения» и их необходимо было просмотреть как можно скорее, ученый почел нужным в тот же вечер разыскать письма молодого человека.
Он обнаружил их в папке, где аккуратно хранил все, даже незначительные записки. Письма лежали вместе с бумагами такого же рода под рубрикой: «Современная документация по вопросу формирования ума», и составляли в общей сложности около тридцати листков. Ученый перечел их с особенным вниманием и не обнаружил в них ничего, кроме различных соображений научного характера, вопросов о книгах, которые надо прочитать, да некоторых научных планов. Какая же нить может связывать подобные вещи с уголовным процессом, о котором говорит мать? Молодой человек, которого философ видел всего два раза в жизни, произвел на него, по-видимому, очень сильное впечатление, потому что мысль о том, что за повесткой судебного следователя и за просьбой матери Робера Грелу о свидании скрывается одна и та же тайна, не давала ему покоя большую часть ночи.
Впервые за много лет г-н Сикст сделал экономке выговор за какое-то пустяковое упущение, а когда он проходил в час Дня мимо каморки привратника, его лицо, обычно совершенно спокойное, выражало такую озабоченность, что Карбоне, уже насторожившийся из-за повестки, которая по довольно варварскому обычаю была прислана в незапечатанном конверте и тут же, само собою разумеется, прочитана, высказал жене, а затем, и всему околотку следующее соображение: — Я не имею обыкновения совать нос в чужие дела, но я отдал бы двадцать лет хорошей жизни, чтобы узнать, что нужно судейским крючкам от нашего бедного господина Сикста. Сейчас он сбежал по лестнице, как полоумный…
— Смотри-ка, господин Сикст вышел погулять не вовремя, — сказала матери девица, сидевшая за прилавком в булочной. — Говорят, он Судится из-за наследства.
— Полюбуйся на старика Сикста! Мчится, как зебра! Мне рассказывали, что его тянут к ответу, — говорил аптекарский ученик приятелю. — Знаем мы этих старичков! Снаружи как будто бы все в порядке, а чуть копни — не оберешься грязных, историй. В конце концов все они порядочные канальи…
— Сегодня он уж совсем медведь медведем! Даже не здоровается! — Так говорила жена профессора Коллеж де Франс, занимавшего квартиру в том же доме, что и философ, когда Сикст встретился супругам на лестнице. — Впрочем, тем лучше. Говорят, будто его книги подвергнутся судебному преследованию. Ну, и поделом!..
Так даже самые скромные люди, люди, воображающие, что они живут в полной безвестности, не могут и шагу ступить, не вызвав всевозможных пересудов, если им суждено жить в Париже, в так называемых тихих кварталах. Необходимо, однако, добавить, что, если бы г-н Сикст узнал об этой болтовне, он обратил бы на нее внимания не больше, чем на какой-нибудь том официальной университетской философии. А философию эту он презирал больше всего на свете.
II. ДЕЛО ГРЕЛУ
Знаменитый философ во всем являл собою образец точности.
Среди житейских правил, которым он в подражание Декарту следовал с самого начала своей ученой жизни, было и такое: «Порядок помогает мыслить». Поэтому он прибыл в здание судебной палаты ровно за пять минут до указанного в повестке времени Ему пришлось ждать не менее получаса, прежде чем следователь принял его. В длинном коридоре с голыми белыми стенами, где стояло несколько столов и стульев для курьеров, люди разговаривали шепотом, как это обычно бывает в приемных официальных учреждений. Здесь находилось человек шесть-семь. Соседями философа оказались почтенный буржуа с женой, очевидно местные коммерсанты, вызванные по какому-то другому делу и, видимо, очень смущенные встречей с миром правосудия.
Наружность севшего рядом с ними господина, с бритым лицом, и черных круглых очках, скрывавших глаза, в длинном сюртуке и с необычайной физиономией, до такой степени обеспокоила супругов, что они отсели подальше от него и стали перешептываться.
• Он из полиции, — сказал муж.
Ты думаешь? — подхватила жена, с ужасом взглянув на загадочное, и неподвижное лицо незнакомца. — Боже, какой у него отталкивающий вид!..
А профессиональный исследователь человеческого сердца и не подозревал, какое впечатление он производит на окружающих, — да он и вообще не заметил, что кто-то сидит рядом. Пока разыгрывалась эта комическая сценка, следователь болтал с приятелем в комнатке, примыкающей к его служебному кабинету.
Украшенная несколькими автографами и фотографиями знаменитых преступников, она служила г-ну Валетту туалетной, курительной и убежищем для разговоров с глазу на глаз в тех случаях, когда ему хотелось избавиться от присутствия секретаря. Следователь был красивый мужчина лет сорока; одет он был по последней моде, с перстнями на пальцах; словом, это был чиновник новой школы. На улице вы приняли бы этого господина с орденской ленточкой в петлице, в хорошо сшитом пальто и в блестящем цилиндре за биржевика, награжденного орденом по случаю какого-нибудь удачного выпуска акций. Он держал в руке лист бумаги, на котором ученый разборчивым и связным почерком написал свою фамилию, и показывал эту подпись приятелю, человеку без определенных занятий, живущему в свое удовольствие и обладающему одной из тех незначительных и вместе с тем нервных физиономий, какие можно увидеть только в Париже.
Попробуйте определить, глядя на такого господина, его вкусы, привычки или характер! Сделать это невозможно, столько отразилось на этом лице самых разнообразных и даже противоречивых переживаний. Этот прожигатель жизни принадлежал к тому сорту парижан, которые считают своим долгом бывать на всех театральных премьерах, посещать мастерские художников, присутствовать на сенсационных процессах, словом, гордятся тем, что они идут в ногу с веком, что они «в курсе всего», как теперь принято говорить.
Прочитав фамилию Адриена Сикста, приятель воскликнул: — Браво! Поздравляю, милый Валетт! Тебе повезло, что ты будешь говорить с такою знаменитостью.
Ты знаешь, что он написал о любви в какой-то своей книге? Вот кто понимает толк в женщинах! Но за каким чертом ты вызвал его сюда? — По делу Грелу, — ответил следователь. — Говорят, он часто принимал у себя этого юношу, и защита выставила его в качестве свидетеля. Мне поручено выяснить это обстоятельство.
— Жаль, что нельзя взглянуть на него, — вздохнул приятель.
— Тебе это доставило бы удовольствие? Так нет ничего проще. Сейчас я приглашу его. А ты уйдешь после того, как он появится в кабинете. Итак, до вечера, ровно в восемь у Филона. Глэдис, конечно, будет? — Разумеется. Кстати, ты слышал последнюю остроту Глэдис? Мы как-то при ней упрекали Перси, что она изменяет Поставу. Так знаешь, что сказала Глэдис: «Ну что же, ей поневоле приходится иметь двух любовников, раз она тратит вдвое больше того, что ей дает каждый…» — Да, — заметил Валетт, — думаю, что в философии любви эта девица заткнет за пояс всех Сикстов света и полусвета…
Друзья весело рассмеялись. Затем следователь велел пригласить философа. Любопытный приятель, прощаясь с Валеттом и в последний раз пожимая ему руку, повторил: — Итак, до вечера. Ровно в восемь…
Но одновременно, вставив в глаз монокль, чтобы лучше видеть, он окинул взглядом знаменитого философа, которого знал по пикантным отрывкам из «Теории страстей», напечатанным в газетах. Однако появление в дверях человека своеобразной внешности, роб кого неявно смущенного, настолько опровергало представление о нем как о жестоком, язвительном и разочарованном мизантропе, какое составили себе следователь и бульварный гуляка, что они с изумлением переглянулись. Им трудно было удержаться от улыбки. Но это продолжалось только мгновение. Приятель исчез. Следователь жестом пригласил посетителя сесть в одно из обитых зеленым плюшем кресел, составлявших обстановку комнаты, убранство которой, по принятому в официальных учреждениях обычаю, завершал триповый ковер, тоже зеленого цвета, и стол красного дерева. Физиономия следователя стала серьезной. Эти переходы от одного настроения к другому более искренни, чем можно думать, наблюдая их в поведении человека, вдруг на ваших глазах превращающегося из частного лица в чиновника. К счастью, стопроцентные комедианты, люди, которые относятся к своей работе с "полнейшим презрением, довольно редкое явление в нашем обществе. Нам не хватает скепсиса, чтобы поддерживать такое лицемерие. И остроумному Валетту, которого так ценили в полусвете, клубному завсегдатаю, приятелю всех спортсменов, сопернику журналистов в острословии, человеку, только что весело комментировавшему остроту легкомысленной девицы, с которой ему предстояло ужинать вечером, отнюдь не требовалось большого усилия, чтобы в мгновение ока превратиться в сурового и пытливого следователя, с холодным мастерством осуществляющего задачу выяснения истины во имя правосудия. Его взгляд, вдруг ставший пронзительным, пытался проникнуть в душу только что вошедшего посетителя. Заправские следователи обладают особым даром с первых же минут беседы с человеком, которого нужно заставить говорить, если даже он к этому не расположен, пробуждать в себе все свои судейские способности, подобно тому как фехтовальщики сначала нащупывают манеру противника, чтобы потом вступить с ним в настоящую борьбу. А философ понял, что предчувствия его не обманули: на папке, которую следователь взял в руки, Сикст прочел написанные крупными буквами два слова, заставившие его невольно содрогнуться: «Дело Грелу». В комнате царила тишина, нарушаемая только шорохом бумаг и скрипом пера в руке секретаря, который уже приготовился записывать допрос с тем равнодушием, какое отличает людей, привыкших играть чисто механическую роль в жизненных драмах, развертывающихся перед судом. Для них один процесс так же мало отличается от другого, как покойники для факельщики или больные для санитара.
— Избавлю вас, милостивый государь, от обычных вопросов, — произнес наконец следователь. — Есть имена и люди, которых нельзя не знать…
Философ даже не поклонился в ответ на этот комплимент.
«Не знает светских правил, — подумал следователь. — Вероятно, это один из тех литераторов, которые принципиально презирают нас». Вслух он сказал: — Я начну прямо с факта, который вынудил меня пригласить, вас… Вам, конечно, известно, в каком преступлении обвиняется Робер Грелу…
— Извините, — прервал его философ, меняя позу, которую он принял по привычке, чтобы удобнее было слушать: он сидел, положив руку на подлокотник, а подбородок подперев рукой и упершись указательным пальцем в щеку, как в минуты своих одиноких размышлений, — я не имею об этом ни малейшего понятия.
— Однако все газеты писали об этом деле, и даже с такой точностью, к какой господа газетчики не очень то нас приучили, — возразил следователь. Он почел нужным хотя бы такой косвенной насмешкой парировать пренебрежение представителя философии к судейским, которое он подозревал у посетителя. А про себя подумал: «Притворяется! Интересно, с какой же целью? Должно быть, хочет меня перехитрить».
— Извините, — повторил философ, — но дело в том, что я не читаю газет.
Следователь посмотрел на собеседника и молвил короткое «ах, так!», в котором было больше иронии, чем удивления. «Ну, хороню, — подумал он, — ты испытываешь Мое терпение? Так мы тебе покажем…» Не без раздражения в голосе он продолжал: — В таком случае я вкратце изложу вам дело. Но все-таки жаль, что вы не в курсе того, что безусловно должно бы вас заинтересовать если не с точки зрения юридической ответственности, то по крайней мере моральной…
При этих словах философ поднял голову с явным беспокойством, что доставило следователю немалое удовольствие. «Что, получил, приятель?» — сказал он про себя, а вслух произнес: — Но ведь вам известно, кто такой Робер Грелу и какое положение он занимал в доме маркиза де Жюсса-Рандон? В деле имеется несколько писем, которые были посланы вами Роберу Грелу в замок Жюсса-Рандон. Они доказывают, что вы были… как бы это выразиться… своего рода духовным руководителем обвиняемого.
Философ снова сделал движение головой.
— Теперь я прошу вас сообщить, говорил ли вам молодой человек об этой семье и что именно. Едва ли я открою вам что-нибудь новое, если напомню, что семья эта состояла из отца, матери, сына, который, в чине капитана драгунского полка, служит сей час в люневильском гарнизоне, второго сына, воспитателем которого и был Грелу, и девятнадцатилетней дочери по имени Шарлотта. Она была обручена с бароном де Планом, офицером того же полка: Но по каким-то семейным соображениям, не имеющим отношения к делу, свадьбу отложили. Затем она была окончательно назначена на пятнадцатое декабря прошлого года. Но вот однажды утром, за неделю до приезда жениха и старшего сына, графа Андре, горничная мадемуазель Шарлотты, войдя к ней в обычный час, нашла ее в постели мертвой… — Чиновник сделал короткую паузу и, продолжая перелистывать папку с бумагами, скосил глаза на свидетеля. Изумление, отразившееся на лице философа, было настолько искренним, что следователь сам изумился. «Нет, он действительно ничего не знает, — подумал он, — но это странно, очень странно!» Следователь следил за взволнованной физиономией знаменитого ученого, не меняя на своем лице выражения занятого делами и ко всему на свете равнодушного человека. Однако ему недоставало данных, чтобы понять этого загадочного человека, в котором уживались мощный ум в сфере отвлеченных идей и полная беспомощность наивного, робкого и почти нелепого чудака в области житейской. Так ничего и не поняв, следователь продолжал: — Хотя спешно вызванный врач был лишь простым деревенским лекарем, он сразу понял, что внешний вид трупа исключает предположение об естественной смерти. Посиневшее лицо, плотно сжатые зубы, необычайно расширенные зрачки, тело, изогнутое как бы дугой и державшееся на затылке и на пятках, — все это были явные признаки отравления стрихнином. В стакане, стоявшем на ночном столике, оставалось несколько капель лекарства от бессонницы, которое Шарлотта де Жюсса-Рандон обычно принимала вечером или даже ночью, так как уже около года, страдала нервным расстройством. Произведя анализ этих капель, врач обнаружил в них следы чилибухи. Как вам известно, чилибуха — одна из форм, в какой этот ужасный яд имеет применение в медицине. И почти одновременно садовник нашел под #9632; окнами Шарлотты небольшой пузырек без этикетки, содержавший несколько капель какой-то коричневой жидкости. Его, очевидно, выбросили с намереньем разбить, но склянка упала на рыхлую почву недавно вскопанной клумбы. Эти несколько капель тоже оказались чилибухой. Не могло быть никакого сомнения, что мадемуазель де Зюсса умерла от отравления.
Вскрытие трупа подтвердило это предположение. Возникает вопрос, имеем ли мы в данном случае дело с убийством, или самоубийством?.. Гм… Самоубийство…
Но какие мотивы для самоубийства могли быть у этой девушки накануне брака с очаровательным человеком, которого она сама же выбрала? Да еще самоубийства в такой форме, без единого слова объяснения, без письма к родителям?.. С другой стороны, каким образом она могла раздобыть яд? Именно расследование этих двух фактов и побудило правосудие выступить с обвинением, которым мы в настоящее время занимаемся. Деревенский аптекарь на допросе показал, что за полтора месяца до происшествия учитель, живший в замке, купил у него чилибуху как средство против желудочного заболевания.
Однако в то самое утро, когда был обнаружен труп Шарлотты, учитель отправился в Клермон под тем предлогом, что ему необходимо навестить больную мать. Он заявил, что вызван телеграммой. Между тем точно установлено, что никакой телеграммы не было и что в ночь преступления один из слуг видел Робера Грелу выходящим из спальни Шарлотты. Наконец, в комнате молодого человека нашли пузырек с ядом, приобретенный у аптекаря. Пузырек оказался наполовину опорожнен, а затем долит обыкновенной водой, чтобы таким образом отвлечь подозрение.
Показания других свидетелей дали возможность установить, что Робер Грелу очень настойчиво ухаживал за девушкой тайком от родителей. Было найдено письмо, которое он адресовал ей, правда, одиннадцать месяцев тому назад, но которое свидетельствует о ловких попытках обольстить ее. Слуги и даже воспитанник Робера Грелу показали также, что в последнюю неделю отношения между учителем и Шарлоттой стали крайне натянутыми, хотя до этого были дружескими. Она едва отвечала на его поклон. На основании всех этих данных была построена следующая гипотеза: Робер Грелу, влюбившись в девушку, безнадежно ухаживал за нею, а потом отравил ее, чтобы воспрепятствовать ее браку с другим. Эта гипотеза приобрела особую убедительность после того, как молодой человек на допросах стал прибегать ко лжи. Он отрицал, что когда-либо писал Шарлотте. Однако ему предъявили его письмо, а в комнате жертвы в камине удалось найти среди пепла следы писем, сожженных в ночь смерти девушки. Там была обнаружена часть конверта с адресом, написанным рукой обвиняемого.
Он также отрицал, что находился в ту ночь в спальне Шарлотты, но ему устроили очную ставку с лакеем, видевшим, как он выходил оттуда. Лакей особенно настаивал на своем показании, так как признался, что сам он в этот час входил в комнату одной из служанок, с которой находился в близких отношениях.
Грелу не мог привести объяснений, для какой цели он приобрел чилибуху, злоупотребив доверием аптекаря, с которым он дружил. Было доказано, что раньше он на боли в животе никогда не жаловался., Не мог он объяснить и. свою выдумку относительно телеграммы, поспешный отъезд и особенно то сильнейшее потрясение, которое он испытал при известии об отравлении Шарлотты. Впрочем, никакой другой побудительной причины для преступления, кроме мести отвергнутого влюбленного, у нас нет оснований предполагать, так как остались нетронутыми все драгоценности жертвы и все деньги, бывшие в ее кошельке, а на теле не обнаружено ни малейших следов насилия. Сцену преступления можно воспроизвести следующим образом: Грелу проник в комнату мадемуазель де Жюсса-Рандон, зная, что она обычно спит до двух часов, а затем просыпается и принимает снотворное. Он добавил к лекарству известную дозу чилибухи, вполне достаточную для того, чтобы мгновенно умертвить человека. Девушка успела только поставить стакан на ночной столик, но уже не была в силах позвать на помощь. Потом Грелу испугался, как бы волнение не выдало его, и поспешно покинул замок, прежде чем был обнаружен труп. Пустой пузырек, найденный на клумбе, он, вероятно, выбросил из окна классной комнаты, которая расположена как раз над комнатой Шарлотты. Другой пузырек он долил водой, думая тем самым замести следы преступления; по таким сложным и неуклюжим уловкам легко узнают преступников-новичков. Короче говоря, Грелу содержится в настоящее время в доме предварительного заключения в Риоме и должен предстать там перед судом присяжных в февральскую сессию или в первых числах марта по обвинению в отравлении мадемуазель де Жюсса-Рандон. Обвинение, тяготеющее над ним, усугубилось в результате его поведения после ареста. Когда были разоблачены все его измышления, он решил молчать и категорически отказывается отвечать на вопросы, заявляя, что он ни в чем не по винен и что ему не в чем оправдываться. Он даже отказался выбрать защитника и находится теперь в таком мрачном состоянии духа, что это дает повод подозревать о муках раскаянья. Подсудимый много читает и пишет. Однако тут есть очень странная деталь, которая доказывает, на какое притворство способен этот двадцатилетний юноша! Он читает и пишет толь ко на философские темы. Это делается, без сомнения, для того, чтобы доказать полную независимость ума и сгладить неприятное впечатление, которое производит на окружающих его мрачное настроение. Свой долгий рассказ я должен закончить заявлением, что характер занятий обвиняемого как раз и объясняет, почему его мать требует вашего вызова в качестве свидетеля. Она восстает против очевидности, что вполне понятно, и умирает от горя, но ей не удается сломить упорство сына и убедить его заговорить.
Ваши книги да сочинения некоторых английских психологов — вот все, что заключенный просил доставить ему. Добавлю к этому, что на полках его библиотеки были обнаружены все ваши труды и в таком состоянии, которое доказывает самое внимательное их изучение. Между страницами вклеены листы писчей бумаги, на которых он писал свои комментарии, иногда даже более обширные, чем самый текст. Вот извольте посмотреть…
Не переставая рассказывать, Валетт протянул философу экземпляр его «Психологии веры», и ученый машинально раскрыл книгу. Он убедился, что действительно каждой печатной странице соответствует лист бумаги, исписанный почерком, несколько похожим на его собственный, но более путаным и нервным.
По тому, как строки опускались к правому краю страницы, графолог угадал бы у писавшего склонность к неожиданным припадкам уныния. Ученый впервые обратил внимание на сходство своего почерка с почерком Грелу, и это обстоятельство произвело на него тягостное впечатление. Он закрыл книгу и, протянув ее следователю, сказал: — Я с большим прискорбней выслушал то, что вы рассказали об этом несчастном молодом человеке. Но, признаюсь, никак не могу понять, что за связь может существовать между этим преступлением и моими книгами или моей особой и какого рода свидетельские показания могут потребоваться от меня на суде? — А между тем это очень просто, — возразил следователь. — Как бы ни были ужасны обвинения, которые тяготеют над Робером Грелу, они все-таки основаны лишь на предположениях. Против него существуют веские презумпции, но полной уверенности нет ни в чем. Вы сами отлично понимаете, сударь, что при таких обстоятельствах во время судебных прений больше всего внимания обратит на себя психологическая сторона дела, — если говорить языком науки, блестящим представителем которой вы являетесь. Каковы идеи обвиняемого, каков его характер? Вполне понятно, что если он с особым рвением предавался изучению абстрактных вопросов, то данных для его обвинения будет меньше…
Произнеся эту фразу, в которой ученый не заметил западни, Валетт напустил на себя еще большее равнодушие. Он не добавил, что один из аргументов обвинения, выдвинутого старым маркизом де Жюсса-Рандон, заключается именно в том, что Робер Грелу был развращен чтением. Поэтому следователь постарался заставить Сикста охарактеризовать те принципы, которыми был проникнут Робер Грелу.
— Спрашивайте, — ответил ученый.
— Разрешите начать по порядку, — сказал следователь. — При каких обстоятельствах и когда имен но вы познакомились с Робером Грелу?
— Два года тому назад, — последовал — ответ, — в связи с его работой, совершенно научного характера, а именно по вопросу о человеческой личности. Грелу представил мне тогда эту работу на рассмотрение,
— И часто вы с ним встречались?
— Всего два раза.
— Какое впечатление он произвел на вас?
— По-моему, это молодой человек, наделенный исключительными способностями в области психологических исследований, — ответил ученый, взвешивая каждое свое слово.
Следователь не мог не почувствовать в интонации его голоса желание говорить только правду.
— Это настолько одаренный человек, что меня почти ужаснуло его раннее развитие, — продолжал г-н Сикст.
— Рассказывал он вам что-нибудь о своей личной жизни? — Очень мало. Сообщил только, что он живет вместе с матерью и что намерен стать преподавателем и одновременно работать над рядом задуманных им книг.
— Верно, — подтвердил следователь, — об этом говорится в одном из параграфов его программы жизненного поведения. Ее нашли среди уцелевших бумаг.
Надо вам сказать, что за время между первым допросом и арестом Грелу уничтожил большую часть своих рукописей. И, само собою разумеется, это тоже служит уликой для обвинения. А не могли бы вы дать нам некоторые разъяснения по поводу одной фразы в этой жизненной программе? Для людей, не посвященных в вопросы современной философии, это довольно темная формула… Вот эта фраза.
Взяв один из листков, следователь прочел: «Умножать по мере возможности психологические эксперименты». Что, по-вашему, хотел этим сказать Грелу? Помолчав, Сикст ответил:
— Затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Но следователь уже начал понимать, что хитрить с таким простодушным человеком бесполезно, и ему стало ясно, что пауза ученого объяснялась не чем иным, как только желанием подыскать наиболее точное выражение для своей мысли.
— Я могу лишь пояснить смысл, какой я сам бы приписал этой формуле, — продолжал философ, — и, вероятно, молодой/человек достаточно начитан в области психологии, чтобы не думать по-другому… Общепризнано, что в прочих опытных науках, например в физике или химии, проверка какого-нибудь закона требует положительного и вполне конкретного применения этого закона. Например, разложив воду на ее составные части, для проверки надо, при всех прочих одинаковых условиях, восстановить ее т этих же самых элементов. Это один из простейших опытов, но его вполне достаточно, чтобы охарактеризовать методы современной науки. Знать о чем-либо в опытном порядке означает возможность по своему желанию воспроизводить тот или иной феномен, воспроизводя условия его возникновения… Возможен ли такой опыт в области моральных феноменов? Лично я считаю, что возможен, и в конечном счете все то, что мы называем воспитанием, является не чем иным, как своего рода психологическим опытом. Предположим, что мы имеем дело с каким-нибудь феноменом. Безразлично с каким. Пусть это будет кякая-нибудь добродетель — терпение, благоразумие, искренность или, скажем, какая-нибудь умственная способность, например способность к мертвым или живым языкам, к орфографии, к счету, — воспитание заключается именно в том, чтобы найти для этих феноменов такие условия, в которых они развивались бы с наибольшим успехом. Но сфера таких опытов довольно ограниченна. И если бы мне, например, захотелось, заранее зная все точные условия возникновения той или иной страсти, по своему желанию возбудить это чувство в другом существе, то я наткнулся бы на непреодолимые препятствия со стороны уголовного кодекса и правил нравственности. Возможно, что придет время, когда подобные опыты станут вполне доступными. Я лично придерживаюсь того мнения, что в настоящее время мы, психологи, не располагаем другими возможностями, кроме возможности пользоваться опытами, которые нам предоставляет природа или случай. Ведь в нашем распоряжении только мир фактов- мемуары, произведения литературы и искусства, данные статистики, протоколы судебных процессов, материалы судебной медицины и так далее. Припоминаю, что Робер Грелу действительно как-то обсуждал со мной желательность опытов в нашей науке. Он выражал сожаление, что приговоренных к смертной казни нельзя помещать в такие условия которые позволили бы производить над ними некоторые эксперименты психологического характера. Это было, впрочем, лишь гипотезой еще очень юного ума, который не дает себе отчета в том, что для полезной работы в области этих идей необходимо, изучать каждый отдельный случай весьма длительное время…
После паузы философ добавил, высказывая уже свои личные воззрения: — Лучше всего производить подобные опыты на детях. Но попробуйте заикнуться, что было бы очень полезно для науки систематически прививать им некоторые недостатки или пороки…
— Пороки?! — переспросил следователь, ошеломленный спокойствием, с каким философ произнес эту чудовищную фразу.
— Я ведь говорю только как психолог, — ответил ученый; улыбнувшись на возглас следователя. — Вот потому-то у нашей науки и нет возможности развиваться в полной мере. Ваше восклицание служит красноречивым доказательством такого положения, если тут вообще требуются какие-либо доказательства.
Обществу трудно обойтись без теории добра и зла, но для нас, психологов, она означает не более, чем совокупность известных условностей, иногда полезных, а порой совершенно вздорных.
— Однако вы все-таки допускаете, что существуют поступки хорошие и дурные, — заметил следователь.
Но здесь в нем снова взял верх представитель правосудия, и он тотчас же решил использовать разговор общего характера в интересах следствия. Не без ехидства он заметил вкрадчивым голосом: — Ведь вы же не будете оспаривать, что отравление мадемуазель де Жюсса является преступлением? — С общественной точки зрения в этом не может быть никакого сомнения, — поспешил согласиться Сикст, — но для философа не существует ни преступлений, ни добродетели. Наши волеизъявления — только факты известного порядка, управляемые вполне определенными законами, вот и все. — Тут у Сикста проявилось простодушное авторское тщеславие, ибо он добавил: — Доказательство этой теории, и притом, надеюсь, неоспоримое, вы найдете в моей «Анатомии воли».
— Касались ли вы этих вопросов в разговоре с Грелу? — поинтересовался следователь. — И полагаете ли вы, что он разделяет вашу точку зрения? — Вполне возможно.
— Но известно ли вам, — вдруг открыл свои карты чиновник, — что вы сейчас почти в полной мере подтвердили обвинение маркиза де Жюсса, который считает, что именно доктрины современных материалистов и разрушили моральные устои молодого Грелу и тем самым толкнули его на преступление? — Мне совершенно неизвестно, что такое материя, — ответил Сикст, — и я ни в какой степени не являюсь материалистом. Что же касается того, чтобы вменять научной доктрине ответственность за ее абсурдное истолкование каким-нибудь человеком с неуравновешенной психикой, то это почти то же самое, что обвинять химика, который открыл динамит, в покушениях, совершенных при посредстве этого взрывчатого вещества. Подобного рода выводы я считаю абсолютно неприемлемыми.
Тон, каким были произнесены эти слова, свидетельствовал о непобедимой силе, которую дает чело веку глубокая вера в определенные принципы. Зато почти детский страх перед хлопотами повседневной жизни обнаружился в интонации, с какой философ тут же спросил следователя: — Значит, вы считаете, что мне придется ехать в Риом для дачи показаний? — Не думаю, — ответил следователь, пораженный контрастом между твердостью мыслителя, сказавшейся в первой части разговора, и озабоченностью, с какой он произнес последнюю фразу. — Я убедился, что ваши отношения с обвиняемым были более случайными, чем даже это считает его мать, — если они действительно ограничились этими двумя встречами и перепиской, носившей исключительно научный " характер. Но разрешите вернуться к интересующему меня вопросу.
Скажите, пожалуйста: вам никогда не приходилось слышать от Грелу каких-нибудь подробностей о жизни в замке? — Никогда. Вдобавок, почти сразу же после того как Грелу поступил туда воспитателем, он перестал мне писать.
— А не было ли в его последних письмах каких-либо намеков на новые устремления, какого-нибудь беспокойства, жажды новых ощущений? Ничего подобного я не заметил, — ответил философ.
— Ну что ж, — вздохнул следователь после некоторого молчания, которым он воспользовался, чтобы еще раз присмотреться к своему странному собеседнику, — тогда не смею вас больше задерживать. Ваше время слишком дорого. Разрешите мне только сделать для секретаря резюме ваших ответов. Бедняга не привык к допросам, связанным с такими высокими материями… Затем я попрошу вас подписать показания…
Пока чиновник диктовал письмоводителю, то, что, ПО его мнению, могло заинтересовать следствие в ответах ученого, этот последний, потрясенный открытием относительно преступления Робера Грелу и разговором со следователем, молча слушал, не делая никаких замечаний, почти ничего не соображая, — до такой степени необычность события, в котором он оказался косвенно замешанным, парализовала его умственные способности. Даже не взглянув на лист бумаги, ученый подписал показания, которые г-н Валетт предварительно прочел ему вслух. Прежде чем покинуть кабинет следователя, он еще раз спросил: — Итак, я могу быть совершенно уверенным, что мне не придется ехать туда? — Думаю, что не придется, — успокоил его следователь, провожая до дверей. Однако, испытывая тайное удовольствие при виде детского страха, отразившегося на лице философа, он добавил: — А если и придется, то не больше чем на день или на два.
Когда Сикст вышел, Валетт сказал письмоводителю: — Ему место в доме для умалишенных! Секретарь в знак согласия кивнул головой.
— Именно такие идеи, какие проповедует этот духовный анархист, и губят молодежь. Он тем опаснее, что вид у него совершенно простодушный. Пожалуй, было бы лучше, если бы он был явным негодяем. Понимаете, ведь подобными парадоксами он поможет от тяпать голову своему ученику. Но это, кажется, ему совершенно безразлично. Больше всего на свете его, видите ли, волнует вопрос: придется ему ехать в Риом или нет? Вот маньяк! И они, пожав плечами, расхохотались. Потом следователь, анализируя впечатление, оставшееся у не го от этого загадочного существа, прибавил: — Вот уж никак не думал, что прославленный» Адриен Сикст такое ископаемое!.. Просто непостижимо!
III. ГОРЕ ПРОСТОЙ ЖЕНЩИНЫ
Характеристика, какою следователь наградил философа за его безучастность, была бы еще более резкой, если бы служитель правосудия мог последовать за ним и читать в его мыслях в течение того непродолжительного времени, что отделяло допрос ученого от свидания его с несчастной матерью Робера Грелу.
Очутившись на широком дворе окружного суда, человек, которого г-н Валетт только что. назвал маньяком, прежде всего бросил взгляд на часы, как это и надлежало сделать такому пунктуальному труженику науки. «Четверть третьего, — соображал Адриен Сикст. — Раньше трех я дома не буду. Госпожа Грелу должна прийти в четыре… Гм…
Теперь уж нет никакой возможности сесть за работу… Досадно!..»Ион тут же решил воспользоваться этим, временем для- обычной прогулки, тем более что вдоль реки отсюда было очень удобно пройти к Ботаническому саду, через, остров Ситэ, старомодный облик и провинциальная тишина которого были ему по душе. Небо было голубое, — того голубого оттенка, какой оно принимает в прохладные Дни, и слегка фиолетовое у края горизонта. Под мостами струились зеленые воды Сены, на реке царило веселое оживление, плыли груженые шаланды, над которыми вились дымки из. труб деревянных домиков с окошками, украшенными незатейливыми цветами. На берегу по сухому булыжнику бодрой рысцой бежали лошади. Хотя философ и отметил все эти подробности, пока он, словно сельский житель, напуганный экипажами, пробирался к тротуару набережной, впечатления его были еще более бессознательными, чем обычно. Он продолжал думать о потрясающем сообщении следователя. Однако голова философа представляет собою столь своеобразную машину, что события не производят в ней непосредственных и обычных впечатлений, как это бывает у простых смертных. Этот человек состоял из трех отдельных индивидуумов, как бы вложенных один в другой. Прежде всего в нем жил простодушный старый холостяк, находящийся в плену заботливой экономки и больше всего на свете дорожащий своим житейским спокойствием. Затем в нем гнездился философ-полемист, писатель и, если уж на то пошло, — писатель с болезненным самолюбием, свойственным всякому автору. Был в нем, наконец, и замечательный психолог, страстно увлекающийся проблемами внутренней жизни человека. И для того чтобы какая-нибудь мысль вполне подействовала на него, было необходимо, чтобы она; прошла через все эти три сознания.
На пути от окружного суда к набережной Сены в нем рассуждал буржуа. «Да, — думал Сикст, повторяя выражение, которое вырвалось у него при взгляде на часы, — это действительно неприятно. День пропал зря. И ради чего? Извольте понять, какое отношение имеет ко мне эта уголовная история и что в конце концов могут дать мои показания для судебного расследования?..» Ему и в голову не приходило, Что в руках ловкого прокурора его теории преступления и ответственности могли легко превратиться в угасающее орудие против Грелу. «С какой стати они меня беспокоят? — рассуждал он про себя. — Эти господа и не представляют себе, что такое время ученого.
Какой остолоп следователь, какие он мне задавал дурацкие вопросы! Но только бы не пришлось ехать в Риом и выступать там перед другими такими же дураками!» В его воображении снова возникли несносные картины, связанные с поездкой, картины ненавистной сутолоки, какою представляется для кабинетного ученого всякое нарушение обычного порядка жизни; его приводила в замешательство необходимость совершить любое действие, и малейшее физическое усилие превращалось в истинное бедствие. Такие детские треволнения испытывают все великие люди. Философу в мгновенном припадке ребяческого страха уже представился широко раскрытый чемодан, уложенное в него белье и лежащие вместе с рубашками записки, необходимые для текущей работы; он уже представил самого себя едущим на извозчике, суматоху на вокзале, вагон и грубую фамильярность соседей, а потом прибытие в незнакомый город, бедственное положение в гостиничном номере без услуг со стороны мадемуазель Трапенар, которые стали ему необходимы, как малому ребенку, хотя он и не замечал их.
Этот мыслитель, столь героически независимый в своих суждениях, что в другую эпоху не поколебался бы, как второй Бруно или Ванини, взойти на мученический костер во имя своих убеждений, перед перспективой этих незначительных хлопот был охвачен чем-то вроде животного страха. Он уже видел, как его вводят в зал судебных заседаний и вынуждают отвечать на вопросы председателя в присутствии любопытной.
толпы, причем он лишен какой-либо идеи, которая помогла бы ему преодолеть природную робость, то есть лишен того, что для всякого отвлеченного мыслителя является единственным источником энергии. «Нет, теперь я не намерен принимать никаких молодых людей, — решил он, растревоженный этими картинами. — Довольно с меня! Отныне дверь моя для них закрыта! Впрочем, не будем предвосхищать событий…
Ведь возможно, что мне и не придется все это вынести и, может быть, они оставят меня в покое». ч «Оставят в покое?» Теперь в этом- внутреннем монологе домосед-буржуа уступал место второму из трех персонажей, таившихся в философе, а именно автору трудов, вызвавших у читающей публики такие споры. «Оставят в покое! Да, может быть, и оставят в покое меня, человека, который занят своим делом, живет на улице Ги де ля Бросс и которого очень раздосадовала бы поездка в Овернь, ни с того ни с сего, зимой, да еще по такому нелепому поводу. Но оставят ли в покое мои книги и идеи? Какая все-таки странная вещь эта инстинктивная ненависть невежд к научным системам, которых они даже не в состоянии понять! Молодой человек убивает девицу, чтобы она не вышла замуж за другого. Этот юноша состоял в переписке с философом, книги которого он изучал.
Следовательно, виноват философ! И, в довершение всего; меня еще делают материалистом! Меня, доказавшего, что материи не существует!» Философ пожал плечами. Но вдруг новый образ возник в его представлении — Мариюс Дюмулен, молодой ассистент из Коллеж де Франс, которого он ненавидел больше всего на свете. Одновременно он увидел перед собой — так, словно бы эти строки уже были напечатаны в каком-нибудь благонамеренном журнале, — некоторые выражения, близкие сердцу этого присяжного сторонника спиритуалистической философии: «Гибельные доктрины… Умственный яд, источаемый перьями писак, о которых хотелось бы думать, что они не ведают, что творят… Позорная проповедь рекламной и насквозь прогнившей психологии…» «Да, — с горечью подумал Адриен Сикст, — если этот тип не воспользуется тем, что судьба сделала одного из моих учеников убийцей, он не будет самим собой… Ну конечно во всем виновата психология!» Тут следует заметить, что Мариюс Дюмулен был тем самым критиком, который при выходе в свет «Анатомии воли» указал на весьма досадную ошибку, имевшуюся в этой книге. Дело в том, что Адриен Сикст основывал одно из своих самых остроумных положений на открытии некоего немецкого ученого, которое он принял за чистую монету, в то время как потом выяснилось, что это открытие по меньшей мере сомнительно. В своей статье Дюмулен подчеркнул этот промах великого аналитика с иронической и малопочтительной резкостью. Как бы то ни было, автор «Анатомии воли», обычно, не считавший нужным отвечать на критические статьи, на этот раз решил ответить. Признавая, что он стал жертвой излишней доверчивости, он без большого труда доказал, что эта частная подробность не имеет особого значения для его концепции в целом. Все же он навеки затаил обиду на спиритуалиста, и тем более жгучую, что мог отнести ее за счет своего презрения к этому малопочтенному человеку, скомпрометировавшему искренность Своих убеждений самым низкопробным стремлением к академическим почестям и теплым местечкам. «Я как бы слышу его, — сокрушался философ. — Но то, что он может сказать о, моих книгах, это еще полбеды. А вот психология! Психология! Ведь это наука, от которой зависит будущее нашей страны…» Как видит читатель, философ, подобно многим другим создателям научных систем, дошел до того, что свою доктрину стал считать центром мира. Он рассуждал приблизительно так: если мы возьмем какой-нибудь исторический факт, то что является его основной причиной? Общее состояние умов. Это состояние умов в свою очередь есть плод господствующих в данное время идей. Например, французская революция целиком вытекает из ложной концепции о человеке, источник которой — в картезианской философии. Отсюда Сикст делал- вывод, что для того чтобы изменить ход исторических событий, необходимо прежде всего отказаться от нашего представления о человеческой душе и заменить его точными научными данными, а это должно привести к новым основам воспитания и новой политике. Самое любопытное заключается в том, что такие теории превратили этого атеиста в не менее пламенного сторонника монархии, чем какой-нибудь Бональд или Жозеф де Местр. По этому, возмущаясь против Дюмулена, он был совершенно искренне убежден, что это возмущение вызвано препятствием, лежащим на пути к общественному благу. Философ пережил немало неприятных минут, представляя себе, что его ненавистный противник может использовать газетные сообщения о смерти Шарлотты де Жюсса в качестве коварной вылазки против современной науки о мышлении. «Неужели снова отвечать ему?» — спрашивал себя Сикст, уже не сомневавшийся в грядущей атаке противника.
«Да, — сказал он сам себе вслух, — я отвечу, и отвечу так, что ему не поздоровится».
Сикст уже дошел до Собора Парижской богоматери и тут остановился, чтобы полюбоваться этим замечательным памятником зодчества. Древний собор всегда олицетворял для него туманный характер — немецкой души, которому он мысленно противопоставлял ясность эллинского духа, воплощенного в Парфеноне. Фото графию античного храма он некогда часами рассматривал в нансийской библиотеке. Такова была его манера воспринимать искусство. Внезапное воспоминание о Германии изменило ход его мыслей. Неволь но он подумал о Гегеле, об учении о тождестве противоречий, потом о теории эволюции, родившейся из этого учения. Теория эволюции слилась в его рассуждениях с вопросами, которые только что волновали его, и, снова зашагав вдоль набережной, он уже стал подыскивать аргументы против предполагаемого выступления Дюмулена в связи с делом Грелу. Впервые после разговора со следователем драма, разыгравшаяся в замке Жюсса-Рандон, представилась ему реальным событием, так кат? теперь он подошел к ней реальной стороной своей природы, вооружившись всеми своими способностями психолога. Он уже забыл о Дюмулене и о возможных неприятностях, связанных с поездкой в Риом, и был теперь всецело занят моральной проблемой, которую ставило перед ним это преступление. А. между тем ему следовало бы задать себе такой вопрос: действительно ли Робер Грелу убил мадемуазель де Жюсса? Но философ даже не останавливался на этом; он находился во власти обычной ошибки мыслителей, которые, сами того не сознавая, лишь кое-как проверяют данные, служащие им для умозаключений. Факты для них — лишь материал для теоретических построений, и они охотно видоизменяют этот материал, чтобы было проще строить философские положения. Наш философ тоже с увлечением подхватил формулу, которой удобно ч было объяснить всю драму. «Молодой человек в порыве ревности убил предмет своей страсти… Вот еще одно блестящее доказательство моей теории, что инстинкт разрушения просыпается у самца одновременно с половым инстинктом…» Именно основываясь на этом положении, Адриен Сикст и написал в своей «Теории страстей» смелую главу об аберрациях полового чувства. «Чтобы объяснить этот факт, достаточно проследить атавистическое проявление у цивилизованного человека жестокого животного инстинкта… Хорошо было бы также изучить наследственность убийцы…» Сикст силился представить себе образ Робера Грелу, но ему удавалось восстановить в памяти только те черты, которые как бы подтверждали сложившуюся у него гипотезу. «Гм…
Эти слишком блестящие глаза, слишком порывистые движения, решительность, с какою он обратился ко мне, и, наконец, его чересчур возбужденная речь…
Безусловно у этого юноши наблюдается что-то похожее на нервное расстройство. Отец его умер молодым? Вот было бы замечательно, если бы удалось установить, что в его роду есть алкоголики. Будь оно так, этот случай представлял бы собою то, что Легран дю Соль называет скрытой формой эпилепсии. Тогда возможно было бы объяснить и молчание юноши, тогда его запирательство может быть и непредумышленным. В этом ведь и заключается, по мнению дю Соля, различие между эпилептиком и умалишенным. Последний помнит о совершенных им действиях, эпилептик их забывает… Неужели мы имеем дело со скрытой формой эпилепсии?..» Дойдя до этого места своих рассуждений, философ на мгновение даже испытал подлинное удовольствие. По привычке, свойственной людям этой породы, он построил теорию, которую принял за объяснение факта.
Он рассматривал эту теорию со всех сторон, припоминал различные примеры, приведенные автором замечательного трактата по судебной медицине, и в конце концов так увлекся своими умозаключениями, что даже не заметил, как очутился у Ботанического сада со стороны набережной Сен-Бернар. Он свернул влево и пошел по аллее старых деревьев, искрив ленные стволы которых были опоясаны железными обручами и кое-где залиты цементом. В посвежевшем воздухе носился кисловатый запах, исходивший от диких зверей, которые кружились недалеко отсюда в железных клетках. Этот запах отвлек ученого от "его мыслей, и он стал смотреть на старого черного вепря с огромной головой, стоявшего на тонких ногах и высовывавшего из клетки подвижную и хищную морду со страшными клыками.
«И подумать только, — размышлял ученый, — что мы знаем о себе не больше, чем знает о себе это животное! А то, что мы называем своей личностью, представляет собою таксе смутное, такое темное со знание того, что в нас происходит!» Потом, возвращаясь к Роберу Грелу, он подумал: «Этот молодой человек был занят вопросом о множественности человеческого «я». Кто знает, может быть, у него тоже было смутное ощущение, что в. нем заключено два совершенно различных сознания, — как бы первичное и вторичное состояние, а в конце концов — два разных существа, одно ясное, разумное, добропорядочное, влюбленное в научную работу, — то, которое я знал; и другое — сумрачное, жестокое, импульсивное, то самое, которое и совершило преступление?.. Да, чрезвычайно интересный случай! Какое счастье, что мне пришлось столкнуться с ним…» Философ уже забыл, что, выходя из окружного суда, он сожалел о своем знакомстве с риомским преступником. «Мне на редкость повезло, что представляется возможность изучить характер его матери. Она поможет мне добыть точные данные и о наследственности обвиняемого… Этого-то как раз и не хватает нашей психологии: хороших монографий об умственной конституции великих людей и преступников, которых автор наблюдал бы собственными глазами. Со временем надо будет написать такую монографию».
Всякая искренняя страсть эгоистична, — это сказывается и на людях умственного труда. Поэтому философ, который за всю свою жизнь, как говорится, и мухи не обидел, шел теперь бодрым шагом, направляясь к воротам сада, что выходят на улицу Кювье.
Отсюда он пошел по улице Жюссье, затем свернул на свою улицу, предвкушая встречу с матерью Грелу, женщиной, находящейся в полном отчаяньем желающей повидаться с ним только для того, чтобы мо лить его о спасении сына, быть может и в самом деле неповинного в этом преступлении! Но мысль о том, что обвиняемый, возможно, невиновен, мысль о несчастной матери и о том, какую роль придется ему играть в предстоящем свидании, — все это меркло теперь перед надеждой, что. он получит возможность сделать интересное наблюдение, обогатить свои научные материалы редким фактом. Пробило четыре часа, когда мыслитель, столько же подозревавший о своей жестокости, как какой-нибудь врач, приходящий в восторг от интересной и редкой операции, очутился у подъезда своего дома. В эту минуту там Стояли дядюшка Карбоне и рассыльный, обычно стоявший на перекрестке. Повернувшись спиной к Адриену Сиксту, они с любопытством наблюдали, как на противоположном тротуаре какой-то пьянчужка шатается из стороны в сторону, и, смеясь, обменивались замечаниями, какие обычно вызывает у простых людей подобное зрелище. Около их ног вертелся Фердинанд, бурый петух с отливающими блеском перьями, и что-то клевал на мостовой.
— Ну, тут наверняка можно сказать, что малый хватил лишнего, — острил рассыльный.
— А я вам скажу, что он потому в таком состоянии, что недопил, — возразил Карбоне. — Выпей он чуточку побольше, так лежал бы он сейчас тихонько в погребке… И не пришлось бы ему выделывать это…
как говорится: «Тихо я бреду, неловко я бегу» — да цепляться за стенки. Здорово! Теперь на даму налетел! Собеседники, не заметившие появления ученого, загораживали ему вход в дом. По своей обычной, несколько жеманной деликатности философ некоторое время не решался их обеспокоить. Машинально и он стал следить за пьяным. Это был какой-то бродяга, в обносках с чужого плеча; на голове у него красовался цилиндр, побывавший под бесчисленными дождями, а на ногах болтались дырявые башмаки. Он действительно наткнулся на незнакомую даму в глубоком трауре, которая стояла на углу улицы Ги де ля Бросс и улицы Линнея. Она, видимо, поджидала кого-то, и поджидала с таким волнением, что даже сразу не обратила внимания на толчок. Но человек в лохмотьях, с навязчивостью пьяного, стал рассыпаться перед нею в извинениях. Она в конце концов заметила его и отшатнулась с отвращением. Это обозлило пьяницу; опираясь о стену, он бросил женщине несколько оскорбительных слов. Вокруг них уже собралась кучка детей, игравших тут же на улице. Рассыльный и Карбоне от души потешались.
Потом привратник стал искать петуха: «Куда он пропал, греховодник?» — и, обернувшись, заметил г-на Сикста, за которым и оказался Фердинанд, — ученый тоже следил за стеной, происходившей на противоположном тротуаре.
— Ах, это вы, господин Сикст! — спохватился привратник. — Эта дама в черном уже два раза спрашивала про вас за какие-нибудь четверть часа…
Она сказала, что вы ждете ее…
— Позовите ее, пожалуйста, — построгал Сикст и подумал: «Значит, это и есть мать». Первым движением ученого было поскорее подняться к себе. Но его удержало нечто вроде робости, и он остановился на пороге дома, а тем временем привратник в высоком картузе и кожаном переднике побежал в сопровождении петуха, который во всю прыть спешил за хозяином, к группе людей, столпившихся на углу. Даже не дослушав приглашения, дама направилась к дому философа, предоставив привратнику увещевать пьяного. Философ, машинально продолжая развивать мысли, занимавшие его во время прогулки, не замедлил обратить внимание на поразительное сходство между таинственной посетительницей и молодым человеком, по поводу которого он только что подвергался допросу. У нее были такие же блестящие глаза, такое же необычайно бледное продолговатое лицо.
Теперь у него уже не оставалось никакого сомнения, и немедленно же неумолимый психолог, которого интересовал только случай, достойный изучения, уступил место неловкому человеку, не приспособленному для практической жизни, не знавшему, куда девать свои длинные руки, и мучительно стеснявшемуся, когда надо было произнести первую фразу в разговоре. Но г-жа Грелу — это была действительно она — сама обратилась к нему: — Я та, что писала вам вчера…
— Весьма польщен, сударыня, — пробормотал Сикст. — Очень сожалею, что вы не застали меня раньше… Но вы писали, что зайдете в четыре часа.
Кроме того, я прямо от судебного следователя, которому давал показание о вашем несчастном сыне…
— Ах, если бы вы знали… — сказала она, касаясь рукава философа, чтобы остановить его, и показывая глазами на рассыльного, который стоял рядом и прислушивался.
— Прошу прощенья, — смутился ученый, поняв неуместность своей рассеянности. — Разрешите мне подняться первому и показать вам дорогу.
Он поспешил войти в подъезд, чтобы скрыть краску смущения, залившую, как он чувствовал, его лицо, и стал подниматься по лестнице, которая в этот час, зимой, была уже в полумраке. Он старался подниматься медленно, считаясь с состоянием своей спутницы, которая цеплялась за перила с таким видом, точно у нее не хватало сил взойти на пятый этаж, Слабость несчастной женщины выдавало ее отрывистое дыхание, явственно слышное среди глубокой тишины респектабельного дома. И хотя философ был малочувствителен к впечатлениям внешнего мира, все таки его охватила смутная жалость, когда в кабинете, уже с закрытыми ставнями и мягко освещенном лампой, которую зажгла Мариетта, он посмотрел в лицо своей гостье. Морщины в уголках рта и по сторонам носа, сухие, лихорадочно запекшиеся губы, сдвинутые брови, потемневшие веки, руки в черных перчатках, нервно теребившие какие-то бумаги, свернутые в трубку, вероятно какие-нибудь оправдательные документы, — все эти подробности говорили о муках, причиняемых одной, неотступной мыслью. Едва сев, или, вернее, упав, в кресло, она произнесла прерывающимся голосом: — Боже мой, боже мой! Значит, я опоздала…
Ведь мне нужно было переговорить с вами еще до вашей встречи со следователем… Но ведь вы выступили в защиту моего мальчика, не правда ли?.. Вы сказа ли, что этого быть не может, что он не мог совершить того, в чем его обвиняют?.. Ведь вы-то сами не считаете его виновным? Вы, кого он называл своим учителем и так уважал…
— У меня не было повода выступить в его защиту, сударыня, — ответил философ. — Меня только спросили, в каких я был с ним отношениях, и так как я видел его лишь два раза и он говорил со мной толь ко о своих ученых работах…
— Ах, — перебила его г-жа Грелу с глубокой тоской в голосе и повторила: — Значит, я опоздала. Но нет… — Молитвенно сложив задрожавшие руки, она настаивала: — Вы ведь будете на суде, господин Сикст, вы скажете им всем, что мой сын не может быть преступником, что этого не может быть. Люди не де лаются убийцами за один день. Преступником делаются еще с детства… Все это — дурные люди, игроки, завсегдатаи кабаков… А он, сударь, еще ребенком всегда сидел за книгой, как и его отец… Я сама ему говорила: «Что же это такое, Робер! Пойди погуляй! Необходимо подышать свежим воздухом, рассеяться немного…» И если бы вы только знали, какую тихую и скромную жизнь мы вели с ним вдвоем, пока он не вошел в эту проклятую семью! Это он сделал ради меня, чтобы не быть мне в тягость, чтобы продолжать образование… Ведь он мог бы уже через три-четыре года стать преподавателем, устроиться в каком-нибудь лицее, может быть в том же Клермон-Ферране… Я женила бы его. У меня была на примете хорошая партия…
Я осталась бы при них, жила бы где-нибудь в уголке и нянчила бы их детей. Ах, господин Сикст! — И она взглядом искала ответа в глазах философа, ждала, что он подтвердит то, к чему она так страстно стремилась… — Ну, скажите, — продолжала она, — возможное ли это дело, чтобы мальчик с такими благородными помыслами совершил то, в чем они его обвиняют? Это подло! Не правда ли, сударь, это подло? — Успокойтесь, сударыня, успокойтесь! Это были единственные слова, которые Сикст нашел, чтобы сказать матери, оплакивавшей перед ним гибель всех своих надежд. Но он все еще пребывал под свежим впечатлением разговора со следователем и считал, что бедная женщина, находясь во власти безрассудных иллюзий, заблуждается относительно истинного положения вещей, — и это повергало его в недоумение. Кроме того, говоря по правде, перспектива поездки в Риом пугала его в такой же степени, в какой трогало потрясающее материнское горе. Все эти разнообразные чувства выразились в какой-то неопределенности и жесткости его взгляда, что не ускользнуло от матери. Непомерные страдания обостряют интуицию.
Несчастная женщина вдруг поняла, что философ не верит в невиновность ее сына и с жестом изнеможения, как бы отшатнувшись в ужасе от ученого, она простонала: — Как, и вы?.. Вы заодно с его врагами?.. Вы?..
Вы?..
— Нет, сударыня, — мягко ответил Сикст, — я не враг вашему сыну. Я хотел бы верить в то, во что верите вы. Но позвольте мне говорить с вами с пол ной откровенностью. Факты остаются фактами. А они являются ужасным обвинением против несчастного юноши… Яд, приобретенный тайком, пузырек, — вы брошенный из окна, другой пузырек, опорожненный наполовину и потом долитый водой, посещение девушки в ночь ее смерти, ложная телеграмма, внезапный отъезд, сожженные письма, наконец запирательство…
— Но ведь во всем этом нет никаких доказательств вины, — перебила его г-жа Грелу. — Никаких! Внезапный отъезд? Но Робер уже целый месяц собирался бросить это место. У меня есть письма, в которых он сообщает об этом намеренье, да и, кроме того, все равно уже кончался срок его контракта. Он боялся, что его станут удерживать, а ему надоела жизнь воспитателя. Он вообще отличается робостью, поэтому он и выдумал эту злополучную телеграмму.
Вот и все… Яд? Но он купил его вовсе не тайком.
Он уже в течение нескольких лет страдает желудком, так как часто принимался за занятия сразу же после еды… Что он выходил. из комнаты убитой? Но кто его видел? Лакей? А если этого лакея под купил настоящий убийца, чтобы все свалить на моего сына? Ведь я же не знаю, какие романы были у этой девицы и в чьих интересах было убить ее. Выброшенная склянка и другая, наполовину опорожненная и долитая водой, сожженные письма?.. Но разве вы не видите, что за этим" скрывается определенное намерение очернить моего бедного сына? Каким образом? Почему? Все это раскроется в один прекрасный день, будьте уверены! Я знаю только одно: мой сын невиновен. И я клянусь в этом памятью его отца! Неужели вы думаете, что я защищала бы его так, как сейчас защищаю, если бы чувствовала, что. он преступник? Я умоляла бы о пощаде, рыдала бы, молилась бы, а теперь я взываю к справедливости! Нет, эти люди не имеют права обвинять его, держать его ни за что ни про что в тюрьме, позорить наше имя. Ведь я же вам доказала, что нет ни одной улики! — А если он не виновен, почему же он так упорно молчит? — сказал философ, подумав про себя, что бедная женщина решительно ничего ему не доказала, кроме своего отчаянного стремления оспаривать очевидность.
— Ах, если бы Робер был виновен, то, поверьте, он не молчал бы, — воскликнула г-жа Грелу, — он защищался бы, даже лгал бы. Нет, — прибавила она глухим голосом, — тут какая-то тайна! Ему известно что-то, я в этом уверена, но он не хочет этого сказать. Почему? Может быть, не хочет запятнать имя этой девушки. Ведь считают же все, что он любил ее. Ах, сударь! — г- сложила она руки. — Вот почему мне хотелось во что бы то ни стало увидеть вас, вот почему я на два дня оставила Риом. Ведь только вы можете повлиять на него, чтобы он заговорил, добиться, чтобы он защищался, чтобы он оправдался и сказал все, что нужно сказать. Вы должны обещать мне, что напишете ему и поедете туда! Вы должны это сделать: вы причинили мне такие страдания! — воскликнула она, и в голосе ее прозвучала суровая нотка.
— Я? — удивился Сикст.
— Да, вы, — ответила она горько, а выражение ее лица говорило о давно затаенных обидах. — Если он потерял веру в бога, то чья в этом вина? Ваша, сударь, и ваших книг… Боже мой! До чего я вас тогда ненавидела! Я как сейчас вижу его лицо, когда он заявил мне, что не будет причащаться в день всех святых, потому что его одолевают сомнения. «Не помянешь отца?»-спросила я.
Подумайте, в день поминовения родных! «Оставь меня, — сказал он. — Я больше не верую». Он сидел у себя за столом, в руках у него была книга, и он закрыл ее, разговаривая со мной. Но я успела машинально прочитать имя автора. Это было ваше имя, сударь! Я не спорила с ним в тот день. Ведь он уже стал ученым, а я простая женщина… Но на следующий день, пока он был в коллеже, я привела в его комнату аббата Мартеля, его воспитателя, чтобы показать ему библиотеку сына. Ведь у меня было предчувствие, что его погубили. «книги. Ваша книга еще лежала на столе. Аббат Мартель взял ее в руки и сказал: «Эта книга — одна из вреднейших!» Извините меня, если я обижаю вас, но, останься мой сын верующим, я теперь обратилась бы к его духовнику. А вы отняли у него веру, сударь! Я уже больше не упрекаю вас в этом и не сержусь на вас… Но то, что я попросила бы у священника, я прошу теперь у вас… Если бы вы только слышали, как он отзывался о вас, когда вернулся из Парижа! Он мне говорил: «Ты не можешь себе представить, мама, что это за. человек! Ты бы почитала его как святого».
Ах, обещайте же мне, что вы убедите его сказать обо всем! Он должен говорить, должен! Ради меня, ради своего отца, ради всех, кто его любит. Ради вас, сударь! Не можете же вы допустить, чтобы среди ваших учеников был убийца! Ведь он ваш ученик, а вы его учитель. Он обязан защищаться ради вас, как и ради меня, своей матери…
— Обещаю вам, сударыня, сделать все, что в моих силах, — сказал философ как-то особенно серьезно.
Уже второй раз в течение дня вставала перед ним проблема ответственности учителя за ученика. Впервые он столкнулся с нею в кабинете следователя, но тогда философ с презрением отверг безрассудные намеки. Теперь слова пожилой женщины, трепещущей от скорби, какой он никогда не встречал в своей одинокой жизни, затронули в его душе иные струны, чем гордость. Он ещё больше разволновался, когда г-жа Грелу порывисто взяла его руку и произнесла с необыкновенной мягкостью, как бы опровергавшей резкость только что сказанных слов: — Да, он мне, говорил, что вы добрый, очень добрый… Я еще и потому пришла к вам, — прибавила она, вытирая слезы, — что должна выполнить поручение моего мальчика. И вы увидите, что это новое доказательство его невиновности. В тюрьме, в течение двух месяцев, он написал большую работу по философии. Он говорит, что очень дорожит ею, что это его главный труд. Я обещала ему, что передам это вам. — Г-жа Грелу протянула ученому свернутую в трубку рукопись, которую она держала на коленях. — Я так это и получила. Ему там разрешают писать сколько угодно. Все его любят… Мне дают возможность говорить с ним в других местах, а не в отвратительном помещении для свиданий. Там всегда стоял тюремщик, мешал нам. А теперь я могу встречаться с ним в комнате для адвокатов… Но как можно его не любить, если узнаешь его поближе? Непременно прочтите эту рукопись! — настаивала она и прибавила взволнованным голосом: — Он никогда не лгал мне, и я верю, что все так и есть, как он сказал… Но, может быть, он решил вам сообщить в ней то, чего не хочет открыть, никому другому? — Я сейчас же просмотрю ее, — сказал Сикст, разворачивая сверток. Бросив взгляд на первую страницу рукописи, он прочитал следующие слова: "Современная психология". На второй странице значилось: «Записки о самом себе». Внизу были следующие строки: «Прошу моего дорогого учителя г-на Адриена Сикста, считать себя связанным честным словом в том отношении, что дальнейшее прочтет только он один. Если он почему-либо не пожелает взять на себя такое обязательство, прошу эту рукопись уничтожить. Я вполне доверяю ему и не сомневаюсь, что эти записки не будут никому переданы даже ради спасения моей жизни».
Молодой философ подписал это обращение только своими инициалами.
— Ну, что? — с волнением спросила г-жа Грелу, пока Сикст перелистывал рукопись.
. — Ну, что… — повторил философ, закрывая тетрадь и показывая взволнованной г-же Грелу только первую страницу. — Это работа по философии, как он вам и сказал. Вот, посмотрите…
С уст г-жи Грелу уже готов был сорваться вопрос, и что-то вроде недоверия мелькнуло в ее взгляде, пока она читала ученую формулу, недоступную для ее неискушенного ума. Она заметила, что г-н Сикст несколько смущен. Однако она не решилась спрашивать и поднялась со словами: — Извините, то я отняла у вас столько времени. Но ведь вы — моя последняя надежда, и вы не обманете бедную мать. Вы обещали.
— Все, что будет возможно сделать для выяснения истины, — я сделаю! — торжественно произнес ученый. — Еще раз обещаю вам это.
Проводив несчастную женщину, Сикст на долгое время погрузился в размышления. Наконец он взял рукопись, Переданную г-жой Грелу и стал читать и перечитывать фразу, написанную молодым человеком на второй странице. Потом, отбросив тетрадь искусительницу, зашагал из угла в. угол. Дважды он брал листы в руки и подходил к камину, однако в огонь он их не бросил. В его душе происходила борьба между непреодолимым любопытством, которое возбуждала в нем исповедь ученика, и всякого рода опасениями. Он предчувствовал: прочтя эти страницы и — взяв тем самым обязательство, с которым связано их прочтение, он мо>кет узнать что-нибудь такое, что поставит его в ужасное положение. Что, если в его руках окажется доказательство невиновности юноши, а он будет лишен права использовать его, или, чего ученый боялся еще больше, доказательство его вины? Не давая себе в этом ясного отчета, он в тайниках своей души трепетал при мысли, что может найти на страницах этих записок следы своего влияния и подтверждение сурового обвинения, уже дважды брошенного ему в лицо, что его книги терке имеют отношение к этой мрачной истории.
С другой стороны, бессознательный эгоизм человека науки, приходящего в ужас перед любыми хлопотами, внушал ему желание не вмешиваться в эту драму, не имевшую в конечном счете прямого к нему отношения. «Нет, — решил он, — не стану читать эту работу; я Только напишу юноше, как обещал его матери, вот и все». Пока он был занят такими размышлениями, наступил час обеда. Как всегда, он обедал в одиночестве, за небольшим круглым столом, покрытым клеенкой, сидя в углу, у фаянсовой печки, так как был очень зябким и теплая комната составляла его единственную роскошь. Та же лампа, при свете которой он работал освещала и скромные яства. Обед его в тот вечер, впрочем как и обычно, состоял из супа и овощей и горсти изюма на десерт.
Питьем служила простая вода. У него вошло в привычку брать во время обеда какую-нибудь книгу их тех, что стояли на полках, перенесенных в столовую, чтобы не загромождать кабинет; а иногда он, обедая, слушал мадемуазель Трапенар, которая делилась с ним мелочами "своей хозяйственной жизни. Но в тот вечер он не взял книгу, и экономка напрасно пыталась выведать у него, имеют ли какую-нибудь связь между собою вызов к следователю и визит дамы в трауре. За окном поднялся ветер, тот особенный зимний ветер, что жалобно воет в ставнях и потом уносится куда-то в черное пространство. После обеда, вместо того чтобы отправиться на обычную прогулку, ученый уселся в кресло и, держа перед собой рукопись Робера Грелу, долго слушал это завывание. Потом наука одержала верх над всеми сомнениями, и, когда немного позднее Мариетта доложила хозяину, что постель ему приготовлена, и хотела унести лампу, он велел ей ложиться спать. Уже пробило два часа, а он все еще читал странный психологический трактат, который Робер Грелу назвал записками о самом себе и более подходящим названием для которого было бы: «Исповедь молодого человека нашего времени».
IV. ИСПОВЕДЬ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Риомский дом предварительного заключения. — Январь 1887 года.
Эти заметки о самом себе, которые, несмотря на все уговоры матери, я отказался написать для адвоката, я пишу только для вас, дорогой учитель, хотя вы очень мало знаете меня как человека (да еще в такую пору моей жизни!). Но я все-таки пишу их для вас и по той же самой причине, какая побудила меня представить на ваше рассмотрение и первую мою работу. Между вами и мною, прославленным ученым и его учеником, обвиненным в гнуснейшем преступлении, установилась связь, которую посторонние не могут оценить в полной мере и о которой вы и сами не подозреваете, зато я ощущаю ее как самую тесную и нерасторжимую. Ведь наиболее значительную эпоху моей жизни я с такой страстью, с такой полнотой \жил вашими идеями! Вот и теперь, в тоске духовной агонии, я опять обращаюсь к вам как к единственному человеку, от которого я могу ждать помощи, которого могу просить о ней. Но не поймите меня ложно, глубокочтимый наставник, и поверьте, что страшные муки, испытываемые мною, вызваны вовсе не тем, что я нахожусь под следствием. Я не был бы достоин называться философом, если бы уже давно не научился рассматривать свою мысль как единственную реальность, с которой следует считаться, а внешний мир как равнодушную и роковую смену видимости. С семнадцатилетнего возраста я взял за правило повторять в часы малых и больших невзгод изречение героического Спинозы: «Сила, с коей человек упорствует, чтобы сохранить свое существование, ограничена, а сила внешних влияний бесконечно превосходит ее». Через полтора месяца меня приговорят к смерти за преступление, в котором я неповинен, но в котором не имею возможности оправдаться, — и, прочтя эти строки, вы поймете, почему я без содрогания взойду на эшафот. Я выдержу это испытание так же хладнокровно, как выслушал бы диагноз врача, который констатировал бы у меня сердечную болезнь в последней стадии. Когда меня приговорят к смерти, мне придется победить в себе только возмущение животного да выдержать удар, какой нанесет мне отчаянье матери. Но я нашел средство против таких испытаний в ваших книгах: — противопоставляя образу близкой смерти сознание неотвратимой необходимости и смягчая зрелище материнского горя представлением о точных психологических законах утешения, я достигну сравнительного спокойствия. Для этого достаточно некоторых ваших изречений; хотя бы, например, изречения из пятой главы второй книги «Анатомия воли», заученного мною наизусть: «Всеобщее переплетение феноменов имеет своим результатом тот факт, что каждый из них несет на себе тяжесть всех остальных, и таким образом каждая частица вселенной может рассматриваться в" каждый данный момент как краткая сводка всего того, что было, есть и будет. Именно в этом смысле позволено утверждать, что мир вечен как в частностях, так и в целом». Какая это замечательная мысль! И е какой убедительностью она утверждает и доказывает, что все в мире — вокруг и внутри нас — необходимо, поскольку мы тоже представляем собою частицу и мгновение в этом вечном бытии!.. Но, увы, почему эта мысль, такая ясная в свете моего разума, когда я трезво рассуждаю (как и полагается рассуждать философу и с которой я соглашаюсь всем своим существом, почему же эта мысль не может все-таки уничтожить во мне страдание, то невыразимое и переполняющее мое сердце страдание, что. возникает во мне, когда я вспоминаю о пережитой драме, о некоторых поступках, которые я совершил умышленно, и о других событиях, в которых принимал лишь косвенное участие? Чтобы резюмировать все это в немногих словах, я должен заявить вам дорогой учитель: я не убивал мадемуазель де Жюсса, но тем не менее я был непосредственным участником ее трагедии, и теперь меня мучат угрызения совести, хотя доктрина, которой я придерживаюсь, истина, которой я обладаю, и убеждения, составляющие самую сущность моего мировоззрения, говорят мне о том, что переживания такого рода — одна из самых вздорных иллюзий. И все-таки эти убеждения не в силах дать мне умиротворения, которое дается человеку, когда он уверен в чем-либо, как это было у меня раньше. Мое сердце сомневается в том, во что верит разум. Для Человека, еще в годы юности изнуренного интеллектуальными страстями, нет более горьких мук. Но к чему стараться передать вам словами мое умственное состояние? Мне хочется наглядно раскрыть его перед вами, великим исследователем душевных осложнений, чтобы получить от вас помощь, которая может быть для меня спасительной. Достаточно одного вашего слова, и оно объяснило бы мне все, что представляется мне необъяснимым, уверило бы меня, что я не чудовище, поддержало бы меня в сумятице моих убеждений, доказало бы мне, что я не ошибался в течение многих лет, приняв новую веру с пылом искреннего существа. Словом, дорогой учитель, я чувствую себя несчастным, и у меня огромная потребность рассказать о своем несчастье. И к кому же мне обратиться, как не к вам? Ведь у меня нет ни малейшей надежды быть понятым кем-либо другим, кроме вас, великий психолог, учеником которого я себя считаю. Скоро уже два месяца, как я нахожусь в тюрьме, и за все это время минута, когда я принял решение написать для вас эти записки, была единственной", в которую я вновь почувствовал себя таким, каким был до этих ужасных событий. Я пытался занять себя работой отвлеченного характера, однако ничего из этого не получилось. Следовательно, я ничего не потеряю, если буду писать для вас эти страницы, благо за мной не следят. Вот уже четыре дня, как я только и думаю об этом, и да вознаградит вас судьба за то, что сила мысли уже возвращается ко мне. Мне даже доставило некоторое удовлетворение, — вроде того, какое я испытывал прежде, когда писал свои первые опыты, — что я применяю для этого труда холодный и суровый метод работы — ваш метод. Вчера я набросал на бумаге план этой монографии о моем теперешнем «я», разделив ее на параграфы, как это обычно делаете вы в ваших книгах.
Я доказал самому себе силу своего мышления, восстанавливая мою жизнь с самого ее начала, как будто бы решая некую геометрическую задачу синтетическим путем. Теперь я вижу, что кризис, который я переживаю, обусловлен, во-первых, наследственностью, затем духовной средой, в какой я вырос, и, наконец, влиянием тех обстоятельств, с которыми я столкнулся в семье Жюсса-Рандон. Этот кризис и вопросы, которые он вызывает, будут предметом заключительной части моего исследования.
Я очищу его от несущественных воспоминаний и сведу все к тому, что один из крупнейших ученых нашего времени называет созидающими идеями. Таким образом, я по крайней мере снабжу вас точной документацией о человеческих чувствах, которые некогда я считал драгоценными и редкими. Своим доверием к вашей" абсолютной порядочности и своей просьбой о философской поддержке я вдвойне доказываю вам, как много вы значили для автора этих строк. Прошу извинить меня за столь длинное предисловие и немедленно приступаю к анатомированию собственной души.
Я надеюсь, что, закончив эти записки, мне удастся передать их вам.
$ 1. — Моя наследственность.
Насколько я могу заглянуть в свое далекое прошлое, я констатирую, что главным свойством, проявлявшимся во всех серьезных и незначительных кризисах моей жизни, проявляющимся и в настоящее время, была способность — другими словами, возможность и потребность — раздвоения. Всегда я ощущал в себе два существа: одно, которое ходило, возвращалось, действовало, чувствовало, и другое, которое с невозмутимым любопытством взирало на то, как первое ходит, возвращается, действует, чувствует.
Вот и в данный момент, превосходно сознавая, что я нахожусь в тюрьме по обвинению в убийстве, опозоренный и подавленный скорбью, зная, что это именно я, Робер Грелу, родившийся 5 сентября 1865 года в Клермон-Ферране, а не кто-нибудь другой, я тем не менее думаю об этом, как о каком-то спектакле, по отношению к которому я всего лишь зритель. Я даже спрашиваю себя иногда, правильно ли в данном случае говорить «я». Конечно, неправильно. Ибо, если выражаться вполне точно, мое настоящее «я» не то, которое страдает, и не то, которое созерцает эти страдания. Оно слагается из обоих «я», и у меня было вполне отчетливое представление о подобном дуализме, хотя я и не имел тогда возможности понять до конца это психологическое состояние, преувеличенное до аномалии с самого детства, — с детства, которое мне и хочется прежде всего воскресить в памяти, стараясь с беспристрастностью историка отбросить все, что имеет отношение к настоящему времени.
Мои первые детские воспоминания связаны с Клермон-Ферраном, с домом, стоявшим на бульваре Саблон, облик которого сильно изменился после того, как здесь построили артиллерийскую школу. Этот дом был выстроен, как все здания в нашем городе, из серого вольвикского камня, который быстро темнеет и придает извилистым улицам облик средневекового города. Отец мой, которого я лишился очень рано, был родом из Лотарингии. В Клермоне он работал в качестве гражданского инженера. Это был чело век слабого здоровья, хилый по внешнему виду, с редкой бородкой, с меланхолически-спокойным выражением лица; после многих лет разлуки я вспоминаю о нем с нежностью. Я представляю его себе сидящим в рабочем кабинете, из окна которого видна необъятная равнина Лимани и сразу же за нею — изящная возвышенность Пюи де Круель, а вдали — темная гряда Форэзских гор. Неподалеку от нашего дома находился вокзал, и в тихом кабинете непрерывно слышались свистки паровозов. Я обычно проводил время на ковре, подле камина, за тихими играми, и эти резкие призывные звуки уже тогда производили на меня, нервного ребенка, странное впечатление чего-то таинственного, далекого, впечатление стремительного бега времени и жизни. Отец чертил мелом на черной доске загадочные знаки, геометрические фигуры или алгебраические формулы с той отчетливостью в кривых линиях и буквах многочленов, которая была его отличительной манерой и вполне соответствовала его внутренней сущности. Иногда он занимался стоя, за чертежным столом, который предпочитал письменному. Это было несложное сооружение, состоящее из широкой некрашеной доски на двух козлах. В моей памяти воскресают огромные математические трактаты, стоявшие в безукоризненном порядке на книжных полках, холодные лица ученых, чьи гравированные портреты были единственным украшением комнаты, часы в виде глобуса и две астрономические карты, висевшие на стене над письменным столом, а на столе — счетная линейка с медной передвижной муфтой, плоская линейка в виде буквы Т и другие предметы и принадлежности, связанные с научной работой, и эти вещи отчасти объясняют, почему с самого раннего детства во мне родилась мечта о совершенно интеллектуальном и созерцательном существовании, причем этому безусловно благоприятствовала и моя наследственность. Размышляя впоследствии над этим, я пришел к убеждению, что многие отличительные черты. моего характера явились результатом жизни, всецело посвященной абстрактным наукам, какую вел мой отец и склонность к которым я инстинктивно перенял у него… Например, всю жизнь я Испытывал ужас перед всяким действием, каким бы незначительным оно ни было, причем до такой степени, что даже необходимость нанести кому-нибудь визит доводила меня до сердцебиения, а малейшее физическое усилие было мне просто невыносимо. Вступать в борьбу хотя бы ради своих самых дорогих принципов даже и сейчас представляется мне почти невозможным. Этот ужас перед всяким действием объясняется чрезмерной работой мозга; будучи доведенной до крайних пределов, она как бы изолирует человека от действительности. Такой мозг не выносит ничего реального, потому что уже утерял привычку соприкасаться с реальным миром. Я уверен также, что манера воспринимать факты тоже унаследована мной от отца, как и склонность к обобщениям, составляющая сильную сторону моего ума, но в то же время доходящая у меня до какой-то мании; от отца же у меня и повышенная нервозность, порою лишающая меня самообладания. Отец, которому суждено было умереть очень рано, крепким здоровьем никогда не отличался. В юности ему пришлось испытать тяжелые последствия подготовки к экзаменам в Политехническую школу, гибельно отражающейся и на более сильных организмах. При виде его узких плеч и хилого тела, ослабленного длительной умственной работой и сидячим образом жизни, можно было подумать, что в жилах этого человека с прозрачными руками течет не богатая красными шариками кровь, а жидкость с пылью от кусочков мела, которыми он привык водить по доске. Он не наделил меня достаточно крепкими мускулами, чтобы они могли уравновесить крайнюю возбудимость нервов, 103 и, таким образом, именно ему я обязан, наравне со способностью к отвлеченному мышлению, делающей для меня трудным малейшее действие, также и необузданностью желаний. Всякий раз, когда я страстно хотел чего-нибудь, я уже не был в силах подавить свое желание. Когда я анализировал собственные поступки, у меня являлась мысль, что интеллектуальные натуры менее других способны противостоять страстям, когда эти страсти просыпаются в них, и это, вероятно, объясняется тем1, что у таких людей нормальная связь между действием и мыслью нарушена. Самым блестящим доказательством этой гипотезы Являются фанатики. Неоднократно наблюдал я и у отца, обычно очень сдержанного и мягкого человека, такие припадки гнева, что они доводили его почти до обморока. В этом отношении я тоже вылитый сын своего отца, а через него и достойный потомок деда, человека весьма неуравновешенного, по-своему одаренного, полукрестьянина по происхождению, но добившегося благодаря изобретениям в области механики должности гражданского инженера, а потом разорившегося в пух и прах на бесконечных судебных тяжбах. Здесь у меня тоже налицо некий опасный наследственный элемент, нечто такое, благодаря чему по временам я не знаю никаких границ, невзирая на неизменную мою интеллектуальность. Раньше я считал эту двойственность своей натуры даже неким высшим состоянием: бурные порывы страстей в соединении с неиссякаемой энергией отвлеченного мышления. Я мечтал быть одновременно лихорадочно возбужденным и сохранять ясную голову, быть, как говорят немцы, в одно и то же время субъектом и объектом своего анализа; субъектом, который сам изучает себя и находит в этом изучении как средства для экзальтации, так и средства для научного развития. Увы! Куда завела меня эта химера! Впрочем, еще рано говорить о последствиях. Пока мы рассматриваем только причины.
Среди обстоятельств, особенно повлиявших на меня в детстве, одним из самых важных было посещение церкви. Как только я научился читать, мать стала брать меня с собою по воскресеньям к обед не. Обедню служили в восемь часов утра в церкви капуцинов, недавно построенной на том обсаженном платанами бульваре, что идет от бульвара Саблон к площади Торо, вдоль Ботанического сада. У входа в церковь возле своего ларька обычно сидела торговка пряниками, которую звали тетушка Жирар.
Я отлично знал эту торговку, так как имел обыкновение покупать у нее весной вишни: пять-шесть ягод, привязанных белой ниткой к палочке. То бывали первые вишни в сезоне, которые я пробовал, и удовольствие от этого терпкого и свежего лакомства было одним из проявлений моей чувственности в дни детства. Если бы кто-нибудь наблюдал за мной в такие минуты, он уже тогда имел бы случай заметить во мне признаки тех исступленных желаний, о которых я только что говорил. Когда я направлялся к ларьку, меня почти охватывала лихорадка. Но не только ради этих вишен я предпочитал церковь капуцинов с ее очень простой архитектурой подземным приделам Нотр-Дам-дю-Пор и сводам собора, поддерживаемым лесом стройных колонн. В этой церкви хор скрыт от взоров молящихся. Во время богослужения невидимые певчие пели стихиры, производившие на мой детский ум странное впечатление. Мне казалось, что эти голоса долетают откуда-то издалека, из какой-то бездны или гробницы. Я видел возле себя мать, которая молилась со сдержанной страстностью, сказывающейся в малейших движениях, и тогда мне приходила в голову мысль, что отца с нами нет, что он никогда не ходит в церковь. Его отсутствие до такой степени занимало мой детский ум, что однажды я спросил; V.
— А почему папа не ходит с нами в церковь? Проницательным детским взором я без труда заметил смущение, которое вызвал своим вопросом у матери. Но эта твердых, правил женщина, привыкшая к повиновению, отделалась, как и во многих других случаях, ничего не значащими словами: — Он ходит в другую церковь, в другое время.
Ведь я уже много раз говорила тебе, что дети никогда не должны спрашивать, почему родители поступают так или иначе…
Все различие нашей духовной жизни, впоследствии отдалившее меня от матери, уже заключалось в этой фразе, произнесенной в прохладное зимнее утро, когда мы, возвращаясь домой, шли под деревьями бульвара Саблон. Как сейчас вижу ее накидку, ее руки в норковой муфте, подбитой коричневым шелком, из которой высовывался молитвенник, и искреннее выражение ее лица, даже в минуту благочестивой лжи, когда она произносила слова: «Ты не должен никогда спрашивать…» Как сейчас вижу ее глаза, которые позже стали бросать на меня непонимающие взгляды. С того самого времени она уже не могла постичь мою натуру, понять созерцательного мальчика, для которого думать означало спрашивать самого себя при всяком удобном и неудобном случае: почему?.. Да, почему мать солгала мне? Ведь я отлично знал, что отец ни в какую церковь не ходит. Но почему он не ходит в церковь?.. Храм оглашали торжественные и печальные звуки монашеских литаний, а я не мог отделаться от этого вопроса. Однако я знал, что отец — один из самых видных людей в городе, хотя толком и не понимал причины та кого превосходства. Сколько раз во время прогулок кто-нибудь из его друзей останавливал нас и похлопав меня. по щеке, говорил: «Ну, как? Мы тоже будем известным ученым?» Когда мать выслушивала какое-нибудь мнение отца, она делала это с покорным видом и с бессознательным почтением. Следователь но, она считала естественным, что он не делает не которых вещей, которые для нас с ней считались обязательными. Значит, думал я, его и наши обязанности не одинаковы. Эта мысль еще не сформировалась тогда вполне ясно в моей голове, но уже зародилась и стала зерном того, что впоследствии сделалось одним из прочных убеждений моей юности, а именно, что очень умные люди не подчиняются тем же самым правилам, каким подчиняются все остальные. Тут, в этой маленькой церкви, в то время как я покорно склонялся над молитвенником, и родился мой великий жизненный принцип: не считать законом для нас, мыслящих людей, то, что является законом для тех, кто не мыслит. И в эти же самые годы, во время наших прогулок с отцом, в разговорах с ним возникли и основы моих научных воззрений.
Природа вокруг Клермона великолепна, и, хотя в противоположность поэту я и являюсь человеком, для которого внешний мир едва существует, я навсегда сохранил в глубинах своей памяти широту горизонта, развертывавшегося перед нами во время этих прогулок. Наш город с одной стороны обращен к Лиманьской равнине, а с другой стороны он как бы прислонился к отрогам цепи Дом.
Зубчатые кратеры потухших вулканов, вздутия былых извержений, потоки застывшей лавы придают очертаниям этих вулканических гор сходство с пейзажами, которые видны в телескоп на мертвой поверхности луны. Вдали — горы как грандиозное воспоминание. о страшных конвульсиях планеты, здесь же — прелестная сельская природа, с каменистыми тропинками среди виноградников, ручьями, журчащими под сенью ив и каштанов. Огромную детскую радость доставляли мне эти бесконечные скитания с отцом по тропинкам, что ведут с горы Пюи де Круель в Жергови, из Руайа в Дюртоль, из Бомона в Гравнуар. Мое сердце молодеет при одном звуке этих названий. Вот я снова мальчик с длинными волосами, в суконных гетрах на ногах, каким я изображен на одном из сохранившихся портретов. Я гуляю, держась за руку отца. Но откуда у отца могло возникнуть это тяготение к природе, у него, прирожденного математика, кабинетного ученого, привыкшего к отвлеченному мышлению? Потом я часто размышлял на эту тему, — и мне кажется, что тут я открыл малоизвестный закон развития человеческого сознания. Дело в том, что вкусы, сложившиеся в молодости, упорно сохраняются у нас и тогда, когда наш мозг уже развился в противоположном направлении; мы продолжаем проявлять эти вкусы, оправдывая их какими-нибудь интеллектуальными доводами, которые в действительности должны бы их исключать.
Объясню это на примере. Вполне естественно, что отец любил природу, так как он вырос в деревне и проводил в детстве целые дни где-нибудь на берегу ручья, в мире цветов и насекомых. Но вместо того чтобы и теперь бесхитростно предаваться этим радостям, он сочетал их со своими учеными занятиями.
Он не простил бы себе прогулку в горы, если бы по путно не изучал строение земли, он не мог бы любоваться цветком, не определяя его вид и название, не был бы в состоянии взять в руки какое-нибудь насекомое, не подумав при этом, к какой группе оно принадлежит и каковы его особенности. Благодаря методичности, которой он неизменно следовал в любой своей работе, он достиг отличного знания окрестностей, и наши совместные прогулки проходили в беседах об окружающей природе. Горные пейзажи служили для него поводом объяснять мне перевороты, которые испытала земля. От них он переходил к гипотезе Лапласа о туманностях, и так просто объяснял ее, что эти сложные вещи становились доступными для меня; я ясно представлял себе планетные протуберанцы, вырывавшиеся из пылающего ядра — раскаленного и вращающегося солнца. В прекрасные летние ночи небосвод превращался в своего рода карту; отец расшифровывал ее, применяясь к, моему возрасту, и я научился отыскивать на небе Полярную звезду, семь звезд Большой Медведицы, Бегу в созвездии Лиры, Сириус и другие далекие и огромные миры, величина, положение и даже составные элементы которых известны науке. То же самое происходило и с цветами, которые он научил меня собирать в гербарий, с камнями, которые я под его наблюдением разбивал железным молоточком, с насекомыми, которых я, смотря по обстоятельствам, то кормил, то накалывал на булавки. Еще задолго до того как в коллежах был введен предметный метод преподавания, мой отец применил в моем начальном воспитании свое великое правило: научно объяснять все, что встречаешь на своем пути. Так он сумел примирить свою любовь к природе, воспитанную в нем еще с детства жизнью в деревне, с точностью, приобретенной в дальнейших занятиях, математикой.
Именно этому методу я приписываю свою склонность к анализу, которая преждевременно развилась у меня еще в ранней юности и которая без сомнения обратилась бы на изучение позитивных наук, если бы отец не умер. Однако он не успел завершить моего" воспитания, задуманного по строго разработанному плану, набросок которого я потом обнаружил в его бумагах. Во время одной из наших прогулок, в то лето, когда мне шел десятый год, нас захватила гроза, и мы с ним вымокли до последней нитки.
Возвращаясь домой в сырой одежде, отец сильно продрог. Вечером он стал жаловаться на озноб. Через два дня у него обнаружилось воспаление легких, а неделю спустя его уже не было в живых.
Так как в этом кратком перечислении различных обстоятельств, повлиявших на мой юный ум, мне хочется во что бы то ни стало избежать того, что мне противнее больше всего на свете, а именно выставления напоказ своих субъективных душевных переживаний, то я не буду рассказывать вам, дорогой учитель, о других подробностях, связанных со смертью отца. Были среди них и весьма тягостные, но всю горечь этих переживаний я почувствовал только позднее, на некотором расстоянии от события. Помню, что, хотя я уже был большим и необыкновенно раз витым мальчиком, я испытал тогда скорее удивление, чем горе. Только теперь я по-настоящему оплакиваю смерть отца и понимаю, что я потерял в его лице. Надеюсь, я достаточно ясно объяснил, что имен но отцу я обязан своею склонностью и способностью к абстрактному мышлению, любовью к интеллектуальной жизни, верой в науку и умением с юных лет применять научные методы. Это — в области моего умственного развития. А в формировании моего характера я обязан отцу юношеским обожествлением величия мысли, а вместе с тем и несколько болезненной неспособностью действовать, с чем связана и невозможность сопротивляться страстям, когда они овладевают мною.
Мне хотелось бы также отметить здесь и все то, чем я обязан, как мне кажется, матери. Прежде все го бросается в глаза, что ее влияние на меня было косвенным, в то время как отцовское действовало непосредственно. По правде говоря, влияние матери стало сказываться с того дня, когда она, овдовев, решила лично руководить мною. До это го она всецело предоставляла меня отцовскому влиянию. Может показаться странным, что, оставшись вдвоем на земле, такая энергичная и исполненная чувства долга мать и такой юный сын даже в первые годы не стали жить в полном единении сердец.
Действительно, согласно элементарной психологии слова «мать» и «сын» — синонимы нежности и духовной близости. Может быть, так оно и есть в семьях со старым укладом, хотя лично я не верю, что такое простосердечие в отношениях между существами различного возраста и пола присуще человеческой природе. — Во всяком случае, в современной семье за благопристойными условностями таится страшный внутренний разлад, глубокое взаимное непонимание, иногда даже ненависть. Все это легко понять, когда подумаешь о происхождении этих чувств. Ведь в последнее время в браках происходит такое смешение провинции с провинцией и породы с породой, что это отяготило нашу, кровь слишком противоречивой наследственностью. Люди, номинально принадлежащие к одной и той же семье, в действительности не имеют ни единой общей черты, ни в умственном, ни в нравственном складе. В итоге каждодневное общение между этими людьми приводит к бесконечным столкновениям или постоянному притворству. В этом смысле мы с матерью являем пример, который я мог бы назвать замечательным, если бы удовольствие, доставляемое мне возможностью привести убедительное доказательство существования такого психологического закона, не омрачалось горьким сожалением, что я сам стал его жертвой. #9632; Отец мой, как я уже сказал, был сыном гражданского инженера и питомцем Политехнической школы.
Я говорил также, что дед и отец — уроженцы Лотарингии. А существует поговорка, что «лотарингец изменит и королю и богу». Эта поговорка, при всей своей несправедливости, заключает в себе очень меткое наблюдение, что у этих жителей пограничных областей в душе таится нечто очень сложное. Они всегда жили на грани двух рас — немецкой и французской. А в сущности что же представляет собою эта склонность к измене, как не извращение другой черты, очень ценной с умственной точки зрения, а именно склонности усложнять душевную жизнь? Что касается меня, то именно этому атавизму я и приписывал свою способность к раздвоению личности, о которой я говорил в начале этих записок. Должен прибавить, что еще ребенком я испытывал странное удовольствие от всякого рода бескорыстного притворства, восходившее, очевидно, к тому же источнику. Например, я любил рассказывать о себе товарищам по школе всякие небылицы: о месте своего рождения, о месте рождения отца, о какой-нибудь прогулке, которую я якобы только что совершил, и все это я говорил не для того, чтобы по. хвастать, а просто так, — чтобы быть другим. Позднее, я испытывал особого рода удовольствие от того, что высказывал мнения, прямо, противоположные тем, которые считал правильными, и делал. это по тем же самым мотивам. Играть какую-нибудь роль наряду со своей настоящей сущностью казалось мне чем-то вроде обогащения моей личности, до такой степени сильно было во мне инстинктивное ощущение, что ограничить себя в рамках одного определенного характера, верования или чувства равносильно ограничению самой своей сущности. Моя мать — настоящая южанка: нехитрому складу ее ума противны всякие отвлеченные представления. Ей доступны только понятия о конкретных вещах. В ее сознании все формы жизни преломляются в определенном, точном и простом виде. Если это касается религии, то она видит перед собой свою церковь, исповедальню, причастный плат, знакомых священников, катехизис, по которому она училась в детстве. Когда она думала о моей карьере, то и тут представляла себе вполне определенную деятельность и связанные с нею выгоды. Например, преподавательская карьера, о которой она мечтала для меня, олицетворялась для нее в образе г-на Лимассе, учителя математики и друга моего отца, и она заранее воображала меня таким же, как он, думала, что я тоже дважды в день буду пересекать город, летом буду ходить в визитке из альпага и в панаме, зимой — в деревянных башмаках и в меховом пальто, буду получать определенное" жалованье и дополнительный доход в виде репетиционных и жить с приятной перспективой пенсии. Наблюдая мать, я имел случай убедиться, насколько этот род воображения лишает тех, кому он свойствен, способности представить себе внутреннюю жизнь другого человека. О таких людях часто говорят, что они самодуры и отличаются чрезмерно выраженной индивидуальностью или что у них скверный характер.
В действительности же они воспринимают людей, с которыми имеют дело, как ребенок воспринимает часы. Ребенок видит, как вращаются стрелки, но ничего не знает о механизме, приводящем их в движение.
Поэтому, если стрелки не двигаются так, как ему хочется, он готов передвинуть их или сломать в часах пружину.
С первых же дней после нашей семейной катастрофы так относилась ко мне и моя бедная мать, и 114, почти немедленно я стал чувствовать по отношению к ней какую-то смутную неловкость, хотя ни один факт не давал к этому определенного повода. Первое обстоятельство, открывшее мне расхождение, которое началось между нами, — в той степени, конечно, в какой могла соображать моя детская голова, — имело место как-то в осенний послеполуденный час, месяца четыре спустя после смерти отца. Впечатление, произведенное этим эпизодом, было до того сильным, что я помню все его подробности так ясно, словно дело произошло вчера. Нам пришлось переменить квартиру, и мы сняли четвертый этаж дома, который как бы вытянулся весь в высоту, на улице 1м1Йяр, — в узком переулке, начинающемся возле тенистых деревьев площади Птиз-Арбр, перед зданием префектуры. Матери дом этот понравился из-за бал-; кона, который был в квартире, и как раз на этом балконе я играл в тот солнечный день, когда все произошло. Вы узнаете в моей игре все то же научное направление, привитое мне покойным отцом: она состояла в том, что я передвигал из одного конца балкона в другой кремень, превращенный моим воображением в великого исследователя неведомых стран; я перемещал его среди других камушков, найденных и цветочном горшке. Они олицетворяли для меня то какой-нибудь город, то экзотических животных, о которых я читал. Одно из окон гостиной выходило на балкон и было полуотворено. Во время игры я очутился около окна и вдруг услышал, что мать разговаривает обо мне с какой-то гостьей. Мне трудно было удержаться, чтобы не подслушать их; сердце у меня сильно билось, как случалось и впоследствии, " когда я слушал суждения других людей, касавшиеся меня. Позднее я понял, что наша подлинная сущность и впечатление, какое мы производим на окружающих, даже на друзей, так же мало совпадают, как цвет нашего лица и его отражение в голубом, зеленом или желтом зеркале.
— А может быть, вы ошибаетесь насчет бедного Робера, — говорила посетительница. — Ведь в десять лет у ребенка еще не сложился характер…
— Дай-то бог, — отвечала мать, — но я трепещу при мысли, что он такой бессердечный. Вы представить себе не можете, каким он был черствым, когда умер муж… На другой же день у него был такой вид, точно он уже забыл об этом. И с тех пор ни слова!.. Ни единого слова, которое показывает, что человек помнит… А когда я сама говорю ему об отце, он еле отвечает… Можно подумать, что он никогда и не знал нашего дорогого, а ведь отец был так добр к нему…
Я прочел где-то, что однажды, когда Мериме был еще ребенком, мать побранила его и выгнала из комнаты. Едва он оказался за дверью, Как мать разразилась смехом. Мериме услыхал смех, понял, что перед ним разыгрывали комедию, и с тех пор в его душе родилось недоверие, которое не исчезло до конца дней. Случай с Мериме меня поразил. Впечатление знаменитого писателя представляло полное сходство с тем, что испытал и я, когда услышал на балконе обрывок разговора. Правда, я никогда не говорил о покойном отце. Но совершенно не соответствовало истине утверждение, будто я позабыл его. Напротив, я думал о нем постоянно. Я не мог пройти по тротуару, перейти через улицу, взглянуть на предметы нашей обстановки без того, чтобы во мне тотчас не проснулось воспоминание об отце, и я бывал до боли одержим этим воспоминанием. К этой постоянной одержимости примешивалось и тревожное удивление, что он исчез из нашей жизни навеки, и все это вместе взятое и превращалось в то тягостное чувство, которое закрывало мне уста, когда речь заходила об отце. Теперь-то я понимаю, что мать не была в состоянии постичь подобный ход моих мыслей. Но в ту минуту, услышав, как она осуждает меня за черствость, я испытал глубокое унижение. Мне казалось, что она поступает по отношению ко мне неправильно, что она ко мне несправедлива, но из робости, как дичившийся и еще плохо прирученный ребенок, я, вместо того чтобы постараться изменить ее мнение обо мне, весь внутренне как бь1 съежился в знак протеста против такой несправедливости. Начиная с этой минуты я уже не мог открыться в чем-либо матери.
Я отлично чувствовал это, и, когда ее глаза смотрели в мои, стараясь прочитать в них то, что я переживаю, я испытывал непреодолимую потребность скрыть от нее свою внутреннюю жизнь.
Это было первой семейной сценой, — хотя такой пустячный эпизод вряд ли заслуживает столь громкого названия, — за ней последовала другая, которую я тоже отмечу, несмотря, на всю ее незначительность. Но ведь дети не были бы детьми, если бы. самые пустячные события не превращались в их детском восприятии в нечто важное. Тогда я уже увлекался чтением, и случай дал мне в руки несколько книг, весьма отличавшихся от тех, какими награждают Школьников за успехи в науках. Вот как это произошло. Хотя мой отец, будучи математиком, и не очень-то следил за беллетристикой, он все же любил некоторых писателей, но воспринимал их по-своему. Найдя впоследствии его заметки об этих писателях, я понял, до какой степени литературные восприятия субъективны, устойчивы или, заимствуя определение из его любимой науки, несоизмеримы. Иными словами, я понял, что нет общей мерки, по которой два человека принимают или отвергают то или другое произведение. Среди других книг в библиотеке отца оказался и перевод Шекспира. Когда для меня настало время навсегда распрощаться с детским кресельцем, эти два тома клали на стул, чтобы я сидел повыше. Потом мне предоставили распоряжаться ими, как мне заблагорассудится.
Находившиеся в них гравюры, само собою разумеется, немедленно же привлекли мое любопытство, и я прочел отдельные подписи к ним. Тут леди Макбет вытирала руки под исполненными ужаса взглядами медика и служанки; Отелло с кинжалом входил в спальню Дездемоны и склонял свой черный лик над белеющей фигурой спящей; король Лир раздирал на себе одежды, при вспышках молний; Ричард III спал в шатре, окруженный призраками. Одолев надписи, которыми сопровождались иллюстрации, я тем самым еще до десятилетнего возраста вполне ознакомился с этими драмами, сильно возбуждавшими мое воображение, так как многое в них я понимал, вероятно, потому, что они были написаны для зрителя из народа, или потому, что содержат в себе элементы первобытной поэзии и ребяческие преувеличения. Я любил этих королей, которые, то ликуя, то в полном отчаянье, проходили предо мною во главе своих войск и в несколько мгновений выигрывали или проигрывали сражения; любил эту кровавую резню, сопровождаемую фанфарами, среди привидений и развернутых знамен; любил мгновенные переселения из одной страны в другую и — лухимерическую географию. Словом, все то, что в шекспировских пьесах, особенно в хрониках, изложено сжато и почти примитивно, прельщало меня до такой степени, что, оставаясь один, я разыгрывал целые сцены, пользуясь стульями, которые становились Йорком или Ланкастером, Уорвиком или Глостером. О, святая наивность!.. Мои отец, которому было свойственно от вращение к печальной действительности, наслаждался у Шекспира трогательными и чистыми сторонами его поэзии, образами женщин с необычайно тонкой душой.
Каким бы странным ни показалось подобное сопоставление, но ему нравились Имогена и Дездемона, Корде лия и Розалинда, как наряду с романами Диккенса и Топфера нравилась ребяческая болтовня Флориана и Беркена. Но такие контрасты лишь доказывают шаткость художественных суждений, основанных исключительно на чувстве. Все эти книги, точно так же как и романы Вальтера Скотта и идиллии Жоржа Санда, я читал в иллюстрированных изданиях. Само собою разумеется, что было бы лучше не пичкать воображение такой разнообразной, а порой и опасной пищей, хотя в силу своего возраста я понимал лишь незначительную часть из прочитанного. Отец не обращал на мое чтение никакого внимания. Впрочем, даже если бы молния поразила наш дом, то едва ли отец заметил бы это, когда, унесенный на могучих крыльях абстракции, он выводил на черной доске свои формулы. Но мать, которой этот демон был так же чужд, как и зверь из апокалипсиса, едва только первое потрясение нашего горя прошло, не замедлила порыться в комнате, где я готовил уроки. Под начатым сочинением она обнаружила раскрытую книгу. Это был роман Вальтера Скотта «Айвенго».
— Это что за книга? — спросила она. — Кто позволил тебе взять ее? — Но я уже прочел ее один раз, — ответил я.
— А эти? — продолжала она перебирать томики моей библиотеки, где рядом с учебниками стояли драмы Шекспира, «Женевские рассказы», «Николас Никльби», «Роб Рой», «Чертово болото». — Это не для твоего возраста, — твердо заявила мать. — Потрудись отнести эти книги в гостиную. Я их запру в шкаф.
Отлично помню, как я переносил книги, по три зараз; некоторые из них были очень тяжелы для моих детских рук; я переносил их в холодную комнату с мебелью в чехлах и с балконом, выходившим/ на улицу, — в ту самую комнату, где я услышал, как мать сурово осуждала мою бесчувственность. Белыми пальцами, высовывавшимися из черных митенок, мать брала у меня том за томом и ставила рядом с математическими трактатами. Затем она заперла стеклянную дверцу, а ключ присоединила к тем, что висели на кольце, с которым она никогда не расставалась. Потом она строго прибавила: — Когда тебе захочется прочитать какую-нибудь книжку, обратись ко мне…
Просить у нее книги! Какие? Я великолепно знал, что она не даст мне те, перечитать которые мне захочется и на корешки которых, видневшиеся за стеклом, я смотрел с грустью. Уже тогда я сознавал, что мыс матерью ни по одному вопросу не мыслим одинаково. Я был очень сердит на нее за то, что она лишила меня самого большого удовольствия — удовольствия читать, и, может быть, даже не столько за самое запрещение, сколько за те объяснения, которые она мне давала по этому поводу, ибо она почла нужным несколько раз повторить слова о вреде романов, заимствованные из какого-то благочестивого сочинения и выражавшие нечто совершенно противоположное тому, что я сам думал на этот счет. Мать воспользовалась предлогом, что неумеренное чтение может мне повредить, и стала внимательно следить за моими занятиями. В этом состоял ее долг. Но как велика была разница между идеями, к которым приобщал меня с малых лет отец, и жалкой скудостью ее заурядных, мелочных и мещанских представлений! Теперь на прогулки я уже ходил с матерью; и, гуляя, она разговаривала со мной. — Но все ее разговоры сводились к замечаниям о том, как надо себя вести, к рассуждениям о хороших или дурных манерах или касались моих школьных товарищей и их родителей. — Мой ум, приученный к наслаждению мыслить, чувствовал себя теперь как бы придавленным. Застывшие пейзажи с потухшими вулканами напоминали мне о тех днях, когда отец рисовал мне грандиозные катаклизмы земли. Цветы, которые я срывал, мать брала на несколько минут в руки, потом бросала, почти не взглянув на них. Она не знала их названий, как не знала и названий насекомых, которых она тут же приказывала мне выбрасывать, так как считала их грязными и ядовитыми. Тропинки, вившиеся среди виноградников, уже не вели больше к открытию огромного мира, куда звала меня вдохновляющие слова отца. Они сделались просто продолжением городских улиц и убожества повседневных делишек.
Я подыскиваю слова, чтобы точнее передать смутное и странное ощущение скуки, умственного гнета и затхлой атмосферы, с которыми связаны для меня эти прогулки, и не нахожу ничего подходящего. Ведь язык создан взрослыми, чтобы выражать мысли и чувства взрослых и в нем не хватает выражений, соответствующих робким восприятиям ребенка и полумраку его души. Как передать еще не осознанные страдания, которые можно обнаружить только тогда, когда они уже в прошлом? Например, те страдания, какие испытал я, в чьей голове уже бродили высокие мысли; мой ум, уже находившийся на грани обширного духовного горизонта, вдруг подвергся тирании другого ума, ограниченного, слабого, чуждого всяким общим идеям, всякому широкому в глубокому взгляду на вещи. Теперь, когда пора моего загнанного в подполье и всячески подавляемого. детства отошла в прошлое, я объясняю все малейшие его эпизоды законом интеллектуальных конституций; и сейчас я вполне отдаю себе отчет в том, что, доверив воспитание такого ребенка, каким я был, женщине, как моя мать, судьба пыталась соединить две столь же несоединимых формы мысли, как несоединимы два разных рода в животном царстве. Теперь мне приходят на ум тысячи всяких подробностей, в которых я нахожу доказательство врожденного различия наших натур. Я уже достаточно рассказал вам об этом, чтобы теперь можно было ограничиться простым указанием на конечный результат молчаливого столкновения между нашими душами; если выражаться философским языком, благодаря этому противоречию в моем воспитании во мне оказались заложенными два различных начала; одно в области чувств, другое — в области умственных способностей.
Чувство сосредоточилось на сознании одиночества моего «я», а умственные способности оказались направленными на внутренний анализ.
Я уже сказал, что у меня тотчас же создалось впечатление, что как в области чувства, так и в области мысли я не могу целиком открыться своей матери. Я едва вступил в интеллектуальную жизнь, а мне уже стало понятно, что существуют такие элементы нашей душевной сущности, которые недоступны другому человеку. Отсюда появилась у меня робость, которая затем перешла в гордыню. Но разве всякая гордость не имеет аналогичное происхождение? Не осмеливаться раскрыть себя, значит себя изолировать, а изолировать себя от других значит быстро перейти к тому, чтобы считать себя выше, чем они. Впоследствии я нашел у некоторых современных философов, например у Ренана, это же самое чувство одиночества, но уже видоизмененное в торжествующее и трансцендентальное высокомерие.
Я обнаружил это чувство, превратившееся в болезненную сухость, в «Адольфе» Бенжамена Констана, открыл его в разящей иронии Стендаля. Но у бедного провинциального лицеиста, бегущего в зимнюю пору по ледяным улицам горного городка с набитой учебниками сумкой, окоченевшего от холода, с болячка 123 мй на обмороженных руках и ногах, это чувство проявлялось лишь в виде смутного и болезненного инстинкта. Эти инстинктивные переживания, первоначально связанные только с матерью, все росли и росли, и вскоре их стали вызывать во мне товарищи по классу и преподаватели. Я чувствовал себя иным, чем они, и это различие можно определить так: мне казалось, что я вполне понимаю их, они же понять меня не в состоянии. Теперь я начинаю склоняться к мыели, что я понимал их не больше, чем они меня; однако сейчас я вижу, что между нами действительно было различие: они просто, искренне и открыто ставили на одну доску себя и меня, в то время какя уже начал усложнять наши отношения, слишком много думая о своей персоне. Если я рано почувствовал, что у меня вопреки словам Христа, нет ближних, то это происходило потому, что уже с самых ранних Лет я привык слишком много копаться в своей душе и возомнил себя существом необычайным, доведя до предела свою чувствительность. От отца я унаследовал раннюю любознательность. Но так как его уже не было возле меня, чтобы обратить мое внимание на мир позитивных знаний, то эта любознательность, не находившая себе применения вовне, обратилась на меня самого. Ведь ум такое же живое начало, как и всякое существо, и у него тоже возможность сопровождается потребностью. Справедливо было бы перевернуть старую поговорку таким образом: «Кто может — хочет». Всякая способность всегда приводит к волеизъявлению. Интеллектуальная наследственность и первоначальное воспитание преждевременно сделали из меня человека мысли.
Я оставался им и в дальнейшем, но за отсутствием учителя, подобного тому, какого я потерял, мой ум обратился на собственные мои переживания, и, живя вместе с матерью, никогда не подозревавшей этого, я превратился в полнейшего, эгоиста, с ярко выраженным презрением к окружающим. Впрочем, эти черты моего характера проявились уже позднее, под влиянием тех духовных кризисов, через которые я прошел и историю которых мне нужно теперь вам рассказать.
$ 2. — Моя духовная среда.
Различные влияния, о которых я рассказал здесь в несколько отвлеченных, но для вас, мой дорогой учитель, конечно, понятных выражениях, имели своим первым и неожиданным результатом то, что между одиннадцатью и пятнадцатью годами я стал очень набожным. Вполне возможно, что, если бы меня поместили в коллеж интерном, я вырос бы таким же, как все мои товарищи, которых мне случалось наблюдать впоследствии. Никакой религиозной экзальтации они не знали. В эпоху, о которой я рассказываю и которая отмечена окончательной победой демократических партий во Франции, из Парижа в провинцию хлынула волна свободомыслия. Но не надо забывать, что я был сыном чрезвычайно набожной женщины и должен был выполнять все обряды, предписываемые самым суровым благочестием. Я рассказывал здесь о своей ранней склонности к самоанализу, и это подтверждается тем, что, в противоположность своим товарищам по изучению катехизиса, я был до страсти захвачен исповедью. Да, могу сказать о себе, что в продолжение четырех лет моих юношеских мистических настроений, с 1876 по 1880 год, самые сильные мои переживания были связаны с пребыванием в деревянной будке исповедальни нашей францисканской, церкви, куда я отправлялся каждые две недели и где, коленопреклоненный, с бьющимся сердцем, шептал о том, что происходило в моей душе. Рождение этого особого отношения к исповеди, сотканного из самых противоположных ощущений, связано у меня с приближением дня первого причастия. Я был верующим мальчиком; поэтому мои незначительные грехи казались мне настоящим преступлением и мне было стыдно признаваться в них. Но я каялся, и у меня была уверенность, что я уйду из храма, получив отпущение всех своих прегрешений, с восхитительным чувством человека, который смыл с себя всю грязь. Я был очень нервным и впечатлительным ребенком, и в самой обстановке таинства, в прохладной тишине церкви, в запахе склепа и ладана, в звуке моего собственного голоса, когда я шептал слова «отец мой», и в голосе священника, называвшего меня через решетку «сын мой», заключалась для меня особая мистическая поэзия, которую я остро воспринимал, хотя еще и не отдавал себе отчета, в чем она заключается. К этому присоединялось особое чувство страха, зародившееся у меня в дни изучения катехизиса у аббата Мартеля, которому было поручено подготовить нас к первому причастию. Это был коротконогий человек апоплексической наружности, с широким красным лицом и мрачным, жестким взглядом голубых глаз. Он учился в какой-то провинциальной семинарии, где еще сохранился дух янсенизма. Когда с кафедры францисканской церкви, под сводами которой нас собирали, он говорил о преисподней, его голубые глаза метали молнии, и тогда в его блестящих и вдруг застывавших зрачках мелькали страшные видения. Он умел этот ужас передать и нам. Я, пожалуй, даже рад, что аббата уже нет в живых, иначе я увидел бы его в тюрьме и, кто знает, может быть, снова испытал бы чувство ужаса, которое испытывал некогда в том помещении с побеленными стенами, всю мебель которого составляли деревянные скамьи и Маленькая кафедра из крашеного дерева. Обычными темами его проповедей было изречение о немногих избранных и о божественном отмщении.
— Кто может воспрепятствовать богу, раз он всемогущ, повелеть душе умершего пребывать около тела, с которым она разлучена?.. — вопрошал священник. — И. вот душа томится около него, в горнице усопшего, внимая рыданиям и созерцая слезы близких. Ей не будет дано утешать их… Ее заточат во гроб, и она будет там в течение бессчетных дней, в кромешном мраке, среди червей и тлена, присутствовать при разложении плоти, которая служила ей обиталищем…
Подобные фантастические и жестокие образы потоком лились из его уст. Они преследовали меня даже во сне. Мой страх перед адом доходил До безумия.
С другой стороны, аббат Мартель с неменьшим красноречием прославлял в своих проповедях важность и спасительность причастия, и — в результате боязнь вечных мук превращалось для меня в строжайшее испытание совести. Очень скоро эти самоуглубления, это рассматривание, как через лупу, малейших извилин своих мыслей, это непрестанное исследование самых сокровенных глубин души стали меня интересовать до такой степени, что по сравнению с ними любая игра потеряла для меня всякую прелесть. Впервые с того дня как умер отец, я нашел достойное применение своей способности к анализу, уже вполне сложившейся во мне и ставшей моей второй натурой.
Это обострение внутренней жизни должно было бы благотворно сказаться па моем нравственном состоянии. Однако следствием такого обострения была только излишняя чувствительность, уже сама по себе являвшаяся развращенностью, по крайней мере с точки зрения строгой дисциплины католической церкви. В самом деле, во время этих копаний в собственной совести, связанных скорее с наслаждением, чем с раскаяньем, я сделался чрезвычайно изобретательным в обнаружении сложных побуждений, якобы таившихся за самыми обыкновенными моими поступками. Аббат Мартель не был достаточно проницательным психологом, чтобы уловить этот оттенок, и — понять, что, кромсая таким образом свою душу, легко дойти до предпочтения сложности греха простоте добродетели.
Он видел в моем поведении только порыв детской души. Например, в утро первого причастия я явился к аббату весь в слезах, умоляя его еще раз исповедать меня. Дело в том, что, выворачивая все глубины и недра своей памяти, я открыл у себя курьезный грех преувеличенного уважения к мнению ближнего. За несколько недель до этого я заметил, как двое моих одноклассников потешались у ворот лицея над какой-то старой дамой, направлявшееся в церковь кармелиток.
напротив ашей школы. Я тоже посмеялся над ней, вместо того чтобы остановить расшалившихся приятелей. А ведь почтенная женщина шла к обедне. Значит, смеяться над ней было равносильно издевательству над благочестивым поступком. Я смеялся. Почему? Из ложного стыда, который мешал мне осудить недостойное поведение моих сверстников. Следовательно, я сам принимал участие в этом, проступке. А между тем я должен был бы обратиться с увещеванием к насмешникам и призвать их к раскаянию. Я этого не сделал.
Почему? Опять же из ложного стыда или из преувеличенного уважения к человеку, как сказано в катехизисе.
Всю ночь перед знаменательным днем первого причастия я провел в душевных муках, беспокоясь, успею ли я разыскать аббата, чтобы исповедаться и в этом грехе. Помню улыбку, с какой он, отпустив мне грех, похлопал меня по шеке, чтобы я не тревожился. Как сейчас слышу его голос, ставший вдруг ласковым, когда он сказал мне: — Если бы ты навсегда остался таким! Ему и в голову не приходило, что муки детской совести были признаком болезненного самоанализа и что этот самоанализ грозят отравить мне всю сла дость евхаристии, которой я так жаждал. До этого дня в течение многих недель я не довольствовался тем, что тщательнейшим образом анализировал свою совесть, но предвосхищал в воображении те эмо ции, которые являются неизбежным результатом та кого анализа. Поэтому я очень отчетливо представлял себе чувства, какие буду испытывать, принимая при частие. И вот я приблизился к решетке алтаря; задра пированной белой пеленой, в таком напряженном со стоянии, какого никогда уже позднее не испытывал.
Но, причащаясь, я содрогнулся от леденящего разо чарования и испытал такой упадок сил, что мне "трудно передать его словами. Потом я рассказывал об этом ни с чем не сравнимом переживании одному товарищу, продолжавшему оставаться верующим. Он сказал мне:, — Надо было отнестись ко всему этому проще.
Его благочестие помогло ему в данном случае стать тонким наблюдателем. Он был прав, конечно. Но что я мог сделать? Однако важнейшее событие моей юности, а имен но утрата веры, все-таки не связано с пережитым разо чарованием. Существовало немало других причин, определивших эту утрату, но я вполне осознал их толь ко теперь. Были среди них и такие, которые действо вали на мою душу медленно, но неуклонно, так же, как червь гложет прекрасный плод, пожирая его сердцевину, в то время как снаружи не видно ни каких других изменений, кроме еле заметного пят нышка на его румяной кожуре. Первая из таких при чин заключалась, мне кажется, в том, что я применил к своему исповеднику тот же самый ужасный метод критики, подрывающий доверие, какой с детских лет отдалил меня от матери. Я продолжал доводить до самых изощренных тонкостей анализ своей совести, а аббат Мартель по-прежнему не замечал возможных последствий моих тайных пыток, когда я производил вивисекцию своей души. Мои сомнения представлялись ему тем, чем они, собственно говоря, и были в действительности, то есть ребячеством. Но это было ребячество мальчика с очень сложной душевной организацией, которым можно было руководить только в том случае, если бы у него создалось впечатление, что он понят до конца. Я же в своих отношениях с этим грубоватым и прямолинейным священником скоро стал исщлтывать противоположное чувство: я все более и более убеждался, что он меня не понимает.
Этого было еще мало, чтобы помешать мне выполнять религиозные обязанности, но вполне достаточно, чтобы отнять у моего духовного наставника всякую подлинную власть над моими отроческими мыслями.
В то же время (и это было второй причиной, отторгнувшей меня от церкви) я открыл у людей, которых считал тогда выше других, такое же равнодушие к церковным обрядам, какое раньше наблюдал у отца.
Мне, например, было хорошо известно, что все молодые преподаватели, являвшиеся К нам из Парижа и обладавшие авторитетом питомцев Нормальной школы, — скептики и атеисты. Я узнал об этом от самого аббата Мартеля, рассказывавшего о них с пеной у рта во время посещений нашего дома. Когда я сопровождал мать к обедне во францисканскую церковь, как раньше в церковь капуцинов, мне невольно приходили в голову мысли о скудоумии тех набожных людей, что по воскресеньям наполняли храм и бор.
мотали молитвы в тищине богослужения, нарушаемой только шумом стульев, которые передвигала женщина, сдававшая их внаем. На лбах, которые с покорным видом склонялись при возношении чаши, никогда не отражалась светлая, живая мысль. Я, конечно, еще не мог сформулировать эти впечатлениям такой же точностью, с какой делаю это сейчас; но, глядя на молящихся, я невольно сравнивал их с молодыми преподавателями, которые, выходя их > лицея с независимым видом, разговаривали о таких вещах, о каких некогда беседовал со мной отец. В его беседах со мною малейшее замечание было насыщено научным значением. И у меня стало зарождаться сомнение в интеллектуальной ценности католических верований.
Эти сомнения питались своего рода наивным честолюбием, в силу которого у меня возникло страстное желание стать таким же умным, как самые умные люди на земле, а не прозябать среди существ второго сорта. В этом желании было много гордыни, но сейчас я не стыжусь ее. Это была гордыня чисто отвлеченного характера, совершенно чуждая каким бы то ни было стремлениям к житейским благам и успехам.
К тому же, если у меня еще хватает сил устоять в страшной драме, которую послала мне судьба, то этим я обязан именно гордыне своих юных лет. Именйо она дает мне возможность показать вам с холодной ясностью мое прошлое, вместо того чтобы докучать бьющими на эффект подробностями, как это сделал бы на моем месте всякий заурядный преступник.
Я ясно вижу, что первые сцены этой драмы происходили еще в душе тщедушного лицеиста, в котором уже проявлялся тот юноша, каким вы меня знаете.
Третьей причиной, содействовавшей постепенной утрате веры, явилось открытие мною современной литературы; это произошло, когда мне шел четырнадцатый год. Я уже рассказал вам, что вскоре после смерти отца мать отняла у меня некоторые книги. Не стала она снисходительней и позднее, и ключ от отцовского шкафа по-прежнему позвякивал на стальном кольце в общей связке с ключами от буфетной и погреба. Самым очевидным следствием этого запрета было то, что во мне с особенной силой стала оживать прелесть воспоминаний, оставшихся от перелистывания наполовину непонятых трагедий Шекспира, наполовину забытых романов Жоржа Санда. Но случаю было угодно, чтобы в начале шестого класса, в хрестоматии французских авторов, служившей пособием для заучивания наизусть, мне попались кие-какие образчики современной поэзии: В этой книжке можно было найти отрывки из Ламартина, десяток стихотворений Гюго, «Стансы к Малибран» Альфреда де Мюссе, несколько страничек из Сент-Бёва и Леконта де Лиля. Этих всего каких-нибудь двухсот страниц, было достаточно, чтобы я понял огромную разницу между современными поэтами и старыми классиками. Я почувствовал её так же легко, как легко, даже с закрытыми глазами, ощутить разницу в аромате букета роз и букета сирени. Различие, которое я инстинктивно угадал, заключается в том, что до революции писатели никогда не брали в основу своих произведений человеческое чувство. Начиная же с восемьдесят девятого года все изменилось. С этого времени у молодых писателей появилось нечто необузданное, печальное, особая изощренность душевных и физических ощущений, доходящих в своей обостренности до чего-то болезненного. Это сразу же увлекло меня с неотразимой силой. Мистическая чувственность стансов «Озеро» или «Распятие», чарующее великолепие некоторых «Ваточных песен» приводили меня в восторг. Но особенно меня захватывало и доводило почти до лихорадочного состояния все то, что есть греховного в «Уповании на бога» и в некоторых строфах «Утешений». Неуловимую сложность греха, о которой я только что говорил вам, я почувствовал уже по некоторым поэтическим отрывкам, помещенным в школьной хрестоматии. И я стал испытывать к произведениям открытых мною писателей крайнее, почти исступленное любопытство, свойственное только юности. Юноша находится на пороге жизни. Он еще не видит ее, но уже слышит, как слышат грохот водопада, скрытого за деревьями. О, как этот грохот пьянит душу ожиданием!..
Дружба с мальчиком, который жил в нашем же доме, во втором этаже, еще больше разожгла это любопытство. Дело в том, что мой друг — его звали Эмиль — был таким же пожирателем книг, как и я.
Мне было суждено очень рано потерять его. Но тогда он жил в более благоприятных условиях, чем я, так как не знал — над собой никакой опеки. Его родители, люди уже пожилые, существовали на скромную ренту и проводили целые дни за раскладыванием пасьянса у окна, выходившего на улицу Бийяр; они пользовались колодой карт, приобретенной в соседнем кафе и насквозь пропахнувшей табачным дымом. Эмнль, предоставленный самому себе, мог наслаждаться в своей комнате чтением, сколько ему было.
угодно. Мы учились с Эмилем в одном классе, вместе отправлялись в лицей и вместе возвращались домой, поэтому мать охотно разрешала мне проводить у приятеля целые часы. Вскоре я привил этому милому мальчику страсть к стихам, которыми сам увлекался, и даже желание поближе познакомиться с их авторами. Мы ходили в коллеж по узким улицам старого города и обычно останавливались возле книжной лавки, у дверей которой стояли лотки с подержанными книгами. Там мы иногда покупали отдельные томики классиков. В какой восторг пришли мы, когда нам удалось отыскать в одном из ящиков два сборника стихов Мюссе в довольно неприглядном виде, ценою в сорок су за пару! Какие они были потрепанные, сколько на них было клякс!.. Мы перелистали их и уже не могли не приобрести эти сокровища. Сложив деньги, данные нам на неделю, мы унесли книжки домой и там, в комнатке Эмиля, — он усевшись на кровать, а я на стуле, — прочли «Дона Паэза», «Каштаны из огня», «Порцию», «Мардоша», «Ролла».
Во время чтения я весь дрожал, как будто бы совершал какой-то смертный грех. Мы читали эти стихи с жадностью, с упоением, опьяняли себя ими, как вином.
С тех пор в моих руках перебывало немало запретных книг, хранимых все в той же комнате Эмиля, а иногда и в моей собственной, с помощью всяческих уловок, вроде тех, к каким прибегают в опасную минуту любовники. Я очень любил эти книги, начиная с «Шагреневой кожи» Бальзака и кончая «Цветами зла» Бодлера, не говоря уже о стихах Генриха Гейне и романах Стендаля. Я уже никогда больше не испытывал таких возвышенных волнений, как при первой встрече с гениальным автором «Ролла». Я не был ни художником, ни историком, поэтому более или менее высокая ценность этих стихов, большее или меньшее их значение для современников были мне совершенно безразличны. Но автор их был как бы моим старшим братом, который открывал мне, еще слабому и не знавшему жизни, опасный мир любовного опыта. То, что я лишь смутно предчувствовал, а именно интеллектуальное убожество благочестия по сравнению с грехом, открылось мне тогда в совершенно новом и неожиданном свете.
Добродетели, которыми меня наставляли в детстве, вдруг показались мне такими серыми, жалкими и мелкими рядом с великолепием, богатством и исступленностью некоторых грехов… Богомольные прихожанки, преждевременно увядшие и постаревшие приятельницы матери, сделались для меня олицетворением простодушной веры, а безбожие символизировал прекрасный юноша, который под конец своей последней ночи взирает на кровавую зарю и в мгновение ока открывает весь горизонт легенды и истории, чтобы склонить голову на грудь прелестной, как мечта, девы, полюбившей его, увы," слишком поздно! Целомудрие, брак были теперь связаны для меня с представлен нием о буржуа, что по четвергам и воскресеньям размеренным, шагом отправляются в Ботанический сад слушать музыку и каждый раз произносят одним и тем же тоном одни и те же фразы. А рядом с ними воображение рисовало мне озаренные химерическим сиянием поэзии лица прелюбодеев и неверных жен из «Испанских поэм» и из тех отрывков, что следуют за ними. Это был Дальти, убивающий мужа Порции и потом скитающийся со своей возлюбленной по сонным водам лагуны, мимо лестниц старинных дворцов; это был дон Паэз, убивающий Жуану, после того как любовный напиток бросил его в ее безумные объятья; это был Франки его Бельколора, Гассан и его Намуна, аббат Кассио и его Сюзон. Я не был в состоянии отнестись критически к неправдоподобности этих романтических декораций или установить в таких стихах границу между искренностью и литературной условностью. За строками я видел самые мрачные глубины души, и они обольщали меня, пробуждали мой ум, уже обуреваемый любопытством к новым переживаниям, и мою уже и без того слишком развитую склонность к анализу. Другие книги, названия которых я привел, тоже служили для меня предметом искушения, хотя, может быть, и не столь сильного. Перед ранами человеческого сердца, с готовностью выставленными в этих книгах, я уже на пятнадцатом году жизни испытывал чувства, подобные тем, какие охватывали средневековых святых при созерцании ран Спасителя. Сила благочестия этих подвижников была так велика, что вызывала на их руках чудесные стигматы, изумление же перед стихами рождало в моей душе, в возрасте полного незнания жизни и незапятнанной чистоты, стигматы нравственных язв, кровоточивших у всех великих страдальцев нашего века. Да, в те годы, когда я был еще только лицеистом, приятелем маленького Эмиля, и тайком от матери читал недозволенные книги, я уже приобщился к тем волнениям, на которые мои робкие воспитатели указывали, как на самые греховные. Мечты мои питались опасными ядами жизни, и в то же время благодаря врожденному дару раздвоения личности я продолжал разыгрывать из себя примерного, благопристойнонабожного мальчика, старательного ученика и послушного сына. Впрочем, это было не так. Быть может, это покажется вам странным, но я ничего не разыгрывал, потому что на самом деле был таким, с теми непосредственными противоречиями, которые, возможно, и толкнули меня на путь самоанализа, всецело поглотившего мои отроческие силы. Когда в вашем труде о воле я прочел полные глубокого смысла указания относительно множественности нашего «я», как мог я немедленно не ухватиться за них, после того что мне пришлось пережить за годы, о которых я рассказываю вам здесь и в течение которых я действительно был многими существами одновременно? Этот кризис чувствительности, реализуемой в области воображения, продолжал разрушать во мне веру и соблазнял изощренными грехами и мучительным скептицизмом. Но кризис чувственности, который явился следствием первого, чуть было снова не возродил уже угасавшую в моем больном сердце религиозность. Я перестал быть девственником в семнадцать лет и, как это часто бывает, при самых прозаических и невеселых обстоятельствах. Однажды после обеда я оказался наедине с прислугой, приходившей иногда к моей матери. Это была свежая, но заурядная женщина лет тридцати. Она воспользовалась тем, что мы остались вдвоем, обняла меня и жаркими поцелуями довела до исступления.
Потом она пригласила меня к себе, и лихорадка, которую она вызвала во мне своими ласками, вместе с трепетным любопытством к плотским переживаниям, взбудораженным книгами, побудила меня пойти на это свидание. И вот, в случайной комнате, на постели, покрытой грубой простыней, в объятьях этой женщины, я потерял невинность. Мысль о моей физической непорочности разжигала в ней такую животную страсть, что мне делалось страшно. Как только это произошло, я в припадке невыразимого отвращения бросился вон из комнаты. Мне казалось, что мои руки, губы, все мое тело покрыты такой грязью, которую не смыть никакой водой. Первой моей мыслью было бежать исповедоваться и молить бога, в которого я еще веровал, чтобы он дал мне силы не повторять этого. Такое отвращение длилось несколько дней, а затем со смешанным чувством страха и радости я заметил, что постепенно желание снова овладевает мною, и тут-то я и имел случай наблюдать ту черту своего характера, которую уже отметил, рассказывая об отце: неспособность контролировать свои поступки и владеть собою. Напрасно противопоставлял я позору нового падения в бездну похоти свои еще не вполне разрушенные религиозные убеждения и всю свою интеллектуальную утонченность, воспитанную чтением; напрасно убеждал я себя, что все это и отвратительно и пошло, что я мало чем отличаюсь в данном случае от тех товарищей, которые по четвергам проводят время в кабаках или у девок и которых мы с Эмилем так презирали. Однажды вечером, часов около восьми, сославшись на головную боль, я вышел из дому. Был летний вечер. Я и теперь еще помню запах мокрой пыли, стоявший над только что политой площадью Жод. Я направился в предместье Сент-Аллир, где жила Марианна, — „так звали это существо, — в тревоге, что не застану ее дома. Но я нашел ее в ее убогой комнатке, и тут впервые целиком отдался животному наваждению. Однако потом меня охватило то же омерзение, что и в первый раз. С тех пор, наряду с двумя «я», обитавшими во мне, наряду с пылким, порядочным и набожным юношей и с юношей, настроенным романтически, возник и вырос третий- сладострастник, которым владеют самые низменные животные вожделения. Однако склонность к интеллектуальной жизни сказывалась во мне с такой силой и остротой, что, страдая от своего необычного состояния, я одновременно сознавал и свое превосходство, потому что сам же это состояние констатировал и изучал. Самое удивительное заключалось в том, что я отдавался этому настроению не более, чем трем остальным, причем отдавался совершенно сознательно. Во всех этих переживаниях я оставался подростком, другими словами — еще незрелым существом, с несложившимся характером, в котором едва намечались черты будущей личности: Я не утверждал себя ни в мистицизме, потому что в глубине души — в самой ее глубине — стыдился быть верующим, то есть человеком заурядным; ни в сентиментальных мечтаниях, ибо рассматривал все это как литературную забаву; ни в чувственности, поскольку я испытывал отвращение, как только поки дал комнату Марианны. С другой стороны, у меня не хватало ни смелости, ни теоретических знаний, чтобы объяснить интерес к своим собственным проступкам.
Это происходило, когда я был в классе риторики.
Эмиль, которому суждено было умереть в ту зиму от чахотки, уже тяжело болел и почти не выходил из дому. Он выслушивал мои признания с интересом, к которому примешивался страх. Это льстило моему самолюбию и делало меня в собственных глазах существом особого порядка. Но, как и накануне первого причастия, самолюбие не мешало и мне испытывать страх под взглядами аббата Мартеля, которые он бросал теперь на меня, когда мы встречались на улице. Несомненно он рассказал моей матери то, что можно было сказать, не нарушая тайны исповеди, так как она стала следить за моими отлучками, хоть и не могла помешать им. Да она, вероятно, и не видела в них ничего предосудительного, до такой степени я был лицемерен. Но болезнь моего Лучшего друга, надзор матери и страх перед аббатом привели к тому, что у меня расшатались нервы, тем более что в нашей местности, изобилующей вулканами, летние жары вызывают из почвы какие-то пряные, пьянящие испарения. Тогда мне случалось переживать буквально без умные дни, столько в них было противоречий, дни, когда я порой вставал утром более пламенным христианином, чем когда-либо. Я прочитывал несколько страниц «Подражания», молился и отправлялся в лицей с твердым намереньем взять себя в руки и быть благоразумным. Вернувшись домой, я учил уроки, а потом спускался вниз к Эмилю. Некоторое время мы посвящали чтению какой-нибудь увлекательной книги. Родители Эмиля, понимавшие, что сын их умирает, баловали его и позволяли покупать любую книгу, которую ему хотелось. Мы с ним читали теперь произведения современных авторов. Новинки, только что полученные из Парижа, еще пахли свежей бумагой, и типографской краской. Это чтение доводило нас до своего рода мозгового озноба, который не покидал меня в течение всего дня, даже во время лицейских занятий. В классе, в удушливой атмосфере жаркого дня, когда через открытую дверь на дворе были видны короткие тени от деревьев и слышались голоса диктующих учителей, передо мной вдруг возникал образ Марианны, приходило искушение, сначала смутное и далекое, а потом все более и более сильное. Я боролся с ним, хотя и знал, что долго не выдержу, и борьба эта придавала ему еще большую силу и остроту. Я возвращался домой. Нечистый образ следовал за мной по пятам. С дьявольской поспешностью я готовил уроки, как-то находя еще для этого силы, несмотря на сумятицу взбудораженных нервов. Я ужинал, но чувствовал, что во рту у меня пересыхает, потом спускался вниз под предлогом, что мне надо поговорить с Эмилем, и бежал стремглав на улицу, где жила Марианна. Подле нее я вновь испытывал звериное вожделение, обжигающее и терпкое, за которым снова следовало странное тошнотворное чувство, а вернувшись к себе, обычно проводил целые часы у окна, глядя на звезды, мерцавшие на безграничном летнем небе, вспоминая покойного отца и то, что он рассказывал мне об этих далеких Лирах.
Тогда меня ошеломляла мысль о тайне природы, о тай не человеческой души вообще и моей Души, живущей.
среди этой природы, и я не знал, чему я больше изумляюсь: глубинам ли этих немых небес, или безднам, которые за один проведенный таким образом день рас крывались в моем сердце.
Таковы были мои настроения, дорогой учитель, когда я перешел в класс, ставший для меня решаю щим: в класс философии. С первых же недель кур са начались мои восторги, хотя вы отлично представляете себе, что это был за курс и как он был набит всяким хламом классической психологии. Но как бы то ни было, психология — даже неточная и, неполная, официальная и условная — привела меня в восторг. Применяемый в этой дисциплине метод — собственные наши размышления и анализ интимных переживаний; самый предмет изучения — человеческое «я», рассматриваемое в его свойствах и страстях; результат, к какому стремится психология, — система общих идей, способных в кратких формулах резюмировать огромное количество отдельных феноменов, — все в этой еще неведомой мне науке соответствовало тому складу ума, какой сложился у меня в итоге наследственных задатков, воспитания и собственных устремлений. Я забыл обо всем на свете, даже о книгах, и целиком погрузился в эти еще непривычные для меня занятия с тем большим увлечением, что смерть Эмиля, моего единственного друга, случившаяся как раз в это время, вновь поставила перед моим любознательным умом проблему судьбы чело века, а я чувствовал, что разрешить ее с помощью веры я уже не в состоянии. Мое рвение было настолько сильным, что вскоре я перестал удовлетворяться только лицейским курсом. Я разыскивал на стороне книги, которые могли бы дополнить уроки преподавателя, и таким-то образом и очутилась однажды в моих руках «Психология веры». Книга произвела на меня такое впечатление, что я тотчас же достал и «Теорию страстей» и «Анатомию воли». В области отвлеченных идей эти труды были для меня таким же ударом грома, как некогда в области художественных впечатлений произведения Мюссе. Завеса упала. Мрак внешнего мира и мира внутреннего озарился светом.
Я нашел свой путь. Я стал вашим учеником.
Но, чтобы объяснить вам точнее, каким образом ваши идеи заполонили, подчинили себе мое сознание, разрешите сразу же перейти к тому, что явилось результатом чтения ваших книг и вызванных ими размышлений. Вы увидите, каким образом мне "удалось извлечь из ваших произведений полную, совершенную и основанную на разуме этику, которая чудесным образом помогла мне объединить все разрозненные во мне элементы. Прежде всего в первом из этих трудов, в «Психологии веры», я нашел окончательное избавление- от тех религиозных терзаний, которые еще преследовали меня, несмотря на все мои сомнения. Конечно, и раньше у меня не было недостатка в возражениях против догматов церкви, так как мне попадалось немало книг, отличительной чертой которых было самое смелое отрицание религии. В особенности меня привлекал к себе, как я вам уже говорил, скептицизм, ибо я находил в нем двойное достоинство: интеллектуальное превосходство и новизну в области чувства. В числе многих других не избег я влияния и автора «Жизни Иисуса». Магия его изысканного стиля, царственное изящество его дилетантизма, томная поэзия его елейного безбожия меня глубоко трогали; но недаром я был сыном математика: я не мог удовлетвориться всем тем приблизительным, а порой и вовсе сомнительным, что мы видим у этого несравненного художника. Мои мысли покорила, дорогой учитель, именно математическая строгость вашей книги. Вы мне доказывали с помощью неотразимой диалектики, что всякая гипотеза о первопричине представляет собою нелепость, что сама идея об этой первопричине — бессмыслица, но что тем не менее эта- нелепость, и эта бессмыслица так же необходимы для нашего ума, как иллюзия вращения Солнца вокруг Земли необходима для нашего зрения, хотя мы отлично знаем, что Солнце неподвижно, а Земля находится в движении. Сила и убедительность этого рассуждения восхитили меня, и мой ум, покорно отдавшись вашему руководству, пришел, наконец, к ясному и обоснованному мировоззрению. Вселенная предстала предо мною такой, какой она есть на самом деле, источающей без начала и без цели неисчерпаемые потоки феноменов.
Тщательность, с, какой вы основывали вашу аргументацию в области фактов, почерпнутых из естественных наук, совершенно соответствовала тому методу, какой некогда применял отец, и уже это одно должно было прельстить меня очарованием старой привычки, к которой мой ум снова возвращался спустя много лет. Я читал и перечитывал страницы вашего груда, резюмировал их, комментировал и со всем пылом неофита старался впитать в себя их содержание.
Интеллектуальная гордость, свойственная мне с самого детства, расцвела в юноше, который научился у вас отказываться от самых сладостных и утеши1 тельных иллюзий. Как передать лихорадочные переживания, охватившие меня при этом посвящении в мир новых идей, переживания, которые своим блаженством и энтузиазмом были подобны первой любви! Мне доставляло почти физическое наслаждение с вашими книгами в руках потрясать древнее здание веры, в котором я вырос. Да, это было мужественное блаженство Лукреция, блаженство отрицания, дающего свободу, а не трусливая меланхолия какого-нибудь Жуффруа. Этому гимну Науке, в котором каждая ваша страница подобна строфе поэмы, я внимал с восторгом, тем более что способность к анализу, до сих пор составлявшая основу моей религиозности, нашла благодаря вам новое и более полное применение, чем в исповедальне; два ваших главных трактата раскрыли мне мой внутренний мир, в то время как «Психология веры» осветила вселенную таким озарением, которое даже сегодня остается для меня последним и неугасимым светочем среди ненастной ночи.
В самом деле, как хорошо вы объяснили мне все несообразности моего детства! Теперь я понял доставившее мне столько горя нравственное одиночество возле матери, возле аббата Мартеля, возле товарищей, возле всех, не исключая даже Эмиля. Ведь в вашей «Теории страстей» вы блестяще доказали, что человек не в состоянии выйти из своего «я», что всякие отношения между двумя существами, как и все остальное в мире, покоятся на иллюзии. Ваша «Анатомия воли» и ее неопровержимая логика дали мне все необходимое для объяснения тех припадков чувствечности, по поводу которых я переживал столь жестокие приступы раскаянья. Что же касается усложнений, в каких я часто винил самого себя, особенно останавливаясь на них как на недостатке искренности, то вы открыли мне, что это- непреложный закон существования, навязанный нам наследственностью.
Благодаря вам я стал отдавать себе отчет в том, что, выискивая у романистов и поэтов нашего века греховные и болезненные состояния души, я тем самым следовал своему призванию психолога. Не правда ли, вы писали: «Человеческая душа должна рассматриваться ученым как предоставленный ему природой опыт. Одни из таких опытов полезны для общества, и тогда мы говорим о добродетели; другие — вредны, и тогда слово «добродетель» заменяется словами «порок» или «преступление». Однако эти последние явления- наиболее примечательны, и науке не хватало бы самых существенных элементов, если бы, например, не жил на земле Нерон или какой-нибудь итальянский тиран XV века…» Помню, как в жаркие летние дни с вашей книгой в кармане я отправлялся на прогулку и, оказавшись наедине с природой, читал какую-нибудь из таких фраз и с наслаждением размышлял над ее смыслом. Я применял к окружающей природе философское толкование того, что обычно принято называть злом. Совершенно очевидно, что извержения, поднявшие горную цепь Дом, у подножия которой я бродил, некогда залили кипящей лавой и опустошили соседнюю равнину, уничтожив на ней все живое. Однако они создали то величие горизонта, которым я восхищался, любуясь изящными очертаниями горы Париу, вершиной Пюи Де Дом и благородством всего этого горного ландшафта: Вдоль дорог зеленел молочай в цвету. Я ломал его стебли, чтобы посмотреть, как капает из них молочно-белый сок. Этими ядовитыми цветами питается красивая зеленая гусеница с темными пятнышками; из нее появится бабочка с крыльями самых нежных оттенков, которую называют сфинксом. Иногда среди камней этих пыльных дорог проскальзывала гадюка, и я смотрел, как ее гибкое пятнистое тело с плоской головкой ползет по красноватой вулканической почве. Опасное пресмыкающееся представлялось мне еще одним доказательством равнодушия природы, которая с неистощимым упорством стремится только умножить виды жизни, все равно какой, полезной идя вредоносной. И тогда я с невыразимой силой чувствовал, что окружающее дает мне тот же самый урок, что и ваши книги, то есть, что единственное, чем мы обладаем, — это наше «я», что только оно реально, что природа не знает нас, равно как не знают нас и люди, и нам нечего ждать от нее или от них, кроме повода для переживаний и размышлений. Мои прежние верования в бога отца и судию казались мне теперь бредом больного ребенка, и при одной мысли, что я, такой слабый, в состоянии постигнуть в этом мире то, чего никогда не понять какому-нибудь крестьянину из числа тех, что встречались мне во время прогулок, я готов был обнять весь мир, до самого горизонта, до самых глубин огромного, чистого неба.
Правя мирными волами, запряженными в огромные повозки, крестьяне спускались с гор и набожно снимали шапки перед придорожными крестами. Я с каким-то упоением, всем сердцем презирал их за грубое суеверие, а заодно презирал и аббата Мартеля и мать, хотя еще и не решался объявить о своем безбожии, предвидя, какую это вызовет бурю. Но подробности эти не существенны, и я перехожу к изложению драмы, которую вам трудно было бы понять, "если бы я предварительно необнажил перед вами самых сокровенных тайников своей души и не раскрыл процесса формирования моих взглядов.
§ 3. — В чуждой среде.
В результате занятий, может быть слишком усиленных, я в тот год довольно серьезно заболел и принужден был прервать подготовку к поступлению в Нормальную школу. Поправившись, я остался на второй год в классе философий, но одновременно посещал некоторые уроки в классе риторики. На экзамены в Нормальную школу я явился приблизительно в то же время, когда имел честь быть принятым вами.
Вам известны события, последовавшие за этим: на экзаменах я провалился. Моим сочинениям не хватало того литературного блеска, который приобретается только в парижских лицеях. В ноябре 1885 года я принял предложение поступить, гувернером в семью Жюсса-Рандонов. Я писал вам тогда, что отказываюсь от своей независимости, чтобы избавить мать от новых расходов. К этому соображению примешивалась и тайная надежда на то, что сделанные здесь сбережения позволят мне, как только я выдержу экзамен на лиценциата, готовиться в Париже к карьере лицейского преподавателя. Меня тянуло в столицу особенно потому, — и теперь ничто не мешает мне признаться вам, дорогой учитель, — что это дало бы мне возможность поселиться где-нибудь недалеко от улицы Ги де ля Бросс. Посещение вашей уединенной обители произвело на меня неизгладимое впечатление.
Вы представлялись мне современным Спинозой, благородным ученым, жизнь которого, в полном соответствии с вашими книгами, целиком посвящена теоретической мысли. Я уже создавал в воображении целую поэму, блаженно мечтая о том, что узнаю часы ваших прогулок и буду встречаться с вами в старом Ботаническом саду, деревья которого шумят под вашими окнами, и даже о том, что вы, быть может, согласитесь руководить мною и что при вашей помощи и поддержке я займу какое-то место в науке; словом, вы были для меня олицетворением Уверенности, Учителем с большой буквы, тем, кем являлся Фауст для Вагнера в психологической симфонии Гете.
Условия, предложенные мне семьей Жюсса-Рандонов, были вполне подходящими". Речь шла о том, чтобы проводить время с двенадцатилетним мальчуганом, младшим сыном маркиза де Жюсса-Рандон. Впоследствии я узнал, почему эта семья была вынуждена перебраться на всю зиму в свой замок около озера Эда, где обычно Рандоны проводили только осенние месяцы.
Сам маркиз де Жюсса, родом из Оверни, занимавший во- времена Второй империи пост полномочного министра, только что проиграл очень крупную сумму на бирже, и без того уже пострадав во время последнего биржевого краха. Поместья его /были заложены, и доходы заметно сократились, поэтому было решено сдать внаем со всей мебелью за очень высокую плату родовой особняк на Елисейских Полях.
Семья отправилась в поместье Жюсса несколько раньше чем обычно, рассчитывая перебраться оттуда на свою виллу в Канны. Однако представился удобный случай сдать и виллу. Желание облегчить свой бюджет, а вместе с тем и развившаяся у маркиза ипохондрия навели его на мысль, что провести круглый год в деревне не так уж плохо. Тут его захватил врасплох неожиданный отъезд гувернера, которому, очевидно, не очень-то улыбалось похоронить себя на несколько месяцев в глуши, и маркизу пришлось спешно отправиться в Клермон. Тридцать пять лет тому назад он изучал в этом городе математику у г-на Лимассе, который был другом моего отца.
Тут маркизу и пришло в голову просить старого учителя, чтобы тот порекомендовал ему какого-нибудь дельного и образованного молодого человека, который в течение года мог бы заняться воспитанием его сына. Он предлагал за этот труд пять тысяч франков. Лимассе вспомнил обо мне, и по причинам, о которых я уже говорил, я согласился, чтобы меня представили маркизу в качестве кандидата на это место. И вот однажды в салоне одного из отелей на площади Жод, я увидел довольно высокого лысого господина, со светло-серыми глазами и с лицом, покрытым красными пятнами. Маркиз даже-не дал себе труда взглянуть на меня как следует; он сразу же заговорил и разглагольствовал не переставая, мешая в разговоре всякие подробности о своем здоровье — он был очень мнителен — с резкой критикой современных методов воспитания. Мне кажется, что я еще слышу его голос, слышу, как он небрежно, сыплет фразами, открывавшими самые различные стороны его характера: «Послушайте, милый Лимассе, когда же вы соберетесь к нам в горы? Воздух у нас замечательный! Это как раз то, что мне нужно. В Париже я задыхаюсь. Вообще, мы не дышим полной грудью.
Я надеюсь, сударь, — тут он обернулся ко мне, — что вы не сторонник новых методов воспитания? Наука, только наука! А бог, господа ученые? Куда вы его девали? — Потом, снова обращаясь к г-ну Лимассе: — В мое, или, вернее, в наше время все-таки еще суще- ствовали иерархия и чувство долга. Еще не жертвовали воспитанием ради образования. Помните нашего духовника, аббата Абера? То-то был проповедник! Какое у него было завидное здоровье! Помните, как он, бывало, бодро шествовал в любую погоду и никогда не кутался?.. А вам, Лимассе, сколько лет? Шестьдесят пять? Ого… Шестьдесят пять лет — и никаких болезней? Ни одной?.. Но не находите ли вы, что с тех пор, как мы перебрались в горы, вид у меня лучше? Я никогда по-настоящему не хвораю, но вечно у меня что-нибудь не так… Между прочим, если уж хворать, то я предпочел бы хворать по-настоящему.
Тогда по крайней мере было бы от чего лечиться…» Я привожу здесь эти несуразные фразы, как они сохранились у меня в памяти, только для того, чтобы показать, чего стоил ум этого господина, который, как мне сообщила мать, позволил себе впутать ваше почтенное имя в этот процесс. И также для того, что бы вы могли понять, в каком настроении я явился четыре дня спустя после этого разговора в замок, где судьба столкнула меня с такими ужасными событи ями. Я понравился маркизу с первой же встречи, и он пожелал отвезти меня в замок в своем ландо. Во "вре мя переезда из Клермона в Эда он успел рассказать мне о всех членах семьи. Благодаря его безудержной болтливости — причем он непрестанно возвращался к собственной особе — я постепенно узнал, что его жена и дочь не любят светское общество, что обе они пре восходные хозяйки, что его старший сын, граф Андре, в настоящее время находится в двухнедельном отпус ке в замке и что мне не следует обращать внимания на его резкости, так как в сущности у него золотое сердце. Маркиз рассказал мне также, что его млад ший сын, Люсьен, был очень болен и что самое важ ное сейчас — восстановить его здоровье. Но при слове «здоровье» он снова заговорил о себе, — и пошел и пошел! После бесконечных признаний о своих мигре нях, несварении желудка и бессоннице, о своих быв ших, настоящих и будущих недугах он вдруг уснул в уголке экипажа, видимо утомленный прохладным воздухом и потоком своих, собственных слов.
Я отлично помню все планы, которые мысленно строил, отделавшись наконец от этого несносного болтуна, уже ставшего предметом моего глубокого презрения. Я строил их, любуясь прелестными пейзажами, открывавшимися перед нами среди гор и пропастей и желтеющих осенних рощ, над которыми на горизонте возвышалась гора Пюи де ля Ваш с ее морщинистым кратером, покрытым красноватой вулканической пылью. Даже если бы я не был подготовлен ко всему этому заранее, было вполне достаточно того, что я разглядел в маркизе и что он сам успел наболтать о своей семье, чтобы я понял, что еду как в ссылку и буду жить среди людей, которых привык причислять к варварам. Так я уже давно называл всех, кого считал безнадежно чуждыми умственной жизни.
Перспектива подобной ссылки не пугала меня. Ведь план, на основании которого я собирался построить жизнь, представлялся мне таким ясным! Я уже решил, что буду жить только внутренней жизнью, в самом себе, и всячески оберегать свое «я» от посягательств на него извне. Замок, куда я направлялся, и люди, которые жили под его кровлей, должны были стать для меня только материалом для исследований к вящей пользе моего мышления. Моя программа была выработана заранее: те двенадцать или четырнадцать месяцев, которые мне предстоит провести в замке, я использую для изучения немецкого языка и для того, чтобы проштудировать два тома «Физиологии» Бонн, лежавших в моем чемоданчике, набитом главным образом вашими книгами, дорогой учитель.
Вместе с ними там находилась и моя настольная книга — «Этика» и сочинения Рибо, Тэна, Герберта Спенсера, кое-какие психологические романы и учебники, необходимые для подготовки к экзаменам. Я рассчитывал держать экзамены в июле. Не начатая тетрадь была специально приготовлена для того, чтобы заносить в нее заметки об обитателях замка. Я решил, что буду разбирать их по косточкам, и с этой целью приобрел перед отъездом запирающийся на ключик альбом, на первом листе которого написал следующее изречение из «Анатомии воли»: «Спиноза утверждал, что он изучает человеческие чувства, как математик изучает геометрические фигуры; современный психо лог должен изучать их, как химические соединения, производимые в реторте, сожалея только о том, что его реторта менее прозрачна и удобна в обращении, чем лабораторная…» Я рассказываю вам об этих пустяках для того, чтобы показать степень своей тогдашней искренности, а также и то, как мало я походил, когда ехал в ландо по дороге в Эда, на того бедного, но честолюбивого юношу, образ которого выведен во множестве романов.
Я отлично помню, что при своей обычной склонно сти к раздвоению, я с первой же минуты не без удо вольствия констатировал это различие. Я вспоминал Жюльена Сореля из «Красного и черного», когда он направлялся в дом г-на де Реналя, — вспоминал иску шения бальзаковского Рюбампре перед домом Баржетонов и некоторые страницы из «Вентра» Валлеса.
Я анализировал чувства, которые скрывались за вожделениями и мятежностью этих столь различных героев. Переходя из одного мира в другой, все они испытывали изумление. Должен сказать, что у себя я никаких следов такого изумления не находил, тем более изумления, связанного с алчностью или со злобой. Я совершенно спокойно смотрел на старого маркиза, дремавшего рядом. В тот прохладный ноябрьский день на нем было меховое пальто, поднятый воротник которого наполовину закрывал лицо.
— Ноги у него были покрыты темным пледом из мягкой шерстяной материи. На руках, поддерживавших плед, были коричневые перчатки с черными узорами. Надвинутая на глаза фетровая шляпа блестела, как шелк. Уже по этим подробностям можно было судить о разнице между образом жизни маркиза и жалким убожеством нашего домашнего обихода, скрываемым лишь благодаря редкой опрятности моей матери. Но я испытывал удовлетворение от того, что это богатство не вызывает во мне ни малейшей зависти, — ни зависти, ни робости. Я "великолепно владел собой, чувствовал себя уверенно и от всякого вульгарного посягательства на меня был, как броней, укрыт своей теорией, вашей теорией, и неизменным превосходством моих идей. Мой тогдашний внутренний портрет будет очерчен со всей полнотой, если прибавить к этому, что я дал себе слово раз навсегда вычеркнуть любовь из своей жизненной программы. Дело в трм, что после приключения с Марианной у меня было еще одно любовное приключение, — о нем я умолчал, — с женой лицейского преподавателя, женщиной до того глупой и вместе с тем до того претенциозной, что я расстался с ней, более чем когда-либо утвердившись в своем презрении к умственным способностям «дамы», как выразился Шопенгауер, и также с полным отвращением к чувственности. Я приписываю это отвращение к плоти глубокому влиянию на меня католицизма, сохранившего власть надо мной, несмотря на новые догмы моей духовной жизни. По опыту, который я слишком часто повторял, я уже знал, что этой гадливости еще недостаточно, чтобы подавить в себе плотские вожделения. Но я также знал, что они рож дались у меня — например, в дни встреч с Мариан ной- только оттого, что я не сомневался в возмож ности их удовлетворить. Поэтому я рассчитывал, что одиночество в замке избавит меня от соблазнов и позволит в полной мере осуществить правило древ него мудреца, который сказал: «Инстинкты пола обуздывай мыслью!» Ах, это мое вечное преклонение перед мозгом, перед мыслящим «я»! Преклонение перед ним до такой степени гнездилось во мне, что одно время я даже хотел изучать монашеские уставы, чтобы при их помощи лучше выполнить это предписание. Да, я собирался ежедневно посвящать, как это- делают монахи, определенное время размышлениям над ка ким-нибудь вопросом своего философского кредо и ежедневно, по монашескому обычаю, отмечать день одного из моих святых — Спинозы, Гоббса, Стендаля, Стюарта Милля, вас, дорогой учитель, — вызывая в па мяти образ и теорию избранного мною наставника и вдохновляясь его примером. Я понимаю, что такие планы можно объяснить только молодостью и что все это было очень наивно. Но по крайней мере вы убедитесь, что я совсем не был тем человеком, каким меня теперь изображает семья маркиза, — плебеем-интриганом, который только и мечтает о выгодной женитьбе; если совращение мадемуазель де Жюсса и входило в мои расчеты, то это было обусловлено и вызвано обстоятельствами совершенно особого рода.
Я пишу не для того, чтобы выставлять себя перед вами в романтическом свете, и не вижу причин скрывать от вас, что среди обстоятельств, толкнувших меня на мысль об обольщении, от которой я был далек в день приезда в замок, самым важным я считаю первое впечатление, произведенное на меня графом Андре, братом этой несчастной, воспоминание о которой, по мере того как драма приближается к развязке, терзает меня, как пытка. Но вернемся к моему приезду в замок… Было около пяти часов. Вот ландо катит быстрее. Маркиз проснулся. Он показывает мне подернутую рябью поверхность маленького озера, розоватого и холодного в час заката, бросающего красные отблески на сухие листья буков и дубов. Вдали показался замок, — большое белое здание не очень старой постройки, с чересчур тонкими башенками, конические крыши которых напоминают крепостные караулки. Замок приближается с каж-4 дым поворотом, серой дороги. Над соломенными крышами соседнего села, или, вернее, деревушки, высится крытая черепицей колокольня. Но скоро и она остается позади. Вот мы уже едем по старой аллее, ведущей к замку, мы около подъезда и наконец в вестибюле.
Входим в гостиную. Как все дышало безмятежностью в этой гостиной, освещенной лампой под широким абажуром, как весело потрескивал камин! В комнате я заметил несколько групп. Маркиза де Жюсса с дочерью занимались каким-то вязаньем для бедных; прислонившись к раскрытому роялю, на котором лежали ноты, мой будущий ученик рассматривал книгу с картинками; скромно сидя в сторонке, гувернантка мадемуазель Шарлотты и какаято монашка шили; граф Андре читал газету, которую он отложил в сторону, когда мы вошли. Каким миром дышало все в этой гостиной! И кто бы мог предполагать, что мое появление в ней означает конец счастливой жизни для всех этих людей, которые в настоящую минуту рисуются в моей памяти с поразительной отчетливостью! Прежде всего в моем воображении возникает сама маркиза, высокая, полная женщина с несколько, крупными чертами лица и весьма отличавшаяся от того представления о светской даме, которое я, при совершенном незнании аристократического общества, мог составить себе мысленно. Она, по-видимому, действительно была образцовой хозяйкой, какой рекомендовал ее маркиз, но, кроме того, и прекрасно воспитанной дамой. Достаточно ей было сказать мне несколько слов по поводу хорошей погоды, благоприятствовавшей нашей поездке, чтобы я тотчас же почувствовал себя здесь как дом а. Далее я вижу невыразительный профиль гувернантки, мадемуазель Элизы Ларже, и застывшую на ее бесцветном лице неизменно одобрительную улыбку старой девы, которая могла бы служить типичным примером простодушного и счастливого раболепия, спокойной жизни и материального благополучия. Рядом с нею сидит сестра Анакле; у нее глаза крестьянки и тонкие губы.
Монахиня постоянно находилась в замке, готовая в любую минуту сделаться сиделкой у маркиза, которому вечно грозил удар. Потом я вижу Люсьена, ленивого ребенка с пухлыми щеками. Я вижу ту, которой уже нет в живых, ее тонкую фигурку в светлом платье, ее серые глаза, особенно кроткие благодаря бледной окраске, ее каштановые волосы, продолговатое лицо и жест, каким она подала отцу и мне по чашке чаю, чтобы мы согрелись с дороги. Я еще слышу ее голос, когда она обратилась к маркизу: — Отец, вы заметили, что сегодня озеро было совсем разовое? Слышу я и голос господина де Жюсса, ответив шего дочери между двумя глотками грога: — Во всяком случае, я заметил, что над лугами туман, а в воздухе пахнет ревматизмом.
Я слышу голос графа Андре, который вмешался в разговор: — Все это верно, зато какая великолепная пред стоит завтра охота! — Потом; обернувшись ко мне, он спросил: — А вы не охотник, господин Грелу? — Нет, — ответил я. I #9632;- А верхом ездить любите? — Тоже нет.
— Мне жаль вас, — рассмеялся он. — По-моему, если не считать войны, то это два самых больших удо вольствия. " —.
Конечно, такой отрывок разговора мало что значит, и, вероятно, вы не поймете, почему эти простые фразы были причиной того, что граф Андре де Жюсса пока- зался мне человеком, не похожим на всех тех, с кем я встречался до сих пор, и почему, поднявшись в свою комнату, где лакей начал распаковывать мой чемодан, я думал о нем больше, чем о его хрупкой и изящной сестре, а за столом во время обеда и в течение всего вечера следил только за ним. Однако мое наивное изумление в присутствии этого мужественного, уве ренного в себе человека объяснялось очень просто.
Ведь до этого я рос в среде, занятой исключительно интеллектуальными интересами. Моими товарищами были первые ученики, такие же хрупкие и слабые зло- ровьем, как я сам, и мне в голову не приходило обращать внимание на товарищей другого рода, на тех, ко торые отличались в гимнастических упражнениях, слу живших им, впрочем, только предлогом для проявле ния силы. Все мои любимые учителя и немногочислен ные друзья отца тоже были людьми интеллектуально го склада. А рисуя в своем воображении героев из романов, которые мне приходилось читать, я всегда представлял себе их более или менее сложную манеру мыслить, а не их физические качества. Короче говоря, когда я думал о превосходстве человека, обладающего здоровой животной энергией, я делал это вполне от влеченно". Граф Андре, которому было немного за тридцать, являл собою замечательный образчик такого превосходства. Представьте себе человека среднего роста, атлетического сложения, широкоплечего и стройного, с движениями, свидетельствующими о физической силе и гибкости. Глядя на такие движения, чув ствуешь, что каждое из них производится с тем со вершенством, которое объясняется точностью и лов костью. У графа были породистые руки и ноги, сами по себе говорившие о его происхождении, а вместе с тем и чрезвычайно мужественное лицо и смуглый оттенок кожи, указывающий обыкновенно на кровь, богатую железом и красными кровяными шариками. У него был четырехугольный лоб, обрамленный иссиня-черными волосами, такие же черные усы над плотно сжатым энергичным ртом, карие, близко расположенные друг от друга глаза и нос с горбинкой. Все это придавало сто облику сходство с какой-то хищной птицей. Наконец, энергично очерченный подбородок с ямочкой завершал волевой характер этого лица. Воля и была отличительным признаком графа: действие, воплотившееся в человеке. У этого офицера, с телом, развитым всеми видами физических упражнений, и готового на любой подвиг, не было, казалось, ни малейшего нарушения в равновесии между мыслью и действием, и в каждом малейшем его жесте выражалось все его существо. Впоследствии я неоднократно наблюдал, как граф ездит верхом, и в моем воображении воскресала античная легенда о кентавре; я видел, как он всаживает на расстоянии тридцати шагов одну за другой десять пуль в игральную карту, как во время прогулок перепрыгивает с ловкостью профессионального гимнаста рвы или, чтобы позабавить своего младшего брата, перескакивает через стол, едва касаясь его руками.
Я узнал, что на войну он ушел добровольцем, хотя ему тогда едва минуло шестнадцать лет, и проделал всю кампанию, легко перенося самые тяжкие лишения и поддерживая дух старых солдат. Я наблюдал за ним в первый вечер во время обеда, смотрел, как степенно он ест, с тем прекрасным аппетитом, который свидетельствует о полноте жизни, как он говорит звучным и властным голосом, — и я сразу почувствовал, что передо мною существо, во всем отличное от меня, но посвоему совершенное и в своем роде вполне законченное. Теперь, когда я пишу эти строки, мне кажется, что все это было вчера, что я снова нахожусь в гостиной, где маркиз начинает с дочерью очередную партию в безик, а я беседую с маркизой и украдкой наблюдаю, как граф Андре один играет на бильярде.
Я видел его в тот вечер в пролете открытой настежь двери, гибкого и сильного, в вечернем костюме из тонкого сукна, с сигарой во рту, видел, как он толкает шары с такой безупречной ловкостью, что каждое его движение преисполнено изящества. И вот я, ваш ученик, безмерно гордый широтой своих мыслей, с за вистливым изумлением следил за каждым жестом этого молодого человека, предававшегося довольно вульгарному спорту. Так ученый средневековый монах, непривычный к могучей игре мускулов, испыты вал зависть и восхищение при виде рыцаря, шество вавшего в полном вооружении.
Произнося слово «зависть», умоляю вас попять меня правильно и не приписывать мне низменных чувств, которые никогда мне не были свойственны.
Ни в тот вечер, ни в последующие дни ни малейшей зависти ни к титулу графа Андре, ни к его богатству, ни к одной из его общественных привилегий, какими он обладал и каких я был лишен, я не испытывал. Не испытывал я и той странной ненависти одного самца к другому, о которой вы очень тонко говорите на стра ницах своего труда, посвященных любви. Моя мать имела слабость твердить мне в детстве, что я краси вый мальчик. Часто повторяли мне это и Марианна и другая моя любовница. Не будучи фатом, я все же понимал, что в чертах моего лица и в фигуре есть неч то, что может нравиться женщинам. Я рассказываю вам это не из тщеславия, а, наоборот, для того, чтобы показать, что тщеславие не играло ни малейшей роли в том виде соперничества, которое с первых жё дней сделало меня противником, почти врагом графа, хотя он ни на минуту и не подозревал об этом. Повторяю, в этом соперничестве было столько же восхищения, сколько и антипатии. В сущности чувство, которое я пытаюсь определить здесь, носило в себе определенные следы бессознательного атавизма. Позднее я расспрашивал маркиза, дворянской спеси которого льстили такого, род а расспросы, о генеалогий Жюеса-Рандонов и убедился, что они — потомки завоевателей, в то время как в жилах потомка лотарингских крестьян, который пишет для вас эти записки, течет кровь расы покоренной, кровь многочисленных предков, в течение столетий прикрепленных к земле. Конечно, между моим мозгом и мозгом графа Андре такое же различие, как, например, между моим и вашим, дорогой учитель, и, может быть, еще более значительное, так как я могу вас понять, граф же едва ли мог воспринять хотя бы одно из моих умозаключений, даже то, которое я высказываю в эту минуту о наших отношениях с ним. Если говорить начистоту, то я — цивилизованный человек, а он — варвар. Но, представьте себе, я сразу же испытал ощущение, что моя утонченность менее аристократична, чем его варварство. Я вдруг почувствовал глубинным жизненным инстинктом, куда мысль проникает с таким трудом, то преимущество породистости, которое современная наука вполне признает и которое, будучи действительным для всей природы, должно быть действительным и для человека.
Но зачем произносить неточное слово «зависть» для обозначения бессознательной вражды, вроде той, какую сразу же возбудил во мне граф? Почему бы этой вражде не быть наследственной, как и многим другим явлениям? Ведь всякое человеческое качество, например, сильный характер или неиссякающая активность, предполагает, что в течение многих веков целый ряд индивидуумов, завершением цепи. которых является данный субъект, проявлял свою волю и действовал.
Качество же, выражающееся в мощной мысли, по-.
рождено цепью индивидуумов, которые, наоборот,
больше размышляли, чем проявляли волю, больше созерцали, чем действовали. В течение длинного ряда лет антипатия, то ясно выраженная, то скрытая, сделала людей первой группы ненавистной для второй, и когда наследники этой гигантской аботы веков, одинаково типичные для каждой из этих групп, как, например, мы с графом, встречаются, то как же им не ощериться друг на друга, словно двум зверям разной породы? Лошадь, никогда не видавшая льва, дрожит от страха, если ей бросят на подстилку солому, на которой до этого лежал хищник. Следовательно, страх передается по наследству. А разве страх не является одним из выражений ненависти? Почему же тогда нельзя унаследовать и ненависть? Ведь в тысяче случаев зависть не что иное, как именно это чувство; таким чувством она была и для меня — отдаленным эхом той ненависти, которую некогда испытывали наши предки, продолжающие в наших сердцах борьбу, начатую много столетий тому назад.
Известная поговорка гласит, что антипатии всегда взаимны, и если принять мою гипотезу о вековом происхождении антипатии, то нетрудно понять и корни этой взаимности. Однако случается, что антипатия не обнаруживается в двух существах одновременно. Это, например, бывает тогда, когда один из соперников не снисходит до того, чтобы считаться с другим, или когда один прячется от другого. Я не думаю, что граф Андре воспылал с первой же встречи той ненавистью по отношению ко мне, которая, конечно, вспыхнула бы у него, если бы он пожелал читать в моей душе. Во-первых, он очень мало обращал внимания на какого-то юношу, который явился к ним из Клермона, чтобы занять место домашнего учителя, а я со своей стороны решил, что в чуждой для меня среде буду вся чески скрывать свое подлинное «я». Такое защитное лицемерие не было мне противно, подобно тому как садовнику Жюсса-Рандонов нисколько не противно укрывать кусты смородины, чтобы предохранить их от заморозков. Ложь в отношениях с людьми, всегда привлекавшая меня благодаря прирожденной склонности к раздвоению личности, слишком соответствовала мо ей интеллектуальной гордости, чтобы я не предавался ей с полным восторгом. У графа же Андре не было никаких причин скрывать от меня свой истинный характер, и в самый вечер моего приезда в замок, когда настал час расходиться по своим, комнатам, он при гласил меня зайти к нему, чтобы побеседовать. При этом он едва взглянул на меня, и я отлично понял, что меня приглашают отнюдь не для того, чтобы познакомиться со мной поближе, а лишь для того, чтобы сообщить мне свои взгляды относительно обязанностей воспитателя. Граф Андре занимал в одном из флигелей замка небольшое помещение, состоявшее из трех комнат: спальни, гардеробной и курительной, в которой мы и встретились. Обстановку ее составляли большой задрапированный диван, несколько кресел и широкий письменный стол. На стенах поблескивало оружие всех стран и народов: марокканские ружья из Танжера, сабли И мушкеты времен Первой империи, каска прусского солдата, которую граф показал мне, едва я успел войти в комнату. Он закурил короткую вересковую трубку, поставил на стол два стакана джина, разбавленного сельтерской водой, и, подняв лампу,) чтобы осветить каску с медным острием, стал мне рассказывать: — Уверен, что этого я ссадил собственной рукой…
Вы не знаете, что это за ощущение, когда держишь врага на мушке, тщательно прицелишься и видишь, как он падает. Приятно подумать: «Одним меньше!..» Это произошло в какой-то деревне, недалеко от Орлеана, на рассвете… Мы были тогда в карауле на деревенском кладбище. Вдруг вижу, над оградой появилась чья-то голова! Человек оглянулся по сторонам… Вот и плечи показались… Вероятно, этому любопытному немцу захотелось посмотреть, что мы тут делаем… Ну, ему не пришлось вернуться с докладом…
Граф поставил лампу на стол и рассмеялся своим воспоминаниям. Потом лицо его снова сделалось серьезным. Я решил, что приличие требует пригубить стакан, хотя меня от этой смеси алкоголя с шипучей водой и тошнило, а граф продолжал рассказывать: — Я почел нужным поговорить с вами, сударь, в первый же вечер, чтобы объяснить вам характер нашего Люсьена и указать, в каком направлении вы должны им руководить. Гувернер, которого вы заменили, пыл славным малым, но слишком уж слабого, вялого характера. Вашу же кандидатуру я поддерживал потому, что вы молоды, а для тех обязанностей, которые требуется выполнять по отношению к Люсьену, юноша подходит больше, чем человек в летах… Образование, па мой взгляд, — ничто, а то и хуже, чем ничто, если вашу голову забивают всякой чепухой… Самое важное в жизни, можно даже сказать, единственное, что важно, — это характер.
Он сделал паузу, по-видимому, желая узнать мое мнение по этому поводу; я ответил какой-то банальной фразой, выражающей согласие.
— Ну, очень- рад, — продолжал он, — значит, мы поймем друг друга. Видите ли, в настоящее время во Франции для человека нашего положения существует только одна достойная карьера: военная… До тех пор пока наша страна будет в руках всякой сволочи и пока остается задача побить Германию, наше место в единственном незапятнанном уголке, который еще остался: в армии… Слава богу, родители разделяют мое мнение.
Люсьен будет военным, а солдату не требуется знать слишком- много, какие бы глупости ни говорились сейчас на этот счет… Честь, хладнокровие, мускулы! Если человек к тому же предан Франции, этого вполне достаточно. Я по себе знаю, сколько труда нужно, чтобы стать бакалавром!.. Я хочу сказать, что в нынешнем году, раз уж мы в деревне, Люсьен должен возможно больше времени проводить на воздухе и вести более или менее суровый образ жизни. А что касается обучения, то следует ограничиться беседами. И я прошу вас обратить особое внимание на эти беседы. Вы должны подчеркивать практическую, позитивную сторону жизни и особенно указывать ему на принципы. (У него есть недостатки, которые необходимо искоренить в самом зародыше. Вы скоро убедитесь, что у него доброе сердце, но что он чересчур мягок. Необходимо, чтобы он закалял себя. Требуйте; например, чтобы он гулял в любую погоду и ходил пешком не меньше двух-трех часов в день. Он очень неточен. Я настаиваю на том, чтобы вы сделали из него человека пунктуального, как хронометр! Он не прочь иногда приврать. С моей точки зрения, это — самый ужасный порок, Я все прощу, какие бы глупости ни делал человек. Я сам делаю глупости, однако ложь не прощу никогда! Никогда!..
Мы получили от старого учители моего отца прекрасные отзывы о вас, — о вашей жизни с матушкой, о вашей прямоте и присущем вам чувстве собственного достоинства, и поэтому очень рассчитываем, что ваше влияние на Люсьена будет благотворным. Ваш возраст позволит вам быть не только его воспитателем, но и товарищем. Между прочим, лучший способ воспитания — на собственном примере. Твердите сколько угодно новобранцу, что идти в атаку почетно и благо родно, он вас не поймет. А вот если вы сами пойдете впереди него, знаете, так, очертя голову, то он даже превзойдет вас в храбрости… Я через несколько дней возвращаюсь в полк. Но буду ли я тут, или не буду, вы всегда можете полагаться на мою поддержку, если потребуется принять меры, чтобы наш мальчуган сделался человеком, каким он должен быть, человеком, который способен послужить родине, а будь на то божья воля, то и королю…
В этой краткой речи графа, которую, мне кажется, я воспроизвожу здесь почти дословно, я не услышал ничего такого, что удивило бы меня. Вполне естественно, что в семье, где отец — маньяк, мать — всего лишь домашняя хозяйка, а сестра — совсем еще молоденькая, робкая девушка, всем распоряжался старший брат и что именно он давал указания новому воспитателю.
Было также понятно, что офицер и дворянин, воспитанный в убеждениях, присущих его классу и профессии, говорил со мной как офицер и дворянин. С вашим" всесторонним пониманием человеческой натуры, с той легкостью, с какой вы, дорогой учитель, обнаруживаете непреложную связь между темпераментом и средой человека, с одной стороны, и его идеями, с другой, вы увидели бы в графе Андре де Жюсса-Рандон вполне определенный и очень интересный объект для изучения.
А я как раз для того и приобрел тетрадь с замочком, чтобы собирать документацию о человеческой природе и именно документацию подобного характера. Ведь в лице этого офицера, такой цельной и примитивной личности, мне представлялось совершенно новое поле для наблюдений над человеком, чья манера мыслить, по-видимому, целиком соответствовала манере жить, дышать, двигаться, курить, есть. Однако я отдаю себе ясный отчет, что моя философия в данном случае все-таки не владела мною всецело, не пронизывала меня до мозга костей, раз речь графа и высказанные им убеждения, вместо того чтобы понравиться мне своей редкостной логикой, еще сильнее разожгли во мне антипатию к нему, неожиданно возникшую где-то в глубинах моей души, — быть может, в моем самолюбии, ибо нельзя же было отрицать, что по сравнению с этим сильным человеком я — совсем хилое, слабое созданье. Во всяком случае, эта ненависть возникла в самых недрах моего существа. Ни одна из мыслей, которые высказывал граф Андре, не имела в моих глазах ни малейшей ценности. С моей точки зрения, все это было чистейшим вздором, и вот, вместо того чтобы вызвать у меня презренье, как это было бы в любом другом случае, этот вздор породил во мне ненависть, поскольку был высказан устами графа. Военная профессия? Я считал ее до того презренной из-за ее грубости и напрасной потери времени, что был счастлив, что я единственный сын у вдовы и тем самым избавлен от варварской обстановки казармы и всех тягот воинской дисциплины. Ненависть к Германии? Я всячески старался изжить ее в себе как один из глупейших предрассудков отчасти из отвращения к тем недалеким товарищам, которые бесновались в порыве невежественного патриотизма, а отчасти в силу благоговейного преклонения перед народом, давшим психологии Канта и Шопенгауера, Лотце и Фехнера, Гельмгольца и Вундта. Политические убеждения? Но я питал одинаковое презрение ко всем тем грубым теориям, которые под маркой легитимизма, республиканизма или цезаризма стремятся управлять страной а рпоп. Вместе с автором «Философских диалогов» я мечтал об олигархий ученых, о диктатуре психологов и экономистов, физиологов и историков. Практическая жизнь? Такая жизнь представлялась мне неполноценной, мне — человеку, видевшему во внешнем мире лишь поле для опытов, по которому не связанный предрассудками ум осторожно пускается только ради того, чтобы испытать те или иные ощущения. Наконец презрение ко лжи, высказанное моим собеседником, было для меня почти оскорбительным, а абсолютное доверие к моей безупречной нравственности, основанное на превратном представлении обо мне, стесняло меня, коробило и возмущало. Впрочем, несоответствие это было не лишено пикантности! Я выдавал себя за человека, вполне сходного с тем портретом, какой изобразил старый друг моего отца; мне даже было отчасти приятно, что меня считают таким, и в то же время я был раздражен тем, что граф не почел нужным проявить ко мне недоверие. Тут была какая-то загадка, которая нарушала всю мою концепцию. Не доказывает ли это, что никто из нас не знает себя до конца? Вы, мой дорогой учитель, прекрасно выразили эту мысль: «Наше сознание в тот или иной момент напоминает острова в океане мрака, который навеки скрывает от нас их основание. Задача психолога заключается в том, что бы, оперируя зондом, нащупать почву, на которой эти острова превращаются в видимые вершины той гор ной цепи, что остается невидимой и неподвижной под вечно движущейся массой воды…» Я отвел столько места рассказу о (Своей первой беседе с графом Андре не потому, что этот разговор по влек за собой какие-либо немедленные последствия.
Ведь я поднялся к себе, предварительно заверив графа, что вполне придерживаюсь его взглядов относительно воспитания младшего брата, а очутившись в своей комнате, ограничился тем, что записал его слова, снабдив их довольно-таки презрительными комментариями. Однако первое мое впечатление даст вам возможность понять аналогичные впечатления, последовавшие за этой беседой, и тот неожиданный, хотя и вполне естественный духовный кризис, который был ими вызван. Это была как раз одна из тех подводных горных цепей, о каких вы пишете в своем труде, и я теперь постигаю все ее скрытые детали, погрузив зонд в самую глубину своего сердца. Под влиянием ваших книг, дорогой учитель, и вашего личного примера я все больше и больше предавался умственной жизни. Мне казалось, что я уже совершенно избавился от болезненного любопытства, которое некогда побуждало меня искать острых наслаждений в предосудительном чтении или даже в вызывавшей, отвращение чувственной связи с Марианной. Но в нашей душе таятся области, которые мы когда-то ощущали очень живо, а ныне считаем мертвыми, хотя в действительности они только погрузились в сон. И вот мало-помалу, после каких нибудь двух недель общения с этим человеком, который был старше меня лет на девять — десять и олицетворял для меня реальность и энергию, то чисто созерцательное существование, о каком я некогда искренне мечтал, начало казаться мне… Как бы это выразить?..
Более низменным, чем существование графа? Нет, это не то, ибо ни за какие блага я не согласился бы стать графом Андре, даже с его титулом, богатством, физическим превосходством и его убеждениями. Бесцветным? Это, пожалуй, тоже неверно, ибо стоило мне вспомнить единственное в мире видение — ваш про филь, рисовавшийся в окне рабочего кабинета на фоне обширного и печального парижского пейзажа, чтобы снова почувствовать всю прелесть созерцательной жиз ни. Слово «неполнота», как мне кажется, лучше всего характеризует то странное недовольство своими собственными убеждениями, какое я ощутил, когда мне неожиданно случилось сравнить себя с графом. В этом ощущении неполноты и заключался соблазн, жертвой которого я сделался. Мне кажется, что нет ничего осо бенно оригинального в душевном состоянии человека, который, культивируя в себе до излишества мысли тельные способности, вдруг встречает другого чело века, в такой же степени развившего в себе способность действовать, и испытывает при этой. встрече своего рода тоску по такой способности, хоть и презирает ее. У Гете из Такой тоски возник Фауст. Я не был Фаустом, я еще не осушил чашу познания до дна, как старый ученый. И — тем не менее приходится предположить, что мои научные занятия последних лет, возбуждая ум в одной слишком узкой области, оставили во мне нетронутыми огромные силы, которые всколыхнулись от чувства соперничества при встрече с представителем другой породы людей. Восхищаясь графом, завидуя ему и одновременно презирая его, я не мог воспрепятствовать работе своего мозга, делавшего соответствующие умозаключения. Я рассуждал так: «Если бы у кого-нибудь была одновременно такая же способность действовать, как у графа, и такая же способность мыслить, как у меня, то это был бы действительно человек того высшего порядка, о каком я мечтаю. Но не исключают ли друг друга мысль и действие? Они не исключали друг друга у людей эпохи Возрождения, а ближе к нашему времени — у Гете, который олицетворял собою Фауста и был поочередно философом и придворным, поэтом и министром; ни у Стендаля — романиста и драгунского офицера, или у Констана — автора «Адольфа» и пламенного оратора, а в то же время дуэлиста, игрока и соблазнителя. И я спрашивал себя, могу ли я без этого развития всех человеческих способностей, без параллелизма практической и интеллектуальной жизни достигнуть полноценного культивирования своего «я», которое я сделал конечной и высшей целью своей доктрины? Вероятно, сожаление, что я лишен целого мира, а именно — мира действий, было связано у меня с гордостью.
Но благодаря философской природе моего существа ощущения у меня немедленно превращаются в идеи.
Малейшая житейская мелочь служит мне поводом для постановки проблем общего характера; всякое событие в личной жизни приводит меня к теориям об общечеловеческой судьбе. Там, где другой юноша просто сказал бы: «Как жаль, что мне предоставлена только одна возможность развития!»- я задавал себе вопрос: «Не ошибаюсь ли я относительно законов всеобщего развития?» С тех пор как я благодаря вашим изуми тельным книгам освободился от религиозных страхов, у меня осталась от прежнего благочестия только одна привычка — ежедневная проверка своей совести с по мощью дневника, и время от времени я совершал, если хотите, нечто вроде молитвы. Как я уже сказал, я с каким-то странным удовольствием переносил религиозные понятия в область своих личных восприятий.
Я называл это литургией моего «я». Теперь я вспоминаю, что в один из вечеров во вторую неделю пребывания в замке Жюсса я потратил несколько часов на то, чтобы написать свою исповедь, то есть составить пол ную картину своих различных инстинктов, начиная с младенческих лет. И я пришел к заключению, что основной чертой моей натуры, характерным свойством моей внутренней сущности всегда была, как я уже отметил в начале этих записок, способность к раз двоению личности. Это означало наличие у меня тенденции быть обуреваемым какой-нибудь страстью и одновременно рассуждать по поводу ее, жить и в то же время наблюдать, как я живу. Но, добровольно за мыкаясь в скорлупу своих отвлеченных размышлений и отказываясь от жизни, чтобы быть только глаза ми, широко раскрытыми на жизнь, не подвергал ли я себя риску уподобиться Амьелю, дневник которого тогда только что вышел в свет, и, злоупотребляя самоанализом, не обрекал ли я себя как бы на практическое бесплодие? Напрасно я призывал ваш образ, дорогой учитель, чтобы укрепиться в решении вести созерцательную жизнь. Я вспомнил слова из вашей «Теории страстей», посвященные любви. «Но ведь он не всегда был таким, как сейчас, — говорил я себе, — чувствуется, что в юности его была какая-то греховная тайна». И я представлял себе вас в моем возрасте, предающимся всякого рода предосудительным экспериментам, которые уже смутно соблазняли меня, волнуемого этим потоком мыслей.
Не знаю, покажется ли вам достаточно ясной вся эта душевная химия, сложная и вместе с тем вполне искренняя. Процесс, в итоге которого в нас возникает та или иная эмоция, превращающаяся затем в идею, настолько темен, что идея эта оказывается иногда прямо противоположной тому, что мог бы предвидеть здравый смысл. Разве не было бы вполне естественным, чтобы смешанная с некоторым восхищением антипатия, вызванная во мне графом Андре, превратилась либо в явное отвращение, либо в окончательное восхищение? В первом случае мне следовало бы еще более привязаться к науке, во втором — пожелать себе большей активности/ большей, практичности и решительности в своих действиях. Да, так должно было бы быть. Но каждого человека определяет его характер.
Мой же характер привел к тому, что благодаря чувствам, метаморфозу которых я старался передать вам, антипатия к графу, смешанная с восхищением, явилась для меня источником самокритичности; самокритичность эта породила несколько необычную теорию о жизни, а теория в свою очередь разбудила во мне прирожденный интерес к миру страстей, и все вместе слилось в стремлении произвести опыт в сфере чувства.
Судьбе было угодно, чтобы как раз в это время около меня оказалась девушка, одного присутствия которой было достаточно, чтобы вызвать у любого юноши моего возраста желание понравиться ей. Но я был слишком рассудочен, чтобы это желание могло возникнуть в моем сердце, не пройдя предварительно через мозг. Во всяком случае, если я испытал на себе очарование изящества и прелести, исходивших от этого двадцатилетнего ребенка, то я воображал, что это совершается с ведома моего рассудка. Иной раз я спрашиваю себя, так ли оно было в действительности, и тогда эта история представляется мне самой обычной, и я говорю себе: «Простое влюбился в Шарлотту, потому что она была хороша собой, изящна, нежна, а я был молод. Но я выдумывал всевозможные штуки, потому что был рассудочным гордецом и не желал любить, как любят другие». Какое я испытываю облегчение, когда рассуждаю так! В подобные минуты я могу жалеть себя, вместо того чтобы испытывать к себе отвращение, как бывает порой, когда я вспоминаю свои думы тех дней, то холодно принятое решение, которое я выносил в своей голове, доверил дневнику и, к сожалению, проверил событиями, — решение соблазнить эту девушку, почти ребенка, соблазнить, не любя, из простого любопытства психолога, ради удовольствия действовать, распоряжаться по своему желанию Живой человеческой душой, непосредственно наблюдать в ней механизм страстей, который я до сих пор изучал только по книгам, ради того, чтобы удовлетворить свое тщеславие, обогатив себя еще одним экспериментом. Да, это было именно то, чего я добивался; пересаженный в чуждую среду, куда меня бросил случай, охваченный звериным чувством соперничества с дерзким- молодым человеком, представлявшим полную мою противоположность, я не мог не хотеть этого уже в силу своей наследственности, своего воспитания, о котором я вам рассказывал.
И, однако, как заслуживала эта чистая, правдивая девушка встретить другого человека, не такого, как я, не какую-то холодную счетную машину! При одной мысли об этом сердце мое трепещет и рвется на части, хотя я стремился тогда быть бесстрастным и точным, как врач-диагност. Я заметил ее не сразу.
С первого взгляда она не поражала ни совершенством черт, ни свежестью лица, ни царственной осанкой, которые заставляют говорить о женщине, что она прекрасна. Все в ее облике было отмечено печатью изящества и мягкости, все — от оттенка каштановых волос до цвета серых и как бы несколько затуманенных глаз и не слишком бледного, не слишком румяного лица. С ней неизменно связывалась мысль о скромности, когда приходилось наблюдать выражение ее лица, или о хрупкости, при виде изящества ее рук и ног и почти изысканной грации ее движений. Она была небольшого роста, но казалась высокой, благодаря своей горделивой осанке. Если граф Андре в силу явного атавизма точно воспроизводил одного из их общих предков, то Шарлотта, хоть и похожая на отца, отличалась таким, почти идеальным, изяществом линий, что обнаружить это сходство можно было лишь в том случае, если они стояли рядом. Однако нетрудно было заметить на ее лице и предрасположение к неврастении, доведшее отца до ипохондрии. Шарлотта отличалась почти болезненной восприимчивостью, которую порой выдавало легкое дрожание рук и необыкновенно красиво обрисованных губ, прекрасных губ, дышавших почти божественной добротой. Но ее резко очерченный подбородок говорил о том, что в этом хрупком существе таится огромная воля, и теперь я понимаю, что в глубине ее глаз, порою неподвижных и устремленных на что-то видимое ей одной, уже чувствовалась роковая наклонность к навязчивым идеям.
Как же мне было сразу обратить на нее внимание? Первая черта, которую я обнаружил в ней вскоре после моего приезда в замок, была ее исключительная доброта, и открылось это благодаря Люсьену. Мальчик рассказал мне, что сестра много раз просила его узнать у меня, есть ли в моей комнате все необходимое. Это, конечно, мелочь, но она очень тронула меня, так как я чувствовал себя совсем одиноким в этом огромном доме, где с самого моего появления никто, казалось, не обращал на меня ни малейшего внимания.
Маркиз появлялся только к завтраку, запахнувшись в халат, и только для того, чтобы пожаловаться на свое здоровье или на политическое положение. Маркиза была занята благоустройством замка и бесконечно совещалась с обойщиком, прибывшим из Клермона. Граф Андре по утрам ездил верхом, после завтрака отправлялся на охоту, а вечером курил сигары, не обращаясь ко мне ни с единым словом. Гувернантка и монахиня относились друг к другу и ко мне с такой сдержанностью, что это вызывало с моей стороны чувство неловкости. Воспитанник мой оказался ленивым и не очень способным мальчиком, у которого была только одна хорошая черта: он был простодушен, доверчив и охотно рассказывал все, что мне хотелось знать о нем самом или о его семье. Так, например, от него я узнал, что затея провести весь год в деревне принадлежит графу Андре. Это меня нисколько не удивило, ибо я все более убеждался, что настоящим главой семьи является именно он.
Мне стало известно также, что в прошлом году он решил выдать сестру замуж за одного из своих товарищей по полку, некоего господина де Плана. Однако Шарлотта отвергла его, и де План уехал в Тонкий.
Я узнал… Но к чему все эти подробности? Во время наших ежедневных занятий с Люсьеном — утром от восьми до половины десятого и. днем с трех до половины пятого —! мне с большим трудом удавалось добиться от этого бездельника прилежного отношения к урокам.
Сидя против меня за столом, он заполнял лист крупными каракулями, подпирая щеку языком, украдкой косясь на меня и выслеживая на моем лице малейшие признаки рассеянности. Безошибочным животным инстинктом, свойственным детям, он быстро заметил, что я становлюсь менее строгим, когда он рассказывает о брате или сестре, и таким-то образом мне и стало известно из его невинных уст, что в этом чужом и холодном доме есть существо, для которого мое благополучие не безразлично и которое думает обо мне.
Мне так не хватало матери, хотя я и не хотел признаться в этом самому себе! И именно это внимание, ничего, конечно, не выражавшее, кроме простой вежливости, и побудило меня присмотреться к мадемуазель де Жюсса более пристально.
Другая черта, открытая мною в характере девушки, заключалась в ее склонности к романтике. Не потому, что Шарлотта много читала, а потому, что она отличалась, как я уже сказал, чрезмерной впечатлительностью, и эта последняя внушала ей какой-то страх перед реальным миром. Сама того не по дозревая, Шарлотта совсем не походила в этом отношении на отца, мать и братьев. Она не могла ни обнаружить перед ними своей истинной сущности, ни видеть их такими, какими они были в действительности, без того чтобы не испытывать страдания. Поэтому она и своей души перед ними не раскрывала и на них старалась смотреть как бы сквозь пальцы. В полном согласии со своим сердцем Шарлотта составила о тех, кого любила, свое собственное и довольно наивное представление, до того не соответствующее действительности, что недоброжелательному наблюдателю оно могло показаться фальшью или просто лестью.
Матери, женщине заурядной и практичной, она иной раз говорила: «Вы, мама, с вашей тонкостью…» Или отцу, этому неисправимому эгоисту: «Вы, папа, с вашим добрым сердцем…» Старшего брата, такого узкого и ограниченного, она убеждала: «Ты все можешь понять…» И она искренне верила тому, что говорит..
Однако мир иллюзий, в котором она жила, обрекал это простосердечное и необыкновенно нежное существо на полное моральное одиночество, весьма для нее опасное и лишавшее ее способности понимать других людей. Она не знала себя так же, как не знала и окружающих. Сама не подозревая об этом, Шарлотта томилась тоскою по человеку, который бы чувствовал так же, как и она. Например, — мне случалось наблюдать это во время наших первых совместных прогулок, — только она по-настоящему чувствовала красоту пейзажа, искренне любовалась маленьким озером, окружающими его рощами, далекими вулканами и осенним небом, порою еще более прекрасным, чем летом, благодаря сочетанию лазури с золотом листвы, иногда мглистым, затянутым печальной дымкой облаков и особенно далеким. В такие минуты Шарлотта вдруг замолкала без видимой причины, вероятно потому, что все ее слишком взволнованное существо как бы растворялось в очаровании окружающей природы, В инстинктивно-смутной форме, в виде неосознанных ощущений она обладала, тем даром, который делает мужчин великими поэтами, а женщин — способными на большую любовь. Она умела забывать самое себя, отдаваться целиком тому, что волнует сердце, будь то скрытый в тумане горизонт, тишина пожелтевшей рощи, музыкальная пьеса, сыгранная на рояле гувернанткой, или трогательная история, рассказанная в ее присутствии. С самого начала нашего знакомства я не переставал удивляться различию между грубым солдафоном, каким был ее брат, и этой полной изящества и кротости девушкой, которая легко, едва касаясь земли, с приветливой и в то же время застенчивой улыбкой спускалась по каменным лестницам замка.
У меня хватит смелости ничего не утаить от вас, ибо, повторяю, я пишу эти заметки не для того, чтобы выставить себя в выгодном свете, а для того, чтобы предстать перед вами во всей полноте. В обществе этого прелестного существа мне уже становилось приятно.
Но я не хочу утверждать, что мое стремление внушить девушке любовь не явилось также и следствием разительного контраста между нею и ее братом. Быть может, ее душа, полная любви к столь несхожему с нею брату, сделалась как бы полем битвы для моей тайной и смутной неприязни к нему, неприязни, которая за две недели пребывания с этим человеком под одной крышей успела превратиться в настоящую ненависть. Погрому вполне возможно, что в моем стремлении обольстить. Шарлотту таилось также страстное и жестокое желание унизить этого солдафона, этого аристократа, этого верующего христианина, тяжко оскорбив его в том, что было для него самым дорогим на свете.
Я знаю, дорогой учитель, что мое признание — ужасно, по я не был бы достоин считаться вашим учеником, если бы в этих записках не запечатлел свои самые сокровенные мысли. И в конце концов разве отвратительный привкус в тогдашних моих ощущениях не такой же необходимый феномен, как и все другие, как романтичная грация Шарлотты, прямолинейная энергия ее брата или мои сложные душевные переживания, непонятные для меня самого!
§ 4. — Первый кризис
Я поразительно ясно помню день, когда мысль соблазнить сестру графа Андре предстала предо мною т1 как эпизод воображаемого романа, а как вполне определенная, достижимая и почти достигнутая возможность. После двух месяцев безвыездного пребывания в замке я отправился к матери, чтобы провести у нее рождественские праздники, и неделю спустя вернулся из Клермона, Двое суток шел снег. Зимы в наших горах так суровы, что только капризом г-на Де Жюсса можно объяснить его упорное желание провести зиму в этой вулканической пустыне с ее почти непрерывными резкими ветрами. Правда, маркиза всячески старалась создать в замке уют. Кроме того, хотя Эда и считается захолустьем, все-таки сообщение с Клермоном через Сен-Сатюрнен и Сент-Аман-Талланд не прерывается даже в самые холодные месяцы,
не говоря уже о том, что и в это время года выдаются ясные солнечные дни. Вдруг после нескольких дней метели небо снова становится лазурным, и все кругом начинает сиять, как бы преображенное волшебной силой сказочного света. Именно таким был тот день, который я воскрешаю сейчас в памяти, день, когда мое роковое решение вполне определилось и приняло реальную форму. Снова я вижу озеро, покрытое тонким слоем льда, под складками которого чувствуется легкое дрожание воды. Передо мною широкий застывший поток Шеры, белый от снега, с темными пятнами лавы среди ослепительной белизны; и тоже вся белая, но без единого пятнышка, горная цепь — Пюи де Дом, Пюи де ля Ваш, Вишатель, Род, Монредон, а дальше на фоне снегов и небесной синевы черными массами своих сосен вырисовываются шатер Шармона и лес Руйя. Перед моим взором снова возникают все эти мельчайшие подробности, которые едва замечаешь, но которые надолго запечатлеваются где-то в тайниках памяти. Я вновь вижу купу берез с обнаженными нотками, слегка порозовевшими на солнце. Я снова ви жу кристаллы инея, поблескивающие на концах тонких ветвей, чахлые, но еще зеленые стебли дрока, торча щие из-под снега, следы лисьих лап на девственно белом снежном ковре, слышу крик летящей над дорогой сороки, особенно подчеркивающий безмолвие беспредельных снегов. Я вновь вижу гурт бурых и ко ричневых овец, которых гонит пастух в синей блузе и широкополой круглой шляпе, в сопровождении рыжей лохматой собаки с желтыми, близко поставленными блестящими глазами. Да, я вновь вижу весь этот ландшафт и людей, совершающих прогулку по дороге в Фонфред: мадемуазель Ларже, мадемуазель де Жюсса, моего ученика и себя самого. На мадемуазель Шарлотте каракулевый жакет, облегающий ее стан; от мехового боа, лежащего вокруг шеи, головка ее в каракулевой шапочке кажется еще меньше и еще изящ нее. После продолжительного заточения в замке свежий воздух, видимо, опьянил ее. Щеки ее порозовели от ходьбы, стройные ножки бесстрашно ступают по снегу, оставляя на нем легчайшие следы, а в глазах сияет наивное восхищение красотою природы, которое является привилегией чистых сердец и немедленно исче зает, как только душа зачерствеет от рассуждений, от влеченных теорий или чтения. Я находился рядом с Шарлоттой: она шла очень быстро, так что мадемуазель Ларже, неловко ковылявшая по снегу в каких-то неуклюжих башмаках, скоро осталась далеко позади.
Мальчик то убегал вперед, то отставал, то снова пере гонял нас с живостью молодого зверька. Я чувствовал, что в то время как маленький Люсьен и Шарлотта радуются, сам я становлюсь все мрачнее и молчаливее.
Может быть, это было следствием раздражения, какое порою вызывает у нас веселье окружающих, когда мы не в состоянии его разделить? Или же во мне, пока еще полубессознательно, начал созревать план будущего обольщения? Уж не хотел ли я своим враждебным отношением к радости Шарлотты обратить на себя, ее внимание? Мне не раз случалось подолгу разговаривать с нею, но в продолжение этой прогулки я едва отвечал на ее восторженные восклицания, которыми она как бы приглашала разделить ее радость. Резкие ответы или холодное молчание настолько явно выдавали мое скверное настроение, что, несмотря на охвативший ее восторг, Шарлотта не могла его не заметить. Два или три раза она бросала на меня удивленный взгляд, и в уголках ее рта чувствовался молчаливый вопрос, который она не решалась выразить словами; потом на ее оживленное лицо легла тень. Мало-помалу под влиянием моей угрюмости ее веселость тоже стала исчезать, и по выразительному лицу девушки я видел, что в душе ее совершается переход к другим настроениям: она вдруг, стала нечувствительной к красоте окружающей природы и как бы ничего не замечала вокруг себя, кроме моей печали. Наконец наступила минута, когда она уже не могла больше преодолеть впечатление, которое производила на нее моя грусть, и голосом, слегка приглушенным от робости, она обратилась ко мне: — Вам нездоровится, господин Грелу? — Нет, мадемуазель, — ответил я так резко, что это, вероятно, обидело ее, потому что голос ее задро жал еще сильнее, когда она опять спросила: — Значит, кто-нибудь огорчил вас? Вы сегодня не такой, как всегда…
— Никто меня не огорчал, — сказал я, покачав головой. — Но, правда, сегодня у меня есть основания быть грустным, очень грустным… Сегодня годовщина большого горя, о котором мне трудно говорить….
Шарлотта снова посмотрела на меня. Она не следила за собой, и по ее глазам я продолжал наблюдать волновавшие ее чувства, как часовщик наблюдает через лупу мельчайшие движения часового механизма.
До сих пор она была настолько встревожена моим поведением, что уже не могла любоваться чудесным пейзажем. Теперь я увидел, что, с одной стороны, ей легче при мысли, что я на нее не сержусь, а с другой стороны, она растрогана моей печалью и хотела бы знать ее причину, но не решается расспрашивать меня. Она только сказала: — Простите за нескромные вопросы…
Затем она умолкла. Но этих нескольких минут было достаточно, чтобы я понял, какое место я уже занимаю в ее мыслях. Видя столь чуткое и благородное внимание к себе, я должен был бы устыдиться своей лжи, ибо ссылка на какое-то горе действительно была тут же придуманной дешевой ложью. Потом меня самого удивляло, что я мог так быстро придумать все это.
В самом деле, почему вдруг мне пришло в голову окутать себя поэзией печали, когда вся моя жизнь со дня смерти отца протекала столь безмятежно и не требовала каких-либо жертв с моей стороны? Не уступил ли я и в данном случае все той же врожденной склонности к раздвоению личности? Или это романтическое притворство было проявлением того болезненного тщеславия, которое толкает иногда детей на ложь? Ведь они делают это тоже без всякой цели и совершенно неожиданно. Или, быть может, смутная интуиция подсказала мне, что эта недостойная игра в меланхолию и разочарованность — самый верный способ еще больше заинтересовать собою сестру графа Андре? Я и сейчас не отдаю себе полного отчета в мотивах, руководивших мною в тот миг. Одно для меня несомненно: я не предвидел ни впечатления, которое произведет на девушку моя притворная грусть, ни результата своей лжи; зато я отлично помню, что, убедившись в произведенном эффекте, я тотчас же решил идти до конца по этому пути и выяснить, как отразится на ее душевном состоянии, если я буду умышленно продолжать комедию, начатую бессознательно в сияющий январский день среди величественного ландшафта, который мог бы служить декорацией для чувств иного рода.
Теперь, когда непоправимое уже свершилось и когда, с невыразимой болью восстанавливая прошлое, я убеждаюсь и в своем полном непонимании вещей и в своей жестокости, я вижу, что с того дня внушил Шарлотте самое искреннее, самое нежное чувство.
Следовательно, вся психологическая дипломатия, которую я пустил в ход, была не чем иным, как отвратительной и нелепой работой профана в науке любви. Теперь я понимаю, что не сумел вдохнуть аромат цветов, которые распустились для меня в этой душе. Достаточно было бы предоставить вещам идти своим чередом, и я мог бы изведать ощущения, которых так жаждал, мог бы жить жизнью восторженных и благородных чувств, которая своей полнотой не уступала бы моей интеллектуальной жизни. Вместо этого я холодом рас судка парализовал порывы своего сердца. Я задумал покорить уже покоренную душу, пустился в сложные шахматные комбинации, когда достаточно, было про стой искренности. Сейчас я даже не могу утешать себя гордым сознанием, что я по крайней мере был режиссером этой драмы, посланной мне судьбой, что я руководил событиями, по своему усмотрению создавал отдельные сцены и эпизоды и искусно вел интригу.
Драма эта разыгрывалась только в душе Шарлотты, и я ровным счетом ничего в ней не понимал. Любовь и Смерть, две верных помощницы неумолимой Природы, действовали здесь без моего ведома и толбко изде вались над всеми моими ухищрениями. Шарлотта любила меня по причинам, не имевшим ничего общего с теми, какие приписывала этой любви моя наивная психология. Она умерла от отчаяния, когда, в свете трагического объяснения, увидела меня таким, каков я на самом деле. Я внушил ей ужас, и этим она дала мне неопровержимое доказательство того, что самые тонкие мои рассуждения не имели ни малейшей власти над ней. На опыте этой любви я надеялся разрешить одну из проблем психической механики. Увы! Я просто напросто встретил искреннюю и глубокую нежность, но не почувствовал ее очарования. Почему я раньше не угадал того, что сегодня вижу столь отчетливо, с такой жестокой очевидностью? Ведь было вполне естественно, что в силу своего романтического характера этот ребенок идеализирует меня. Мои многолетние учебные занятия придали мне тот несколько страдальческий вид, который всегда трогает женское сердце.
Я был воспитан матерью, и это наделило меня изящными манерами, известной мягкостью жестов и интонаций, привычкой тщательно следить за собой, что искупало мою неловкость и незнание светских правил.
Старый учитель, который меня рекомендовал, отзывался обо мне как о молодом человеке, безупречном с точки зрения образа мыслей и характера. Этого было вполне достаточно, чтобы чувствительная и замкнутая девушка заинтересовалась мною. И что. же? Не успел я во время прогулки заметить этот интерес к себе, как тут же задумал обратить его во вред Шарлотте, вместо того чтобы быть тронутым им. Если бы кто-нибудь увидел меня в тот вечер, после прогулки, когда я в своей комнате сидел за столом и писал, с толстым психологическим трактатом под рукой, он не поверил бы, что перед ним юноша, едва достигший двадцати двух лет, размышляющий над чувствами, которые он вызвал или хочет вызвать у двадцатилетней девушки… Замок спал. Раздавались только шаги лакея, тушившего лампы на лестнице и в коридорах. За стенами огромного дома слышалось то жалобное, то затихающее завывание бури. Западный ветер достигает в наших горах страшной силы и «сносит иногда целиком черепичные крыши. Его скорбные порывы еще более усиливали во мне чувство одиночества. В камине мирно пылал огонь, а я записывал в тетрадь с замком, которую сжег перед арестом, рассказ о проведенном дне и составлял план эксперимента, который предполагал произвести над душою мадемуазель де Жюсса. В тот вечер я переписал в тетрадь отрывок из вашей «Теории страстей», где говорится о сострадании. Вы, вероятно, помните это место, дорогой учитель. Оно начинается словами: «Сострадание заключает в себе и вполне физические элементы, которые, в особенности у женщин, часто граничат с сексуальными эмоциями…» Я решил действовать на Шарлотту, пользуясь именно ее чувством жалости ко мне.
Мой план состоял в том, чтобы использовать впечатление, произведенное на нее моей первой ложью, затем опутать ее другими лживыми признаниями и внушить ей чувство любви, основанное на жалости. В этом желании воспользоваться одним из самых благородных человеческих чувств ради удовлетворения своего фантастического любопытства было нечто такое, что коренным образом противоречит общепринятым взглядам, и это несказанно льстило моей гордости."Набрасывая план обольщения и подкрепляя его соответствующими философскими положениями, я воображал что подумал бы обо всем этом граф Андре, если бы мог, как повествуется в старинных легендах, прочитать из своего гарнизонного захолустья слова, которые чертило на бумаге мое перо? В то же время уже одно сознание, что я буду по своей воле управлять работой женского мозга, механикой мыслей и чувств, сложной и тонкой, как часовой механизм, давало мне повод сравнивать себя с Клодом Бернаром, с Пастером и с их последователями. Эти ученые производят вивисекцию животных. Я же собирался произвести длительную вивисекцию человеческой души.
Чтобы извлечь желаемый результат из жалости, скорее подмеченной, чем преднамеренно вызванной мною, требовалось прежде всего продлить ее действие.
С этой целью я решил умышленно продолжать разыгрывать комедию притворной грусти, постепенно подготовляя Шарлотту к тому, чтобы в более или менее отдаленный день дать ей объяснения по этому поводу в виде маленького романа, который мог бы ее умилить.
Поэтому всю неделю после этой прогулки я напускал на себя все более и более глубокую меланхолию.
Я притворялся не только в присутствии Шарлотты, но и в течение тех долгих часов, которые проводил наедине со своим воспитанником, ибо был уверен, что он передает сестре свои впечатления от наших уроков. Итак, дорогой учитель, перед вами доказательство низких проделок, на которые я пошел. Разве не подло было впутывать в эту гнусную интригу ребенка, которого мне доверили? Да и какая была нужда в этой хитрости, раз мадемуазель де Жюсса ни на минуту не сомневалась в моей искренности? Но я считал вопросом чести как можно более усложнить западню, и совесть моя при этом молчала. Мы занимались с Люсьеном в большой комнате, носившей название библиотеки, потому что вдоль одной из ее стен тянулись книжные полки, заставленные книгами в сафьяновых переплетах. Среди них находился и полный комплект «Энциклопедии». Книги эти остались в наследство от прадеда — аристократа, философа, родственника и друга Монлозье; замок был им построен в глуши, чтобы воспитывать двух своих сыновей на лоне природы согласно предписаниям «Эмиля». Около двери висел портрет этого дворянина-вольнодумца, довольно посредственно написанный в манере того времени и изображавший человека в пудреном парике со скептической и вместе с тем чувствительной улыбкой. По другую сторону двери висел портрет его супруги, кокетливой женщины с прической в несколько ярусов и с мушками на щеках. Глядя на эти полотна, пока Люсьен переводил какой-нибудь отрывок из Овидия или Тита Ливия, я спрашивал себя, что делали мои предки в прошлом веке, в то время, когда жили особью, изображенные на этих портретах? Я ясно представлял себе неотесанных мужланов и крепостных, потомком которых я являюсь. Я видел, как они идут за плугом, подрезают виноградную лозу, боронят пашню на гуманных равнинах Лотарингии, похожие на тех крестьян, что в любую погоду бредут по дороге мимо ворот замка, в сапогах до колен, волоча за собой палку с железным наконечником, привязанную ремешком к руке. Эти картины придавали моим стараниям напустить на себя грусть приятный характер законной мести. Странная вещь! Хотя я в теории и ненавидел идеи революции и скрытый за ними посредственный спиритуализм, однако я вполне чувствовал себя плебеем, когда со злорадством думал, что, может быть, я, отдаленный потомок бедных землепашцев, единственно силой своей мысли соблазню праправнучку этого вельможи и этой знатной дамы. Я подпирал рукой подбородок, хмурил брови и старался придать взгляду печальное выражение, отлично зная, что Люсьен исподтишка следит за моим лицом в надежде, что урок будет прерван очередной беседой. Когда он окончательно убеждался, что уже не встретит с моей стороны ни приветливой улыбки, ни снисходительного взгляда, как бывало на предыдущих уроках, он сам становился озабоченным. Вполне естественно, что бедный мальчик принимал мою грусть за суровость, а молчание за неудовольствие. Однажды, он даже решился спросить: — Вы за что-нибудь сердитесь на меня, господин Грелу?. — Нет, мой мальчик, — ответил я, потрепав его по нежной щечке, но продолжал хранить задумчивый вид, не отрывая взгляда от падающих за окном снежинок. Снег валил теперь с утра до вечера крупными кружащимися хлопьями, покрывая окрестность белым сонным покровом. А в натопленных комнатах замка стояла уютная тишина, сюда не доносились умиравшие далеко" в горах звуки; через стекла, покрытые снаружи ледяными узорами, а изнутри запотевшие, проникал смягченный и как бы болезненный свет. Это составляло неплохой фон для меланхолии, которую я изображал на своем лице и которую предоставлял Шарлотте наблюдать при наших встречах.
Когда колокол собирал всех нас в столовой к завтраку, я ловил в ее взглядах, брошенных на меня украдкой, то же робкое и участливое любопытство, которое заметил в ее глазах на прогулке, то есть со времени, обозначенного в моем дневнике как начало эксперимента. Такие же точно взгляды я замечал, когда мы снова встречались, за чаем, при свете только что зажженных ламп, а потдм во время обеда и, наконец, в долгие зимние вечера, если я не уходил в свою комнату раньше других, сославшись на какую-нибудь работу. Жизнь и разговоры в замке были очень монотонны; поэтому ничто не могло помочь Шарлотте избавиться от впечатления волнующей тайны, которое я постарался ей внушить. Маркиз, находясь во власти почти болезненных крайностей своего характера, проклинал злосчастное решение провести зиму в глуши.
Он говорил, что при первой же перемене погоды мы уедем из замка, хотя отлично знал, что переезд невозможен. Теперь это было бы связано с большими расходами, да и куда было переезжать? Иногда он гадал, есть ли надежда, что в замок приедет кто-нибудь из клермонских знакомых, которые иной раз заезжали в Жюсса позавтракать, но только в тех случаях, если четыре часа дороги из Клермона не превращались из-за плохой погоды во все восемь. Потом старик усаживался за карточный столик; маркиза, гувернантка и монахиня склонялись над своим бесконечным рукоделием; на моей обязанности лежало присматривать за Люсьеном, который перелистывал какую-нибудь книгу с картинками или раскладывал пасьянс. Я располагался в кресле таким образом, чтобы Шарлотта, игравшая с отцом в карты, подняв глаза, непременно меня видела… Я занимался гипнотизмом и всесторонне изучил в вашей «Анатомии воли» главу, озаглавленную «О полувнушениях» и посвященную странным явлениям господства над чужой волей. Я надеялся при помощи этого метода подчинить себе праздную мысль девушки в ожидании удобной минуты, когда завершу каждодневную работу внушения, рассказав ей свою историю. Объясняя мою грусть и мои поступки, история эта должна была окончательно заполонить ее воображение, которое, я знал, и (так уже было занято мною.
Эту историю я разработал довольно искусно, дорогой учитель, и построил ее в полном согласии с двумя принципами, которые вы выдвигаете в вашей превосходной главе о любви. Ваш труд, теоремы «Этики», касающиеся страстей, и труд г-на Рибо «Болезни воли» стали моими путеводителями. Позвольте хотя бы в самом существенном напомнить вам эти два принципа. Первый из них заключается в том, что большинство людей испытывает различные чувства-только в силу подражания. Если предоставить им свободно следовать велениям своей природы, то, например, чувство любви у них, как и у животных, ограничится половым инстинктом, который затихает, как только получает удовлетворение. Второй принцип гласит, что ревность может существовать и до появления любви; следовательно, она может в некоторых случаях даже порождать любовь, как может и пережить ее. Пораженный правильностью этих двух замечаний, я решил, что и роман, который я расскажу мадемуазель де Жюсса, должен поразить ее воображение и подействовать на ее тщеславие. Мне уже удалось затронуть в ее душе струну жалости, теперь оставалось сыграть на струнах ревности и самолюбия. Поэтому я надумал построить свою историю, исходя из того, что самолюбие всякой женщины, которую интересует какой-нибудь мужчина, бывает уязвлено, если он дает ей понять, что в мыслях еще привязан к другой. Но мне пришлось бы исписать страниц двадцать, дорогой учитель, если бы я стал подробно рассказывать вам, как я бился над сочинением этой искушающей истории. Случай поведать ее был предоставлен мне самой жертвой недели две спустя после того, как я начал осуществлять свой замысел, который горделиво продолжал называть экспериментом. Маркиз узнал откуда-то, что существует том «Энциклопедии», посвященный игральным картам.
Ему захотелось разыскать описание некоторых старинных карточных игр, вроде «империала», «ломбера», «манильи», чтобы попробовать сыграть в них. Эта замечательная мысль пришла ему в голову после завтрака, когда он, читая газету, наткнулся на заметку о новой игре «покер», в связи с которой приводился целый список вышедших из моды игр. Если этому маньяку приходила в голову какая-нибудь блажь, он не мог ждать ни минуты; поэтому дочери его пришлось немедленно подняться в библиотеку, где я в это время делал какие-то выписки. Я был занят книгой Гельвеция «Об уме», оказавшейся в библиотеке среди других сочинений XVIII века. Я предложил мадемуазель де Жюсса помочь разыскать нужный ей том.
Когда она брала у меня книгу, с которой я предварительно стер пыль, она сказала с обычной своей приветливостью: — Я надеюсь, что мы найдем здесь какую-нибудь игру, в которой и вы не откажетесь принять участие…
Мы так боимся, что вы соскучитесь у нас. Вы всегда такой грустный…
Последние слова она произнесла с той же улыбкой, которая поразила меня во время прогулки; она как бы просила у меня прощения за свои слова и из скромности говорила «мы», но я великолепно знал, что остальные тут ни при чем. Ее голос стал особенно ласковым, мы были совсем одни и еще минут десять — пятнадцать могли пребывать в полном уединении, так что момент показался мне подходящим, чтобы объяснить ей свою притворную грусть.
— Ах, мадемуазель, — ответил я, — если бы вы знали мою жизнь!..
Не будь Шарлотта доверчивым существом, романтичным ребенком, каким она оставалась, несмотря на две или три зимы, проведенные в светском обществе Парижа, она легко догадалась бы, что я рассказываю заранее придуманную историю. Это видно было хотя бы уже по первой фразе, да и вообще по оборотам речи, которые я применял и которые мне самому казались неловкими и неестественными. Я стал рассказывать, ей, что был обручен в Клермоне с одной девушкой, но обручен тайно. Мне казалось, что я придам этой истории еще большую поэтичность в ее. глазах, если скажу, что девушка эта — иностранка, русская, гостившая у своей дальней родственницы.
Я прибавил, что девушка выслушала мое признание и в свою очередь призналась, что любит меня. Мы поклялись друг другу в верности. Потом она уехала.
Там ей представился случай выйти замуж за богатого человека, и она изменила своей клятве ради денег.
Я постарался особенно подчеркнуть свою бедность, даже дал понять, что мать живет исключительно на мой заработок. Эту подробность я придумал тут же, ибо, как известно, лицемерие растет по мере того, как.
его проявляют. Словом, это была ребяческая и в то же время мерзкая комедия, разыгранная вдобавок без большого умения. Но причины, побудившие меня лгать, были настолько своеобразны, что надо было обладать особой проницательностью, досконально знать склад моего ума или быть наделенным гением психолога, как вы, дорогой учитель, чтобы догадаться об этих причинах, а мое наигранное смущение легко было приписать волнению, вызванному такими воспоминаниями. Но, рассказывая эту историю Шарлотте, я сохранял обычное самообладание и поэтому имел полную возможность наблюдать за нею. Она стояла потупившись и слушала меня совершенно спокойно, опершись рукою на толстую книгу. Когда я кончил она взяла книгу со стола и беззвучным голосом, тем голосом, по которому невозможно определить, что за ним скрывается, сказала: — Я не понимаю, как вы могли доверять этой девушке, если она слушала вас тайком от родителей…
И она ушла, унося толстый том с красным обрезом и едва кивнув мне головой. Как она была хороша в эту минуту, такая грациозная и почти идеально красивая, в сером суконном платье, с тонкой талией, изящным бюстом, немного продолговатым лицом, освещенным серыми задумчивыми глазами! Она походила на охваченную экстазом, изящную и скорбную мадонну Мемлинга; я некогда восхищался гравюрой с этой картины на первой странице «Подражания», принадлежавшего аббату Мартелю. Но объясните мне еще одну загадку сердца, вы, великий психолог: никогда я с такой силой не испытывал сладостного и чистого очарования этого существа, как именно в ту минуту, когда лгал ей и, как мне тотчас же показалось по ее ответу, лгал без всякой пользы для себя. Да, я был так наивен, что донял ее ответ буквально, хотя он, наоборот, должен был внушить мне надежду. Я не понимал, что уже одно то, что она выслушала мою исповедь, со стороны такой гордой и сдержанной девушки, как Шарлотта, далеко стоявшей от меня по своему социальному положению, служило доказательством глубокой симпатии. Я не отдавал себе отчета, что почти суровая фраза, брошенная в ответ на ложное признание, отчасти подсказана тайной ревностью, которую я как раз и хотел возбудить в ней, а отчасти — желанием подкрепить себя в своих жизненных правилах и искупить в собственных глазах допущенную фамильярность. Так же точно, как она не сумела уловить ложь в моем рассказе, так и я не был в состоянии угадать правду в ее ответе. Я стоял на месте перед закрывшейся дверью, чувствуя, как рушатся все надежды, которые я громоздил одну на другую в течение последних двух недель. «Нет, — думал я, — я не увлек ее по-настоящему, не вызвал у нее интереса, который можно было бы превратить в страсть. Да и вообще, — рассуждал я, — каким я был глупцом, принимая свои химеры за нечто реальное!» Я тут же подвел итог нашим отношениям, на основании которых вообразил, что могу обольстить ее. Какие у меня были доказательства того, что она интересуется мною? Заботы о моем удобстве, которыми она так деликатно окружила меня? Но это было естественным проявлением ее доброты. Внимание, с каким она наблюдала за моим меланхоличным настроением? Ну и что ж из того? Просто она любопытна, и ничего больше. Робость в голосе, когда она расспрашивала меня об этом? Но нужно быть дураком, чтобы не понять, что это обычная скромность благовоспитанной девушки.
Вывод: комедия, которую я разыгрывал в продолжение двух недель, мои чаттертоновские гримасы, вся ложь моей мнимой душевной драмы — все это смешные потуги, ни на волос не приблизившие меня к сердцу, которое я хотел покорить. Незначительной фразы, сухо произнесенной Шарлоттой, было достаточно, чтобы я вынес себе такой приговор уже четверть часа спустя после нашего короткого разговора, — до такой степени мне свойственны неожиданные припадки самоанализа, мгновенно леденящего все мое существо.
Гак поток холодной воды укрощает ярость горячей струи пара.
Я снова склонился над книгой «Об уме», но уже не мог сосредоточиться на отвлеченном рассуждении Гельвеция. Я рассказываю об этих ребячествах, дорогой учитель, чтобы вам стало яснее, какой невероятной смесью наивности и испорченности была забита в те дни моя голова. Ведь мое быстрое разочарование доказывало только то, что я намеревался направлять мысли Шарлотты, применяя к этой девушке психологические законы, заимствованные у философов, совершенно так же, как ее брат, граф Андре, направлял по своему усмотрению бильярдные шары в тот вечер, когда он изумил меня своими повадками. Белый шар слева чуть касается красного, отходит к борту и возвращается к — другому белому шару. Это можно изобразить на чертеже, объяснить соответствующей формулой; можно рассчитать и воспроизвести это десять, сто, тысячу раз. Несмотря на мою начитанность, а может быть, именно из-за нее, игра страстей представлялась мне тогда такой же идеально простой схемой.
Только значительно позже я понял, до какой степени я ошибался. Чтобы уяснить жизнь человеческого сердца, аналогию нужно искать не в механике, а в растительном мире. Чтобы руководить ею, нужно применять методы ботаника: терпеливо делать прививки, долго ждать, старательно выращивать. Чувство рождается, растет, расцветает и вянет, как растение, развиваясь иногда медленно, иногда крайне быстро, но всегда бессознательно. Зерно жалости, ревности и опасного для подражания примера, коварно брошенное мною в душу Шарлотты, должно было прорасти, но лишь после многих и многих дней. Это было тем более неизбежно, что девушка считала меня влюбленным в другую и потому не пыталась защищаться против меня. Но нужно было быть каким-нибудь Рибо, Тэном или Адриеном Сикстом — словом, совершенным знатоком человеческой души, чтобы представить себе все это заранее и строить на этом свои расчеты. Я же скорее походил на путника, который пересекает долину, не зная, что в земле уже зреют семена, и в простоте души не подозревая, что летом здесь будут снимать жатву. У путника есть хотя бы то оправдание, что он не видел, как здесь, сеяли, а я сам посеял зерно и все-таки ее ожидал всходов! Убеждение, что я окончательно потерпел крах в попытке влюбить в себя Шарлотту, еще более усилилось в последующие дни. Она почти не разговаривала со мной. Позже я из ее же собственных признаний узнал, что под этой холодностью она скрывала растущее в ней волнение, которое своей новизной, напряженностью и глубиною приводило ее в замешательство. Пока же она казалась целиком поглощенной изучением игры в трик-трак, правила которой маркиз вычитал из «Энциклопедии». Вспомнив, что эта игра была любимым времяпрепровождением его деда эмигранта, маркиз не пожелал изучать других игр, приведенных в книге. Один из клермонских торговцев немедленно доставил в замок все необходимое, чтобы маркиз мог удовлетворить свою прихоть. И едва в гостиной установили стол для игры в трик-трак, как отец и дочь принялись вечера напролет бросать кости, которые падали на доску с сухим стуком. К фразам, которыми маркиза обменивалась со своими компаньонками по вязанью, примешались теперь кабалистические термины игры вроде: «малое табло», «большое табло», «возвратное табло», «два по два», «два по три», «два по пять», «бью» или «заполнил». Иногда Шарлотту сменял на ее посту аббат Бартомеф, старичок священник, который в слишком скверную погоду служил мессу в самом замке. Хотя маркиз был со мною безупречно вежлив, он ни разу не спросил меня, не хочу ли и я научиться игре в трик-трак, и различие, которое он делал между мной и аббатом, как это ни странно, оскорбляло меня: ведь я гораздо охотнее читал книгу, сидя на своем низеньком стуле, или разгадывал характеры присутствующих по их физиономиям. Но такая обидчивость свойственна всякому, кто находится в положении, которое он считает для себя унизительным. Неравенство в обращении всегда задевает самолюбие. Я отыгрывался на том, что выискивал смешные черточки у аббата, который ко всему в замке, и в частности к маркизу, питал самые благоговейные чувства. Надо было видеть, какой багровой становилась его и без того красная физиономия, когда он усаживался напротив старого аристократа. В то же время он думал о возможности выиграть несколько серебряных монет. Деньги должны были придать игре больший интерес, и поэтому его руки дрожали, когда он с азартом бросал кости из кожаного стаканчика. Однако эти наблюдения скоро надоедали мне, и тогда я все внимание обращал на Шарлотту: освободившись, она брала рукоделье и присаживалась к матери. Неудача моей попытки влюбить в себя девушку ожесточила меня, хотя я и восхищался все больше и больше ее наивной прелестью. Откровенно говоря, эмоции, которые я начал испытывать в ее присутствии, приобрели скорее" чувственный, чем психологический характер. Я был молод, и, несмотря на мои философские планы, тело мое хранило воспоминание о плотских наслаждениях и во мне говорил инстинкт пола, неискоренимую фатальность и непреоборимую живучесть которого вы так мастерски анализируете. Пользуясь одной из ваших метафор, можно сказать, что похотливый зверь, привитый к моему мыслящему началу в результате чувственного опыта, пробуждался при одном прикосновении к платью девушки. Гибкость ее стана, изящество ее жестов, маленькая ножка, вдруг появлявшаяся из-под платья, ее несколько худые плечи, линии которых угадывались под тканью кофточки, ее белокурые волосы, собранные на затылке в простой узел, родинка около свежего рта — все это возбуждало во мне смутное и почти мучительное желание. Я готовился обольстить ее и вот сам почувствовал себя обольщенным, а после того, что я вам рассказал о своей гордости и о претензии на самообладание, вы легко можете представить, какое чувство тайного возмущения все это вызывало во мне! Вы, который так прекрасно показали наличие элемента ненависти в половом влечении, вы поймете, что моя неудовлетворенная похоть сопровождалась диким бешенством при виде ее очаровательного лица, всегда холодного в своей мечтательности и глубоко волновавшего меня, хотя девушка, по-видимому, и не замечала этого.
Не знаю, как долго продолжался бы этот период бездействия, полный одновременно и страсти и отчаянья. Мы с мадемуазель де Жюсса находились в своеобразном положении: ее влекла ко мне рождающаяся любовь, еще не осознанная ею, меня к ней — ряд неясных причин, которые я анализировал выше и которые занимали меня больше, чем она сама. Хотя мы и проводили вместе по многу часов, ни один из нас не подозревал о том, что происходит в душе другого.
Ведь в таких положениях люди не отдают себе отчета, являются ли события, с которыми связан новый при падок чувств, следствием или причиной, имеют ли эти события значение сами по себе, или же они служат только средством обнаружить скрытое состояние на шей души. Впрочем, такой же вопрос может быть поставлен о всякой человеческой судьбе вообще. Сколько раз, особенно с тех пор как я томлюсь в четырех стенах камеры, не видя ничего, кроме кусочка неба в окошке под самой крышей, сколько раз я спрашивал себя, вороша мельчайшие факты этой короткой истории: судьба ли наша порождает наши мысли, или, на оборот, мысли создают нашу судьбу, даже ту, что про является во внешнем мире? Конечно, оба мы должны были воспользоваться первым же удобным случаем: Шарлотта — чтобы целиком отдаться своему чувству, тем более опасному, что оно было еще неясным для нее самой, а я — чтобы продолжить прерванный эксперимент. Вот при каких обстоятельствах такой случай представился. Однажды вечером, сидя в кресле около камина и кутаясь в халат; с которым он не расставался иногда по целым дням из-за своих воображаемых болезней, маркиз подробно рассказывал жене о заметке, напечатанной в одной из полученных газет. Речь шла о приеме, который устроили у себя их знакомые. Я как раз держал газету в руках, и маркиз, заметив это, вдруг сказал мне: не соблаговолите ли прочесть нам эту заметку вслух, господин Грелу? В глубине души я еще раз подивился умению этого аристократа придавать оскорбительный оттенок даже самым незначительным просьбам. Уже один тон его задевал человека. Однако я повиновался и стал читать. В заметке живо рассказывалось о блестящем костюмированном бале, и она была написана более тонко, чем обычно пишется светская хроника. Эта оригинальная смесь поэзии и репортажа своим изяществом напоминала изысканный стиль братьев Гонкур.
Пока я читал, маркиз с удивлением смотрел на меня.
Нужно вам сказать, дорогой учитель, что за время дружбы с Эмилем я развил в себе настоящий талант чтеца. Когда мальчик болел, для него не было большего удовольствия, чем слушать, как я читаю длинные отрывки из наших любимых авторов. Мой голос, от природы глуховатый, сделался благодаря этим упражнениям гибким и звучным.
— Однако вы отлично читаете! — воскликнул маркиз, когда я кончил.
Его удивление превратило эту похвалу в очередную обиду для моего самолюбия. Он слишком явно показал, что не ожидал встретить какой-либо талант у скромного молодого человека из Клермона, всегда молчаливого, робкого, явившегося в замок по рекомендации старика Лимассе, чтобы занять место образованного лакея. Потом, как всегда следуя своей прихоти, он продолжал: — Вот идея! Вы по вечерам будете нам читать…
Это все-таки занимательнее, чем трик-трак. Малое табло, большое табло, возвратное табло… Дыра, две дыры, три дыры… Все одно и то же… Да и стук костяшек меня раздражает… Мерзкая погода! Если опять будет налить снег, мы и недели здесь не останемся… Что ты смоешься, Шарлотта? Ты вечно издеваешься над отцом… Педели здесь не останемся… Так какую же книгу ни выберете для начала? Итак, неожиданно для самого себя, я получил новые лакейские обязанности, даже не успев сообразить, не помешает ли это моим занятиям, так как по вечерам я обычно приносил в гостиную какое-нибудь пособие для подготовки к экзаменам и, присматривая за Люсьеном, понемногу занимался своим делом. Однако мне ни на одну секунду не пришла в голову мысль отказаться от этой новой обязанности, и я даже не огорчился. Во-первых, за грубость маркиза меня вознаградил почти умоляющий взгляд Шарлотты, один из тех взглядов, которым женщины умеют просить прощение за того, кого они любят. Во-вторых, у меня тотчас же возник новый план. Я подумал, не воспользоваться ли мне обязанностью чтеца с тем, чтобы возобновить оставленное было намерение обольстить мадемуазель де Жюсса? Брошенный ею взгляд как будто снова давал основание надеяться на успех. На вопрос маркиза о том, что же мы будем читать, я ответил, что постараюсь найти что-нибудь подходящее. В самом деле, я стал искать книгу, которая помогла бы мне приблизиться к жертве, вокруг которой я кружил, как кружил над бедной птичкой коршун, которого я видел однажды недалеко от Пюи де Дом.
Не предоставляла ли мне судьба новый способ оказать на Шарлотту влияние, которого мне не удалось добиться своей притворной исповедью? Мир обязан вам, дорогой учитель, самыми сильными страницами, которые когда-либо были написаны о том, что вы так метко называете «литературной душой», то есть о бессознательном подражании нашего сердца страстям, изображаемым поэтами. И вот я смутно видел перед собою новое средство воздействовать на Шарлотту и бранил себя, что не подумал об этом раньше. «Но где достать, — спрашивал я себя, — роман, который был бы в достаточной мере насыщен страстями, чтобы взволновать Шарлотту, и в то же время достаточно благопристоен с внешней стороны, чтобы его можно было прочесть в семейном кругу?» Я перерыл всю библиотеку. Случайный и даже противоречивый подбор находившихся в ней книг свидетельствовал о том, что в замке сменилось несколько поколений с весьма разнообразными вкусами. Была тут прежде всего полная коллекция произведений восемнадцатого века, о которых я вам уже говорил. Затем следовал пробел, так как в годы эмиграции в замке никто не жил. Потом следовали книги романтиков в первых изданиях, отразившие литературные симпатии отца маркиза, который, как я слышал, был другом Ламартина. Наконец, стали попадаться плохие современные романы, те, что приобретаются в вокзальных киосках и потом в растрепанном виде, иногда разрезанные пальцем забываются на какой-нибудь дальней полке; рядом с ними стояли трактаты по политической экономии — следы мимолетного увлечения нашего маркиза. Но в конце концов я все-таки разыскал в этом хламе «Евгению Гранде», роман, который вполне отвечал предъявляемым мною требованиям. Нет ничего более привлекательного для юного воображения, чем подобные идиллии, одновременно целомудренные и испепеляющие, где невинность окутывает страсть дымкой поэзии. «П<> маркиз, — думал я, — вероятно, помнит этот знаменитый роман наизусть», — и я боялся, что он не захочет его слушать. Однако мой выбор привел его в восторг.
— Браво! — воскликнул он. — Это одна из тех книг, которые прочитываются "один раз, о которых много говорят, а потом совершенно забывают. Я видел его однажды, этого Бальзака, в Париже, у Кастри… Да, лет сорок тому назад… Я был тогда еще молокососом…
Но я хорошо его помню: такой толстый, коренастый, шумный, важный, с прекрасными живыми глазами, однако довольно простоватый с виду…
Как бы то ни было, после первых же страниц маркиз задремал. Маркиза, мадемуазель Ларже и монахиня вязали, ничем не обнаруживая своего мнения, а маленький Люсьен, которому недавно подарили набор красок, старательно раскрашивал картинки в какой-то толстой книге. Во время чтения я особенно внимательно наблюдал за Шарлоттой, и мне было нетрудно заметить, что на сей раз мой расчет оказался правильным и что каждая фраза этого романа заставляет ее трепетать, как трепещет струна под искусным смычком. Все в ней было подготовлено для восприятия таких впечатлений, все — от ее уже взволнованных чувств до. нервов, натянутых под влиянием различных физических причин. Нельзя безнаказанно жить неделями в атмосфере, подобной той, какая царила в замке, с его жарко натопленными комнатами и удушающим воздухом. Ипохондрия маркиза требовала, чтобы в доме всегда было очень тепло. Это незначительное, но каждодневное раздражение нервной системы явилось моим неожиданным союзником, на которого я никак не рассчитывал и который я, в качестве психолога, с удовлетворением отмечаю. Я видел, что девушка как бы прикована к моим губам, повествующим о трогательных эпизодах наивного романа между Евгенией и ее кузеном Шарлем. То же самоё инстинктивное притворство, которое руководило мною" в сцене с ложным признанием, побуждало меня произносить каждую фразу с такой интонацией, какая, по моим расчетам, должна была особенно понравиться Шарлотте. Самому мне эта книга по душе, хотя я и предпочитаю ей десяток других романов Бальзака, таких, например, как «Турский священник», где поразительно ярко обрисованы характеры и где каждая фраза заключает в себе больше мудрости, чем какая-нибудь схолия Спинозы. Однако я старался казаться глубоко тронутым несчастной судьбой дочери старого скряги. В моем голосе слышалось сочувствие бедной сомюрской затворнице, и он становился негодующим, когда речь шла о неверном кузене. Но, как и прежде, я и тут тратил силы понапрасну. Столь сложных приемов совершенно не требовалось. В том настроении, в каком находилась тогда Шарлотта, любой роман представлял для нее опасность. Если бы ее отец и мать хотя бы в малой степени обладали даром наблюдательности, необходимым для родителей, то они догадались бы. об этой опасности, следя за лицом дочери, ибо на протяжении трех вечеров, пока продолжалось чтение, роман все более и более захватывал ее. Маркиза ограничилась замечанием, что таких нехороших людей, как отец Евгении и ее кузен, в действительности не существует.
Что же касается старого маркиза, то он слишком много повидал на своем веку, чтобы изрекать столь наивные мнения, и свое равнодушие к роману он объяснил таю — Право же, роман чересчур расхвалили. Бесконечные описания, рассуждения, подсчеты… Все это прекрасно, ничего не скажешь… Но лично я предпочитаю романы позабавнее… И он закончил пожеланием, чтобы из книжного магазина в Клермоне выписали полное собрание комедий Лабиша. Эта новая фантазия маркиза привела меня в отчаянье. Я мог лишиться возможности влиять на уже взбудораженное воображение Шарлотты и притом в тот момент, когда успех начинал казаться мне вероятным. Но все дело в том, что я не понимал стремления этой уже уязвленной мною души, которая, сама того не ведая, жаждала приблизиться ко мне, понять меня, раскрыться предо мной и жить в полном согласии с моими мыслями. На другой день после того как маркиз вынес свой приговор психологическим романам, мадемуазель де Жюсса вошла в библиотеку, когда я занимался там с Люсьеном. Она поставила на место уже ненужный том «Энциклопедии» и со смущенной улыбкой обратилась ко мне: — Я хотела просить вас об услуге. У меня много свободного времени, и я не знаю, чем заняться… Мне хотелось бы, — робко продолжала она, — чтобы вы посоветовали, что мне прочесть… Книга, которую вы выбрали в прошлый раз, доставила мне такое наслаждение! Обычно романы наводят на меня скуку» а вот этот очень меня увлек…
Слушая эти слова, я испытывал такую же радость, какую, вероятно, испытал граф Андре, увидев высунувшуюся над кладбищенской оградой голову вражеского солдата, которого он убил. Мне показалось, что я тоже держу дичь на прицеле. Предлагая мне руководить ее чтением, Шарлотта тем самым ставила себя под удар. Но ее просьба представлялась мне настолько важной, что я притворился крайне смущенным. Поблагодарив за доверие, я заявил, что она возлагает на меня слишком сложную задачу, для которой я не чувствую себя подготовленным. Короче говоря, я сделал вид, будто отказываюсь, хотя в глубине души просьба ее привела Меня в восторг, я был как пьяный.
Она настаивала, и кончилось тем, что я обещал составить для нее список книг. Теперь весь вопрос заключался в том, чтобы не ошибиться в выборе, сделать который было куда труднее, чем выбрать «Евгению Гранде». Я просидел до глубокой ночи, перебирая в памяти и отвергая сотни книг. Как подобрать такие, которые воспламенили бы ее воображение, не напугав ее, и такие, что взволновали бы ее, но вместе с тем не вызвали бы у нее возмущения? Наконец, подражая голосу своего отца, я повторил его излюбленную фразу: — Приступим к делу методически…
И я подошел к решению задачи следующим образом: я стал припоминать, какие книги и как именно действовали на мое собственное воображение, когда я был подростком. Я вспомнил (как я уже говорил вам в этой подробной исповеди), что литература влекла меня тем, что открывала неведомую мне область чувств.
Я был одержим желанием пережить еще не испытанное. Из этого я заключил, что «отравление» литературой неизбежно для всех. Следовательно, надо было выбрать для девушки такие книги, которые пробудили бы у нее то же самое желание, но при этом необходимо было учесть различие наших характеров. Мне особенно нравились сложные произведения с любовным сюжетом, потому что они соответствовали двум самым глубоким, основным чертам моей натуры. Шарлотта же была утонченным, чистым и нежным созданием. Легче всего было увлечь ее на опасный путь романтического любопытства описанием чувств, сходных с ее собственными чувствами. В конечном счете я решил, что больше всего подходят для этой цели такие произведения, как «Доминик» Фромантена, «Принцесса Клевская», «Валерия», «Жюли де Трекер», «Лилия в долине», сельские романы Жоржа Санда, некоторые комедии Мюссе, в частности «Любовью не шутят», ранние стихи Сюлли-Прюдома, поэзия Виньи. Я не только составил список книг, но и постарался снабдить его заманчивым и комментариями, в которых тщательно указывал все особенности, свойственные каждому из этих писателей. Это и есть тот список, который бедная девушка сохранила у себя и относительно которого следственные власти заявляют, что он подтверждает мои попытки начать ухаживание. Странное ухаживание! Как мало оно походит на пошлые планы насчет выгодного брака, в которых меня обвиняют эти тупоголовые господа! Если бы у меня не было другого куда более серьезного повода отказываться от защиты, о чем я скажу в конце этих записок, то я молчал бы уже из одного отвращения к этим пошлякам, которым и в голову никогда не придет, что можно совершить что-либо из чисто отвлеченных побуждений. Пусть они дадут мне в судьи вас, дорогой учитель, и других корифеев современной философии! Тогда я мог бы говорить в суде так же, как сейчас говорю с вами. Но вам-то4 во всяком случае, хорошо известно, что я роковым образом был предопределен к этому решительному часу своей жизни, как и к тому, чтобы писать эти строки, а наше лицемерное общество предпочитает жить вне Науки, той Науки, которой я служил в те дни, — служил ей одной! Наконец, указанные мною книги были доставлены из Клермона. Со стороны маркиза никаких замечаний они не вызвали. Но нужно обладать более значительным умом, чем ум этого ограниченного человека, чтобы понимать, что вредных. книг вообще не существует: существуют только неблагоприятные моменты для чтения тех или иных книг, в том числе и самых лучших. У вас в главе о «литературной душе» есть замечательное сравнение: вы уподобляете открытые раны, нанесенные воображению некоторых людей чтением, широко известному явлению, имеющему место у больных диабетом. Самый незначительный порез у них воспаляется и превращается в гангрену. Если нужно еще доказательство для теории «предрасположения», о которой вы пишете дальше, то я не мог бы найти ни «чего лучшего, чем тот факт, что мадемуазель де Жюсса искала в этих столь различных книгах прежде всего сведений обо мне самом, о моей манере чувствовать, мыслить, воспринимать жизнь и человеческие характеры. Каждая глава, каждая страница этих коварных книг сделалась для нее предлогом для бесконечных расспросов, с которыми она горячо и наивно обращалась ко мне. Да, я совершенно убежден, что делала она это с самыми добрыми намерениями и вовсе не подозревала, что поступает дурно, приходя поболтать со мной по поводу той или иной фразы о Доминике или Жюли, о Феликсе де Ванденессе или Пердикане.
Я отлично помню, какое отвращение вызвал у нее этот юноша, самый обольстительный и греховный из всех героев Мюссе, помню, с каким пылом, вторя ей, как эхо, я клеймил его двуличие в отношениях с Камиллой и Розеттой. А между тем ни один герой не нравился мне больше, чем этот любовник, одновременно вероломный и искренний, изменчивый и нежный, простодушный и в то же время беспутный, который по-своему тоже производил опыт душевной вивисекции над своей хорошенькой и гордой кузиной.
Я привожу этот пример из двадцати других только для того, чтобы дать вам представление о разговорах, какие мы теперь вели с Шарлоттой, живя в такой близости друг от друга. Действительно, никто за нами не наблюдал. Личина, которую я надел на себя по приезде в замок, продолжала скрывать меня от взоров окружающих. Маркиз и маркиза сразу же составили обо мне совершенно ложное представление и не давали себе труда проверить, не ошиблись ли они на мой счет. Добрейшая мадемуазель Ларже, приятно и благодушно обосновавшаяся в замке на положении приживалки, была слишком наивным существом, чтобы подозревать порочные мысли, которые роились в моей голове. Аббат Бартомеф и сестра Анакле, которых разделяло тайное соперничество, скрытое за елей ной вежливостью, были/ озабочены одним: как бы снискать благоволение владельцев замка. Священник добивался этого для своей церкви, монахиня в интересах своего ордена. Люсьен был чересчур молод, а что касается слуг, то я еще не знал, какое вероломство скрывается за безразличным выражением их бритых лиц и под безукоризненными коричневыми ливреями с металлическими пуговицами. Таким образам, мы с Шарлоттой были предоставлены самим себе и могли свободно беседовать целыми часами. Утром она появлялась в столовой, где мы с Люсьеном пили чай; тут, под предлогом совместного завтрака, мы успевали поговорить. От нее веяло приятной свежестью только что принятой ванны, волосы ее были заплетены в тяжелую косу, и под небрежно на, кинутым платьем угадывалось очарование ее гибкого тела. Затем я видел ее в библиотеке, так как она всегда находила какой-нибудь благовидный предлог заглянуть туда. Здесь она была совсем другой, уже причесанная и в дневном туалете. Затем мы снова встречались в гостиной перед вторым завтраком и после него; она со своей обычной грацией разливала кофе, немного торопясь, чтобы задержаться около меня: мне она наливала последнему, и это давало нам возможность побеседовать, уединившись у окна. Если позволяла погода, во вторую половину дня мы отправлялись на прогулку, чаще всего вчетвером: гувернантка, Шарлотта, я и Люсьен. Затем в пять часов мы снова собирались за чайным столом; потом пода вали обед, во время которого я сидел рядом с Шарлоттой. Наконец, мы оставались вдвоем вечером, так что наши разговоры, прерываемые и снова возобновляемые, как бы сливались в одну нескончаемую беседу. Я мысленно сравнивал свои наблюдения над Шарлоттой с тем, что я замечал у животных, которых мне доводилось приручать. Одно время меня заинтересовал вопрос о психологии животных, и я написал об этом несколько очерков. Если мать, как я ее просил, передаст вам после моей смерти бумаги, которые вернут судебные власти, то вы найдете среди них и эти заметки о приручении животных человеком. Я имею основания считать, что по этому вопросу еще ничего не написано и что мои заметки достойны вашего внимания. Отправной точкой послужила мне одна из теорем Спинозы. Не помню — ее точного текста, «о смысл ее сводится к следующему: представить себе какое-нибудь действие то же самое, что мысленно произвести его. Это одинаково верно и по отношению к человеку и по отношению к животным. Ученый, имеющий огромные заслуги перед наукой и хорошо вам известный, — я имею в виду г-на Эспина, — доказал, исходя из этого, что всякое общество основано на подражании. Отсюда я сделал вывод, что приручить какое-либо животное, заставить его жить в обществе человека можно лишь тогда, когда в своих отношениях с этим животным ограничиваешься только тем, что оно способно повторять за нами; другими словами, мы должны сами походить на это животное. Я проверял этот закон, констатируя таинственное физиономическое сходство, возникающее, например, между охотником и его собаками. Я убедился также, — и это служило доказательством, что мадемуазель де Жюсса с каждым днем все более приручается, — что мы стали употреблять одни и те же обороты речи. Я иногда ловил. себя на том, что произношу слова так же, как она, а у нее наблюдал жесты, похожие на мои. Короче говоря, я как бы становился частью ее жизни, и происходило это незаметно для нее самой, ибо я прилагал все усилия к тому, чтобы каким-нибудь неосторожным словом не спугнуть душу, уже готовую запутаться в моих силках.
Эта жизнь, на которую я обрек себя в течение двух месяцев, пока продолжались наши чисто интеллектуальные отношения, жизнь, полная настороженности и дипломатических ухищрений, протекала не без внутренней, почти каждодневной борьбы. Мой план заключался не только в том, чтобы увлечь ее ум, овладеть мало-помалу ее воображением. Я хотел быть любимым и отлично понимал, что духовный интерес лишь начало страсти. Этот интерес неминуемо должен был завершиться иной близостью, иначе — он остался бы бесплодным. В вашей «Теории страстей» к одной из страниц есть примечание, которое я постоянно перечитывал в те дни и поэтому знаю его наизусть: «Методическое изучение жизни профессиональных соблазнителей могло бы пролить яркий свет на проблему возникновения любви. Но мы не располагаем необходимыми документами: соблазнители были в большинстве случаев людьми действия и не умеkи рассказывать о себе. Тем не менее некоторые отрывки, например, в «Мемуарах» Казаковы, в «Частной жизни» маршала де Ришелье, в главе Сен-Симона о Лозене, представляющие огромный психологический интерес, позволяют нам утверждать, что в девятнадцати случаях из двадцати смелость и физическая фамильярность являются вернейшими средствами, что бы вызвать у женщины любовь. Эта гипотеза подтверждает нашу доктрину о животном происхождении любовной страсти». Я мысленно повторял этот тезис, когда беседовал с Шарлоттой на литературные темы, и с тем большим убеждением, что во мне уже говорила природа и что присутствие девушки будило во мне самые жгучие воспоминания. Порой, когда мы на не сколько минут оставались наедине, когда она вдруг делала какое-нибудь движение или приближалась ко мне и я чувствовал ее рядом, по моим жилам пробегала лихорадочная волна желания и мне приходилось отводить взгляд, чтобы он не испугал ее.
Я смотрел, как ее белая рука перелистывает книгу, как вытягивается ее пальчик, указывая мне на ту или иную строку. А что, если я возьму эту ручку в свою, что, если я нежно сожму ее и долго буду держать в своей руке? Я убеждал себя, что должен это сделать.
Но у меня не хватало смелости… Часто, в отсутствие Шарлотты, мне казалось, что легче будет проявить смелость, если я отважусь на большее. Тогда я решал, что непременно сожму ее в объятиях, прильну губами к ее губам. Я представлял себе, как она слабеет под моими ласками, теряя власть над собой, пораженная, словно молнией, этим грубым проявлением страсти. А что будет дальше? При этой мысли у меня билось сердце. Меня удерживал не страх, что меня могут с позором выгнать из дома. Моя гордость страдала больше от мысли, что у меня не хватит решимости. И я не решался. Сколько раз я вскакивал по ночам от еще более безумных мыслей. После долгих часов таких волнений я вставал с постели в холодном поту. «А что, если сейчас же пойти к ней? — размышлял я. — Что будет, если она проснется в моих объятиях и почувствует, что мои губы слились с ее губами, а тело с ее телом? В безумном увлечении этим планом я дошел до того, что осторожно, как вор, отворял дверь, спускался этажом ниже и пробирался по коридору до другой двери, до той, за которой спала Шарлотта.
Я рисковал тем, что меня заметят и выгонят, — и на этот раз ни за что. Но я брался за дверную ручку. Холод меди обжигал мне пальцы. На большее я не осмеливался. Не думайте, что это объяснялось только моей робостью. Правда, неспособность к действию — одна из отличительных черт моего характера, но только в тех случаях, когда меня не во одушевляет какая-нибудь идея. Однако стоит только идее овладеть мною, и я преисполняюсь несокрушимой энергией. Тогда мне и смерть нипочем. Вы убедитесь в этом, если меня приговорят к смертной казни.
Нет, около мадемуазель де Жюсса меня парализовала, как какое-то магнетическое влияние, ее чистота: ясно сознавая это, я все же не в состоянии объяснить себе причину такого явления. Утверждение, что соблазнить невинную девушку труднее, чем овладеть женщиной, которая уже отдавалась и поэтому может лучше защищаться, на первый взгляд кажется нелепым. А между тем это так. По крайней мере лично я с необычайной силой испытал невольное благоговение перед невинностью. Часто, когда я ощущал между собой и Шарлоттой эту непреодолимую преграду, я вспоминал легенду об ангелах-хранителях и понимал происхождение этого поэтичного верования. Если мы низведем путем анализа это явление к его реальной сущности, мы увидим, что и в отношениях между двумя людьми, даже без их ведома, существует такое же взаимодействие. Я пытался из холодного расчета приручить эту девушку, уподобляясь ей, но испытывал на себе самом, уже забыв о всяком расчете, духовное влияние, которое источает всякий подлинно возвышенный характер. Необычайная простота ее души порой одерживала верх над- всеми моими идеями, воспоминаниями и желаниями. Словом, хоть я и считал это слабостью, не достойной сильного ума, как мой, я все же уважал Шарлотту. Мы слишком легко поддаемся влиянию предрассудков! Я уважал ее, будто не знал цену такому слову, как «уважение», и того, что за этим словом скрывается нелепейшее проявление нашего невежества. Разве станем мы уважать игрока в рулетку который десять раз подряд выигрывает, ставя на красное или черное? А в азартной лотерее вселенной добродетель и порок — это то же, что красное и черное в рулетке. Порядочная девушка и счастливый игрок стоят друг друга.
Наступила весна. Она застала меня среди волнующих чередований дерзких планов и безумной робости, противоречивых рассуждений, хитроумных комбинаций и наивного пыла. О, какая это была весна! Нужно пережить суровую зиму в наших горах, потом неожиданную сладость обновления природы, чтобы понять, какое очарование жизни чувствуется в воздухе, когда апрель и май приводят с собой священное время года. Сначала пробуждается вода на лугах. Она трепещет под хрупким покровом льда, потом взламывает его, струится и журчит, свободная и прозрачная. В пустынных лесах слышится неумолчный шепот снега: он падает ком за комом на вечнозеленые ветви сосен, на черную сухую листву дубов.
Освободившееся ото льда озеро покрывается рябью под набежавшим ветерком, который гонит облака, и тогда. вновь появляется на небе лазурь, та лазурь над горами, что кажется более прозрачной, более глубокой, чем над равниной; и вот проходит несколь ко дней — и унылый пейзаж принимает тончайшие от тенки нежных красок. На голых ветках появились острые почки. Зеленые сережки орешины смешались с желтоватыми сережками ивы. Даже черная лава Шеры как бы оживилась вместе со всей природой.
Бархатистые споры мхов перемежились с белыми пятнами лишайника. Кратеры Пюи де ля Ваш и Пюи де Лассола постепенно открыли великолепие своих красноватых песков. Серебристые стволы берез и многоцветная кора буков ярко засияли на солнце. В зарослях начали распускаться прелестные цветы, которые я некогда собирал с отцом; их венчики смотрели на меня, как глаза, а аромат казался живым дыханием. Сначала зацвели барвинки, первоцветы и фиалки. Потом стал попадаться бледно-лиловый полевой сердечник, розовые цветы волчьего лыка, что появляются раньше своих зеленых Листьев, и белые анемоны; за ними последовали мускатные гиацинты, пахнущие сливой; двухлистный морской лук с его приторно-сладким запахом; цветы, которые называются Соломоновой печатью, — белые колокольчики с таинственно блуждающим под землею корнем; в глубине небольших оврагов появились ландыши, а вдоль- изгородей — цветы шиповника. Их овевал легкий ветерок, прилетавший с гор, еще покрытых снегом. Он приносил благоухание цветов, запах солнца и снега и что-то до того ласкающее и свежее, что, вдыхая воздух, человек пьянел от ощущения юно сти, от сознания, что он и сам принимает участие в обновлении огромного мира. Даже я, находившийся по власти своих доктрин и теорий, ощущал эту мо лодость природы, и лед абстрактных идей, сковывав ший мою душу, начинал таять. Когда позднее я перечитывал страницы ныне сожженного дневника, где я записывал свои переживания, я сам удивлялся тому, с какой силой чисто физическое ощущение весны вновь открыло во мне источники наивности и какими по токами они наводнили мое сердце! Я сержусь сам на себя за эти мысли. Однако я испытываю какую то сладость при воспоминании, что в те дни я искренне любил ту, которой уже нет на свете… Да, повторяю я с истинным облегчением: по крайней мере в тот день, когда я осмелился, наконец, сказать ей о своей любви, — в тот роковой день, что явился для нас обоих началом гибели, — я был искренне обманут собственными словами. Вы видите, дорогой учитель, до чего я стал беспомощным, если ссылаюсь в качестве оправдания на искренность этого самообмана! Оправдания в чем? Не в жалком ли отречении исследователя от задуманного им эксперимента? Чтобы быть вполне откровенным и не выставлять себя более смелым, чем я был на самом деле, должен сказать, что признание, к которому я так готовился, я сделал совершенно случайно. Помню, это было 12 мая. За точность даты ручаюсь. Но подумать только, что не прошло еще и года с тех пор, а сколько совершилось событий! В то утро все как-то особенно сияло, и после полудня мы отправились вчетвером — мадемуазель Ларже, Люсьен, Шарлотта и я — на прогулку до деревни Сен-Сатюрнен, через заросли дубов, берез и орешника, которые отделяют деревню от развалин замка Монредон и известны под названием леса Прада. Дорога, пересекающая этот одичавший парк, великолепна. За нами следовал небольшой английский шарабан, где в случае надобности мы могли бы поместиться все четверо. Но в пути мы садились в него по очереди. Нет, никогда еще утро не было таким теплым, небо таким голубым, а весенние запахи, которые приносил ветерок, такими пьянящими… Не прошли мы и мили, как мадемуазель Ларже, утомленная солнцем и свежим 1 воздухом, устроилась на скамеечке экипажа, которым правил младший замковый кучер. Этот негодяй впоследствии дал крайне неблагоприятные для меня показания, вспомнив все, что видел или о чем догадался из тех фактов, о которых я сейчас расскажу. Люсьен вскоре тоже заявил, что устал, и присоединился к гувернантке. Таким образом, пешком продолжали прогулку только мы с Шарлоттой. Ей вздумалось собрать букет ландышей, и я помогал ей. Мы. очутились под свода ми деревьев, нежная, едва распустившаяся листва ко торых окутывала лес зеленоватой дымкой. Шарлотта шла впереди, углубляясь в чащу, увлеченная поиска ми цветов, которые то покрывали землю сплошным ковром, то совсем исчезали. Наконец мы очутились на какой-то прогалине, так далеко, что уже не видели за деревьями, хотя и прозрачными, своих спутников и экипаж. Шарлотта первая заметила, что мы в полном уединении. Она насторожилась и, не слыша цоканья подков на дороге, по-детски рассмеялась: «— Мы заблудились!.. К счастью, дорогу не трудно будет «наверстать», как говорит сестра Анакле. Вы подождете, пока я свяжу букет? Жаль портить такие прелестные цветы…».
Она присела на камень, залитый солнцем, и, разложив на коленях только что сорванные ландыши, стала перебирать их стебелек за стебельком. Усевшись на другом краю камня, я вдыхал пряный аромат этих бледных гроздий. Никогда еще это создание, к которому в течение нескольких месяцев тянулись все мои помыслы, не казалось мне более трогательным и нежным, чем в эти мгновенья. Я любовался ее порозовевшим на воздухе лицом, ярким пурпуром губ, которые складывались в легкую улыбку, прозрачностью., серых глаз, тонким изяществом всего ее существа. На ней было темное шерстяное платье и нечто вроде жакета, который слегка обрисовывал ее стан. Из-под подола виднелись зашнурованные ботинки; каштановые волосы, собранные в узел под черной фетровой шляпкой, отливали на солнце рыжеватым отблеском. Чтобы удобнее было перебирать ландыши, она сняла перчатки, и я наблюдал быстрые движения ее прекрасных белых рук. Очарование молодости, исходившее от нее, как-то особенно гармонировало с окружающим ландшафтом, и чем больше я на нее смотрел, тем больше крепло во мне убеждение, что необходимо воспользоваться этим случаем, чтобы высказать ей все, что я так давно собирался сказать. Несомненно, другого такого случая мне уже не представилось бы. В каких глубинах моей души родилась эта мысль и в какое именно мгновение? Не знаю. Знаю только, что, едва зародившись, она стала расти, расти… К ней примешивалось смутное угрызение совести, потому что я видел, как доверчива Шарлотта, как мало подозревает она о терпеливых усилиях, благодаря которым, злоупотребляя нашей ежедневной близостью, я приучил ее относиться ко мне с почти сестринской нежностью. Сердце у меня тревожно билось. Чары ее волновали все мое существо.
На свою беду она вдруг обернулась ко мне, чтобы показать почти законченный букет. Она несомненно заметила на моем лице следы волнения, которое поднимал во мне вихрь мыслей, ибо у нее самой радостное и обычно такое открытое лицо вдруг омрачилось тревогой. Должен прибавить, что за последние два месяца, когда мы с ней так подружились, мы избегали всяких намеков на придуманный мною печальный роман, которым я пытался вызвать в ней жалость. Она делала это из деликатности, а я из хитрости. Я понял, что Шарлотта вполне поверила в мою историю и постоянно думает о ней, ибо она сказала с невольной грустью во взгляде: — Почему вы хотите испортить печальными воспоминаниями удовольствие от этой прогулки? Мне казалось, что вы стали благоразумнее…
— Нет, — ответил я, — вы не знаете, почему я грущу… Тут виной не воспоминания! Я знаю, вы намекаете на мои прошлые горести… Но вы ошибаетесь…
Их уже нет. Их нет, как на этих ветвях нет прошлогодних, листьев…
Я показал на молодые ветки березы, бросавшие кружевную тень на камень, на котором мы сидели. Мне казалось, что кто-то другой произносит эти слова. И. я прочел в глазах своей спутницы, что, несмотря на поэтичное сравнение, которым я завуалировал их смысл, она поняла меня. Не знаю, что произошло во мне и почему вдруг стало для меня легким то, что было совершенно невозможным до этой минуты. Каким образом я посягнул на то, что казалось мне немыслимым? Я взял ее руку и почувствовал, как она затрепетала в моей руке, словно от какого-то невыразимого ужаса. У нее хватило сил подняться, чтобы уйти, но ее колени дрожали, и я без труда заставил ее снова сесть на камень. Я был так взволнован собственной смелостью, что уже не владел собою и стал говорить о своих чувствах в выражениях, каких уже не могу найти сейчас, — так мало подчинялся я в тот миг своим расчетам. Все переживания, которые я испытал по приезде в замок, — да, все, начиная с самых отвратительных, вроде зависти к графу Андре, и до самых благородных, до угрызений совести, что я злоупотребляю доверием этой девушки, — все они вдруг слились в почти мистическое, полубезумное обожание этого трепетного, прекрасного, взволнованного существа!.. Я видел, что, по мере того как я говорю, она становится бледной, как цветы, разбросанные на ее коленях. Я помню, что фразы срывались с моих губ, восторженные до исступления, беспорядочные до неосторожности, и что я кончил объяснение, сжимая ее руку в своей, еще ближе подвигаясь к ней и повторяя вне себя: — Как я вас люблю!.. О, как я вас люблю!..
Она склонилась, точно у «нее не хватало сил держаться прямо. Свободной рукой я обнял ее за талию, однако так смутился, что даже не подумал, что могу поцеловать ее. Но этот жест, вызвавший у нее новый приступ страха, вернул ей силы: она вскочила и высвободилась из моих рук. Она скорее простонала, чем сказала:
— Оставьте меня!.. Оставьте!..
Пятясь от меня и вытянув вперед руки, как бы для защиты, она отошла к березе, на которую я только что показывал ей, и прислонилась к стволу, задыхаясь от волнения: крупные слезы катились по ее щекам.
В этих слезах было столько оскорбленного целомудрия, в подергивании ее полуоткрытых губ чувствовалось такое мучительное возмущение, что я замер на месте и только бормотал:) — Простите меня!..
— Молчите! — сказала она резко.
Так мы стояли в полном. молчании друг перед другом некоторое время, по-видимому очень непродолжительное, хотя оно и показалось мне вечностью. Вдруг в лесу раздался чей-то голос. Кто-то кричал вдали, потом все ближе и ближе, подражая кукушке. Там уже забеспокоились по поводу нашего отсутствия, и маленький Люсьен звал нас обычным условным сигналом. При этом простом напоминании о действительности Шарлотта вздрогнула. Щеки ее снова зарделись. Она посмотрела на меня, и в ее взоре гордость победила страх. Как бы очнувшись от ужасного сна, она взглянула на свои дрожащие руки, молча подняла перчатки и цветы и бросилась бежать от меня. Да, она бежала, как преследуемый зверь, — в ту сторону, откуда доносился голос. Минут через десять мы уже снова были на дороге.
— Я что-то не совсем хорошо себя чувствую, — сказала она гувернантке, как бы предупреждая расспросы, которые могло вызвать выражение ее лица. — Можно, я сяду в шарабан? Пора возвращаться…
— Это от зноя, — заметила старая дева.
— А как же господин Грелу? — спросил мальчик, когда Шарлотта устроилась на сиденье, а сам он поместился сзади.
— Я вернусь пешком, — сказал я.
Кучер хлестнул лошадь, шарабан тронулся и быстро покатил, несмотря на четырех седоков. Люсьен помахал мне рукой. Некоторое время я видел шляпу мадемуазель де Жюсса, неподвижно сидевшей рядом с кучером. Потом экипаж исчез, и я зашагал в одиночестве по дороге под тем же голубым небом и среди тех же самых деревьев, покрытых пухом молодой листвы. Но восторженное настроение, охватившее меня в начале прогулки, сменилось теперь страшной тревогой. На этот раз жребий был брошен. Я дал сражение и проиграл его. Теперь меня с позором выгонят из замка. Однако меня угнетала не столько эта перспектива, сколько странная смесь раскаяния, стыда и вожделения. Вот куда завели меня моя ученость и психология и произведенная по всем правилам осада девичьего сердца! Ни слова в ответ на мое страстное признание! Да и я в минуту, когда наступило время действовать, не нашел ничего лучшего, как декламировать перед нею фразы из романов! И один ее жест, ее бегство от меня с вытянутыми вперед руками, пригвоздили меня к месту. Несомненно в моей страсти к Шарлотте в эту пору наших отношений заключалось немало тщеславия и чувственности, ибо порыв обожания, который побудил меня излиться перед нею с таким искренним красноречием, вдруг превратился в припадок бешенства. Почему я не овладел ею тут же, на земле, у подножия того самого дерева, к которому она прислонилась? Вместо этого я стоял в каких-нибудь четырех шагах от нее и не нашел ничего лучшего, как просить прощения. В моих мыслях возник граф Андре. В мгновение ока я представил себе презрительную гримасу на его лице, когда ему расскажут об этой сцене. Словом, когда я оказался перед оградой замка, я, уже не был ни тонким психологом, ни взволнованным любовью юношей, а всего только кровно оскорбленным человеком. Как только я взглянул на знакомые очертания озера, привычную для глаза линию гор и фасад замка, гордыня уступила во мне место чудовищному страху перед тем, что мне предстояло испытать, и у меня мелькнула мысль Немедленно бежать отсюда, вернуться поскорее в Клермон. Лучше бежать, чем снова убедиться в презрении, мадемуазель де Жюсса и пережить оскорбления, на которые не поскупится, конечно, ее отец…
Но было уже поздно: по главной аллее навстречу мне шел сам маркиз в сопровождении Люсьена. Мальчик звал меня. В голосе его звучала обычная дружеская интонация, а прием, оказанный мне стариком, окончательно убедил меня, что еще не все погибло.
— Они вас бросили, — ворчал, маркиз, — и даже не догадались послать за вами экипаж… Пришлось же вам помаршировать!.. — Он посмотрел на часы и прибавил: — Боюсь, не простудилась ли Шарлотта.
Она легла, как только вернулась… Весеннее солнце — …
предательская штука! Значит, мадемуазель де Жюсса еще ничего не сказала!.. «Сегодня ей нездоровится, но завтра она все расскажет», — думал я, оставшись один, и тотчас же стал укладывать свои бумаги. Я очень дорожил ими в те дни, еще питая наивную веру в свои психологические таланты! Это завтра наступило. Опять ничего! Я встретился с Шарлоттой за столом во время завтрака; она была бледна, как человек, испытавший сильное горе. Я заметил, что от звука моего голоса она слегка вздрагивает. И только. Боже мой! Какую странную неделю пережил я тогда, каждый день ожидая, что она все откроет родителям! Меня терзало это ожидание, и в то же время я никак не мог предупредить события и уехать из замка. Дело заключалось не только в отсутствии подходящего предлога. Меня удерживало здесь жгучее любопытство. Я хотел не только мыслить, но и жить. Ну что ж, я жил. Да еще какой лихорадочной жизнью! Наконец, через неделю маркиз попросил меня зайти к нему в кабинет. «Ну, на этот раз, — думал я, — развязка близка. Пожалуй, это к лучшему…» Я приготовился увидеть гневное лицо, услышать оскорбительные речи. К. моему удивлению, ипохондрик улыбался, у него был оживленный и помолодевший вид.
— Дочь все еще больна… — начал он. — Ничего серьезного… Но у нее странные нервные явления…
Она во что бы то ни стало хочет посоветоваться с парижскими врачами… Вы знаете, она и раньше хворала. Но один врач поставил ее на ноги, и она чувствует к нему особое доверие. Да я и сам не прочь обратиться к нему. Так вот, послезавтра мы с ней уезжаем. Возможно, что затем мы совершим небольшое путешествие, чтобы она чуточку рассеялась… Мне хотелось бы дать вам кое-какиё указания относительно Люсьена на время моего отсутствия. Хотя я очень доволен вами, дорогой Грелу, очень, очень доволен…
Я уже писал Лимассе… Мне повезло, что я нашел такого воспитателя, как вы…
На основании того, что я рассказал вам о своем характере, вы подумаете, дорогой учитель, что эти комплименты весьма польстили мне, — ведь они служили доказательством того совершенства, с каким я играл свою роль, и, успокаивали меня насчет событий последних дней. Но я отнюдь не был польщен. /Мне стало ясно: Шарлотта решила не рассказывать о моей попытке объясниться ей в любви, и я спрашивал себя: почему? Вместо того чтобы истолковать это молчание как благоприятный для меня признак, я заподозрил другое. Я подумал, что она из жалости боится лишить меня куска хлеба, но не из той жалости влюбленной женщины, какую мне хотелось вызвать у нее. Не успел я придумать это объяснение, как оно уже показалось мне убедительным и вместе с тем невыносимым. «Нет, — сказал я сам себе, — этому не бывать. Я не приму милостыни, такое оскорбительное снисхождение мне не нужно… Когда мадемуазель де Жюсса вернется, она уже не застанет меня здесь. Она дает мне понять, как я должен поступить? Ну что ж, я так и поступлю. Ц пытался увлечь ее, но не сумел вызвать даже ее гнева… Пусть же у нее по крайней мере не останется обо мне воспоминания как о лакее, который цепляется за место, невзирая на все обиды…» Надежда на обольщение, которая всю зиму поддерживала меня, окончательно рухнула, и я был так сбит с толку, что в ночь после разговора с маркизом написал письмо той, кого мечтал влюбить в себя. В этом письме я снова просил у нее прощения. «Я понимаю, — писал я, — насколько наши отношения стали теперь невозможными», — и прибавлял, что по возвращении ей уже не придется выносить моего ненавистного присутствия. На другой день утром, в суматохе сборов, я улучил минуту, когда маркиза зачем-то позвала Шарлотту к себе, и бросился в ее комнату.
Я проник туда и положил письмо на ее письменный столик. Среди книг и всяких мелочей, которые она собиралась взять в дорогу, лежал и ее бювар. Я раскрыл его и заметил конверт, на котором было помечено: 12 мая 1886 года… Это была дата рокового объяснения!.. Я взял конверт и приоткрыл его. В нем лежали полузасохшие ландыши. Тут я вспомнил, что во время нашей последней прогулки дал ей несколько особенно крупных стебельков и что она приколола их на груди… Она сохранила эти ландыши! Она не захотела расстаться с ними, несмотря на все, что я ей сказал, а может быть, именно потому, что я это сказал! Об этом свидетельствовала дата на конверте: 12 мая 1886 года.
Не думаю, чтобы мне пришлось еще когда-нибудь испытать волнение, подобное тому, какое охватило меня при виде этого простого конверта. Мое сердце преисполнилось гордости. Да, Шарлотта отвергла меня.
Да, она от меня бежала. Но она любит меня! Передо мною доказательство чувства, о каком я и думать не смел. Я закрыл бювар и вернулся к себе в комнату, опасаясь, как бы она не застала меня здесь. Письмо я не оставил, а тут же уничтожил его. Теперь уже не могло быть и речи о моем отъезде. Нет, теперь надо было дождаться ее возвращения. Тогда я уже ни перед чем не остановлюсь и буду торжествовать победу.
Она меня любит!..
$5. — Второй кризис
Она любит меня! Итак, эксперимент с обольщением, который я затеял из гордости и любопытства, удался. В этом уже нельзя были сомневаться ни одной минуты, и полученное мною доказательство не только помогло мне перенести отъезд Шарлотты, но привело к тому, что я почти радовался ее временному отсутствию. Бегство ее объяснялось борьбой с собственными чувствами и указывало на их глубину. Кроме того, ее отъезд на несколько недель помогал мне выйти из невероятных затруднений. «В самом деле, — спрашивал я себя, — что же мне делать? Как вести себя, чтобы закрепить и развить этот нежданный успех?» Теперь у меня еще было время подумать об этом в отсутствие ч девушки, которое не могло продолжаться долго, так как в настоящее время Жюсса могли жить только в Оверни. Итак, я на время отложил разработку дальнейшего плана и ходил как хмельной под впечатлением своей победы. А тем временем в замке происходили сборы в дорогу. В день отъезда я, как бы из деликатности, чтобы не стеснять их в последние минуты, попрощался с уезжающими в гостиной и поднялся в свою комнату. Крепкое, дружеское рукопожатие маркиза доказало мне еще раз, как прочно мое положение в этом доме. За подчеркнутой холодностью девушки я угадывал трепет ее сердца, тайну которого она не хотела выдавать. Моя комната была угловой на третьем этаже; окно выходило на двор перед замком. Я спрятался за портьеру, чтобы незаметно наблюдать за тем, как уезжающие будут садиться в экипаж. У подъезда стояла коляска с меховой полстью, запряженная той же гнедою лошадью, что везла в памятный для меня день английский шарабан, и на козлах сидел, как монумент, тот же самый кучер, в коричневой ливрее и с бичом в руке. Показался маркиз, потом Шарлотта. Мне трудно было рассмотреть издали ее лицо, и, когда она подняла вуалетку, чтобы вытереть глаза, я не мог разгадать, что ее так растрогало: последние ли поцелуи матери и брата, или горечь непосильного решения. Но когда экипаж покатил к воротам замка, я отлично видел, что Шарлотта обернулась. Родных уже не было на крыльце.
Куда же она могла смотреть так долго, как не на окно, из которого я тайком наблюдал за нею? Потом экипаж скрылся за рощей, еще раз мелькнул на берегу озера, затем снова исчез, и стал удаляться по дороге через лес Прада, по той дороге, где Шарлотту подстерегало воспоминание, от которого, я был уверен, еще сильнее забьется ее сердце, наконец-то растревоженное и покоренное.
Это ощущение удовлетворенной гордости не покидало меня ни на одну минуту в продолжение целого месяца. Никогда еще мой ум не был более ясным, более, гибким и восприимчивым, чем в те дни, и это служит доказательством, что по отношению к этой девушке я продолжал оставаться прежде всего ученым и психологом. Я написал в те дни лучшие свои страницы — исследование о работе воли во время сна.
С понятным вам восторгом исследователя я использовал в этом этюде все наблюдения, сделанные мною за последние месяцы относительно изменчивости, твердости или слабости моих решений. Ведь, как я вам уже сказал, я вел подробный дневник, анализируя, перед тем как лечь в постель, и утром, едва проснувшись, все оттенки своего душевного состояния.
Да, те дни были полны переживаний. Свободного времени у меня было много. Мадемуазель Ларже и сестра Анакле поочередно развлекали маркизу, а мы с Люсьеном гуляли, пользуясь- прекрасной погодой.
Под предлогом, что это необходимо для его обучения, я привил ему страсть к собиранию бабочек. С сачком в руках он целыми днями бегал вдали от меня за аврорами с оранжевой каемкой на крылышках, коричневыми мориосами, пестрыми крапивницами, голубыми аргусами и золотыми лимонницами. Таким образом, он оставлял меня наедине с моими мыслями. Мы отправлялись с ним то по дороге в Прада, сиявшей теперь весенним убранством, то шли в сторону Вернежа и спускались в долину Сен-Женес-Шампанель, такую же очаровательную, как и ее название. Я садился где нибудь на глыбу окаменевшей лавы — частицу огромного потока, излившегося некогда из Пюи де ля Ваш, и, предоставив воспитанника самому себе, целиком отдавался странному настроению, под влиянием которого в этой дикой природе, воплощавшей мои научные взгляды, я видел пример неумолимости рока. Природа как бы советовала мне относиться к добру и злу с полнейшим равнодушием. Я смотрел на распустившуюся под солнцем листву и вспоминал о законах дыхания растений, думал о том, как простым изменением количества света можно видоизменять их жизнь… Вот так можно было бы по своему желанию руководить и жизнью души, 1если бы точно знать ее законы. Мне уже удалось зародить страсть в душе девушки, от которой меня отделяла бездна. Какие же новые методы применить, чтобы усилить это чувство? Погруженный в формулы психологической алгебры, я забывал о синем небе, о лесной прохладе, о величии вулканов, о. раскинувшихся вокруг меня широких просторах. Я колебался в выборе решения и не знал, как поступить в тот уже недалекий день, когда в тишине замка я снова окажусь лицом к лицу с мадемуазель де Жюсса. Разыграть ли в момент ее возвращения полнейшее равнодушие, чтобы смутить и унизить ее, вызвать у нее сначала удивление, а затем чувство обиды и, наконец, причинить ей горе? Или лучше затронуть ее ревность, намекнув, что иностранка из моего вымышленного романа вернулась в Клермон и пишет мне? Или продолжать в прежнем духе и преследовать ее пылкими объяснениями, со смелостью, которая обезоруживает женщин, с безрассудством, которое их опьяняет? Я переходил от одного решения к другому, перебрал еще много других. Мне это доставляло удовольствие, так как доказывало, что я не запутался в тенетах любви, что философ во мне сильнее влюбленного, что мое «я», могучее «я», жрецом которого я являюсь, остается превыше всего, что оно абсолютно независимо и невозмутимо. Как за недостойную слабость, я досадовал на себя за мечты, овладевавшие мною в иные минуты. Особенно часто это случалось в замке, перед фотографиями Шарлотты, стоявшими на столиках, развешенными на стенах гостиной и в комнате у Люсьена. Это были портреты всевозможных размеров, изображавшие Шарлотту то шестилетним ребенком, то десятилетней девочкой, то пятнадцатилетним подростком, и по ним я мог проследить всю историю ее красоты, от детской грации до ее теперешнего хрупкого очарования. Черты на этих фотографиях изменялись, но взгляд был всюду тот же. У ребенка и у взрослой девушки он оставался неизменным, и было в нем что-то серьезное, нежное и вместе с тем решительное, что выдает способность к глубокому чувству.
Этот взгляд недавно обращался и на меня, и воспоминание о тех минутах наполняло меня смутным волнением. Ах, почему я не отдался ему целиком? Почему тщеславие помешало мне испытать такую радость? Но на многих фотографиях Шарлотта была снята вместе с братом Андре. Какие струны ненависти затронул этот человек в моем сердце одним фактом своего существования? Достаточно мне было увидеть его возле Шарлотты — и нежность моя немедленно увядала; во мне ничего не оставалось, кроме желания. Какого желания?.. Теперь, когда ее сердце попалось в мою ловушку, я осмеливался его сформулировать. Да, я хотел сделаться любовником Шарлотты. А потом?.. Но я старался не задумываться над тем, что будет потом, как старался подавить в себе и угрызения совести, возникавшие у меня порою при мысли, — что я недостойно злоупотребляю гостеприимством. Я сосредоточивал всю мужественную силу своего мозга и еще больше углублялся в- теории о культе собственного «я». Мне казалось, что я выйду из этого эксперимента обогащенный новыми чувствами и воспоминаниями. «Таков будет психологический итог приключения, — думал я. — А в повседневной жизни это будет означать возвращение к матери, как только кончится срок контракта». Но иногда угрызения совести становились слишком сильными и внутренний голос спрашивал меня: «А Шарлотта? Какое право имеешь ты превращать ее в объект твоего опыта?» Тогда я брал томик Спинозы и перечитывал теорему, — где говорится, что наше право ограничено только нашими возможностями. Я раскрывал вашу «Теорию страстей» и штудировал рассуждение о борьбе полов. «Это — закон жизни, — рассуждал я, — что всякое существование выражается в победе, одержанной и закрепленной более сильным над более слабым. Это одинаково верно как для физической природы, так и для природы чувств. Существуют хищные души, как существуют волки, леопарды и ястребы». Такая формула казалась мне убедительной, новой и справедливой. Я применял ее к самому себе и твердил: «У меня душа хищника! Душа хищника!» Я повторял эту фразу в припадке того бурного чувства, которое мистики называют горделивым сознанием жизни, а вокруг меня зеленела молодая листва, синело небо, и я находился на берегу прозрачной реки, бежавшей с гор в озеро, Тогда я на свой лад становился причастником слепой, глухой и вредоносной природы.
Это опьянение торжествующей гордыни было нарушено неожиданным событием. Маркиз написал, что возвращается в замок, но без Шарлотты: мадемуазель де Жюсса все еще хворала, и ей приходилось остаться в Париже, у тетки. Мы обедали, когда маркиза сообщила эту новость. Тут со мной приключился такой страшный припадок гнева, что он удивил меня самого: я даже вынужден был уйти из-за стола, сославшись на внезапное головокружение. Мне хотелось кричать, разбить что-нибудь, проявить свое бешенство в каком-нибудь безумном поступке. Гнев буквально потрясал все мое существо. Живя в лихорадке тщеславия, которая владела мною со дня отъезда Шарлотты, я все предвидел, кроме того что при всей своей влюбленности девушка может найти в себе достаточно силы, чтобы не возвращаться в Эда. Она избрала самый простой и в то же время безошибочный и решительный способ освободиться от власти своего чувства! Вся хитроумная тактика моей науки становилась столь же бесполезной, как бесполезна пушка с самым усовершенствованным механизмом против врага, оказавшегося вне пределов ее досягаемости. Что я мог предпринять, раз Шарлотты не было здесь?" Ничего, решительно ничего! А возможность разыскать ее в Париже была для меня исключена. Я с такой остротой, с такой болью понял свое бессилие, и это сознание так взбудоражило мою нервную систему, что с момента-получения письма от маркиза и до его возвращения я не мог есть и несколько ночей подряд не спал. С приездом маркиза я надеялся по крайней мере узнать, есть ли надежда, что Шарлотта вернется к концу июля, в августе или хотя бы в сентябре. Мой контракт кончался в середине октября. Сердце у меня неистово билось и к горлу подступал ком, когда мы с Люсьеном прогуливались по перрону клермонского вокзала в ожидании шестичасового поезда из Парижа.
Терзаемый нетерпением, я настоял, чтобы нам разрешили поехать встречать маркиза. И вот локомотив входит под стеклянные своды вокзала… Породистое и потрепанное лицо маркиза высовывается из окна вагона. Рискуя выдать свои чувства, я тут же спросил: — Как мадемуазель Шарлотта?..
— О, благодарю, благодарю, — ответил он, горячо пожимая мне руку, — врач говорит, что у нее сильное нервное расстройство… Видно, горный воздух ей не подходит… А вот я, наоборот, только здесь и чувствую себя хорошо! Откровенно говоря, все это очень и очень печально. Одним словом, мы решили попробовать продолжительный курс лечения холодными душами в Париже, а потом, может быть, в Нери.„Шарлотта не вернется! Сегодня, дорогой учитель, я впервые пожалел, что сжег тетрадь с замком; да, жаль, что у меня уже нет этого психологического документа, нет ежедневных записей моих мыслей, начиная с того июльского вечера, когда маркиз окончательно лишил меня надежды. Записи велись до октября месяца — до того, как непредвиденное обстоятельство изменило вероятный ход событий. В этих записях вы нашли бы, словно в атласе душевной анатомии, иллюстрацию к вашему прекрасному анализу любви, желания, сожалений, ревности, ненависти. Да, в продолжение четырех месяцев я прошел через все эти, фазы. Сначала я сделал безрассудную, хотя и вполне естественную попытку написать ей, в полной уверенности, что отсутствие Шарлотты только подтверждает ее страсть. В письме, составленном очень искусно, я, прежде всего, просил у нее прощения за свою дерзость в лесу Прада и тут же совершал еще большую дерзость, рисуя волнующую картину отчаяния, в которое повергла меня разлука с нею. Это письмо было еще более безумным признанием в любви, чем сцена в лесу, и таким смелым, что, когда конверт исчез в ящике на деревенской почте, куда я сам его отнес, меня охватил страх. Прошло два дня, три дня… Никакого ответа. Но письмо все-таки не вернулось ко мне нераспечатанным, чего я так опасался. Как раз в это время маркиза заканчивала сборы, собираясь в свою очередь поехать к дочери. Сестра маркизы занимала в Париже на улице Шаналей особняк, достаточно обширный, чтобы в нем можно было удобно разместить гостей.
«Париж, улица Шаналей, особняк де Сермуаз…» Какое волнение испытывал я всякий раз, надписывая на конверте этот адрес! Я написал пять или шесть писем. Я рассчитывал, что тетка не проверяет корреспонденцию Шарлотты, как это будет делать ее мать.
Поэтому необходимо было воспользоваться временем, пока последняя еще находилась в Эда, и усилить впечатление, несомненно произведенное на девушку моим первым письмом. И я писал каждый день до самого отъезда маркизы, писал все такие же письма. Мне не стоило большого труда разыгрывать влюбленного.
Мое страстное желание, чтобы Шарлотта поскорее вернулась, было вполне искренним, — столь же искренним, сколь неблагоразумным. Впоследствии я узнал, что каждый раз, получив письмо и узнав мой почерк, Шарлотта часами боролась с искушением распечатать конверт. В конце концов она все-таки вскрывала его. Она читала и перечитывала страницы, яд которых действовал безошибочно. Атак как ей было неизвестно об открытии, благодаря которому я стал обладателем ее тайны, она не считала нужным опровергать мнение, какое я мог составить о ней. Чтобы оправдать себя в собственных глазах за чтение моих писем, она, вероятно, уверяла себя, что я никогда не узнаю об этом, как не узнал о ее зародившейся любви. Эти письма так ее трогали, что она хранила их. Потом их пепел был обнаружен в камине ее комнаты — она сожгла их перед смертью. А я хорошо представлял себе волнующее действие этих посланий, которые я лихорадочно писал по ночам, возбужденный мыслью, что растрачиваю свои последние патроны. Все это действительно походило на стрельбу в густом тумане, ибо не было никаких признаков, по которым я мог бы определить, что мои выстрелы попадают в сердце той, в которую я целю. Эту полнейшую неопределенность я сначала истолковал в свою пользу.
Но потом, когда маркиза уехала и я уже не мог писать Шарлотте, я увидел в ее молчании неоспоримое доказательство не того, что девушка меня не любит, а того, что она всеми силами старается победить свою любовь и, вероятно, преуспеет в этом. «Ну, что ж, — говорил я сам себе, — приходится отказаться от нее, раз она отныне недосягаема. Значит, всему конец…» Я произнес эту фразу вслух, буду-> чи один в своей комнате и прислушиваясь к грохоту экипажа, увозившего маркизу. Маркиз и Люсьен провожали ее до Мартр де Вейр, где она должна была сесть в поезд. «Да, — повторял я, — всему конец.
Впрочем, что мне до этого, раз я не люблю ее?..» В ту минуту эта мысль немного успокоила меня; я чувствовал только какое-то томительное стеснение в груди, как обыкновенно бывает при больших неприятностях, Я вышел из дому, чтобы отделаться от этого ощущения; из простого озорства, которым я любил доказывать самому себе свою силу, я направился на то место, где осмелился признаться Шарлотте в любви.
Чтобы еще больше подчеркнуть свое душевное спокойствие, я захватил с собой только что полученную мною новую книгу — письма Дарвина во французском переводе. День выдался облачный, но очень жаркий.
Южный ветер, своего рода самум, дувший из Лимани, согревал горячим дыханием деревья, теперь уже покрытые густой листвой. По мере того как я углублялся в лес, ветер все больше и больше действовал на мои нервы. Именно его влиянию хотелось мне приписать неприятное ощущение, все сильнее овладевавшее мною. После долгих поисков я в конце концов нашел в лесу ту лужайку, где мы сидели с Шарлоттой, нашел тот камень и березу около него. Теперь дерево трепетало от дыхания знойного ветра, и тень от его кружевной листвы стала гуще. Я собирался прочитать книгу именно в этом уголке. Я уселся и раскрыл томик. Однако я мог прочитать лишь каких-нибудь полстраницы.).. Воспоминания нахлынули на меня, властно овладели мною: я снова увидел девушку, которая сидела тогда на этом камне, перебирая стебли ландышей, вдруг встала и прислонилась к этой березе, а потом, словно обезумев, побежала по тропинке. В моем сердце все росла и росла невыразимая горечь, она теснила его тяжким гнетом, перехватывала мне дыхание, обжигала глаза слезами, и я с ужасом стал понимать, что, несмотря на все мои путаные рассуждения и тонкий анализ, я, сам того не подозревая, безумно мл юбилея в Шарлотту, которой нет со мной и никогда не будет. % Это совершенно неожиданное открытие, открытие чувства, в корне противоречившего всей моей программе, почти тотчас же вызвало во мне бунт и против самого этого чувства и против той, которая причиняла мне такую боль. Не было дня в те бесконечно тянувшиеся недели, чтобы мне не приходилось бороться против постыдного сознания, что я попался в свою собственную западню. Мною овладевали приступы горького озлобления против отсутствующей. Я понял всю силу этой злобы по той радости, которая наполняла мое сердце, когда маркиз получал письма от дочери и читал их, нахмурившись и вздыхая: «Шарлотта по-прежнему чувствует себя неважно!» Я испытывал некоторое, хотя и весьма слабое утешение, при мысли, что я тоже пронзил ее сердце отравленной стрелой и что эта рана не так-то скоро заживет. Мне даже стало казаться, что это и будет моей настоящей местью: пусть она страдает, в то время как сам я исцелюсь. Я взывал к философу, каковым я себя с гордостью считал, чтобы он помог мне побороть в себе влюблённого. Я пустил и ход свое давнее рассуждение: «Существуют определенные законы душевной жизни, и они мне известны, Я не имею возможности применить их к Шарлотте, раз она бежала от меня. Но неужели я бессилен применить их и к самому себе?» И тогда я начинал размышлять над новой проблемой: «Есть ли лекарства против любви?» «Да, есть, — отвечал я сам себе, — и я их найду!» Задумавшись над задачей излечения, я обратился к своему обычному методу почти математического анализа и, следуя этому методу, как геометр, разложил проблему на ее составные части. „Я свел этот вопрос к другому: «Что такое любовь?» На него я со всей резкостью ответил вашим определением: «Любовь — это половая одержимость». Как же следует бороться с такой одержимостью? Конечно, при помощи физического утомления, которое приостанавливает или, во всяком случае, ослабляет работу мысли. Поэтому я совершал со своим воспитанником далекие прогулки. По воскресеньям и четвергам, в дни, свободные от занятий, я на рассвете уходил один, условившись заранее с Люсьеном о том, где и когда мы встретимся, и он в экипаже приезжал ко мне.
Я наказывал будить себя около двух часов утра и выходил из замка еще в холодном предрассветном сумраке. Я шел куда глаза глядят, как безумный выбирал самые крутые овраги» самые обрывистые, почти непроходимые места. Я рисковал сломать себе шею, скатываясь по зыбучему песку кратеров или спускаясь по базальтовым уступам скал. Все мне было нипочем. Близился рассвет. На горизонте появлялась оранжевая полоска зари. Предутренний ветер бил мне в лицо. Звезды, как драгоценные камни, таяли, утопая в волнах лазури, сначала очень бледной потом все более и более синей. Затем солнце зажигало на цветах, на деревьях и в траве брильянтовое сияние росы. А я стремился к животному опьянению, какое испытывал некогда во время долгих прогулок.
Убежденный в существовании законов доисторического атавизма, я старался долгой ходьбой и ощущением высоты пробудить в себе древний дух нашего общего предка — грубого пещерного человека. Так доводил я себя до какого-то дикого неистовства, но оно не приносило мне ни умиротворения, ни радости, которых я жаждал, а при малейшем воспоминании о моих отношениях с Шарлоттой и вовсе исчезало. Изгибы дороги, по которой мы некогда ходили вместе, синяя гладь озера, открывавшаяся с высоты, очертания черепичной крыши замка, видневшейся вдалеке, или даже какие-нибудь менее значительные детали — трепетная листва березы, ее серебристый ствол, придорожный столб с названием деревни, о которой она однажды говорила, — этого было достаточно, чтобы мое нарочитое неистовство постепенно исчезало, уступая место острому сожалению, что ее уже нет со мной. Я слышал нежный звук ее голоса: «Ну, посмотрите же…» Так она говорила мне порою, когда мы в зимние дни бродили с нею среди покрытых снегом гор. Но тогда в снегах распускался живой цветок ее красоты. Теперь же все вокруг покрылось зеленью, однако цветок этот был далеко… Отсутствие Шарлотты становилось еще более невыносимым, когда я встречался с Люсьеном, потому, что он все время говорил о сестре. Он нежно любил ее, восхищался ею, и его детская простодушная привязанность лишний раз убеждала меня в том, насколько она достойна любви и восхищения. Тогда моя физическая усталость сменялась сильнейшим нервным возбуждением, начиналась бессонница, мучительная и отравленная горечью, бессонница, во время которой я плакал навзрыд и как безумный выкрикивал имя Шарлотты.
«Я страдаю, потому что думаю об этом, — убеждал я самого себя, после того как попытка найти спасение в физической усталости ни к чему не привела. — Попробуем преодолеть эти мысли при помощи других мыслей». И вот наступил второй период, когда я пытался переместить центр тяжести своих духовных сил. Я засел за изучение предмета, отвлекающего от всяких мыслей о женщине: менее чём за две недели я проштудировал с карандашом в руке двести страниц, трактующих о химии живых тел, самых трудных для меня страниц из привезенной с собою «Физиологии» Бонн. Однако, как ни силился я понять и резюмировать этот анализ, требующий лабораторных опытов, я ничего не достиг, кроме того, что притупил свой ум и стал еще менее способен бороться с навязчивой идеей. Я понял, что снова выбрал неправильный путь.
Не лучше ли метод, предложенный Гете: сосредоточить все свои мысли на том страдании, от которого хочешь избавиться? Этот великий мыслитель, отлично понимавший, как надо жить, применил на практике теорию, изложенную Спинозой в пятой книге его труда. Сущность ее заключается в том, что за случайными событиями нашей личной жизни нужно искать закономерности, которые связывают эти события с великой жизнью вселенной. Тэн в блестящем очерке, посвященном Байрону, также советует нам «понять самих себя», чтобы «свет разума родил в нас безмятежность сердца». Да и вы, дорогой учитель, говорите то же самое в вашей «Теории страстей»: «Считайте свою личную судьбу необходимым выводом из той живой геометрии, какой является природа, а стало быть, и неизбежным следствием вечной аксиомы, развитие которой длится во Времени и Пространстве! Гаков единственный принцип, ведущий к свободе…» И вот, работая сейчас над моими записками, я как раз и следую этим максимам. Но помогут ли они мне теперь больше, чем тогда? Ведь тогда я тоже попытался резюмировать историю моего чувства к Шарлотте в своего рода автобиографической повести.
Я вывел в ней некоего великого психолога, к которому обращается молодой человек за советом. Видите, как странно иногда случай реализует наши фантазии! Повесть кончалась тем, что психолог составляет для явившегося к нему нравственно «больного юноши перечень его страстей с указанием их причин. Я писал эту повесть в августе, когда стояла изнуряющая жара, и посвятил ей около двух недель, работая с десяти вечера до часу ночи. Окна были раскрыты настежь, вокруг зажженной лампы кружились огромные ночные сфинксы — как бы сделанные из бархата темные бабочки с белыми пятнами на спинке, напоминающими череп. Поднималась луна, заливая голубоватым светом озеро, отливавшее перламутром, леса, казавшиеся еще более таинственными, и линию потухших вулканов, похожих на те, какие отец показывал мне, еще ребенку, в телескоп — на этой самой луне. Я откладывал в сторону перо, чтобы, созерцая безмолвный пейзаж, погрузиться в космогонические мечтания, привычные для меня с детства. Как и в те дни, когда слова отца открывали мне историю вселенной, я снова представлял себе первичную туманность. От нее отделялась Земля, а от Земли — Луна. Луна стала мертвой планетой, и так же точно умрет когда-нибудь и наша Земля. Она уже умирает, охлаждаясь с каждой секундой. Неуловимый бег этих секунд, накапливаясь в течение тысячелетий, уже потушил по жар ее вулканов, откуда некогда вырывалась кипя щая и всеразрушающая лава, на которой теперь стоит замок. Охлаждаясь, эта лава создала преграду для потока воды, широко разлившейся затем в виде теперешнего озера. Но, испаряясь, вода в озере тоже понемногу исчезнет, по мере того как будет исчезать и окружающая нашу планету атмосфера — слой при годного для дыхания воздуха, толщиною в каких-нибудь четырнадцать километров. Я закрывал глаза и ощущал, как обреченный на гибель земной шар несется в бесконечном пространстве, равнодушный к маленьким мирам, что снуют вокруг него, точно так же, как само это пространство равнодушно к Солнцам, Лунам и Землям. Наша планета будет продолжать свое вращение и тогда, когда она превратится в шар, лишенный воздуха и воды, когда на ней исчезнут последний человек, животные и растения. Но, вместо того чтобы создать у меня созерцательное настроение, эта мысль о неизбежной катастрофе приводила к тому, что я весь съеживался и в ужасе осознавал самого себя, как единственную реальность, которой я обладаю. Да и надолго ли? Что я такое? Всего лишь точка в пространстве, одно мгновение! И мне припомнились наивные слова, сказанные однажды Марианной, когда я ее чем-то огорчил. «Кроме самого себя, никого-то у нас нет…» — повторяла она сквозь рыдания. «Кроме самого себя, никого-то у нас нет…» Теперь и я шептал эти слова и вполне оценил их смысл. Но если среди неотвратимого бега времени эта точка, это мгновение человеческого сознания являются нашим единственным достоянием, то нужно в полной мере воспользоваться им и до предела увеличить его напряженность. Я отодвигал листы бумаги, на которых только что писал свою более или менее научно прокомментированную исповедь и с ужасающей очевидностью чувствовал, что эту высшую напряженность ощущений мне могла бы дать только Шарлотта, если бы она была со мной в этой комнате, сидела бы в этом кресле, лежала бы на этой постели, соединяя свое смертное тело с моим смертным телом, свою обреченную душу с моей душой, свою мимолетную молодость с моей. И подобно тому как все инструменты в оркестре сливаются в единый аккорд, так и все различные силы моего существа, — интеллектуальные, душевные, чувственные, — сливались в единый вопль желания. Но оттого, что я знал причины этого желания, оно превращалось в какое-то безумие, а видение вселенной, вместо того чтобы успокоить меня, придавало еще большее неистовство моему стремлению к полноте личной жизни.
Слова Марианны, неожиданно пришедшие мне на ум, напомнили о том времени, о котором я уже рассказывал вам, и о пламенных страстях, которым я тогда предавался. Я подумал, что безусловно ошибаюсь, считая себя отвлеченным, чисто" интеллектуальным существом. «Не наперекор ли своему характеру, — думал я, — я веду в течение долгих месяцев столь благоразумную жизнь?. Не является ля моя страсть к Шарлотте просто результатом слишком длительного воздержания? Может быть, в основе этого желания нет ничего психологического и оно свидетельствует только о полнокровии юности, избытке жизненных сил, которым нужно дать выход? В таком случае, этот страшный зуд вожделения можно успокоить, лишь удовлетворив его». Под предлогом, что мне необходимо устроить кое-какие личные дела, я упросил маркиза отпустить меня на неделю в Клермон, твердо решив, что предамся там самому безудержному разврату с первой попавшейся женщиной. А так как в те дни я думал о Марианне, думал о сказанных ею словах, которые я привел, то я и решил, что разыщу ее. Мне это не стоило большого труда. Марианна уже не работала.
Теперь ее содержал какой-то землевладелец: он снял для нее квартиру, принарядил ее. Этот покровитель приезжал в город только раз в неделю, так что у Марианны было много свободного времени, и жила она теперь, как барыня. Такая перемена в ее жизни и отпор, который она сначала пыталась мне оказать, придали возобновлению старой истории даже некоторую пикантность, и это забавляло меня в течение целых суток. Несмотря на жестокость, проявленную мною при разрыве с нею, бедная девушка сохранила ко мне нежное чувство, и на другой день после моего приезда в город, устроившись так, чтобы мать об этом не догадалась, я провел ночь у Марианны. Мое сердце учащенно забилось, когда я поднимался по лестнице дома, где она теперь жила, на улице Транше де Гра, недалеко от мрачного собора, который мне пришлось обогнуть по пути к ней. Это возвращение в мир чувственности волновало меня, как новое посвящение. «Теперь-то я узнаю, — рассуждал я, — до какой степени воспоминание о Шарлотте разъедает мне душу». Сидя на постели, я смотрел, как раздевается эта женщина, на которую я подростком набросился совсем неистовством первой страсти. Она несколько располнела, но была еще молодой, свежей, сильной. Ах, каким ярким возник в эти минуты предо мной образ мадемуазель де Жюсса, ее силуэт, напоминавший греческую статуэтку, нежная грация ее хрупкого тела, о которой я догадывался! Каким живым был этот образ, когда, лежа в постели, я с животной страстью, к которой примешивалась грусть, сжимал в объятиях свою первую любовницу! Марианна была девушкой из народа и не привыкла к тонким рассуждениям, но даже самые заурядные женщины отличаются необыкновенной чуткостью, когда они любят. А Марианна по-своему любила меня. И вот я заметил, что она тоже не испытывает прежних восторгов. Мои ласки возбуждали ее, но потом, вместо былого упоения, она, казалось, чувствовала как бы разочарование, как-то смущалась под моими взглядами; наконец, точно заразившись моею грустью, она вдруг между двумя поцелуями спросила: — Чем ты так огорчен?.. — И, употребляя ходячее выражение, прибавила с чисто овернской хитрой усмешкой: — Я никогда не видела тебя таким грустным, верно какая-нибудь замужняя дамочка тебе нос натянула. Но он у тебя и так длинный, незачем было и тянуть…
И, вдобавок1 к этой дешевой игре слов, она зажала мне нос своими грубыми, толстыми пальцами. А у Шарлотты были изумительно тонкие пальчики, — та кие же изящные, как и ее душа! Но я приходил в отчаянье, и сердце у меня сжималось не от вульгарности слов и не от контраста между этими двумя женщинами. Нет! Меня вывело из себя другое. Неужели душа моя настолько больна, что даже эта девица заметила мое состояние? Однако я всеми силами старался рассеять это впечатление, смеялся над ее предположениями и принуждал себя к самым животным проявлениям похоти, в результате чего я утром пришел домой с невыразимой горечью в сердце. Я" уже не мог вернуться к Марианне или пойти к другим женщинам. Несколько дней, остававшихся в моем распоряжении, я провел в прогулках с матерью. Видя, что я погружен в глубокую меланхолию, она стала беспокоиться и своими вопросами еще больше растравила мою рану. Мне это было до такой степени тягостно, что я думал о возвращений в замок даже с некоторым облегчением. Там по крайней мере я буду жить среди воспоминаний. Но в замке меня ждал ужасный удар, который маркиз нанес мне сразу же по моем приезде.
— Хорошие новости, — сказал он, как только увидел меня, — Шарлотта поправляется! И еще одна приятная новость: Она выходит замуж. Да, да, она приняла предложение господина де Плана… Впрочем, вы об этом ничего не знаете. Это друг моего сына.
В первый раз она отказала ему, а вот теперь соглашается… — И, по обыкновению возвращаясь к своей собственной персоне, маркиз продолжал: — Да, это очень приятная новость. Сами понимаете, жить мне уже недолго… Ведь я болен, серьезно болен,!4 Но он мог говорить, сколько его душе было угодно о своих воображаемых болезнях, о желудке, подагре, кишечнике, почках, голове. Я слушал его не больше, чем слушает болтовню тюремщика арестант, которому только что объявили смертный приговор. Мои мысли были всецело поглощены этим горестным событием.
Вы, дорогой учитель, написали также изумительные страницы о ревности, о терзаниях, какие причиняет душе влюбленного одна мысль о ласках соперника, и вы поймете, какой жгучий яд пролился на мою рану вместе с этой новостью. Май, июнь, июль, август, сентябрь… Прошло почти пять месяцев с тех пор, как Шарлотта уехала, а моя рана, вместо того чтобы зарубцеваться, растравлялась все больше и больше; последнее же известие окончательно сразило меня. Теперь у меня даже не оставалось утешения, что мои страдания разделяет другое существо. Предстоящее замужество служило доказательством, что Шарлотта уже освободилась от любви ко мне, в то время как я сам сгорал в этом чувстве. Я тем более приходил в бешенство, что ее любовь, родившуюся так недавно, у меня отнимают в тот самый момент, когда я готов был приступить к решительным действиям. Вероятно, подобное бешенство испытывает игрок, вынужденный покинуть игорный зал и узнающий в эту минуту, что вышел именно тот номер, на который он хотел — поставить и который принес бы ему в тридцать шесть раз больше, чем его ставка. Я упрекал себя в том, что не бросил все, Когда уехала Шарлотта, и не последовал за нею с несколькими стами франков в кармане, которые я заработал. А теперь было уже поздно. Я представлял себе ее в Париже, где, как мне было известно, господин де План проводит отпуск и где девушка принимает его как жениха в атмосфере дозволенной близости, почти наедине, под снисходи тельным присмотром старой маркизы. Теперь ее горделивые и стыдливые улыбки принадлежат другому! И эти нежные и смущенные взгляды, и эти переходы от бледности к стыдливому румянцу на ее милом лице, и эти грациозные жесты слишком застенчивого существа! Разумеется, она любит де Плана, если соглашается стать его женой. Этот человек представлялся мне похожим на графа Андре, отвратительное влияние которого я чувствовал и здесь. Теперь я стал ненавидеть графа в лице жениха Шарлотты» питая к этим двум аристократам бездельникам офицерам одинаковое чувство бешеной злобы.
В лесу, уже одетом в лиственный убор тех мягких и светлых тонов, которые предвещают золото осени, я предавался припадкам пустого ребяческого гнева.
Ласточки, готовясь к отлету, собирались в стаи.
Охота уже началась, в лесу то и дело слышались вы стрелы, и перепуганные, трепетные птицы, вспорхнув тесной стайкой, исчезали в быстром полете, напоминавшем мне полет дикой птицы, которую я однажды чуть не убил. В виноградниках, покрывавших холмы со стороны Сен-Сатюрнена, виднелись уже почти со всем созревшие гроздья. Я смотрел на сиротливо стоявшие лозы, пораженные во время цветения весенними заморозками. На них не было плодов. «Вот так, — думал я, — погибла и моя жатва опьяняющих чувств, безмятежного счастья и жгучих восторгов». Я испытывал терпкое, невыразимое удовольствие, разыскивая в окружающей природе символы своих переживаний; алхимия горя на некоторое время очистила меня от всяких корыстных расчетов. Если я и был когда-либо настоящим влюбленным, предающимся на волю жестокой смены сожалений, воспоминаний и отчаянья, то это было именно в те дни, в последние дни моего пребывания в замке. Дело в том, что маркиз собирался уехать. Он позабыл о своей ипохондрии, и, бодрый, с блестящими серыми глазами, которые стали совсем светлыми на уже не столь красном лице, говорил мне: — Я обожаю своего будущего зятя… Мне хочется, чтобы вы познакомились с ним… Это человек очень славный, порядочный, добрый; самолюбивый. Настоящая голубая кровь! Да, вот и извольте понять женщин! ведь Шарлотта не сумасшедшая, не то что другие, скорее наоборот, не так ли? А два года тому назад, когда он сделал ей предложение, она отказала. Ну конечно бедняга потерял голову и отправился туда, откуда едва ноги унес… И вдруг — согласие! Знаете, мне всегда казалось, что в ее нервной болезни есть что-то от влюбленности. Я понимаю толк в таких вещах. Я думал: наверное, она в кого-то влюблена!.. И что же? Оказалось — именно в него. Но представьте себе, что было бы, если бы он теперь раздумал? Я привожу этот разговор, похожий на многие другие, для того, чтобы вы поняли, что мое истерзанное сердце беспрестанно обливалось кровью. «Нет, — отвечал я ему мысленно, — Шарлотта любила зимой не господина де Плана!» Но она действительно любила. Наши жизни пересекались в одной точке, как те две дороги, которые видны из моего окна: одна из них спускается с гор и бежит к роковому лесу Прада, другая подымается к, Пюи де ля Родд. Иной раз, в сумерки, мне случалось видеть, как по этим дорогам ехали повозки. Почти коснувшись одна другой, они потом терялись вдали, скрываясь в противоположных направлениях. Так разошлись навеки и наши судьбы.
Баронесса де План будет вести в Париже светскую жизнь, и в моем представлении это был какой-то вихрь неведомых мне и волнующих ощущений в обстановке непрерывного праздника. Свою же будущую скромную жизнь я рисовал себе вполне ясно. Мысленно я уже просыпался в комнатушке на улице Бийяр.
Я уже шел по тем трем улицам, по которым нужно пройти, чтобы попасть в университет. Я входил в кирпичное здание и оказывался в аудитории, в просторном зале с голыми стенами, где ничего не было, кроме черных досок. Я слушал профессора, разбиравшего какого-нибудь автора, включенного в программу по подготовке к лиценциату или к кандидатскому экзамену. Лекция длилась часа полтора. Потом с портфелем под мышкой, я возвращался домой по холодным улицам старого города. Так мне предстояло провести еще один год, поскольку я не занимался достаточно усердно, чтобы выдержать экзамены. По-прежнему я буду ходить мимо мрачных домов Клермона, окруженного цепью снеговых вершин, буду видеть родителей маленького Эмиля, все так же играющих у окна в карты, старика Лимассе, читающего газету в укромном уголке «Парижского кафе», стоящие на площади Жод омнибусы. Да, дорогой учитель, я снова очутился в жалком мире нищих духом людей, которые в своей привязанности к внешним формам жизни не в состоянии проникнуть в ее сущность. Я не находил в себе прежней веры в превосходство науки, для которой достаточно каморки в три квадратных метра, чтобы какой-нибудь Спиноза или Адриен Сикст постигал вселенную и тем самым владел ею. Ах, в тот период бессильных вожделений и побежденной любви я был жалкой посредственностью, Я проклинал (и как это было несправедливо!) жизнь, посвященную отвлеченным занятиям, к которой мне предстояло вернуться. А теперь как бы мне хотелось, чтобы она Действительно снова была моим уделом и чтобы я вдруг проснулся бедным студентом клермонского университета, квартирантом у отца Эмиля, учеником старика Лимассе, угрюмым прохожим на темных улицах — но невинным» Невинным! А не тем человеком, который пережил то, что я пережил и о чем мне приходится теперь рассказывать.

$ 6. — Третий кризис.
К концу этого страшного сентября Люсьен стал жаловаться на недомогание, которое врач приписал сначала обыкновенной простуде. Но на другой день больному стало хуже, и два доктора, спешно вызванные из Клермона, обнаружили, что у него скарлатина, хотя и в слабой форме. Если бы я не находился во власти навязчивой идеи, которая делала из меня на стоящего маньяка, у меня нашлось бы в те дни чем заполнить все страницы моего дневника. Достаточно было бы, например, наблюдать хотя бы за переменами в настроении маркиза, за борьбой между ипохондрией и отеческой любовью, происходившей в его душе. То, несмотря на заверения врачей, он до такой степени тревожился о сыне, что ночи напролет проводил у его по стели; то вдруг его охватывала боязнь заразиться, и тогда он сам ложился, жаловался на воображаемые боли и считал минуты до прихода врача. А когда врач появлялся, маркиз порою требовал, чтобы осмотр начался с него, настолько симптомы болезни казались ему угрожающими. Потом ему самому делалось стыд но за свой страх, и в нем снова просыпалось благо родство древнего рода, кровь которого текла в его жилах. Он вставал, корил себя за свои страхи, за стариковские слабости и снова занимал место у изголовья больного. Первой его мыслью было скрыть болезнь Люсьена от маркизы, Шарлотты и графа Андре. Однако две недели ревностной заботы о сыне и страха за себя так ослабили его, что он почувствовал потребность видеть подле себя жену, которая поддерживала бы его; в конце концов он совсем потерял голову и даже советовался со мной.
— Не считаете ли вы, что мой долг — вызвать жену? — спрашивал он.
Существуют, дорогой учитель, лживые душонки, умеющие прикрывать прекрасными побуждениями самые мерзкие свои поступки. Если бы я был из их числа, я мог бы поставить себе в заслугу, что советовал маркизу не вызывать жены, хотя и понимал значение такого совета. Ведь я был совершенно уверен, что стоит ему сообщить маркизе о болезни Люсьена, и она приедет с первым поездом, а я достаточно знал Шар лотту, чтобы не сомневаться, что и она вернется вместе с матерью. Таким образом мне представилась бы возможность вновь разбудить в ее сердце любовь, доказательство которой случайно попало в мои руки.
Следовательно, я поступил честно, посоветовав маркизу не тревожить жену. Да, на первый взгляд это было так. Если бы я не был убежден, что нет следствия без причины и что не существует честности без скрытого эгоизма, я объяснял бы свой поступок нежеланием воспользоваться ради греховной страсти благороднейшим человеческим чувством: любовью сестры к брату. Но истина заключалась в следующем: я по тому пытался отговорить маркиза, что не надеялся вновь завоевать сердце Шарлотты. От ее возвращения я не ожидал ничего, кроме новых унижений. Устав за эти месяцы от внутренней борьбы, я уже не чувство вал в себе достаточно сил, чтобы возобновить игру.
Поэтому с моей стороны не было никакой заслуги в том, что я обратил внимание маркиза на волнения и даже опасность, которые ожидают обеих женщин в замке, где имеется заразный больной.
— А как же я, — ответил он простодушно, — ведь я же подвергаюсь каждый день опасности? Однако вы совершенно правы в отношении Шарлотты… Я напишу, чтобы она не приезжала.
Два дня спустя он получил телеграмму и, прочитав ее, сказал — Ах, Грелу, посмотрите, что они со мной делают! Читайте! Маркиз протянул мне депешу, извещавшую о возвращении мадемуазель де Жюсса вместе с матерью. " — Ну конечно, — стенал ипохондрик, — она решила приехать, не подумав о том, что мне сейчас вредны такие волнения.
Разговор с маркизом происходил в два часа дня., Я знал, что парижский поезд отходит в девять вечера и прибывает в Клермон около пяти утра, так как мне самому пришлось ехать этим поездом в тот раз, когда я познакомился с вами. Маркиза и Шарлотта должны были быть в замке часов в десять, считая время на дорогу в экипаже. Я провел ужасный вечер и еще более ужасную ночь, ибо теперь был лишен того философского напряжения, без которого я превращаюсь в существо, лишенное энергии и целиком пребывающее во власти своих впечатлений. Однако здравый смысл подсказывал мне весьма простое решение.
Мой контракт, как я вам сказал, кончался 15 октября, а было уже пятое число. Мальчик начинал быстро поправляться. Скоро около него будут мать и сестра. Я мог воспользоваться первым предлогом и без всяких угрызений совести покинуть замок. Я имел возможность так поступить и должен был это сделать как ради сохранения собственного достоинства, так и для своего спокойствия. Под утро, проведя бессонную ночь, я принял решение уехать и немедленно заговорил об этом с маркизом. Но тот даже не дослушал меня, настолько он был взволнован приездом дочери.
— Хорошо, потом, потом! — сказал он мне. — Сейчас я ничего не соображаю… Вечно какие-нибудь неприятности… От них-то я так рано и состарился… То и дело неожиданные удары…
Кто знает, может быть, мою участь решило минутное раздражение, из-за которого старый самодур отказался меня выслушать… Если бы мне тогда удалось переговорить с ним, и если бы мы условились о дне моего отъезда, волей-неволей мне пришлось бы покинуть замок. Но появление Шарлотты привело к тому, что мысль об отъезде сменилась у меня самым твердым, намерением остаться: так лампа внесенная в темную комнату, немедленно превращает мрак в свет. Но, еще раз повторяю: тогда я был вполне уверен, что, с одной стороны, Шарлотта уже перестала интересоваться мной, а с другой, что тяжелые минуты, которые я пережил, объяснялись не моей любовью к ней, а оскорбленным самолюбием и обостренной чувственностью. И можете себе представить, когда я увидел, как Шарлотта выходит из вагона, когда убедился, насколько мое присутствие волнует ее и насколько ее приезд сводит меня с ума, я с полной очевидностью понял совсем другое. Я понял, во-первых, что для меня физически невозможно уехать из замка, пока она здесь, и во-вторых, что, начиная с мая месяца, она переживает такие же точно мучения, как и я, а может быть, даже худшие. Она могла с самыми искренними намерениями бежать от меня, не отвечать на мои письма, не читать их, обручиться, чтобы воздвигнуть между нами непроходимую преграду, даже убедить себя в том, что уже не любит меня, и вернуться в замок с этой уверенностью, — все равно она меня любила. Для того чтобы удостовериться в этой любви, мне вовсе не нужно было прибегать к тщательному анализу, которому я обычно с таким увлечением предавался и который так часто подводил меня. Просто мгновенная, подсознательная, безошибочная интуиция доказывала мне, что теории о ясновидении, по поводу которых ведутся горячие споры в науке, вполне соответствуют истине. В ее взволнованные взорах я читал любовь, на которую не смел надеяться, как вы читаете строки, где я пытаюсь передать эту очевидность, блеснувшую молнией и потрясшую меня.
Шарлотта стояла передо мной в дорожном костюме, бледная, как лист бумаги, на котором я пишу. Можно было бы объяснить эту бледность утомлением, проведенной в вагоне ночью, не правда ли? Или тревогой за больного брата. Но ее глаза, встретившись с моими, были полны трепетного волнения. Впрочем, это тоже могло объясняться оскорбленной стыдливостью. Шарлотта похудела, как бы растаяла, и когда она в вестибюле замка сняла пальто, я увидел, что на ее прошлогоднем платье, которое я узнал не сразу, возле плечей появились складки. Но ведь она же хворала… Во всяком случае, я, так веривший в метод, в индукцию, вовсе сложности умозаключения, вдруг почувствовал в ту минуту всемогущество инстинкта, который ничем нельзя преодолеть. Она по-прежнему любила меня.
Она любила меня даже сильнее, чем прежде. Какое имело значение, что она не протянула мне руки при первой встрече, что она едва разговаривала со мной в вестибюле, а поднимаясь вместе с матерью по ступеням парадной лестницы, не обернулась в мою сторону? Она любила меня! Эта уверенность после долгих мучений и тревог наполнила мое сердце такой радостью, что, когда я шел вслед за нею по лестнице в свою комнату, я почувствовал себя плохо. Как же мне теперь быть? Облокотившись о. стол, сжимая руками виски, чтобы сдержать пульсирование крови, я задавал себе этот вопрос, но ответить на него не мог., Я только знал, что теперь уже не в силах уехать, что встреча с Шарлоттой не может закончиться разлукой или молчанием, словом, я знал, что мы приближаемся к тому мгновению, когда наши взаимные усилия, тайная борьба и подавляемые желания должны привести к решительному объяснению. Я чувствовал, что это трагическое и неизбежное объяснение уже близко.
Ведь Шарлотта была вынуждена терпеть мое присутствие. Как бы она ни относилась к этому, нам предстояло встречаться с нею у постели ее брата. И в первое же утро по приезде в замок, часов в одиннадцать, когда как раз настала моя очередь дежурить у больного, я застал ее в комнате Люсьена; она разговаривала с ним, а маркиза, стоя у окна, шепотом расспрашивала сестру Анакле. От больного скрыли предстоящий приезд матери и сестры, и теперь в его нервных движениях можно было заметить ту возбужденную, почти лихорадочную радость, какая бывает у выздоравливающих. Он весело улыбнулся мне и, взяв меня за руку, сказал сестре: — Если бы ты знала, как заботился обо мне господин Грелу! Шарлотта ничего не ответила, но я заметил, что ее рука, лежавшая на подушке возле головы брата, вздрогнула. Она сделала над собой усилие и посмотрела на меня, но не выдала своих чувств. Зато мое лицо, по-видимому, выражало сильное волнение, и это ее тронуло. Она поняла, что не отозваться на невинную фразу мальчика значило бы огорчить меня, и мягким, задушевным голосом прежних дней, в котором чувствовалось приглушенное биение трепещущего сердца, она сказала, не обращаясь прямо ко мне: — Да, знаю… И очень благодарна ему. Мы все ему очень благодарны…
Больше она не прибавила ни слова. Но я уверен, что, если бы я снова взял ее за руку, она упала бы в обморок, — так она была потрясена этим незначительным разговором. Я пробормотал что-то невнятное, вроде того, что, мол, все это вполне естественно. Я и сам не очень-то хорошо владел собою. Но Люсьен, не заметивший ни волнения сестры, ни моего смущения, продолжал: — А Андре? Он навестит меня? — Ты же знаешь, что он не может оставить полк, — сказала Шарлотта.
— А Максим? — не унимался мальчик.
Я уже знал, что так зовут жениха Шарлотты. И едва было произнесено это имя, как ее бледное лицо запылало. Наступило недолгое, молчание, во время которого я явственно слышал тихий шепот сестры Анакле, потрескивание огня в камине, мерный стук маятника. Мальчик, удивленный этим молчанием, продолжал: — Так как же? Максим тоже не приедет? — Господин де План тоже уехал в полк, — ответила Шарлотта.
— Вы уже уходите, господин Грелу? — спросил Люсьен, когда я порывисто поднялся с места., — Я сейчас вернусь, — сказал я. — Я забыл письмо у себя на столе…
И я вышел, оставив Шарлотту у постели больного.
Она снова побледнела и потупилась.
Ах, дорогой учитель! Мне хочется, чтобы вы поверили тому, что я сейчас расскажу вам, и чтобы вы не сомневались, что в те минуты я был вполне искренен, несмотря на всю сумятицу моих чувств, которых я сам тогда не мог понять. Мне и самому так необходимо быть в этом уверенным! Я не лгал тогда. Поверьте мне! Не было и капли притворства в том внезапном движении, с каким я вскочил при одном упоминании имени человека, которому Шарлотта должна была принадлежать, уже принадлежала. Не было никакого притворства и в слезах, брызнувших у меня из глаз, едва я переступил порог, и в тех, что я проливал ночью, в полном отчаянье от вдвойне мучительной очевидности, что мы любим друг друга, но никогда, никогда не будем друг другу принадлежать! Не былр притворства и в той боли, которую я испытывал в ее присутствии в последующие дни. Осунувшееся лицо, ставший еще более хрупким силуэт Шарлотты, ее страдальческий взор неотступно были передо гяною и терзали меня; ее бледность раздирала мне сердце, изящные линии тела доводили мою страсть до исступления, но глаза ее умоляли меня: «Ни слова…
Я знаю, вам тоже тяжело. Но было бы слишком жестоко с вашей стороны упрекать меня, жаловаться и обнажать предо мною свои раны…» Ну, скажите, если бы я не был тогда чистосердечен, разве я упустил бы удобный случай, тем более, что каждый час был у меня на счету? Но я не припомню, чтобы у меня были какие-то мысли, какие-то планы. Мне запомнился только как бы вихрь чувств, что-то обжигающее, неистовое, невыносимое, да еще угнетенное нервное состояние, продолжительная колющая боль во всем теле и все крепнувшая мысль о необходимости покончить со всем этим, мысль о самоубийстве… Когда, в связи с каким именно приступом отчаяния она возникла у меня? Этого я не могу сказать. Но вы же видите, что тогда я любил искренне, раз все мои хитросплетения вдруг расплавились в огне этой страсти, как свинец в рдеющих углях, Я не могу анализировать своих переживаний, потому что это было настоящим умопомешательством, мучительным отречением от своего «я». В этой мысли о смерти, исходившей из самых темных глубин моего существа, в этом безотчетном стремлении к могиле, овладевшем мною, как физическая жажда или голод, вы узнаете, дорогой учитель, неизбежные последствия того «любовного недуга», который вы так подробно изучили. Тут сказывался обратившийся на меня самого инстинкт разрушения, который, как вы отмечаете, таинственно пробуждается в человеке одновременно с половым инстинктом. Сначала это выразилось в бесконечной усталости, усталости невысказанных переживаний, так как глаза Шарлотты при встрече с моими защищали ее лучше, чем любые слова. К тому же мы никогда не оставались наедине, если не считать редких, минут в гостиной, однако и эти случайные минуты проходили в глубоком молчании, точно кто-то железной рукой сжимал мне горло. Сказать тогда что-нибудь было для меня так же невозможно, как для паралитика сделать движение. Не помогло бы здесь даже сверхчеловеческое усилие. Только на опыте познаешь, что на известной ступени человеческое волнение становится непередаваемым. В такие мгновения чувствуешь себя замурованным в своем «я», и тогда хочется вырваться из этого страдающего «я» и броситься, погрузиться в смерть, погибнуть в ее прохладе, где всему наступает конец… Все это сопровождалось безумным желанием оставить в сердце Шарлотты неизгладимый след, дать ей такое доказательство своей любви, которое никогда не могли бы затмить ни любовь ее будущего мужа, ни роскошь, в какой ей суждено было жить. «Если я умираю от отчаяния, что мне предстоит вечная разлука с нею, — думал я, — то пусть она по крайней мере дол го, очень долго помнит о скромном воспитателе, о бедном провинциале, способном на такое большое чувство!..» Мне кажется, что я правильно формулирую тогдашние свои мысли. Обратите внимание: я говорю «кажется», ибо в те дни я действительно не был в состоянии понять самого себя. Я не узнавал себя в пожиравшей меня необузданной и трагической лихорадке. Только с большим трудом я мог различить в этом сумбуре мыслей то, что вы называете самовнушением. Я гипнотизировал себя и именно в состоянии сомнамбулизма решил покончить с собой в такой-то день, в такой-то час и отправился к аптекарю, чтобы раздобыть роковой пузырек с чилибухой.
Во время этих приготовлений и под влиянием принятого мною решения я уже ни на что не надеялся и ничего не обдумывал, На меня действовала какая-то сила, совершенно чуждая моему сознанию. Нет! Никогда в жизни — я не был до такой степени только зрителем — я сказал бы, равнодушным зрителем — своих движений, мыслей и поступков при почти абсолютной независимости действующего начала от начала мыслящего. (Вы найдете несколько слов об этом состоянии на титульном листе моего экземпляра книги Бриера де Буамона, посвященной самоубийству.) При этих приготовлениях я испытывал непередаваемое чувство сна наяву, ясно ощущаемый автоматизм.
Я приписываю эти странные явления нарушению нервной системы, которое граничило с помешательством и было вызвано навязчивой идеей. Лишь утром того дня, который я назначил для самоубийства, мне пришло в голову сделать последнюю попытку повлиять на Шарлотту. Я сел за стол, чтобы написать ей прощальное письмо. Я уже представлял себе, как она будет читать его, и неожиданно у меня возник вопрос: «А как же она поступит? Неужели известие о моем самоубийстве не взволнует ее? Неужели она не бросится стремглав, чтобы помешать мне? Да, она, наверное, прибежит в мою комнату найдет меня мертвым… Может быть, следует произвести еще один, последний опыт, прежде чем покончить все расчеты с жизнью?» Тут я вполне отдаю себе отчет в своих помыслах. Я знаю, что именно так родилась у меня эта надежда и именно в это мгновение. «Ну что ж, — сказал я сам себе, — попробуем!» Я решил: если до полуночи Шарлотта не придет ко мне, я приму яд.
Я уже изучил его действие. Я знал, что смерть наступит почти мгновенно, и надеялся, что мне не придется долго страдать. Как ни странно, весь тот день прошел для меня в особенном спокойствии. Должен отметить и следующее. У меня как будто гора свалилась с плеч, словно бы я освободился от самого себя. Тревога охватила меня только часов в десять вечера, когда я первым ушел из гостиной и положил свое письмо на стол Шарлотты, в ее комнате. В половине одиннадцатого я услышал через приотворенную дверь шаги маркизы, маркиза и Шарлотты. Они поднимались к себе и остановились в коридоре, чтобы обменяться еще несколькими словами. Потом до меня до неслись обычные пожелания спокойной ночи, и все разошлись по своим комнатам… Одиннадцать часов…
Четверть двенадцатого… Все тихо. Я смотрел на часы, лежавшие передо мной возле трех писем — маркизу, матери и вам, дорогой учитель. Сердце чуть ли не разрывалось у меня в груди, но воля оставалась твердой и холодной. В своем письме я сообщал мадемуазель де Жюсса, что она уже не увидит меня завтра утром, и был совершенно уверен, что сдержу слово, если только… В ту минуту я не смел разбираться в том, какую надежду заключало в себе это «если». Я смотрел, как бежит секундная стрелка, и машинально подсчитывал, старательно умножая: в минуте — шестьдесят секунд… Я увижу вращение секундной стрелки еще столько-то раз, ибо в полночь покончу с собой… Вдруг послышались легкие, осторожные шаги на лестнице. В крайнем вол нении я перестал считать. Шаги приближались.
Потом затихли у моего порога. Вдруг дверь отворилась. Передо мной была Шарлотта.
Я встал. Так мы замерли друг против друга.
Лицо девушки, еще более побледневшее, было искажено от неожиданности ее поступка. Я глазах ее горел особенный блеск. Они казались почти черными, настолько зрачки расширились от волнения. Я обратил внимание на эту подробность, потому что лицо ее совсем преобразилось. Всегда такое сдержанное, почти холодное, оно дышало теперь исступлением, как у человека, которым овладела страсть более сильная, чем его воля. Вероятно, Шарлотта уже легла спать, но потом встала с постели, так как волосы ее были заплетены в косу, а не собраны, как обычно, на затылке. На ней был светлый халатик, подпоясанный витым шнуром и лежавший складками вокруг талии. Она совсем обезумела от волнения, — об этом можно было судить по тому, что она была без чулок, в ночных туфлях, которые, вероятно, поспешно надела, не отдавая себе отчета в том, что делает. Было видно, что с постели она поднялась и бросилась в мою комнату под влиянием невыносимой тревоги. Она уже не считалась с тем, что я подумаю о ней и что ей скажу. Она поверила моему письму и прибежала, охваченная таким сильным возбуждением, что даже забыла о чувстве страха.
— Слава богу, я не опоздала!.. — сказала она дрожащим голосом, после недолгого молчания. — Я думала, что вас уже нет в живых!.. Как это ужасно!.. Но теперь всему этому конец, не правда ли? Обещайте, что будете слушаться меня и не посягнете больше на свою жизнь! Поклянитесь мне, поклянитесь мне в этом!..
Она с умоляющим жестом взяла мою руку. Пальцы ее были холодны как лед. Ее приход был таким решающим событием, таким неопровержимым доказательством ее любви, да еще в минуту, когда я сам находился в сильнейшем возбуждении, что я уже больше ни о чем не рассуждал. Помню, что, не отвечая, я, разрыдавшись, обнял ее, потянулся губами к ее губам и сквозь слезы поцеловал самым пламенным, самым нежным и самым искренним из поцелуев.
Помню, что это был миг несказанного экстаза, высшего блаженства… Но она вырвалась из моих рук, и на ее все еще исступленном лице отразился стыд за то, что она позволила мне такой поступок.
— Я с ума сошла, — шептала она. — Я должна уйти… Не удерживайте меня!.. Не — прикасайтесь ко мне!..
— Вы же сами понимаете, что мне лучше умереть, раз вы не любите меня и собираетесь стать женой другого, — ответил я. — Судьба разлучает нас, разлучает навеки! Я взял со стола черный пузырек и, поднеся к лампе, показал его Шарлотте.
— Видите? Четверти этого флакона достаточно, чтобы избавиться от всех страданий… Через пять минут все будет кончено.
Спокойно, без единого резкого движения, которое могло бы снова вынудить ее к защите, я прибавил: — Уходите! Спасибо, что пришли! Не пройдет и четверти часа, я уже перестану существовать и чувствовать то, что чувствую сейчас. Перестану чувствовать невыносимую утрату, от которой страдал столько месяцев… Ну что ж, прощайте! Не лишайте меня мужества!..
Когда свет лампы упал на пузырек с черной жидкостью, Шарлотта вздрогнула. Она протянула ко мне руку и вырвала его со словами: — Нет! Ни за что! Бросив взгляд на пузырек, она прочла надпись на красной этикетке и затрепетала. Ее лицо еще больше исказилось. Между бровями легла морщинка. Губы шевелились. Глаза выражали безмерное горе. Потом, отрывисто произнося каждое слово голосом, который звучал почти сурово, точно какая-то сила вырывала у нее эти слова под невыносимой пыткой, она сказала: — Тогда и я тоже… Мне тяжело, очень тяжело.
Я так боролась с собой…
Она подошла ко мне и, взяв меня за руку выше локтя, продолжала: — Нет, я не хочу, чтобы вы один… Умрем вместе.
После того что я сделала, мне ничего другого не остается…
Она подняла руку, точно хотела поднести пузырек к губам. Я отнял его. Но она с почти безумной улыбкой повторяла: — Умереть! Да, умереть около вас, вместе с вами…
Она подошла ко мне совсем близко и положила голову мне на плечо, так что я щекою почувствовал шелк ее волос.
— Вот так… Ах, я давно люблю вас, давно… Теперь я могу вам признаться, раз я плачу за это жизнью… Ведь вы не откажетесь взять меня с собой? Мы уйдем вдвоем, уйдем вместе.
— Да, — ответил я, — мы умрем вместе. Клянусь! Но не сейчас. Дай мне время почувствовать, что ты меня любишь! Наши губы опять слились, и на этот раз она отвечала на мои поцелуи. Я прижал ее к себе. Я чувствовал, что она изнемогает в моих объятиях. Я увлек ее к кровати, она прижалась ко мне, и здесь силы окончательно оставили ее. В таких поцелуях восторг переполняет все тело и придает лихорадке чувств пламенность духовного порыва, в котором прошлое, настоящее и будущее исчезают, — чтобы оставить место лишь одной любви, мучительному, пьянящему безумию страсти! Эта хрупкая девушка, эта живая танагрская статуэтка отдалась мне во всей своей невинности, отдалась не сопротивляясь, с покорностью завороженного существа. Мгновение это показалось мне сказкой, настолько оно превосходило мои самые безрассудные надежды и даже силу желания. При мягком свете лампы и полупотухшего кабина она тонкостью похудевшего лица, его изможденностью и бледностью и распущенными волосами напоминала привидение, несмотря на физический дар тела, которое она принесла мне в жертву. Голосом призрака она рассказывала мне долгую историю своего чувства. Она говорила, что полюбила меня почти с первого же взгляда, хотя и сама не подозревала об этом; она страдала при виде моей грусти и от моего рассказа о несчастной любви и стала мечтать, что сделается моим другом и будет утешать меня. Но в ослепительном свете моего признания в лесу ей вдруг открылась ужасная истина, и тогда она поклялась вырыть между нами пропасть. Она поведала мне, какую внутреннюю борьбу пришлось ей вынести, когда она получала мои письма и как она тщетно решала не читать их; о том, как с отчаянья она обручилась с другим, чтобы отрезать себе пути к отступлению; рассказала о своем возвращении в замок и обо всем остальном. Открывая тайны своей любви, она находила целомудренные и страстные слова, которые льются через край души, как слезы льются из глаз.
Она говорила: — Даже если бы я могла, я не хотела бы, чтобы из моей, памяти изгладились эти муки: так мне отрадно сознавать, что я жила только любовью к вам… Позвольте мне умереть первой, чтобы я не видела ваших страданий…
Она опутывала меня своими волосами, и на ее лице, которым она так умела владеть, я увидел какой-то мученический восторг смешанный с раскаяньем.
Когда она умолкала в моих объятиях, вся как бы растворяясь во мне, наши губы снова сливались в поцелуях, руки сплетались, и тогда мы слышали, как за окнами уныло шумит ветер, и уснувший в мирной тишине замок уже становился нашей могилой, в которую мы низвергались, влекомые от жизни к смерти пламенной любовью, соединившей нас навеки.
И вот именно в этот момент и произошел, дорогой учитель, самый странный эпизод этой истории, эпизод, который люди сочтут самым постыдным. Но ведь для Нас с вами подобные слова лишены какого-либо значения, и у меня хватит мужества рассказать вам об этой минуте. Я уже говорил, что был вполне искренним, и у меня не было и тени расчета, когда, решив покончить с собою, я приобрел пузырек с чилибухой и написал письмо Шарлотте. Когда она пришла ко мне, упала в мои объятья и воскликнула: «Умрем вместе!» — я совершенно искренне ответил: «Да, умрем вместе!» Мне тогда казалось, что это просто и вполне естественно, что так легко покинуть этот мир вдвоем. Вы написали яркие страницы о тумане иллюзий, порождаемом в нас физическим желанием, о сексуальном головокружении, овладевающем нами, как вино, и потому вы не сочтете меня чудовищем, когда узнаете, что этот туман вдруг стал рассеиваться вместе с вожделением, а опьянение покидало меня по мере того, как я удовлетворял свое желание. В эту безумную ночь наступила минута, когда мы оба устали от ласк. Я был в истоме от страсти, она была изнурена волнениями, и мы уступили потребности отдохнуть друг подле друга. Некоторое время мы молчали. Шарлотта в изнеможении от пережитого положила голову мне на грудь и закрыла глаза. Я хорошо помню эти минуты. Я смотрел на нее и чувствовал, хотя и не понимал, каким образом это происходит, что моя душа,/ преображенная волшебством желания, экзальтированная и исступленная, какою она была до этого счастливого мгновения, снова становится рассудительной, философически настроенной и ясной, как в прежние дни. Я смотрел на Шарлотту, и мною овладевала мысль, что через несколько часов ее прелестное тело, одухотворенное в эти минуты ярким пламенем жизни, ста нет неподвижным, ледяным, мертвым. Будут мертвы эти губы, еще трепещущие от моих поцелуев; будут мертвы эти глаза, прикрытые дрожащими ресницами, охраняющими их сон; будет мертво ее тело, в котором я только что пробудил любовь; будет мертва ее душа, принадлежащая мне, опьяненная и полная мной! Мысленно я твердил: «Мертва, мертва, мертва…» И вдруг мое сердце сжалось, когда я осознал, что заключает в себе это слово: мгновенный провал в ночь, безвозвратное падение во мрак, в холод, в пустоту. Прыжок в бездну небытия, казавшийся раньше, пока мною владело бешенство неразделенной любви, не только легким, но и страстно желанным, вдруг представился мне самым ужасающим, самым безумным и невозможным поступком, лишь только страсть была удовлетворена… Шарлотта по-прежнему лежала с закрытыми глазами, ее волосы разметались по подушке. Какая она была юная и хрупкая! Она казалась почти ребенком и была целиком в моей власти.
Исхудавшие черты ее милого лица, освещенные мягким светом лампы, говорили обо всем, что она пережила за последние дни. А я намерен убить ее или по меньшей мере помочь ей покончить с собой! Да, сейчас мы сведем счеты с жизнью… При этой мысли я содрогнулся, мне стало страшно… За нее? За себя? За нас обоих? Не знаю. Но мною овладел страх, все парализующий страх, от которого оледенели самые сокровенные уголки моего существа, душа Моей души, непостижимый источник нашей энергии. Со мной произошло — нечто вроде того, что происходит с умирающим, когда он бросает "последний взгляд на свое земное существование и в мираже невероятного сожаления мысленно обращается к тому, что радовало его или о чем он мечтал. Так и у меня неожиданно возникло представление о жизни, всецело посвященной науке, той жизни, которой я так жаждал и от которой в последнее время отрекся. Я увидел вас, дорогой учитель, размышляющим в своей келье, и мир интеллекта снова развернул передо мною все великолепие своих горизонтов. Неужели я сейчас принесу в жертву все эти сокровища — свои занятия, которые я забросил в последние дни, и разум, которым так гордился, и свое «я», которое я так любовно культивировал? Принесу в жертву ради чего? «Ради данного мною слова», — следовало бы мне ответить самому себе. Но я ответил: «Ради минутной прихоти».
Строго говоря, самоубийство имело смысл, когда перспектива разлуки с Шарлоттой доводила меня до отчаянья. А теперь? Ведь мы же любим друг друга, принадлежим друг другу. Кто же может помешать нам, свободным и молодым, бежать вместе, если после этой ночи мы будем не в силах вынести разлуку? Мысль о похищении Шарлотты вызвала в моем представлении образ графа Андре. Это тоже необходимо отметить.
Воспоминание о графе приятно пощекотало мое самолюбие. Я еще раз взглянул на Шарлотту и почувствовал, что мое сердце наполняется самой дикой гордостью, и вместе с сознанием торжества во мне вдруг снова проснулось соперничество, вызванное тайной завистью к ее брату. Известная поговорка гласит, что после любовных наслаждений всякое животное становится печальным: «Оmnе аnimal…» Но я испытывал печаль другого рода. У меня было ощущение, что моя нежность вдруг иссякла; это был стремительный, как химическая реакция, возврат к моему прежнему душевному состоянию. Думаю, что на это превращение не потребовалось и получаса. Я продолжал любоваться Шарлоттой, но уже целиком отдавался своим мыслям, наслаждаясь вновь обретенной свободой. Жизнь, исполненная воли и разума, вновь наполняла меня, как вода наполняет реку, когда поднимают шлюз. Во время нашей разлуки болезненная тоска по Шарлотте воздвигла преграду, остановившую поток моих прежних переживаний. Но, едва только преграда исчезла, я снова стал самим собой. А между тем Шарлотта задремала. Я слышал ее ровное, легкое дыхание, потом она вдруг глубоко вздохнула и проснулась.
— Ах, ты со мной, со мной! — прошептала она, прижимаясь ко мне каким-то почти конвульсивным движением. — Я уснула, видела сон… И какой ужасный сон! Мне приснилось, что брат топчет тебя… Боже, какой ужасный сон! Она поцеловала меня, и в то самое мгновение, когда ее губы соединились с моими, стали бить. часы.
Она прислушалась. Часы пробили четыре.
— Четыре часа, — сказала она. — Теперь пора! Прощай, мой любимый, еще раз прощай! Она опять поцеловала меня. Ее восторженное лицо стало снова спокойным, почти радостным.
— Дай мне яд, — произнесла она твердым голосом. Я продолжал лежать неподвижно и ничего не ответил.
— Ты боишься за меня? — опять спросила она. — Не бойся, я не страшусь смерти… Дай…
Я встал с постели, по-прежнему не отвечая. Отвернувшись от меня, она села на постели и молитвенно сложила руки. Вероятно, она молилась. Или это было последнее усилие вырвать из души любовь к жизни, корни которой так глубоко сидят в каждом двадцатилетнем существе? Вы поймете, до какой степени я был спокоен в эту минуту, если я вам сообщу одну мелкую, но очень красноречивую подробность: я стал спешно приводить в порядок свою одежду, чтобы не показаться смешным в той Сцене, которую я уже пред видел, так как у меня окончательно созрело намерение во что бы то ни стало/помешать нашему двойному самоубийству… У меня хватило хладнокровия взять со стола темный пузырек, поставить его в шкаф и повернуть ключ в замке. Все эти приготовления, значения которых Шарлотта еще не понимала, показались ей слишком долгими. Она обернулась ко мне и сказала: — Я готова.
Но тут она увидела, что в руках у меня ничего нет. Тогда экзальтированное выражение на ее лице сменилось выражением крайней тревоги, и она повторила сурово: — Где яд? Дайте мне яд! — Потом, точно отвечая на мысль, пришедшую ей в голову, она лихорадочно добавила: — Нет, этого не может быть…
— Да, — воскликнул я, падая на колени у постели и схватив руки Шарлотты, — да, ты права, это не возможно… Я не могу допустить, чтобы ты умерла у меня на глазах, из-за меня! Я не могу лишить тебя жизни! Умоляю, Шарлотта, не требуй, чтобы мы привели в исполнение наше ужасное намерение… Ведь, когда я покупал яд, я был как безумный, я думал, что ты не любишь меня… Я искренне хотел покончить с собой, поверь мне! Но сейчас, раз ты меня любишь, и я знаю об этом, и раз ты отдалась мне…. нет, я не могу, не хочу… Будем жить, любимая, будем жить! Обещай, что мы будем жить!.. Если хочешь — уедем куда-нибудь. Мы имеем право пожениться. Ведь мы свободны. А если не хочешь этого, если раскаиваешься в том, что дала себе волю, ну что ж, я все беру на себя. Клянусь, что все будет так, словно ничего не произошло, я ничем не буду тревожить тебя… Но помочь тебе умереть?.. Убить тебя?.. Нет, нет, это выше моих сил, не проси меня об этом…
Долго ли я говорил и какие еще слова сказал ей, не помню. Я читал уже на ее лице тихое волнение, женскую слабость, а во взгляде — одно из тех «да», которые опровергают «нет», произнесенное губами. Она замолкла, устремив на меня взор, и в этом взоре поблескивало теперь трагическое пламя. Она высвободила "свои руки из моих, скрестила их на груди и, когда я наконец прекратил свои мольбы, вся закрытая разметавшимися волосами, как бы отброшенная от меня каким-то невыразимым ужасом, она промолвила: — Значит, вы не хотите сдержать свое слово? — Нет, — бормотал я, — я не могу… Не могу…
Я не знал, что говорил тогда…
— Лучше скажите, что вам страшно! — произнесла она с жестоким презрением, и ее прекрасные губы вдруг задрожали. — Что ж, дайте мне яд! Я возвращаю вам ваше слово, я умру одна! Боже! Завлечь меня так подло в западню!.. Трус! Трус! Трус! Не знаю, почему это оскорбление не задело меня, почему я не схватил пузырек и не поднес его тут же к губам со словами: «Вот смотрите, какой я трус!» Вспоминая неумолимое презрение на ее лице, я сам не понимаю, почему так не поступил. Приходится думать, что в те минуты я действительно испытывал страх, хотя теперь бестрепетно взошел бы на эшафот и теперь у меня хватает мужества в продолжение трех месяцев не отвечать на допросах, не считаясь с тем, что я рискую своей головой. Но сейчас меня поддерживает идея, холодная, рассудочная идея, а тогда я находился в состоянии полного упадка духовных сил, в разладе между обостренными восприятиями последних месяцев и чувствами, которые я переживал в те минуты. Я сел на ковер, где только что стоял на коленях, как будто у меня уже не хватало сил держаться на ногах, и, качая головой, повторял одно и то же слово: «Нет, нет…» На этот раз она ничего не сказала. Я видел, как она собрала свои прекрасные волосы и поспешно скрутила их в узел, сунула ноги в туфельки, закуталась в халат.
Она поискала глазами черный пузырек с красной этикеткой и, не найдя его на столе, направилась к двери, потом, даже не обернувшись, исчезла за нею, бросив мне в последний раз ужасное слово: «Трус!» Как подкошенный, я остался у кровати и так лежал очень долго. Только смятая постель напоминала мне, что все это не было сном. Но вдруг сердце мое сжалось от безумной тревоги. «А что, если Шарлотта, вернувшись к себе, в отчаянии посягнет на свою жизнь?» — подумал я. Весь во власти этой страшной мысли, я осмелился выйти в коридор, спустился по лестнице, подошел к ее комнате и, приложив ухо к двери, пытался услышать какие-нибудь звуки, стоны или другие признаки, по которым можно было бы догадаться о том, что происходит за тонкой дверью, которую мне ничего не стоило бы высадить плечом.
Я ничего не слышал: за дверью было тихо. А первые признаки пробуждения уже доносились из подвального этажа замка. Просыпались слуги. Мне пришлось вернуться к себе, и я оделся; В. шесть часов я уже стоял в саду, под окнами Шарлотты. Я был в паническом страхе, и воображение рисовало мне жуткие картины.
Мне представлялось, будто она выбросилась из окна и лежит на земле с искалеченными руками и ногами.
Но я убедился, что ставни в ее комнате затворены; внизу, на нетронутой клумбе в холодных осенних су мерках тихо доцветали последние зябкие розы. Шарлотта рассказывала ночью, что в часы смятения, когда она скрывала свою любовь ко мне, она часто сидела по ночам у окна над этими розами и ей доставляло удовольствие вдыхать их сладостный аромат, принесенный ветерком. Я сорвал цветок, и от его запаха у меня слегка закружилась голова. Чтобы унять тревогу, с каждой минутой всё более и более овладевавшую мною, я пошел куда глаза глядят, в поле, еще подернутое ноябрьским утренним туманом. Я ушел очень далеко, даже миновал деревушку Созе-ле-Фруа, однако в восемь часов был уже в замковой столовой, чтобы позавтракать со всеми или делать вид, что завтракаю. Я знал, что как раз в это время горничная обычно входит в комнату к мадемуазель де Жюсса.
Если произошло какое-нибудь несчастье, она должна была немедленно известить об этом. С каким неизъяснимым облегчением я увидел, что горничная спокойно спустилась по лестнице, направилась в, буфетную и вышла оттуда с подносом, готовясь подавать чай.
Шарлотта не покончила с собой! "Тогда снова воспрянули все мои надежды. Может быть, подумав хорошенько и подавив первый приступ гнева, она истолкует мой отказ умереть и дать ей яд как доказательство мо ей любви? Мне не пришлось долго ждать, чтобы проверить это. Достаточно было подстеречь ее появление в комнате брата. Наш маленький больной уже совсем выздоравливал, и, хотя ему не разрешали гулять, он проявлял обычную веселость ребенка, который понемногу возвращается к жизни. Он встретил меня в то утро особенно радушно, и это еще более укрепило мои надежды. Его ласковость должна была помочь разбить лед в отношениях между мною и Шарлоттой.
Как легко юноше и девушке соединить руки над кудрявой головкой невинного ребенка! Но корда Шарлотта вошла в комнату, вся белая, в светлом платье, еще больше подчеркивавшем ее бледность, с воспаленными глазами и сухими, как бы увядшими веками, и, под предлогом мигрени, уклонилась от шалостей Люсьена, я понял, что слишком опрометчиво понадеялся на примирение. Я поклонился" ей. Однако у нее хватило твердости не ответить на мое приветствие. Я уже знал в ней три разных человека: нежное и кроткое сострадающее существо, немного дичившуюся меня девушку и страстную до экстаза любовницу. Теперь я увидел на этом благородном лице холодную, непроницаемую маску презрения. Да, в ту минуту я имел возможность понять, что такое патрицианская гордость, и убедиться в том, что, как говорит старая- избитая поговорка, молчание казнит иногда страшнее раскаленного железа. Все это было так тяжко для меня, что «я не мог с этим примириться, и я в тот же день подстерег Шарлотту, чтобы услышать из ее уст хотя бы одно слово, пусть даже новое оскорбление. Когда она направилась в свою комнату, чтобы переодеться к обеду, я поднялся вслед за ней по лестнице. Но она отстранила меня царственным жестом и сказала: — Я Вас больше не знаю…
Ее дрожащие губы произнесли эти слова с такой жестокостью и ее взгляд был полон такого негодования, что я не нашелся, что ответить. Она судила меня и вынесла мне приговор.
Да, она осудила меня; и этот приговор был тем ужаснее, что был мною вполне заслужен. Она презирала меня за страх перед смертью; это было справедливо, так как я действительно испытал в ту минуту подлый ужас перед черной ямой. Конечно, я имел право сказать себе самому, что один этот страх не остановил бы меня перед двойным самоубийством, если бы сюда не примешивалась жалость к юному существу и честолюбие философа. Но какое это имеет значение? Ведь она отдалась мне с известным условием, и на это трагическое условие я сначала ответил согласием, а потом сказал «нет». Однако вот что получилось. То, что вы называете, дорогой учитель, гордостью самца, чрезвычайно сильно в человеке, и создание, что я обладал ее телом и душой, ее чувством и ее переживаниями, удовлетворяло эту гордость с такой полнотой, что, как бы ни было унизительно презрение Шарлотты, оно не могло ранить меня, как некогда ранило ее молчание после первого неудачного объяснения в любви, или ее бегство, или даже известие о ее помолвке Да, она презирает меня, но ведь она все-таки принадлежала мне! Я держал ее в своих объятиях, обнимал ее вот этими самыми руками, был ее первым любовником. Да, я жестоко страдал после той безумной ночи, в ожидании окончательного отъезда из замка. Но это уже не было "бесплодным отчаяньем побежденного, каким я чувствовал себя летом, и не было полнейшим самоотречением в горе. Где-то в глубине существа я хранил то, что, может быть, и нельзя назвать подлинным счастьем, но что являлось тем не менее каким-то удовлетворением, поддерживавшим меня в тяжелых переживаниях. Когда Шарлотта проходила мимо меня с таким видом, точно я какой-то ничтожный предмет, забытый прислугой, или когда я следил, как она поднимается по лестнице и исчезает в коридоре, я мысленно представлял ее себе такой, какой она была в ту ночь, — с распущенны ми косами и обнаженными ногами. Как-никак ее губы сливались с моими, и она отдавалась мне с тем девственным самоотречением, какое она уже никогда не подарит никому другому. Я очень страдал от сознания, что эта ночь любви была столь мимолетной, единствен ной и не повторится уже никогда. За один час блаженства, испытанного тогда, я, быть может, снова согласился бы на роковой договор, на этот раз с холодной решимостью выполнить его. Но изведанное блаженство все же оставалось для меня реальностью, и неизгладимое воспоминание о той ночи спасало меня от отчаянья. «Кроме того, — спрашивал я себя, — где подтверждение, что любовь ее действительно угасла, и угасла навсегда? Поступая так, как она поступает со мной, мадемуазель де Жюсса только доказывает глубину своего чувства. Неужели возможно, что в ее романтическом сердце от этого чувства не осталось и следа?» Сейчас, в свете трагедии, которой закончилась эта прискорбная история, я понимаю, что именно ее романтичность и экзальтированность и помешали ей вернуться ко мне. У нее ни на минуту не могло быть мысли, что она может сделаться моей женой, создать со мной семью. То, что произошло, она могла сделать только под влиянием бредового состояния, которое вырвало ее из жизни, из ее нормальной жизни.
Она полюбила во мне мираж, существо, которое отнюдь не соответствовало тому, каким я был на самом деле, и неожиданное столкновение с моей настоящей природой, разбившее эти иллюзии, зажгло в ней ненависть, равную по силе ее недавней любви: Увы! вопреки всем своим притязаниям на научную психологию я тогда не заметил эволюции ее души. Я не подозревал также, что она будет стремиться всеми способами узнать обо мне еще больше и в исступленности Своего отвращения дойдет до того, что будет относиться ко мне, как судья к обвиняемому; что она даже захочет прочитать мои записи и не остановится для этого ни перед какой сделкой со своей совестью. Я не понял даже, что она не из тех девушек, которые могут пережить свой позор, каким, конечно, представлялась ей та ночь, и не подумал о необходимости уничтожить пузырек с ядом, в котором я ей отказал. Я мнил себя великим наблюдателем, потому что много размышлял.
Но я сам запутался в своих хитросплетениях. В те дни не надо было размышлять. Надо было наблюдать.
Вместо этого, обманутый умозаключениями, которые я только что привел вам, и убежденный в том, что в глубине души Шарлотта по-прежнему любит меня, несмотря на все свое презрение, я пытался оживить ее любовь самыми простыми средствами, совершенно недейственными в тех обстоятельствах. Я написал ей, Однако в тот же день я нашел письмо у себя на письменном столе нераспечатанным. Я пробрался ночью к ее двери и позвал ее. Дверь была заперта на ключ, и никакого ответа не последовало. Я попытался еще раз заговорить с нею. Она отстранила меня рукой еще более властно, чем в первый раз, и даже не взглянула на меня.
В конце концов боль от этих непрекращающихся оскорблений превзошла вновь загоревшееся во мне желание. Помню, что вечером того дня, когда она так презрительно отстранила меня, я долго плакал, а по том принял твердое решение. Видимо, ко мне частично вернулась моя прежняя энергия, так как это решение было вполне разумным. Прибавлю, чтобы быть правдивым до конца, что в замке било получено известие о скором приезде господина де Плана и графа Андре. Если бы у меня и были какие-нибудь колебания, новость эта окончательно устраняла их. Присутствие этих офицеров при двойном ударе, нанесенном и моей любви и моей гордости, я перенести не мог, да и не хотел. И вот как я решил поступить. Маркиз просил меня остаться в замке до 15 ноября. Было уже третье число. Утром этого рокового дня я заявил маркизу, что получил от матери очень тревожное письмо, а днем сказал, что прибыла еще более тревожная телеграмма. В результате я добился у маркиза разрешения поехать на другой день в Клермон как можно раньше. Я просил, в случае если не вернусь, упаковать оставленные мною вещи и прислать мне их в город.
Я нарочно говорил об этом в присутствии Шарлотты, уверенный, что она поймет меня надлежащим образом, то есть что я уезжаю и больше не вернусь. Я надеялся, что мысль о предстоящей разлуке взволнует ее и, желая использовать это волнение, снова написал ей, на сей раз всего две строчки: «Я покидаю вас навсегда, а потому имею право просить о последней встрече. Зайду к вам в одиннадцать часов». Надо было сделать так, чтобы она не могла отослать мне записку, не прочитав ее. Поэтому я положил ее незапечатанной на ночной столик, рискуя погубить Шарлотту и себя, если записка попадется на глаза горничной. Как билось у меня сердце, когда без пяти одиннадцать я направился к двери ее комнаты и нажал на дверную ручку! Дверь была не заперта. Она ждала меня. При первом же взгляде на нее, я понял, что борьба будет очень трудной. На ее лице было совершенно явственно написано, что она позволила мне прийти вовсе не для того, чтобы простить меня. На ней было темное вечернее платье, и никогда еще взгляд ее не казался таким неумолимо твердым и холодным.
— Сударь, я не знаю, что вы хотите мне сказать, и не желаю знать… — начала она, как только я за пер дверь и в молчании остановился перед нею. — Я вас впустила сюда не для того, чтобы выслушивать вас. Клянусь вам, — а я-то умею держать свое слово, — что, если вы сделаете хоть один шаг ко мне или попытаетесь говорить, я позвоню, и вас вышвырнут отсюда, как вора…
При этих словах она положила палец на кнопку электрического звонка у изголовья кровати. Ее лоб, губы, движения, голос — все выражало такую решимость, что мне ничего не оставалось, как только молчать, Потом она продолжала: — Вы толкнули меня на три недостойных поступка.
Первый еще можно оправдать тем, что я не считала вас способным на подлость, которую вы совершили…
К тому же этот поступок я сумею искупить, — прибавила она, как бы разговаривая сама с собой. — Второй поступок… Я не пытаюсь оправдать его, — И ее лицо вдруг залила краска стыда. — Мне было очень тяжело сознавать, что вы могли так сделать…
Мне хотелось узнать ваш подлинный облик, поближе познакомиться с вами… А вы мне говорили, что ведете дневник. Мне захотелось прочесть его… Я его прочла.
Да, я вошла к вам, когда вас не было в комнате. Я рылась в ваших бумагах. Я даже сломала замок на тетради. Да, я виновата в этом! Но я уже жестоко наказана тем, что я там прочла… Третий поступок… Открыв вам его, я заплачу свой долг. Заплачу за то, что я делала в вашей комнате. Третий поступок…
Она запнулась, потом сказала: — В порыве негодования я написала брату. Он знает все! — Вы погубили себя! — не выдержал я.
— Вам известно, в чем я поклялась, — перебила она меня, снова взявшись за звонок. — Молчите! Погубить меня уже невозможно. Никто уже не в силах ничего сделать ни для меня, ни против меня. Мой брат узнает о случившемся, а также и о том, что я решила. Письмо он получит завтра утром. Я должна была предупредить вас об этом, раз вы так цепляетесь за жизнь. А теперь уходите…
— Шарлотта! — воскликнул я.
— Если вы сейчас же не уйдете, — сказала она, посмотрев на часы, — я позову людей…
$ 7.-Заключение.
И я повиновался! На следующий день, около шести часов утра, я покинул замок, весь во власти мрачных предчувствий, тщетно стараясь убедить себя, что последняя сцена не будет иметь никаких последствий, что граф Андре приедет вовремя и сумеет воспрепятствовать Шарлотте принять в припадке отчаянья непоправимое решение, что она сама в последнюю минуту откажется от него, что ей может помешать какое-нибудь непредвиденное обстоятельство. Мало ли что могло произойти? Но я ни минуты не думал о том, чтобы бегством спастись от возможной мести ее брата.
Теперь я снова обрел мужество, так как; меня поддерживала мысль, что отныне я, уже никому не позволю унижать себя. Если я и проявил мимолетную слабость под влиянием счастливой любви, в присутствии обезумевшей девушки, то это ни в коем случае не повторится в присутствии мужчины, чем бы он ни угрожал мне. В Клермон я приехал, полный ужасной тревоги. Впрочем, это продолжалось не долго, ибо вскоре стало известно о смерти мадемуазель де Жюсса и я тут же был арестован. С первых же слов следователя мне не трудно было восстановить для себя самого картину самоубийства Шарлотты: она отлила из моего пузырька с ядом столько, сколько считала достаточным, чтобы покончить с собой. Она сделала это в тот день, когда читала дневник в моей комнате.
Действительно, замок тетради оказался сломанным.
Впрочем, тогда мне было не до этих бесплодных записей, и я даже не заметил, что он сломан. Чтобы отвести мои подозрения относительно пузырька, она долила его водой и таким образом возместила взятое количество яда. Свой пузырек она выбросила в окно, так как, вероятно, не хотела, чтобы родители узнали о ее самоубийстве, иначе как от ее брата. А я, знавший всю правду об этой страшной трагедии и имевший по крайней мере возможность представить дневник в качестве доказательства своей невиновности, — я уничтожил его, как только вышел от следователя после первого допроса. Давать показания и защищать себя я отказался из-за брата Шарлотты. Я уже сказал вам, что до дна испил чашу унижений и больше не хотел этого. И теперь не желаю. Человек, которому я так завидовал в первые дни, который является для меня как бы представителем покойной и который знает всю правду, должен считать меня последним мерзавцем. Но я не хочу, чтобы он имел право презирать меня, и у него этого права нет, по тому что мы оба молчим. Однако для меня молчание означает, что я рискую своей головой, чтобы спасти доброе имя покойной, а его молчание губит чело века, невиновного в ее смерти, и тоже ради спасения чести покойницы. Кто из нас поступает благороднее? Кто из нас джентльмен? Я ли, не желающий защищаться, прячась за труп Шарлотты, или он, у которого хранится ее письмо, но который, чтобы отомстить любовнику сестры, предоставляет осудить его как убийцу? Ведь позор своего малодушия в ту ночь, когда Шарлотта отдалась мне, — если считать это позором, — я смываю тем, что отказываюсь защищать се бя. За ужас последних дней моего пребывания в замке меня вознаграждает гордое сознание, что я не хочу сейчас покончить расчеты с жизнью и просить у смерти забвения своих мук. Нет, пусть граф Андре проявит свою подлость до конца. Если меня приговорят к смерти, а он, зная о моей невиновности и имея в руках доказательства, будет все-таки молчать, то что ж, Жюсса-Рандонам не в чем будет упрекать меня, и мы будем квиты.
Но вам, мой досточтимый учитель, я рассказал все, я открыл вам все глубины своей души и даже то, что лежит за этими глубинами. Но, доверяя вам тайну, я слишком хорошо знаю, к кому обращаюсь, и потому не напоминаю об обещании, которое позволил себе взять с вас на первой странице этой рукописи. Однако, по правде говоря, я задыхаюсь от своего молчания; оно давит мне душу, лежит на ней вечным гнетом. Чтобы выразить вам все это в немногих словах, — а это желание выразить свои чувства так же законно, как и сами чувства, — я должен сказать откровенно, что меня мучат угрызения совести. Мне хочется, чтобы кто-то понял меня, утешил, любил; чтобы чей-нибудь голос пожалел меня и произнес слова, от которых рассеялись бы страшные призраки. Начиная эту исповедь, я составил в уме ряд вопросов и хотел предложить их вам в конце записок. Я льстил себя надеждой, что мне удастся рассказать свою историю так же ясно, как вы излагаете психологические проблемы в своих трудах. С каким вниманием я читал их! А вот теперь я ничего не нахожу сказать вам, кроме слов, выражающих отчаянье: «De profundis!» Напишите мне, дорогой учитель, руководите мною! Укрепите мою веру в доктрину, которая была и остается моей доктриной, мою веру во всеобщую необходимость.
Она учит, что даже самые отвратительные и самые роковые наши поступки, даже хладнокровно задуманное мною обольщение, даже мое малодушие перед обязательством умереть, подчиняются общим законам вселенной. Скажите мне, что я вовсе не чудовище, что в мире вообще не существует чудовищ, и что вы примете меня как ученика, как друга, если мне удастся выйти из этих невероятных переживаний. Если бы вы были врачом и к вам пришел бы человек и показал свои раны, ведь вы же не отказались бы перевязать их из человеколюбия? А вы тоже врач, великий врачеватель душ. Моя душа смертельно ранена, она истекает кровью. Умоляю вас сказать хоть одно слово утешения, скажите его, и вас до конца своих дней будет благословлять неизменно преданный вам Робер Грелу.
V. В ВИХРЕ МЫСЛЕЙ
Прошел месяц с тех пор, как мать Робера Грелу принесла в тихую обитель на улице Ги де ля Бросс странную рукопись, которую Адриен Сикст так долго не решался прочитать. А прочитав ее, философ до такой степени разволновался, что даже простые люди из его окружения заметили пере мену в душевном состоянии ученого. Это тревожное настроение сделалось теперь предметом бес конечных пересудов со стороны мадемуазель Трапенар и четы Карбоне, Разговоры происходили обычно в пропахнувшей кожей привратницкой, где преданная экономка и рассудительные супруги спорили до потери сознания о странной перемене в поведении знаменитого философа.
Изумительная, почти автоматическая регулярность выходов Сикста на прогулку, и его возвращений домой, сделавшая из него за пятнадцать лет как бы живой хронометр для всего тихого квартала Ботанического сада, вдруг превратилась в лихорадочную и необъяснимую хаотичность. После визита г-жи Грелу философ стал выходить из дому в любой час, вдруг преобразившись в какого-то беспокойного человека, которому не сидится на месте, который возвращается, едва выйдя на прогулку, а вернувшись, не в состоянии пробыть и одной минуты дома. На улице он уже не шествовал тем размеренным шагом, свидетельствующим об уравновешенной нервной системе, а торопился или вдруг останавливался и жестикулировал, как бы споря о чем-то с самим собой. Эта нервозность выражалась порой еще более странным образом. Мадемуазель Трапенар рассказывала супругам Карбоне, что ее хозяин не ложится теперь спать раньше двух трех часов ночи.
— И вовсе не потому, что он занимается, — утверждала славнаяженщина, — нет, он все ходит, ходит. В первый раз я подумала, что он захворал, и встала с постели, чтобы спросить, не нужно ли ему чего-нибудь, не дать ли ему какого-нибудь отвара…
И представьте себе, он, обычно до того вежливый и мягкий в обращении, что и в голову не придет, что он такой ученый, — тут вдруг выгнал меня, как последний грубиян! — А я в прошлый раз, когда возвращалась с покупками, видела его в кафе! — заметила тетушка Карбоне. — Я своим глазам не поверила. Ей-богу, он сидел за окном и читал газету! Не знай я его как свои пять пальцев, я бы перепугалась. А если бы вы видели его лицо, нахмуренный лоб, и какой у него был при этом рот!..
— В кафе! — всплеснула руками мадемуазель Трапенар. — За все шестнадцать лет, что я у него в экономках, я ни разу не видела его с газетой в руках.
— У него какая-то неприятность, которая не дает ему покоя, — заключил Карбоне. — А всякая неприятность, мадемуазель Мариетта, — это как бочка Аделаид — она бездонная… Но что ни говорите, — все это началось с вызова к судебному следователю и когда появилась дама в черном. Знаете, что мне приходит в голову? Может, у него есть сынок и с парнем не все ладно…
— Господи Иисусе, — снова всплеснула руками Мариетта, — у него — и вдруг сын? — А почему бы ему и не быть? — ответил привратник вопросом, игриво подмигивая за стеклами очков. — Вы считаете, что он не мог куролесить в молодые годы, как всякий другой? Потом, обращаясь к петуху, добавил: — Вот и ты, каналья! Опять собираешься греховодничать? Фердинанд прогуливался по комнате, изредка покрикивая, и рылся в обрезках кожи, попутно глотая пуговицы и потряхивая гребнем. Любуясь этим «гулякой», как он называл своего питомца, Карбоне забывал даже о профессиональном любопытстве парижского привратника. Фердинанд прыгал ему на плечо и спокойно сидел там, в то время как хозяин снова брал в руки молоток и, прибивая подметку к башмаку, прилаженному на железной форме, восхищался петухом: — Нет вы скажите мне: птица это или человек? Потом он передавал перепуганной мадемуазель Трапенар слухи, ходившие по поводу бедного г-на Сикста среди простонародных обитателей улицы Линнея с тех пор, как ученый изменил своим привычкам.
Длинные языки повторяли на один лад, что причиной волнений философа послужил вызов к судебному следователю. Прачка уверяла, что получила от земляка г-на Сикста сведения, согласно которым отцу ученого когда-то были даны на хранение деньги, но отец злоупотреблял ими, и теперь г-н Сикст должен все возместить. Мясник рассказывал всем, кому не лень было слушать, что философ — женатый человек и что жена недавно закатила ему ужасную сцену и даже пригрозила бракоразводным процессом. А угольщик так и вовсе намекал, что с виду почтенный человек в действительности брат того злодея, орудовавшего под фальшивым именем Кампи, казнь которого в те дни очень занимала обывателей.
— Ни за что не пойду теперь к ним, — возмущалась мадемуазель Трапенар. — Боже милостивый, как не стыдно придумывать такие ужасы! И расстроенная старая дева уходила из каморки.
Эта крупная женщина с багровым лицом, сильная, как бык, невзирая на свои пятьдесят пять лет, так и оставшаяся крестьянкой, всегда ходившая в грубых башмаках, в синих шерстяных чулках, связанных собственными руками, и в чепце, прочно надетом на твердый шиньон, чувствовала к хозяину расположение, основанное на различных свойствах ее правдивой и простой натуры. Прежде всего она уважала в лице хозяина ученого человеку, о котором даже пишут в га зетах. Кроме того, она весьма дорожила местом у это го старого холостяка, который никогда не проверял ее счетов и в доме которого она сделалась настоящей хозяйкой; такое место обеспечивало ей полное благополучие и ренту в старости. Наконец она, крепкая и сильная, нежно оберегала от трудностей жизни это физически cлабое, почти хилое существо — наивного человека, которого, по ее словам, проведет любой десяти летний мальчуган. Поэтому подобные сплетни в какой-то степени затрагивали и ее самолюбие, не говоря уже о том, что от этих перемен в настроении ученого квартира становилась для нее не столь уютной. Из искреннего расположения к хозяину Мариетта очень беспокоилась, что в последнее время он почти ничего не ест и плохо спит. Она наблюдала, как он ходит, покашливая, удрученный и больной, и ей ничем не удава лось развеселить его или хотя бы угадать причину его все усиливающейся меланхолии и возбуждения. Лег ко себе поэтому представить, что с ней делалось, когда однажды, в марте месяце, пообедав где-то в городе, Сикст вернулся около пяти часов домой и спросил: — Мой чемодан в порядке, Мариетта? — Не знаю, господин Сикст, — ответила служанка. — Вы ведь не пользовались им с тех пор, как я служу у вас…
— Разыщите его, — перебил ее философ.
Старая дева отправилась выполнять распоряжение и с антресолей, где за отсутствием чердака хранилось также топливо, принесла небольшой кожаный чемодан, запыленный, с заржавевшими замками, "ключи от которых были давным-давно утеряны.
— Так, — сказал Сикст, взглянув на чемодан. — Сейчас же купите мне другой чемодан, вроде этого, и уложите в него все, что необходимо для поездки.
— Значит вы уезжаете, господин Сикст? — растерялась мадемуазель Трапенар.
— Да, на несколько дней. — Но ведь у вас ничего нет, что требуется в дороге, — заметила старая экономка. — Разве можно пускаться в путь без пледа, без…
— Купите все, что нужно, — перебил ее философ, — и, пожалуйста поторопитесь: поезд отходит в девять часов.
— Я тоже поеду? — Вам незачем ехать, — ответил Сикст. — Но имейте в виду, времени осталось в обрез..
— Как бы он не загубил себя, — заметил Карбоне, когда Мариетта рассказала в привратницкой о новом событии, почти так же удивившее этот мирок, как потрясла бы его, например, весть о женитьбе философа.
— Хоть бы взял меня с собой! — сказала служанка в ответ на свои, мысли. — Я поехала бы с ним, даже если бы пришлось из своего кармана за билет заплатить…
Одно это восклицание, столь трогательное в устах женщины, некогда прибывшей в Париж из департамента Ардеш, чтобы поступить в услужение, и доводившей экономию до того, что она кроила себе кофты из старых сюртуков хозяина, доказывало лучше всего, до какой степени обеспокоила всех этих простых людей перемена, происшедшая в характере философа, который в те дни действительно переживал очень тяжелый нравственный кризис. Не подозревая, что за ним наблюдают, он выдавал крайнюю остроту своих волнений в малейших жестах ив каждой черте лица. Таких тяжелых "часов не было в жизни г-на Сикста с тех пор, как умерла его мать.
К тому же в те далекие дни его переживания, связанные с непоправимой утратой, ограничивались об ластью личных чувств, тогда как записки Робера Грелу затронули всю полноту его умственной жизни, самое дорогое для него, то, в чем он видел смысл существования. Отдавая Мариетте распоряжение приготовить чемодан, философ испытывал тот же непреодолимый страх, как и тогда, когда ночью впервые перелистывал тетрадь с исповедью Грелу. Гнетущее состояние овладело им с первых же страниц повествования, где с таким смешением гордости и стыда, цинизма и простодушия, низости и благородства разбиралось и как бы выставлялось напоказ преступное заблуждение человеческого ума. Когда ученый дошел до фразы, в которой Робер Грелу заявлял, что тесно и нерасторжимо связан с ним, философ содрогнулся, и так же содрогался он при каждом новом, упоминании своего имени в этом необыкновенном анализе, при каждой цитате из его книг, которые давали право этому странному юноше называть себя его учеником.
Находясь во власти какого-то очарования, в котором ужас сочетался с любопытством, Сикст не отрываясь прочел эту исповедь человеческой души с первой до последней строки: идеи, дорогие его сердцу идеи, и наука, любимая им наука, были представлены здесь в соединении с самыми постыдными поступками. Мало того, что они были в соединении с такими поступками! Риомский подсудимый в свое оправдание ссылался на эти идеи, на эту науку как на причину самой чудовищной, безудержной развращенности. По мере того как Сикст читал рукопись, ему начинало казаться, что какая-то часть и его собственного существа оскверняется, разлагается, поражается гангреной, потому что на каждом шагу он находил нечто от самого себя, видел, что он каким-то колдовством пристегнут к чувствам, которые ненавидел больше всего на свете. Ибо у этого знаменитого философа в полной неприкосновенности сохранилась незапятнанная чистота совести и за смелыми мыслями отрицателя всегда таилось благородное человеческое сердце… Именно в своей безупречной совести и безукоризненной порядочности и чувствовал себя неожиданно уязвленным учитель этого вероломного гувернера. Мрачная история так подло подстроенного обольщения, ужасного предательства и прискорбного самоубийства ставила философа лицом к лицу со страшным фактом: с влиянием его идей, оказавшихся разлагающими и тлетворными, хотя он лично жил в полном самоотречении и его идеалом всегда была чистота. История Робера Грелу выставляла книги Сикста как сообщниц отвратительной гордыни и мерзкой чувственности, а. между тем он всегда писал только для того, чтобы служить науке, выполнял в качестве скромного труженика дело, которое считал благотворным, соблюдая строжайший аскетизм и не давая врагам повода использовать его личную жизнь в виде аргумента против его принципиальных утверждений. Впечатление от дневника было тем сильнее, что оно было совершенно неожиданным. Такое же чувство мог бы испытать медик, человек большого сердца, нашедший средство против какой-нибудь болезни и вдруг узнавший, что один из его ассистентов решил испробовать это средство на практике, в результате чего целая палата больных находится при смерти. Очень горько бывает умышленно совершить какой-нибудь неблаговидный поступок. Но в тысячу раз тяжелее потрясение, в тысячу раз мучительнее рана, — пусть даже потрясение длится не более часа, а рана немедленно закроется, — если человек, в течение тридцати лет посвящавший себя труду, который он считал полезным, тридцать лет трудившийся искренне, с чистой совестью, отклоняя как незаслуженные все обвинения своих противников в безнравственности и ни на минуту не сомневаясь в своей правоте, — если этот человек в свете молниеносного открытия вдруг получит неоспоримое, очевидное, как сама жизнь, доказательство, что труд его отравил человеческую душу что он заключает в себе тлетворное начало, которое продолжает распространяться по всему свету! Всем мыслителям, совершившим переворот в какой-либо области, знакомы приступы подобной тревоги. Большинство из них быстро преодолевает эту тревогу. И вот почему. Ведь редко случается, чтобы чело век, бросившись в битву идей, вскоре не утратил своих первоначальных искренних убеждений и постепенно не уподобился актеру, который продолжает играть некую заученную роль. Люди приобретают сторонников и очень скоро, когда их потреплет жизнь, приходят к концепции приблизительных понятий, а это позволяет допускать известное умаление идеалов. Они успокаивают себя тем, что хотя они в данном случае и поступили неправильно, зато правильно поступили в другом и что в конце концов все поступают так же. Но Адриен Сикст был слишком искренним человеком, чтобы так рассуждать; у него не было ни роли, которую нужно было бы играть, ни приверженцев, с которыми надлежало бы считаться. Он жил в полном одиночестве. Его философия и он сам составляли единое целое, и компромиссы, обычно сопутствующие славе, не затронули его прекрасную, гордую и суровую душу, душу подлинного ученого. К этому следует добавить, что благодаря своему чистосердечию он жил в обществе, как бы не замечая его вокруг себя. Страсти, которые он описывал, преступления, которые он изучал, представлялись ему отвлеченными объектами вроде тех, что отмечаются в историях болезни: «Н… 35 лет… такой-то профессии… холост…» И далее следует изложение данного заболевания, без единой подробности, которая дала бы читающему ощущение индивидуальности больного. Словом, ни разу в жизни этот суровый теоретик страстей, тончайший анатом воли, не посмотрел в лицо живому человеку Из крови и плоти. Поэтому исповедь Грелу не только растревожила его совесть. Философ должен был ухватиться и, конечно, ухватился за сведения сообщенные юношей, с той жадностью, с какой свет воспринимается зрачком, только что освобожденным от катаракты. Прочитав записки, Сикст в течение целой недели находился в состоянии какой-то одержимости и она еще больше усилила его моральные муки, прибавив к ним нечто вроде физического недомогания.
Мозг этого человека, привыкший оперировать только отвлеченными понятиями, оказался как бы во власти конкретного и навязчивого кошмара. Психолог представлял себе своего несчастного ученика таким, каким видел его тогда, в этой самой комнате, стоящим на этом самом ковре, опирающимся на этот стол, дышащим, двигающимся.
За словами, написанными на бумаге, он слышал немного глуховатый голос, произносящий ужасную фразу: «Я с такой страстью и такой полнотой жил вашими мыслями и вместе с вашими мыслями!» И слова исповеди уже не были мертвыми словами, написанными холодными чернилами на безразличной бумаге: они вдруг ожили, превратились в звуки, за которыми философ чувствовал трепет живого существа.
«Ах, — думал он, когда образ становился невыносимо ярким, — зачем его мать принесла мне эти записки? Было бы так естественно, если бы несчастная женщина, одержимая желанием доказать невиновность сына, использовала для этого доверенную ей рукопись.
Но, очевидно, Робер, прибегнув к лицемерию, которым, он гордится, словно какой-то психологической победой, обманул и ее…» Лицо юноши, как в галлюцинации неотвязно стоявшее перед глазами философа, выводило его из равновесия. Когда мать Робера бросила ему в лицо: «Вы развратили моего сына!» — безмятежность ученого была едва задета. Обвинения маркиза де Жюсса, о которых он узнал от следователя, как и фраза самого представителя судебного ведомства о его моральной ответственности, тоже вызвали у Сикста лишь презрение. С каким спокойствием и даже интересом к этому делу, чуть ли не с оживлением покинул он здание суда! А теперь он уже не находил в себе этой способности презирать. Его безмятежное состояние было нарушено, и он, отрицатель свободы воли, он, ученый, который с хладнокровием химика, изучающего свойства какого-нибудь газа, разлагал на составные части порок и добродетель, он, смелый глашатай учения о всемирной механике, до сих пор живший в полной гармонии ума и сердца, — он испытывал теперь невыносимые муки, противоречившие всем его доктринам.
Как и его ученик, он мучился угрызениями совести и чувствовал за собой вину! Только неделю спустя после первого потрясения конфликт сердца и разума стал у Адриена Сикста затихать: философ читал и перечитывал исповедь Грелу, так что мог бы теперь процитировать из нее любую фразу наизусть, и, наконец, он стал делать попытки что-то предпринять. Однажды он гулял в Ботаническом саду. Стоял конец февраля, но день выдался теплый, как весной. В своей любимой аллее, той самой, что тянется вдоль улицы Бюффона, он опустился на скамью у подножия акации, вывезенной из Виргинии и уже подпертой железными костылями и залитой, как стена, цементом, с ветвями, перекрученными, словно искривленные пальцы великана. Автор «Психологии веры» особенно любил это дерево, в котором уже иссякали жизненные соки. Он любил его потому, что дата, указанная на табличке, представлявшей нечто /вроде паспорта обреченного гиганта, гласила: «Посажено в 1632 году». 1632 год! Год рождения Спинозы! Было два часа дня. Солнце в тот день приятно пригревало, и хорошая погода несколько успокоила нервы ученого. Он рассеянно смотрел вокруг и некоторое время с удовольствием наблюдал за проделками двух ребятишек, игравших поблизости, подле матери. Они копали деревянными лопатками песок и строили воображаемый дом. Вдруг один из них вскочил и при этом стукнулся головой о скамью, которая находилась позади. Должно быть, малышу было очень больно, потому что его личико исказилось и у него перехватило дыхание, так что он расплакался не сразу. Потом, в припадке негодования, он вдруг, повернулся к скамье — и ударил по ней кулаком.
— Какой же ты глупенький, — сказала мать, отряхнув с ребенка песок и вытирая ему глаза. — Ну, утри нос хорошенько! Неужели ты думаешь, что тебе станет легче, если ты побьешь деревяшку! — И она помогла ему высморкаться.
Эта сцена несколько рассеяла ученого. Гуляя, он долго вспоминал ребятишек. «Я похож на этого мальчугана, — думал он. — По детской наивности он одушевляет неодушевленный предмет и возлагает на него ответственность за свои страдания. А ведь и я поступаю точно так же вот уже в течение целой недели». Впервые с тех пор как Сикст прочел записки Грелу, он осмелился сформулировать свою мысль с той отчетливостью, которая была отличительным свойством его ума и всех его трудов, «Я должен тоже считать себя в какой-то мере ответственным за эту ужасную историю… Ответственным? Но ведь это — бессмысленное слово…» Направляясь к выходу из сада, к острову Сен-Луи и к Собору Парижской богоматери, философ перебирал в уме доводы против понятия ответственности, изложенные им в «Анатомии воли», и особенно свою критику идеи причинной связи; этот отрывок всегда был ему особенно дорог. «Это совершенно неоспоримо», — сделал он вывод. И затем, убедив себя еще раз в правильности своих положений, он стал думать о Грелу, о Грелу сегодняшнего дня, сидящем в камере № 5 Риомского дома предварительного заключения, и о прежнем Грелу, молодом студенте из Клермона, склонившемся над страницами «Теории страстей» и «Психологии веры». Снова его охватило тягостное чувство при мысли, что этот юно ша пользовался его книгами, размышлял над ними, любил их. «Как мы все двойственны в душе, — подумал он. — И почему мы бессильны рассеять иллюзии, о которых заведомо знаем, что они ложны!» Вдруг ему вспомнилась фраза из записок Грелу: «У меня возникают угрызения совести, а ведь теории, которых я придерживаюсь, истина, которой обладаю, убеждения, составляющие самую сущность моего духа, предписывают мне рассматривать угрызения совести как самую жалкую из всех человеческих иллюзий». Тождественность его теперешнего морального состояния с моральным состоянием его ученика показалась ученому до того невыносимой, что он попытался отделаться от этих мыслей путем новых умозаключений. «Ну, хорошо, — продолжал он, — последуем при меру геометров. Предположим, что то, что мы считаем ложным, на самом деле истинно… Будем рассуждать от абсурда. Да, человек является причиной и причиной свободной. Следовательно, он ответствен за свои поступки… Предположим, что так оно и есть. Но когда.
где и в чем именно я поступил неправильно? И с какой Стати у меня возникают угрызения совести по поводу этого негодяя? В чем моя вина?» Философ вернулся домой с твердым намерением мысленно пересмотреть всю свою жизнь. И вот он увидел себя ребенком, готовящим уроки с тем же прилежанием, с каким трудился его отец часовщик. А чего же он хотел, чего добивался значительно позже, когда стал размышлять? Истины. Разве не истине он служил, когда брал в руки перо? Не ради ли истины он писал свои книги? Ради нее он пожертвовал всем: богатством, положением, семьей, здоровьем, любовью, дружбой. Ведь это проповедует даже христианство — учение, проникнутое идеями, совершенно противоположными его идеям.
«Мир на земле людям доброй воли». То есть тем, кто ищет истину. И вот в его прошлом, которое он ворошил сейчас, вооружившись всей силой своего разума, «оставленного на служение неподкупной совести, не оказалось ни одного дня, ни одного часа, когда он изменял бы идеальной программе своей юности, некогда сформулированной в благородном и скромном девизе: Высказывать все, что думаешь, и только то, что думаешь». «Это долг всех, кто верит в долг, — сказал Он сам себе. — И я этот долг выполнил». В ту ночь, после трезвых размышлений о своей судьбе, судьбе неподкупного труженика, этот выдающийся и Честный ученый наконец спокойно уснул, и воспоминание о Робере Грелу уже не тревожило его сон. Проснувшись на другой день после своеобразной исповеди, которую он принял сам у себя и ради самого себя, Адриен Сикст совсем успокоился… Он слишком привык к самоанализу, чтобы не искать причины этой перемены своих настроений, и в то же время был слишком добросовестным, чтобы такой причины не видеть. Временное успокоение совести объяснялось тем проспим фактом, что в продолжение нескольких часов он допускал истинность таких идей о человеческой морали, которые разум его осуждал. «Следовательно, — сделал философ вывод, — существуют идеи благотворные и зловредные. Ну и что же? Разве зловредность той или иной идеи доказывает ее ложность? Предположим, что удалось бы скрыть от маркиза де Жюсса смерть Шарлотты и что он успокоился бы, считая, что она жива. Разве тем самым эта идея приобрела бы характер истинности И1 наоборот…» Адриен Сикст всегда считал софистикой и трусостью аргументацию некоторых философов-спиритуалистов, направленную против гибельных последствий новых теорий. Обобщая проблему, он подумал: «Каков душевный склад человека, такова и его доктрина. И доказывается это, в частности, тем, что Робер Грелу даже религиозные обряды и молитвы превратил в орудие своей развращенности…» Он снова взял в руки записки, чтобы просмотреть страницы, посвященные религиозным переживаниям. Но чтение до такой степени захватило его, что он вновь перечел всю рукопись, особенно задерживаясь на тех страницах, где упоминалось его имя, его теория или труды. Адриен Сикст напрягал всю силу своего ума, чтобы доказать, что каждое Из его положений, приведенных Грелу, могло бы оправдать и поступки, диаметрально противоположные тем, какие оправдывал ими больной юноша. Но внимательное перечитывание роковой рукописи вновь вызвало в нем глубокое душевное волнение. На этот раз не помогали никакие доводы рассудка. В силу своей исключительной искренности философ не мог обмануть себя: характер Робера Грелу, опасный уже по самой своей природе, нашел в его доктринах почву, на которой могли развиться самые отрицательные наклонности. К этой очередной истине приходилось присоединить и другую, не менее прискорбную: у Адриена Сикста не хватало силы ответить на отчаянный призыв, с каким ученик обращался к нему из глубины своей темницы.
Из всей этой исповеди заключительные строки о помощи подействовали на ученого сильнее всего. И хотя слово «долг» в них не было произнесено, он чувствовал себя как бы должником по отношению к Грелу.
Молодой человек был прав, утверждая, что учитель всегда связан таинственными узами с той душой, которой он руководит, и эти узы не позволяют отнестись к ее страданиям с безразличием Понтия Пилата даже в том случае, если учитель и не стремился руководить, даже если эта душа неправильно истолковала его учение.
Такие мысли вызвали у философа еще более жестокие переживания, чем в первые дни. Раньше, когда Адриена Сикста охватывала безумная тревога при виде разрушений, которые произвели в душе Грелу его сочинения, он был скорее жертвой панического страха. Философ мог успокаивать себя — да и успокаивал — тем, что на него действует только неожиданность ужасного открытия. Теперь, когда он сохранял полное хладнокровие, он с горечью убеждался, что психология, как бы она ни была научно обоснована, бессильна управлять механизмом человеческой души. Сколько раз» в течение последних дней февраля и начала марта он принимался за письмо к Роберу Грелу, но не мог его окончить. В самом деле, что ему было сказать этому несчастному юноше? Что нужно мириться с неизбежностью как во внутреннем мире, так и во внешнем? Что нужно принимать свою душу такой, какая она есть, как принимаем мы по необходимости и свою плоть? Да, именно в этом заключался весь смысл его философии. Но ведь эта неизбежность была в данном случае самой отвратительной развращенностью в прошлом и в настоящем. Поэтому советовать юноше примириться со своей сущностью, с порочностью своей натуры означало бы стать сообщником его пороков. Порицать его? Но во имя каких принципов он мог сделать это после того как провозгласил, что добродетель и порок только количественные понятия, а добро и зло лишь социальные этикетки, словом, что всякая черточка в нашем характере, как и в общем строе вселенной, — необходима? И тем более какой совет дать ему на будущее? Какими словами помешать тому, что бы мозг этого двадцатидвухлетнего юноши опустошали гордыня и чувственность, нездоровое любопытство и развращающие парадоксы? Разве можно дока зать гадюке, если бы она была способна мыслить, что ее железы не должны вырабатывать яд? «А почему я змея?» — могла бы ответить она. Пытаясь уточнить свою мысль другими образами, взятыми из личных воспоминаний, Адриен Сикст сравнил душевный механизм, разобранный перед ним Робером Грелу, с механизмом часов на отцовском верстаке, в которых он в детстве наблюдал движение колесиков. Пружинка напрягается, производит движение, за ним следует другое, потом еще… Стрелки начинают вращаться.
Если отнять одно колесико или хотя бы только дотронуться до него, останавливается весь механизм. Так и в душе. Изменить в ней что-нибудь, значит остановить жизнь. Ах, если бы механизм сам мог изменять колесную передачу и ее движение! Если бы можно было отдать в починку и эти часы! Ведь существуют же создания, которые от зла возвращаются на стезю добра, падают и снова поднимаются, морально опускаются и опять становятся нравственными. Да, но для этого требуется иллюзия раскаянья, которая подразумевает иллюзию свободы и иллюзию судии, небесного отца. Как может он, Адриен Сикст, написать этому юноше: «Покайтесь!» Ведь под пером последовательного отрицателя, каким он является, это слово означало бы: «Перестаньте верить в то, что я доказал вам как непреложную истину!» И тем не менее ужасно присутствовать при гибели человеческой души и не быть в состоянии помочь ей.
Дойдя в своих рассуждениях до этой мысли, ученый почувствовал, что здесь он касается неразрешимой проблемы, — того непостижимого начала душевной жизни, которое приводит в отчаянье психолога так же, как физиолога приводят в отчаяние некоторые необъяснимые тайны человеческого организма. Автор книги о вере, мыслитель, писавший, что «никаких тайн не существует, а существует лишь наше неведение», не считал себя вправе заглядывать в потусторонний мир, который за всякой реальностью открывает бездну и приводит науку к необходимости склониться перед загадкой и признаться, что «не знаю и не узнаю никогда», допуская тем самым вмешательство религии. Философ чувствовал свою полную неспособность предпринять что-либо для этой гибнущей души и понимал, что она нуждается в помощи, по правде говоря, сверхъестественной. Но после того, что он проповедовал, произнести подобные слова казалось ему таким же безумием, как говорить о квадратуре круга или приписывать треугольнику три прямых угла.
Однако неожиданное и само по себе незначительное событие привело к тому, что эта душевная борьба стала еще более трагичной и побудила философа предпринять решительные действия. Чья-то неизвестная рука направила ему газету, в которой в связи с делом Робера Грелу была напечатана чрезвычайно резкая статья против него и его влияния на молодежь. Журналист, вне всякого сомнения вдохновленный каким-нибудь родственником или другом семьи Жюсса, бичевал в этой статье современную философию и ее идеи, олицетворенные в (Адриене Сиксте и некоторых других ученых. Затем он требовал поучительных выводов. В последнем абзаце, написанном по-современному, с тем реализмом, который является типичным для наших дней, подобно тому, как поэзия метафор была типична для прошлого, журналист рисовал картину того, как убийца мадемуазель де Жюсса всходит па эшафот, что, по его мнению, должно было спасти от безверия целое поколение юных декадентов. При всяких других обстоятельствах великий психолог просто улыбнулся бы, читая всю эту галиматью. Он подумал бы, что газету ему, вероятно, прислал его враг Дюмулен, и продолжал бы прерванную работу, как Архимед, невозмутимо чертивший на песке геометрические фигуры в то время как враг громил его родной город. Но, читая эту статейку, нацарапанную бульварным моралистом на краешке стола у какой-нибудь девки, философ обратил внимание на один факт, который раньше ускользал от него, настолько абстрактная манера мыслить уводила этого философа от общественной жизни. Он заметил, что душевная драма сопровождается драмой вполне реальной. Через несколько недель, а может быть, и дней, человек, доказательство невиновности которого он держит в своих руках, предстанет перед судом. С точки зрения человеческой справедливости соблазнитель мадемуазель де Жюсса невиновен» и, если эти записки и не представляют собою окончательного доказательства его невиновности, тем не менее они отличаются такой правдивостью, что их вполне достаточно, чтобы спасти человеку голову. Неужели он допустит, чтобы эта голова скатилась на плаху? Ведь ему доверены несчастье, позор и вероломство молодого человека, ведь он знает, что этот интеллектуально развращенный юноша все же не убийца! Конечно, он связан молчаливым обязательством, которое взял на себя, принявшись читать записки. Но имеет ли силу такое обязательство перед лицом смерти? У этого затворника, терпевшего в течение целого месяца жестокие нравственные муки, была такая физическая потребность избавиться от бесцельных и бесплодных раздумий путем какого-нибудь волевого акта, что он почувствовал подлинное облегчение, когда в конце концов остановился на определенном решении. Из других газет, которые философ теперь с тревогой просматривал, он узнал, что дело Грелу назначено разбирательством в риомском суде присяжных на пятницу, одиннадцатое марта. Десятого он отдал Мариетте столь ее удивившее распоряжение приготовить чемодан, и в тот же вечер сел в поезд, опустив предварительно в почтовый ящик письмо, адресованное графу Андре де Жюсса, капитану драгунского полка, стоявшего в Люневиле. Письмо, без подписи, заключало в себе всего несколько строк: «Граф, у вас находится письмо сестры, которое служит доказательством невиновности Робера Грелу. Неужели вы допустите, чтобы был осужден невинный человек?» Психолог-отрицатель не мог написать таких слов как «право» или «долг». Но он принял твердое решение. Он решил, что дождется окончания процесса, и если Андре де Жюсса так и не скажет правды, а Робера Грелу приговорят к смертной казни, он немедленно представит записки председателю суда.
— Он взял билет до Риома, — рассказывала мадемуазель Трапенар дядюшке Карбоне, вернувшись с вокзала, куда проводила хозяина почти вопреки его воле. — И что это ему вздумалось ехать туда, зимой, одному, когда у нас так уютно дома…
— Будьте уверены, мадемуазель Мариетта, — не без лукавства ответил ей привратник, — рано или поздно мы узнаем, в чем дело… Но никто меня не разубедит, что в этой истории замешан его незаконный сын… — И, собираясь хлебнуть мятной настойки, которую жена приготовляла ему каждый вечер, он пояснил: — Желудок у меня никуда не годится, вот и приходится принимать всякие подкрепления… — Он сделал глоток и прибавил: — Пей, что дают!..
В это время петух долбил клювом кусочек сахару, который ему бросил хозяин.
— Смотри, Фердинанд, — не унимался привратник, — не вздумай шататься по своим петушиным делам, как господин Сикст… А то ведь хлопот не оберешься с цыплятами, старый греховодник…
VI. ГРАФ АНДРЕ
Когда письмо Адриена Сикста пришло в Люневиль, граф Андре, к которому философ обращался с отчаянным призывом и, от которого теперь зависела участь Робера Грелу, находился уже в Риоме, Случаю было угодно, чтобы эти два человека не встретились, так как знаменитый ученый, выйдя из вагона, сел в подвернувшийся — ему омнибус «Коммерческой гостиницы», граф же остановился в конкурирующем с ней «Всемирном отеле». Брат несчастной Шарлотты ходил из угла в угол по комнате с выгоревшими обоями, с полинялыми шторами, заштопанным ковром и старой мебелью. Было утро 11 марта 1887 года, утро того дня, когда должен был начаться процесс Робера Грелу. Медные, позолоченные часы со скульптурной группой на мифологический сюжет, украшавшие номер, пробили двенадцать. Дымивший камин едва обогревал комнату. Над городом нависло свинцовое небо, предвещавшее снегопад. Такая погода не редкость для Оверни, когда с гор дует ледяной ветер.
Денщик капитана, драгун с веселой физиономией, по-военному навел порядок в номере, заказанном еще накануне. Пустив в ход часы и разведя огонь в камине, он поставил на стол, занимавший середину комнаты, два прибора. Время от времени он поглядывал на своего офицера. Граф Андре нервно покручивал усы, кусал губы, хмурился, и на его мужественном лице была написана мучительная озабоченность. Но Жозеф Пура — так звали денщика — в простоте душевной считал, что граф и не может вести себя иначе, когда судят убийцу его сестры. Для него, как, и для всех имевших то или иное отношение к семье Жюсса-Рандонов, виновность Робера Грелу не оставляла никаких сомнений. Однако преданному денщику, знавшему решительный характер офицера, было не совсем понятно, почему он не отправился в суд вместе со старым маркизом. «Мне это слишком тяжело», — сказал граф, и Пура, расставлявший тарелки и вилки, предварительно их протерев, так как благоразумно не доверял чистоплотности гостиничного персонала, подумал при виде озабоченного лица капитана: «Все таки у него доброе сердце, хотя иногда он и резковат.
Как он ее любил!» Казалось, что Андре де Жюсса даже не замечает, что он не один в комнате. Его темные, близко поставленные глаза, некогда поразившие, почти смутившие Робера Грелу своим сходством с глазами хищной птицы, уже не бросали тех горделивых взглядов, которые как бы вонзались в человека и завладевали им. Нет, теперь в этих глазах можно было заметить какую-то неуверенность, почти стыд или даже боязнь выдать свои душевные страдания. Словом, это были глаза человека, у которого засела в голове какая-то мысль и которого жало невыносимого горя разит беспрестанно в самые сокровенные уголки души. Это горе не затихало с той минуты, когда граф получил от сестры ужасное письмо, где она сообщала о намерении покончить с собой. Почти одновременно была получена и телеграмма, извещавшая о смерти Шарлотты, и граф немедленно отправился- поездом в Овернь, сам еще не зная, как открыть, отцу страшную истину, но с твердым намерением отомстить Грелу, как этого требовала справедливость. — Маркиз встретил сына словами: — Ты получил мою вторую телеграмму? Убийца в наших руках… Граф ничего не ответил, хорошо зная, что тут кроется недоразумение. Однако маркиз привел подробности, рассказал, что подозрение пало на гувернера и что молодого человека должны арестовать.
И тут у Андре, обезумевшего от горя, возникла мысль: сама судьба предоставляет ему возможность отомстить, а о мести он только и думал с тех пор, как прочел с такой невыразимой болью в сердце исповедь- сестры, узнал подробности ее несчастной любви, узнал о ее заблуждениях, попытках бороться, о мучительном пробуждении и гибельном решении покончить с собою. Достаточно не показывать письмо," которое хранится в его бумажнике, и подлый соблазнитель понесет заслуженное наказание, будет посажен в тюрьму и, конечно, приговорен к смертной казни. Доброе имя Шарлотты будет спасено, так как Робер Грелу не может доказать характер своих отношений с девушкой. Тогда по крайней мере родители, верящие в чистоту своей дочери и благоговеющие перед ее памятью, не узнают о падении Шарлотты, которое ввергло бы их в еще большее отчаянье, чем самоубийство… И граф Андре решил молчать.
Правда, молчание стоило ему очень дорого. Этот мужественный человек, обладавший от природы волевыми качествами подлинного воина, ненавидел всякие сделки с совестью, вероломство, окольные пути, трусость. Он понимал, что его долг сообщить кому следует о том, что ему известно, чтобы не допустить осуждения невинного. Как он ни уверял себя в том, что Грелу моральный убийца Шарлотты и что это заслуживает кары, как и убийство физическое, — все же софизм, подсказанный ненавистью, не мог заглушить другого голоса, говорившего ему, что недостойно становиться на сторону несправедливости, а осуждение Грелу за отравление нельзя считать справедливым. Одно непредвиденное обстоятельство, казавшееся графу почти чудовищным, окончательно ошеломило его: обвиняемый молчал. Презрение графа к Грелу было бы безграничным, если бы тот стал рассказывать о своем романе с Шарлоттой и спасать собственную жизнь, бессовестно черня доброе имя своей жертвы. Однако по какому-то странному своеобразию характера, которое простодушному человеку должно было казаться совершенно непонятным, преступник неожиданно проявил аристократическое благородство, не произнося ни одного слова, которое могло бы бросить тень на память той, кого он завлек в свою подлую западню. Негодяй держался на суде очень — мужественно, по-своему героически. Во вся ком случае, он вызывал теперь к себе не одно только отвращение. Сначала. Андре объяснял такое поведение особой тактикой, рассчитанной на присяжных, приемом, позволяющим добиться оправдания за недостатком улик. Но, с другой стороны, граф знал из письма сестры о существовании дневника, где история обольщения записана час за часом. Дневник этот мог бы весьма уменьшить вероятность осуждения, и тем не менее Грелу не предъявлял его. Офицер не был в состоянии объяснить себе, почему благородное по ведение врага доводит его порой до бешенства.
В припадках гнева графу иногда хотелось броситься к следователю и рассказать ему все, чтобы обнаружилась истина и чтобы сестра ничем, решительно ни чем не была обязана погубившему ее подлецу. Когда граф представлял себе, что Шарлотта, кроткое существо, любимое им такой мужественной и благородной любовью, любовью старшего брата к хрупкому и слабому ребенку, принадлежала этому хаму, этому учителишке без роду и племени, его охватывало чувство отвращения; он сознавал, что его знатному роду нанесено тяжкое оскорбление, и почти терял сознание от бешенства. Так было с ним, когда ему во время войны пришлось пережить капитуляцию Метца и сдаться в плен. Ему становилось немного легче при мысли, что этот человек сидит на позорной скамье подсудимых, предназначенной для мошенников, воров, убийц, а скоро очутится на эшафоте или на каторге… И он всячески заглушал в себе голос, твердивший: «Ты должен сказать правду!» Боже мой! Какой мукой были для него эти три месяца, когда его беспрестанно раздирали самые противоречивые чувства. Был ли он на маневрах (он снова вернулся в полк), проносился ли карьером» на коне по дорогам Лотарингии, занимался ли при свете лампы в своей комнате, — всюду его преследовал вопрос: «Что же делать?» Проходили недели, а он все еще не мог ответить на него. Но вот настал момент, когда во что бы то ни стало нужно было на что-то решиться, так как через два дня Грелу должен был предстать перед судом, а процессу предполагалось уделить всего, четыре заседания. Граф считал, что гувернера безусловно приговорят к смерти.
Конечно, еще можно будет сделать заявление и после вынесения приговора. Но это означает, что снова разгорится внутренняя борьба. Граф был человеком действия, и всякая неопределенность была для него невыносимой, а между тем именно в таком состоянии жил он целых три месяца, не будучи в силах решиться на что-нибудь. И когда он заглядывал поглубже в свою душу, он видел, что его молчание — еще не окончательное решение вопроса. Он не давал себе слова молчать. Он только откладывал свое заявление. Это и было причиной, помешавшей ему сопровождать отца в суд на первое заседание. Но об этом заседании он надеялся получить подробнейший отчет с минуты на минуту. Часы уже пробили двенадцать. За двенадцатью слабыми ударами сразу же раздался бой часов на колокольне соседней церкви. Старик Жюсса вот-вот должен был прийти.
— Их сиятельство прибыли, господин капитан, — доложил денщик, выглянув в окно, за которым послышался шум подъезжавшего экипажа, — Ну что, отец? — с нетерпением спросил Андре, едва маркиз вошел в комнату.
— Присяжные на нашей стороне, — ответил старик.
Маркиз де Жюсса уже не был тем расслабленным маньяком, над которым так едко насмехался в своих записках Грелу. Глаза его теперь горели, голос и даже движения помолодели. Страстная жажда мести, всецело овладевшая стариком, не только не подорвала его силы, а, наоборот, поддерживала их. Он даже забыл «э своей ипохондрии, и его речь стала оживленной, властной и отчетливой.
— Утром происходила жеребьевка… Выбрали двенадцать присяжных… Я записал фамилии. — Маркиз стал рыться в своих записках. — Из двенадцати присяжных — три крестьянина, два офицера в отставке, врач из Эгперса, два лавочника, два домовладельца, фабрикант и учитель. Все это почтенные люди, семейные, они потребуют, чтобы убийца понес строгое наказание… Прокурор уверен, что Грелу будет приговорен к смертной казни… Ах, негодяй! За три месяца у меня была единственная приятная минута, когда я увидел, как его вводят в зал под конвоем двух жандармов: я понял тогда, что ему уже не вывернуться… От этих не убежишь! Но, представь себе, какая дерзость! Он окинул взглядом зал… Я сидел в первом ряду. Он меня — увидел и даже не отвел взгляда, а, наоборот, пристально, вызывающе посмотрел в мою сторону… Нам нужна его голова! И мы ее получим! В голосе маркиза звучала звериная злоба, и он не заметил, что его слова вызвали на лице сына выражение глубокой горечи. Представив своего врага в в руках жандармов, побежденным государственной властью, как бы раздавленным неумолимыми жерновами безликой и неотвратимой машины правосудия, офицер содрогнулся от стыда. Да, это был стыд человека, который подослал наемных убийц. И в самом деле, он пользуется жандармами и судейскими, как наемными убийцами, как исполнителями того, что он охотно осуществил бы собственными руками, чтобы самому же нести ответственность за это… Конечно, подло не сказать того, что он знает! А взгляд, брошенный подсудимым на отца, — что он означает? Известно ли Роберу, что Шарлотта перед самоубийством написала брату и обо всем рассказала ему? А если он знает об этом, то что он думает сейчас? При одной мысли, что молодой человек догадывается о подлинном положении вещей и презирает их обоих за молчание, у графа Андре закипела кровь.
— Нет, — сказал он сам себе, когда/ маркиз, наскоро позавтракав, отправился на заседание, возобновлявшееся после обеденного перерыва. — Нет! Я не могу молчать. Я им все скажу, Или напишу.
Он присел к столу и машинально стал выводить на листе бумаги официальное обращение: «Господин председатель суда…» Наступил уже вечер, а этот убитый горем человек все еще сидел за столом, сжимая голову руками и так ничего и не написав, кроме первой строки… — Он дождался возвращения отца и стал с волнением слушать подробный рассказ о втором заседании: — О, дорогой мой Андре! Как ты правильно поступил, что не пошел на заседание! Какая низость! Нет, ты подумай только, какая низость! Вот послушай… Допрашивали Грелу… Он применяет все ту же тактику и не отвечает на вопросы. Это бы еще ничего.
Но давали показания эксперты. Сначала наш милый доктор… У него дрожал голос, когда он стал передавать свои впечатления от того, что он увидел, когда вошел в комнату Шарлотты… Потом выступал профессор Арман. Ты не вынес бы этого ужаса — он говорил о результатах вскрытия бедняжки! И все выложил тут же, хотя в зале было по меньшей мере пятьсот человек… Затем выступил химик из Парижа…
Теперь уж не остается никаких сомнений! Пузырек, который был в руках этого чудовища, стоял на столе. Я сам видел его… И потом… Как только у людей поворачивается язык говорить такие вещи! Его адвокат, и — имей в виду — адвокат по назначению, которого не заподозришь в том, что он друг подсудимого… Так этот адвокат… Даже не знаю, как сказать… Он все добивался ответа: умерла ли Шарлотта девственницей, и было ли это обследовано! В зале даже послышался шепот негодования, чувствовалось всеобщее возмущение. Моя девочка! Такая чистая и благородная, почти святая! Мне хотелось дать этому господину пощечину! Даже подсудимый был взволнован, а его, по-видимому, абсолютно ничем не прошибешь. Я смотрел на него. Тут он взялся за голову и заплакал. Ну, скажи, пожалуйста, ведь закон должен запрещать подобные вещи — публично оскорблять жертву преступления! Что подразумевал адвокат? Что у нее был любовник? Любовник! У такой, как она, и любовник! Старик был в таком негодовании, что вдруг разрыдался. При виде этого безысходного горя сын тоже почувствовал, что у него разрывается сердце и слезы душат его. Не произнося ни слова; отец и сын обнялись.
— Надо сказать, — продолжал маркиз, когда снова был в состоянии говорить, — что это самая ужасная сторона судопроизводства, — вот эти публичные обсуждения ее интимной жизни. А она была так целомудренна даже в незначительных проявлениях чувства! Я уже говорил тебе… Уверен, что она всю зиму страдала от разлуки с Максимом… Она безусловно любила его, только не хотела показывать…
Как раз это и возбудило у Грелу ревность. Когда он явился к нам в дом и увидел ее, прелестную, естественную, чистосердечную, он подумал, что может ее соблазнить и жениться на ней. Скажи, пожалуйста, ну как она могла догадываться о чем-нибудь, если даже я при моем знании людей ничего не заметил, ни о чем не подозревал! Маркиз ухватился за эту версию и не переставал говорить в продолжение всего обеда, а потом и целый вечер. Этим он утешал себя. В некоторых случаях жизни вспоминать вслух прошлое — единственная отрада. Но благоговение несчастного отца перед памятью покойной дочери представлялось Андре чем-то трагическим, ибо в эти самые минуты он готовился…
К чему? Неужели он действительно решится нанести старику этот ужасный удар? Андре заперся в своем номере. Вокруг стояла та особенная тишина, какая бывает только в провинциальных городках. Предаваясь размышлениям, капитан еще раз вынул письмо сестры и перечитал его, хотя знал в нем наизусть каждую строчку. От этих строк, начертанных застывшей навеки рукой, веяло таким отчаяньем, такими страданиями и печалью! Иллюзии девушки были столь безрассудны, борьба так искренна, а пробуждение до того горестно, что граф почувствовал, как по его щекам снова потекли слезы. Сегодня он плакал уже второй раз, а ведь с того дня, как умерла Шарлотта, его глаза оставались сухими и были как бы обожжены ненавистью. Он подумал: «Нет такого наказания, которого не заслуживал бы Грелу». Несколько минут он сидел неподвижно.
Потом подошел к камину, где уже догорал огонь, и положил исписанные листки на обуглившееся полено. Он чиркнул спичкой и поднес ее к бумаге. Листки вспыхнули со всех сторон, пламя охватило мелко написанные строчки и превратило это единственное доказательство несчастной любви и самоубийства в горсточку темного пепла. Андре перемешал щипцами остатки бумаги е золой. Затем, ложась спать, он сказал вслух?
— С этим покончено! И он уснул тем тяжелым сном, какой бывает у сильных людей после большого расхода энергии. Так случилось с ним, например, после первого сражения.
Он открыл глаза только в девять часов утра, хотя и имел привычку вставать очень рано.
— Маркиз запретил будить вас, — сказал Пура, когда Андре позвал его и велел открыть ставни.
В то утро небо было радостным и голубым, а не свинцовым, как накануне. Солнце сияло.
— Маркиз ушел уже час тому назад, — докладывал денщик. — Вам известно; что сегодня преступника проведут в суд подземным ходом? Вот до чего народ озлоблен против него!
— Каким подземным ходом? — не понял Андре. — Подземным ходом из тюрьмы в суд. Говорят, им пользуются только для самых больших преступников в тех случаях, когда опасаются, что толпа разорвет злодея на куски. Клянусь, господин капитан, если бы негодяй попался мне под руку, я бы не вытерпел и влепил бы ему пулю в лоб! Бешеных собак не судят, а пристреливают… Ах, забыл в гостиной сегодняшние письма! Через минуту денщик вернулся с тремя конвертами в руках. Бросив взгляд на два первых, Андре сразу же узнал, от кого они. На третьем письме почерк оказался незнакомым. Оно было отправлено из Парижа в Люневиль, а затем переадресовано в Риом. Граф вскрыл конверт и прочел те несколько строк, которые Адриен Сикст набросал перед тем, как отправиться на вокзал. Руки офицера, не знавшего, что такое страх, задрожали. Он побледнел, как лист бумаги, который держал в руке. Пура даже забеспокоился: — Вам нездоровится? — Выйди, — резко приказал граф Андре, — я сам оденусь.
Ему необходимо было остаться наедине с самим собою, чтобы оправиться от неожиданного удара.
Значит, есть еще кто-то, кроме Грелу, кому известна тайна смерти Шарлотты! Графу приходилось видеть почерк Грелу, — письмо написано другой рукой! Это был ужас, который даже очень смелые люди испытывают перед лицом чего-нибудь настолько неожиданного, что оно кажется сверхъестественным. Если бы перед графом вдруг предстала живая Шарлотта, то и тогда он не был бы потрясен больше, чем в минуты, когда читал это письмо. Кто-то знает о самоубийстве, о написанном сестрой письме, а возможно, и обо всем остальном… И что может думать о нем этот таинственный незнакомец, ратующий за истину? Вопросительный знак в конце анонимного письма говорил об этом достаточно красноречиво. Вдруг граф вспомнил, на что он решился вчера вечером. Он мысленно увидел листки, сожженные в камине, и его лицо залила краска стыда… Решение, принятое накануне, решение, после которого он спокойно проспал всю ночь напролет, показалось ему совершенно неприемлемым. Сознание, что есть на свете человек, который имеет основания считать графа де Жюсса подлецом, было для него, так высоко ценившего дворянскую честь, невыносимо. Вчерашние сомнения, с которыми, как он думал, он покончил раз навсегда, снова воскресли в его душе.
Они стали еще мучительнее, когда маркиз вернулся из суда и начал рассказывать о том, что там происходила.
— Сегодня допрашивали свидетелей. Я тоже давал показания. Мне было особенно тяжело сидеть перёд началом заседания в комнате для свидетелей рядом с матерью Грелу. Еще хорошо, что она остановилась не в нашей гостинице, а в «Коммерческой».
Старуха закатила мне сцену и даже позволила себе настаивать, чтобы я посетил ее для переговоров.
Ужасная была сцена! Это зловещее лицо невозможно забыть: черные глаза, в которых сквозь слезы вспыхивает мрачный огонь… Она вцепилась в меня и заклинала заявить во всеуслышанье, что ее сын невиновен. Она говорила, что я сам вполне уверен в этом, что я не имею права выступать против него.
Ужасная сцена!.. Пришлось вмешаться жандарму. Несчастная! Сердиться на нее нельзя, ведь это ее сын. Но странно как-то, что даже у злодея вроде Грелу может быть человек, который его любит, как я любил Шарлотту или люблю тебя… Впрочем, все это пустяки… Теперь. ровно час. После обеда выступит прокурор, а затем защита… Приговор вынесут часов в пять-шесть… О, как я буду ликовать, когда станут читать приговор! Что ж, это сама справедливость. Ты убил? Значит, ты должен умереть! Часов в пять-шесть!.. Когда граф Андре остался наконец один, он снова зашагал из угла в угол, как накануне. Денщик вместе с камердинером маркиза убирал посуду. Позже они рассказывали, что никогда не видели барина в таком возбужденном состоянии, как в течение тех двадцати минут, пока они убирали со стола. Они очень удивились, когда вдруг граф потребовал, чтобы ему приготовили мундир. Через какие-нибудь четверть часа капитан был готов и вышел из гостиницы, хотя в течение трех дней, с тех пор как он был в Риоме, ни разу не показывался на улице.
Одно обстоятельство особенно взволновало бедного Жозефа. Он заметил, что капитан взял с собой револьвер, уже два дня лежавший на ночном столике. Солдат вспомнил собственные рассуждения насчет револьвера и поделился своими страхами с камердинером.
— Если Грелу оправдают, — заметил он, — наш капитан, чего доброго, пустит ему пулю в лоб.
— Может быть, пойти за ним? — предложил лакей.
Но, пока денщик и камердинер обсуждали это событие, граф уже был на главной улице, ведущей к зданию суда. Он хорошо знал ее, так как еще мальчиком неоднократно бывал в Риоме. Этот старинный парламентский город, застроенный особняками из вольвикского камня с высокими окнами, казался еще более пустынным, тихим и мрачным, чем обычно. Но около судебной палаты граф увидел, что всю улицу Сен-Луи, против входа в — зал заседаний, запрудила толпа. Дело Грелу привлекло всех, у кого был хоть час свободного времени. Граф Андре с трудом пробился сквозь плотные ряды крестьян, прибывших из соседних деревень, и мелких лавочников, оживленно обсуждавших процесс. Он остановился перед крыльцом, которое вело в вестибюль. На крыльце распоряжались два солдата, сдерживавшие напор толпы.
Некоторое время граф, видимо, колебался, стоит ли подниматься по ступенькам, потом прошел в дальний конец улицы, и очутился на площадке, обсаженной деревьями, ветви которых уже оголились. С этой площадки, расположенной между мрачными стенами центральной тюрьмы и темным зданием судебной палаты, открывался вид на обширную лиманскую равнину. Под деревьями шумел фонтан, и его нежное журчание можно было уловить, несмотря на гул толпы, доносившийся с соседней уяГицы. Андре опустился на скамью около бассейна. Впоследствии он никак не мог объяснить, почему он просидел здесь полчаса и почему потом поднялся и направился к зданию суда. У входа он написал на визитной карточке несколько слов и вручил ее одному из солдат, чтобы тот передал ее через судебного пристава председателю суда. У Андре было такое чувство, точно он действует помимо своей воли и как бы во сне. Тем не менее решение было им принято окончательно, хотя его и охватывала невыразимая тоска при мысли о том, как он предстанет перед отцом, находящимся среди этих людей со склоненными головами, неподвижными затылками и сутулыми спи нами. Граф испытал некоторое облегчение, когда за ним пришел судебный пристав. Но вместо того чтобы провести посетителя прямо в зал заседаний, пристав повел его по коридору в небольшую комнату, вероятно в кабинет председателя. На столе лежали папки с ка кими-то бумагами, на вешалке висело пальто и шляпа.
Когда они вошли в комнату, судебный пристав сказал:
— Господин председатель выслушает вас, как только прокурор закончит речь…
Какое неожиданное облегчение! Значит, он избежит страшной пытки давать показания в присутствии отца и публики. Однако надежда на такой оборот дела скоро рухнула. Не прошло и десяти минут, как появился председатель — высокий старик с желчным лицом и седыми волосами, которые на фоне его красной мантии казались зеленоватыми. Едва только граф произнес несколько слов о том, что он может представить доказательство невиновности подсудимого, на лице старика появилось выражение крайнего изумления, и он сказал: — В таком случае, граф, я не могу выслушивать вас частным образом. Сейчас заседание возобновится.
Вам придется выступить в качестве свидетеля…
Если только обвинение или защита не заявят об отводе…
Итак, брат Шарлотты должен был пройти все этапы мучений. Он столкнулся с бесстрастной машиной правосудия, которая не считается и не может считаться с человеческими чувствами. Ему пришлось сидеть в комнате для свидетелей, и он вспомнил сцену, которая недавно произошла между его отцом и матерью Грелу. Оттуда граф Андре прошел в зал судебных заседаний. Здесь он увидел на голой стене распятие, как бы царившее над залом, увидел повернувшиеся к нему в крайнем любопытстве головы присутствующих, увидел председателя, снова занявшего место между асессорами, прокурора и товарища прокурора в красных мантиях и присяжных, помещавшихся слева от трибунала. Грелу. сидел справа, на скамье подсудимых, со скрещенными на груди руками, очень бледный, но спокойный. Обширный зал был до отказа набит публикой; люди стояли всюду — на галерее, даже позади судейских кресел. На скамье свидетелей Андре заметил седую голову отца, и у него сжалось сердце; но оно не дрогнуло, когда председатель, осведомившись у прокурора и защитника, не имеют ли они возражений против выступления нового свидетеля, стал задавать обычные в таких случаях вопросы об имени, фамилии и прочем. Затем он предложив капитану принести присягу. Судейские, присутствовавшие при этой сцене, единодушно утверждали потом, что никогда за всю свою практику не наблюдали такого волнения, какое охватило зал, когда выступал этот человек, боевое прошлое которого всем было известно из статей, печатавшихся в связи с процессом. Твердым голосом, в котором чувствовалась невыразимая душевная мука, граф произнес: — Господа присяжные заседатели! Мне нужно сказать вам всего несколько слов. Моя сестра не была убита. Она покончила с собой. Накануне ее смерти я получил от нее письмо, в котором она сообщала о намерении умереть и объясняла мотивы своего решения… Господа, мне казалось, что я имею право скрыть это самоубийство, и я сжег письмо… Впрочем, если человек, которого: вы видите перед собой, — граф указал рукой на Грелу, слегка повернувшись в его сторону, — и не отравил сестру, то он поступил еще хуже… Однако в этом он не подлежит вашему суду и его нельзя судить как убийцу… Он невиновен…
За отсутствием материальных доказательств, ибо я уже не могу их предъявить, я даю вам в этом свою клятву.
Слова падали одно за другим среди всеобщего оцепенения. Вдруг раздался чей-то крик, сопровождаемый стоном: — Он с ума сошел! Не слушайте его, он с ума сошел! — Нет, отец, — продолжал Андре, узнав голос маркиза и повернувшись к старику, рухнувшему на скамейку. — Я не сошел с ума… Я поступаю так, как этого требует честь. Надеюсь, господин председатель, что меня избавят от дальнейших показаний? Последняя фраза звучала такой мольбой, и все так хорошо понимали душевное состояние этого гордого человека, что в зале даже послышался ропот, когда председатель ответил ему:
— К моему глубокому сожалению, сударь, я не могу удовлетворить вашу просьбу… Необычайная важность показаний, которые вы только что сделали, не позволяет правосудию удовлетвориться этим кратким заявлением. Наш долг, как он ни тягостен, предписывает потребовать от вас уточнений…
— Хорошо, господин председатель, в таком случае я тоже выполню свой долг до конца.
В тоне, каким свидетель произнес эти слова, звучала непреклонная решимость. Шепот в зале сразу прекратился, и снова наступила мертвая тишина.
В этой тишине раздался голос председателя: — Вы упомянули о письме, которое написала вам ваша покойная сестра… Позвольте мне заметить, что по меньшей мере странно, что у вас тотчас не явилась мысль сообщить содержание этого письма органам правосудия…
— Письмо заключало тайну, которую я готов был бы скрыть ценой своей жизни…
Впоследствии граф рассказывал своему другу Максиму де Плану, тому, которого он выбрал себе в братья и который вел себя в высшей степени благородно до самого конца трагедии, что эта минута была для него самой тягостной, но что, начиная с этого момента, волнение было как бы подавлено самой его чрезмерностью. Ему пришлось сообщить все ужасающие подробности письма, рассказать о своих собственных переживаниях и признаться в своих мучениях. Что же касается дальнейшего, то, как он сам потом говорил, ему запомнились лишь некоторые совершенно незначительные подробности и физические ощущения, например холодок железных перил, к которым он прислонился, когда ему пришлось сесть на скамью для свидетелей, откуда только что унесли отца, упавшего в обморок при последних его словах… Он обратил также внимание на певучее лотарингское произношение прокурора, который встал и заявил, что отказывается от обвинения… Сколько времени прошло между этим заявлением прокурора, речью защитника, уходом присяжных заседателей в совещательную комнату и их возвращением? Когда был объявлен оправ дательный вердикт? Дать себе в этом отчет Андре не мог. Не мог он рассказать и о том, как он провел вечер, после того как зал опустел и сторож подошел к нему и попросил покинуть помещение. Он запомнил только, что куда-то шел, очень долго и быстро. Обитатели Комбронда, возвращавшиеся после суда, встретили его на улице в своей деревне. Он выходил из трактира, где написал несколько писем: матери, отцу, командиру полка и, наконец, Максиму де Плану. В девять часов вечера Андре постучался в дверь «Коммерческой гостиницы», где, как он знал со слов отца, остановилась мать оправданного, и спросил швейцара, может ли он видеть г-на Грелу. Швейцар слышал рассказ о бурном заседании в суде. По мундиру офицера не трудно было догадаться, Кто стоит в дверях, и у швейцара хватило смекалки ответить, что Грелу еще не возвращался. Но, к несчастью, он почел нужным тут же подняться наверх к молодому человеку. Робер Грелу, час тому назад выпущенный из тюрьмы, находился в обществе матери и Адриена Сикста. — Этот последний не мог отказать отчаянным просьбам вдовы, которая встретила его в коридоре гостиницы и умоляла повлиять на сына.
— Будьте осторожны, сударь, — сказал швейцар Роберу, попросив разрешения переговорить с ним наедине.
— Граф де Жюсса разыскивает вас…
— Где он? — нервно спросил Грелу.
— Вероятно, еще неподалеку, — ответил швейцар, — но я ему сказал, что вас нет…
— Напрасно, — вырвалось у Грелу. И, схватив шляпу, он бросился на лестницу.
— Куда ты? — встревожилась мать.
Молодой человек ничего не ответил. Быть может, он Даже не расслышал вопроса, так поспешно спускался он по лестнице. Мысль о том, что граф может подумать, будто он спрятался из трусости, бросила его в жар. Ему не пришлось долго разыскивать врага.
Граф стоял на противоположном тротуаре и наблюдал за подъездом гостиницы. Робер его узнал и прямо направился к нему.
— Вам угодно что-то сказать мне? — спросил он надменно. — Я к вашим услугам и готов дать вам любое удовлетворение… Я никуда не уеду из Риома, даю вам слово…
— Нет, милостивый государь, — ответил Андре де Жюсса, — с такими, как вы, не дерутся на дуэли, таких пристреливают…
Граф Андре выхватил из кармана револьвер, а молодой человек, вместо того чтобы бежать, стоял на месте и как бы говорил своим видом: «Ну что ж, стреляйте!» И граф выстрелил ему в голову. В гостинице услышали сначала выстрел, потом предсмертный крик, а когда люди прибежали на место происшествия, они увидели, что граф Андре, скрестив руки на груди и отбросив револьвер, стоит прислонившись к стене. Он сказал, показывая на лежавший у его ног труп любовника Шарлотты:
— Я расправился с ним…
При аресте он не оказал никакого сопротивления.
…………………………………………
Вероятно, поклонники «Психологии веры», «Теории страстей», «Анатомии воли» были бы очень удивлены, если бы они видели, что происходило в ночь после этой трагической сцены в третьем номере «Коммерческой гостиницы», и прочли бы мысли своего неумолимого и всемогущего учителя.
У кровати, где с повязкой на лбу лежал Робер, стояла на коленях его мать. Великий отрицатель сидел рядом и смотрел то на молящуюся женщину, то на мертвеца, который был его учеником, а теперь уснул тем Же сном, что и Шарлотта де Жюсса. Впервые почувствовав беспомощность своей доктрины, которая не могла в эти минуты поддержать его, этот аналитик,
наделенный почти сверхъестественной силой, склонился перед непостижимой тайной человеческой судьбы.
Ему приходили на ум слова единственной молитвы, еще сохранившейся в памяти из далекого детства: «Отче наш, иже еси на небесех…» Конечно, он не произнес этих слов и, быть может, никогда не произнесет их. Но если существует небесный отец, к которому великие и малые обращают свои взоры в трудные часы жизни как к единственному источнику помощи, то не заключается ли самая трогательная молитва уже в самой потребности молиться? А если бы небесного отца не существовало, то разве чувствовали бы мы потребность обратиться к нему в такие минуты? «Ты меня не искал бы, если бы уже не нашел…» Благодаря ясности ума, которая не покидает ученых в самые тяжелые дни их жизни. Адриен Сикст вспомнил эти удивительные слова Паскаля из его «Тайны Христа», и, когда мать поднялась после молитвы, она увидела, что философ плачет.
Париж, сентябрь 1888 г. — Клермон-Ферран, май 1889 г.
СОДЕРЖАНИЕ.
Ф. Наркирьер: «Поль Бурже и его роман «Ученик».
I. Современный философ.
II. Дело Грелу.
III. Горе простой женщины.
IV. Исповедь молодого человека нашего времени.
§ 1. — Моя наследственность.
§ 2. — Моя духовная среда.
§ 3 — В чуждой среде.
§ 4. — Первый кризис.
§ 5. — Второй кризис.
§ 6. — Третий кризис.
§ 7. -Заключение.
V. В вихре мыслей.
VI. Граф Андре.
notes
Примечания
1
В.И. Ленин, Сочинения, т. 22, стр. 263.
2
Поль Лафарг, Литературно-критические статьи, Гослитиздат, М. 1936, стр. 256.
3
М. Горький, Собр. соч. в 30 томах, Гослитиздат, М. 1953, т. 24, стр. 47.
4
А.П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XIV, Гослитиздат, М. 1949, стр. 360.
5
М. Горький, Собр. соч. в 30 томах, Гослитиздат, М. 1953, т. 23, стр. 128.
6
В.И. Ленин, Сочинения, т. 37, стр 371.