Православный портал «Азбука веры»
Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих»
(Псалтирь 118:18-19)
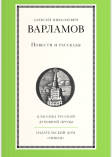
О чем эта книга?
В сборник прозы известного современного писателя Алексея Варламова вошли произведения разных лет. При всем разнообразии тем, сюжетов, отнесенности к более далекому или недавнему прошлому, их героев объединяет ощущение неслучайности жизни и осознание Божьего промысла в судьбах людей. Автор пишет о силе и хрупкости человеческой души, о страстях и борениях сердца, о молодости, нежности и любви.
Об авторе
Алексей Варламов — русский писатель, современный классик, литературовед, доктор филологических наук. Он родился 23 июня 1963 года в Москве. Его отец работал цензором в газете «Правда», а мать — учительницей русского языка и литературы. Учился будущий писатель в английской спецшколе, затем поступил в МГУ на филологический факультет, где теперь преподает, а кроме этого — ведет творческий семинар в Литературном институте им. А. М. Горького.
Алексей Варламов является членом Российского союза писателей. Его произведения удостоены ряда литературных премий. В 2006 году ему была вручена премия Александра Солженицына «за тонкое отслеживание в художественной прозе силы и хрупкости человеческой дущи, ее судьбы в современном мире; за осмысление путей русской литературы ХХ века в жанре писательских биографий».
Книга предоставлена издательством «Никея», бумажную версию вы можете приобрести на сайте издательства http://nikeabooks.ru/

Алексей Варламов – русский писатель, современный классик, литературовед и доктор филологических наук. Он родился 23 июня 1963 года в Москве. Его отец работал цензором в газете «Правда», а мать – учительницей русского языка и литературы. Учился будущий писатель в английской спецшколе, затем поступил в МГУ на филологический факультет, где теперь преподает, а кроме этого – ведет творческий семинар в Литературном институте им. А. М. Горького.
Дебютная книга Алексея Варламова – сборник рассказов «Дом в Остожье» была опубликована в 1990 году и сразу обратила на себя внимание читателей и критики. В ней писатель обратился к классическому жанру русского реалистического рассказа – на новой сюжетной почве. Сам Алексей Варламов называет себя писателем с «рассказовым дыханием», которое наполняет повести «Здравствуй, князь!», «Рождение», «Дом в деревне», однако и жанр романа занимает в его творчестве важное место. Первыми романами писателя стали «Лох», «Затонувший ковчег» и «Купол», составившие трилогию о русской жизни 1990-х годов. В 2000-м году он публикует очень личный, автобиографический роман «Купавна», а в 2003-м выходит остросюжетный роман «Одиннадцатое сентября».
В настоящий момент Алексей Варламов является постоянным автором известной серии «Жизнь замечательных людей». Переход от художественной прозы к биографической он объясняет появившейся у него потребностью «опереться на факты» в своем творчестве. Из-под пера Алексея Варламова вышли биографии Михаила Пришвина, Александра Грина, Алексея Николаевича Толстого, Михаила Булгакова, Андрея Платонова. Сам он не проводит четкой границы между биографической и художественной литературой, называя свои книги художественным повествованием на документальной основе.
Алексей Варламов является членом Российского союза писателей. Его произведения были удостоены ряда литературных премий. В 2006 году ему была вручена премия Александра Солженицына «за тон кое отслеживание в художественной прозе силы и хрупкости человеческой души, ее судьбы в современном мире; за осмысление путей русской литературы XX века в жанре писательских биографий».
Рассказы и повести Алексея Варламова, собранные в этой книге, представляют собой лучшие образцы русской художественной прозы – глубокой и искренней прозы «с традицией», написанной легким и точным языком русского реализма.
Оксана Шевченко
Свое редкое имя Саввушка получил по причудливому замыслу судьбы. Его мать жила в молодости в Белозерске и работала поварихой в школьной столовой. Была она столь же хороша собой, сколь и доверчива, к ней сваталось много парней, но замуж она не выходила, а потом вдруг уехала, не сказав никому ни слова, в Заполярье. Полгода спустя у нее родился сын. Чуть окрепнув, она снова встала к плите, но работать теперь пришлось больше прежнего, и несколько лет спустя никто бы не узнал красавицу Тасю в изможденной женщине, тяжело бредущей в глухую полярную ночь к дому.
– Уезжайте отсюда, мамаша, – говорили врачи, – климат тут неподходящий.
– Для ребеночка? – пугалась она.
– Да нет, для вас.
Она тотчас успокаивалась, потому как давно на себя рукой махнула, а Саввушка, слава Богу, рос здоровым и про отца своего ничего не спрашивал, точно с детства решив, что отца ему не положено.
Тася же его иногда вспоминала, вернее, не вспоминала, но снился он ей бесконечными ночами, когда сон тяжек и непробуден, снилось лето в окруженном земляными валами городе на берегу огромного озера, снились церкви, вблизи потрескавшиеся, но издали прекрасные, и высокий красивый мальчик ласково спрашивал ее в этих снах:
– Что же ты меня не нашла?
От слов его становилось ей так покойно и счастливо, что она просыпалась в слезах и тихо плакала, боясь разбудить сына:
– Тёмушка, – шептала, – Тёма.
Но Саввушка, едва заслышав материнский плач, просыпался, первое время пугался и плакал, а потом привык, молча лежал и ждал, пока мать снова заснет. Бог знает, что он чувствовал в эту минуту, но, когда позднее она попыталась про этого Тёму ему рассказать, слушать ее он не захотел. Так и осталась Тася со своими воспоминаниями одна.
А был сей неведомый Тёма московским студентом. В Белозерске оказался он на практике. Их привез туда статный белобородый старик по фамилии Барятин, поразивший Тасю в первый же день тем, что после обеда он подошел к ней и поцеловал ручку.
Студентов поселили на окраине городка в пустовавшей летом школе, и целыми днями они ходили за своим профессором от церкви к церкви: десяток девиц, одетых по столичной моде в вольные сарафаны, и один-единственный хлопчик с длинными, как у барышни, ресницами. Белозерская молодежь, ослепленная этим зрелищем и возмущенная тем, что все богатство принадлежит одному студенту, предприняла через несколько дней штурм школы. Девицы жили на втором этаже, и парни пролезли на первый, а потом стали ломиться в дверь, за которой стоял студент и сжимал дрожащими руками лопату.
Дверь не поддавалась, ходила ходуном, и нежные девичьи голоса шепотом умоляли:
– Тише, мальчики, тише. Графа разбудите.
Но подвыпившие мальчики вошли в раж. Сквозь замочную скважину виднелись халаты и распущенные волосы, наконец дверь рухнула, и парни ломанулись в проем, как победившие пролетарии в институт благородных девиц. Студента отшвырнули, и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в ту же минуту в конце коридора в белой ночной рубашке, закрывавшей ему колени, с перекошенной волнистой бородой и шваброй в руках не появился бы сиятельнейший граф Барятин.
– Вон отсюда! – рявкнул он громовым голосом, и осаждавшие бросились врассыпную, а несчастный студиозус так и остался посреди коридора с разбитой губой и синяком под левым глазом.
– Это кто ж вас так? – ахнула Тася на следующий день.
Он буркнул что-то нелюбезное, но Тася его с того раза заприметила и всякий раз старалась положить ему кусочек получше. Студент был худ, бледен и напоминал хоть и породистого, но весьма оголодавшего пса. К тому же одет он был необыкновенно неряшливо.
– Что же это за вами и не приглядит-то никто?
– А некому, – ухмыльнулся он.
– Так уж и некому. Вон барышень-то сколько. Она с завистью смотрела на этих беспечных девиц и украдкой вздыхала, потому что сама когда-то мечтала в институте учиться, и учительница школьная ей советовала: поезжай, тебе надо учиться. Но из деревни как уедешь? А когда стали давать паспорта, уж все позабыла и застеснялась ехать позориться. И вышло все совсем не так, как в любимой в детстве сказке, – стала Тася обыкновенной поварихой.
Но Тёма ей тогда в душу запал, ждала она, что он с ней первый заговорит, но он то ли стеснялся, то ли внимания не обращал, и она первая спросила:
– А что это вы тут у нас все ходите, смотрите? Спросила и осеклась: что он еще подумает, куда ты, дура, в науку лезешь? Поставили тебя щи варить, вот и вари, а дальше не твоего ума дело. Но студентик оживился и принялся рассказывать ей про древность, про раскол, про отцов преподобных и старцев.
– Вас бы с бабушкой моей познакомить, – вздохнула Тася, – она дак много таких бухтин знает.
– А не скучно вам тут одной? – спросил он вдруг, о чем-то задумавшись.
– Скучно, – ответила Тася и поглядела в его глаза, блестевшие за ресницами.
– Вы приходите к нам, – пробормотал он смущенно, – граф вечерами истории разные рассказывает – заслушаешься.
Тася представила профессора в окружении бойких девиц, мотнула головой и, с сожалением улыбнувшись, так просто, чтоб не обидеть его отказом, сказала:
– Уж лучше вы к нам приходите.
– Я приду, – сказал он очень серьезно, – а когда?
Она покраснела, мигом вообразила, как это будет выглядеть, как надо будет сказать соседкам по комнате, чтобы те ушли, а они начнут допытываться что да как, и если и уйдут, то через пять минут станут заглядывать и просить иголку или утюг, пялиться на необычного гостя и хихикать, а назавтра об этом узнает все общежитие, – все это пронеслось в одну секунду в ее голове, и она весьма светски молвила:
– Может быть, погуляем лучше?
– Давай, – неожиданно обрадовался он.
В первый раз они гуляли довольно чопорно. Тася увела своего кавалера подальше от общежития на берег озера, где он с важностью, подражая учителю, рассказывал ей про древние валы и нестяжателей. Голос у него дрожал, Тася слушала рассеянно и помалкивала, а сердце, как в детстве, шептало: князь, князь! И плакать хотелось от счастья и от несчастья, прямо здесь разреветься дурище, но он и не догадывался о ее терзаниях, а все называл какие-то чудные имена, каких и в деревне-то она никогда не слышала: Зосима, Савватий, Нил, Ферапонт, красивые, торжественные имена. Тогда и подумала она, что если когда-нибудь у нее родится сын, то назовет его таким именем. Потому что имя ведь не просто человеку дается – оно его охраняет, вырастет он умным, добрым, жизнь у него будет ладная да счастливая.
Вот они женские мысли: он еще ни сном ни духом не ведающий, а она уже все решила и даже имя придумала. И ведь не совестно – сладко было, пусть князь тешится, уж она-то потом натешится с сыном княжеским, исцелует его ручки-ножки, всего исцелует в жутком городе, где не то что церкви – дерева зеленого и света белого не увидишь.
Прогуляли они до утра, пока солнце на три березы не поднялось, и пошли спать: он до полудня, а она прилечь на пару часов и оттуда в жаркую кухню. Но весь следующий день, хоть и не выспалась, светилась так, что даже Барятин, на нее взглянув, подивился:
– Чтой-то вы, Настасья свет Васильевна, прекрасны нынче, как лебедь белая?
Тася покраснела маковым цветом, а профессор, что ни говори, лет десять назад редко какая женщина перед ним устояла бы, только головой покачал и отошел.
На Тёму косились несолоно хлебнувшие белозерские парни – такого нахальства мало кто от него ожидал, на повариху – озадаченные еще более курсистки. Сколько ни колдовали они над единственным своим мужичком, он так недотрогой и оставался, одни у него книжки на уме, а тут – простая девчонка, повариха, им нос утерла! Но тем двоим не было ни до кого дела. И лето в тот год подгадало – мягкое выдалось, теплое, бродили они белыми ночами вдоль озера, и Тася сама его привлекла, женским сердцем угадав, что никого у него еще не было.
Да и сама будто в первый раз пошла. Только недолго их счастье длилось. Через неделю надо было ему уезжать, но эту неделю нагулялись, нацеловались они вволюшку, так что на всю жизнь ей хватило. Никого к себе Тася больше не подпустила.
С тех пор снился ей этот сон томительный, когда за окном вьюжная ночь или день, все одно тьма, горечь во рту и его укор:
– Что же ты мне ничего не написала?
А что бы она ему написала? Бросай, милый, все и приезжай? Или меня к себе бери? Нет уж, у него своя дорожка в жизни, а у нее своя. Ему уму-разуму в университетах набираться, а ей до скончания века у плиты стоять. Пересеклись их пути однажды и разошлись. Но ребеночка, плод той любви, уничтожить – на это у нее рука никогда бы не поднялась, хотя поначалу и страшно было, как еще в общежитии посмотрят.
Однако смотреть на Тасю долго никто не стал. Как только живот чуть наметился, а глаза у коменданта зоркие по этой части были, выселили в два счета. Возвращаться домой Тася не захотела и, скрыв, что беременна, а то бы не взяли, завербовалась в ту же осень в Воркуту, где обещали дать жилье и работу.
От отца Саввушка унаследовал потрясающей длины мохнатые ресницы, страсть к познанию и способность схватывать все на лету, а от матери – широкую крестьянскую кость и изумительное простодушие. В три года он выучился читать по складам, в четыре с половиной писать, знал наизусть кучу сказок и стихов и до слез доводил мать, когда звонко декламировал:
В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьется в ней царица;
И растет ребенок там
Не по дням, а по часам.
Однако дальше он пошел в обычную воркутинскую школу, и по этой причине вундеркинда из него не получилось. Оттого, что учиться было слишком легко, учиться ему быстро надоело, и все свое отрочество Саввушка проболтался на улице, возвращаясь домой с синяками и ссадинами, угрюмый как волчонок. Матери он ничего не рассказывал, вечерами запирался у себя в комнате, меланхолично тренькал на гитаре и что-то писал в толстой тетради неразборчивым почерком.
Тасе же сын был единственным светом в окошке. Иной раз прежде чем его побудить, она присаживалась возле кровати и только головой качала: кого она родила и что из этого чуда выйдет? А Саввушка и сам себя понять не мог.
Он жил наполовину в обыденном мире, а наполовину в каких-то фантазиях и грезах, душа его томилась и примирить два этих мира не могла. Он был отмечен той вечной, одновременно пагубной и спасительной для русского человека тягой к справедливости, из-за которой тот не помнит ни себя, ни близких людей, а идет до конца, лишь бы не пострадала справедливость.
Поначалу это проявлялось в том, что он совал свой нос, куда просят и не просят, лез во всевозможные драки и пытался рассудить враждующих, но вскоре жажда защитить всех сирых и убогих охватила в его сознании целый мир. Тринадцатилетний подросток, он физически страдал и плакал от того, что на другом конце света сажают в тюрьмы и убивают революционеров.
Бог знает, отчего русских мальчиков так волнуют именно революционеры и непременно чужестранные, но у себя в комнате, где все нормальные подростки вешали фотографии Михаила Боярского или Олега Блохина, Саввушка повесил портрет справедливейшего на земле человека – бородатого красавца Че Гевары, сложившего буйную голову в боливийской сельве. Он любил его как отца и, думая о своем будущем, рисовавшемся ему туманно, но ярко, мечтал перенестись каким-нибудь чудесным образом в далекую страну, где умирали за свободу и справедливость лучшие люди на земле, и довершить вместе с ними то, чего не успел сделать не понятый тамошними мужиками героический партизан.
Воркутинская жизнь, где общество свободы и справедливости, как и повсюду в родной стране, было давно построено, наводила на него тоску. Саввушка жаждал борьбы, побегов из тюрем и перестрелок, он представлял себе в минуту наивысшего упоения, как его убьют в том месте и в ту минуту, когда на земле исчезнет последняя капля зла – пусть даже никто об этом не узнает и осчастливленное человечество не поставит ему памятника. Да и к чему жить, если не с кем будет бороться?
Свои сокровенные мечты он, однако, таил ото всех и, лишь однажды прослышав, что в Москве при одном секретном учреждении имеется специальная школа, которая готовит революционеров-интернационалистов, написал туда письмо с просьбой его зачислить. Сие учреждение получало, вероятно, немало подобных писем и оставляло их без ответа, но то ли все авторы так или иначе брались на заметку, то ли Саввушкино послание было составлено чересчур проникновенно, некоторое время спустя этому посланию было суждено сыграть свою роль в его судьбе.
А в остальном он был славным и добродушным малым, хоть все и почитали его немного чудаковатым.
Когда же минуло Савве пятнадцать лет, он вдруг обнаружил, что его сердце также способно страдать оттого, что приглянувшаяся ему хорошенькая, но весьма стервозная девица строит глазки не одному ему, но еще и доброй половине класса, и это мучает его больше, чем боль за все угнетенное человечество. То, что другие воспринимали как ничего не значащую мелочь и быстро утешались, он пережить не мог и однажды до смерти напугал мать, представ перед ней с перевязанными запястьями и синим лицом.
Тася чуть ли не на коленях вымолила у него обещание ни при каких обстоятельствах ничего подобного больше не делать, и, впервые в жизни тронутый истинным и близким страданием, Саввушка пообещал.
От несчастной любви его вылечили книги. Он читал запоем все подряд, что имелось в скудной городской библиотеке – разрозненные тома Бальзака, Тургенева и Лескова. Он полюбил романы, чем длинней они были, тем больше, переживал судьбы далеких, давно отживших свое героев еще острее, чем собственную судьбу. Грань между реальностью и сном, временем и пространством становилась в его сознании зыбкой, он пробовал сочинять что-то сам, но скоро убедился, что читать чужое интереснее, чем свое. Его голова была полна самых невообразимых и фантастических прожектов, один другого нелепей и несбыточней, и к той поре, когда надо было решать, что же все-таки делать в этой жизни дальше, Саввушка огорошил мать, объявив ей о своем желании ехать учиться в Москву, в университет.
Для Таси это было ударом. Она, разумеется, не рассчитывала, что сын всю жизнь просидит подле нее, но представить, что разлука произойдет так скоро и так надолго, – это было выше ее сил. Она на все лады пробовала его уговорить отступиться от этого безумного желания, но на сей раз Савва и слышать не захотел никаких возражений и увещеваний.
Москва, высотное здание со шпилем и звездой – вот единственное место, где он будет учиться. Из многочисленных же факультетов означенного заведения он выбрал факультет словесности, поскольку приязнь к литературе стала в нем страстью и ей он желал посвятить жизнь.
Бедная мать была вынуждена смириться и не спать ночами, ломая голову, как помочь сыну – проблема всех родителей, чьи чада куда-то поступают. Но что могла сделать повариха из воркутинского кафе «Огни Заполярья»?
Тася имела весьма слабое представление об университете. Однако будучи, а точнее, к сорока годам превратившись в рассудочную женщину, хорошо понимала: хоть и писал когда-то самый человечный человек, будто бы кухарки должны управлять государством (фраза, которую так любили повторять, хорошенько пообедав в «Огнях», заезжие лекторы из общества «Знание»), университеты все же существуют не для кухаркиных детей.
Но, видно, заговорила в сыне папина кровь, и в самый раз теперь было бы этого папашу разыскать и сказать: «На, Тёмушка, любуйся, какого я тебе парня вырастила. Уж как мы жили, сказывать не буду, ты только помоги ему теперь. Твой черед пришел». И все-таки, хорошенько подумав, Тася от этой мысли отказалась. Даже если бы и удалось ей каким-то образом разыскать Тёму, неизвестно еще, захотел ли б он этого мальчика признать. Да и как отнесется к этому сам Саввушка – если из-за какой-то шлюшки готов он вены себе резать? Нет, верно, не суждено им встретиться, пусть все идет как идет, а Бог даст им свидеться, то пусть Тёмушке сердце шепнет – узнает он его и так.
Она лишь посоветовала сыну разыскать в университете профессора Барятина, ибо сердце доброй женщины подсказывало, что скорее забыл ее сладкий Тёма, но только не высокий, статный граф, целовавший некогда ручку белозерской поварихе. Ведь не за одни только вкусные обеды целовал – уж это Тася чувствовала наверняка.
Всякий намек на какую-либо помощь Савва отверг с присущей ему решительностью. Пусть другие ищут в жизни обходных путей, а он будет штурмовать ее в лоб. Он напорист, удачлив, умен, он именно таков, как и нужно в Москве. Разумеется, его там ждут не дождутся и, как только он появится, усадят на самое почетное место. И где ж было ему, бедолаге, знать, что видала Первопрестольная смельчаков похлеще да ломала их, как капризная барыня.
Он поехал, и этот город, где никогда прежде он не был, но о котором знал не меньше, чем его обитатели, из книг, поразил его. Здесь не было ничего похожего ни на «Чистый понедельник», ни на «Мастера», ни даже на модного в ту пору «Альтиста Данилова». По обеим сторонам широких улиц высились прижатые друг к другу угрюмые дома, мимо проносились бесчисленные автомобили, автобусы, троллейбусы – все звенело, шумело, извергало облака дыма и выхлопных газов. Всюду были толпы людей, невероятно торопливые и праздные одновременно. Непонятно было, что делают эти люди, работают ли они когда-нибудь, что их гонит и какова цель их постоянного движения.
Саввушка бродил растерянный, оглушенный, как потерявшая внезапно чутье собака. Все дразнило и раздражало его: девушки в коротких юбках, толстые нахальные бабы, стремительные мужички с газетами. Ему казалось, что все презирают его за нелепый провинциальный костюм и смешной портфель в руках. Было жарко, насыщенный испарениями дрожал и тек над троллейбусами знойный воздух, и Саввушка с трудом удерживался от того, чтобы в ту же минуту не броситься домой, навсегда забыв про этот страшный безликий город. Однако он пересилил это малодушное желание и направился к Воробьевым горам, туда, где в далекой дымке виднелось на высоком берегу Москвы-реки здание со шпилем и звездой.
В ту же минуту, приблизившись к нему, Саввушка забыл обо всем и, восхищенный, замер. Это было именно то, чем он грезил. Темно-зеленые ели, пруды, фонтаны, люди с какими-то необыкновенно одухотворенными лицами и посреди всего – устремленное ввысь, похожее на пирамиду, готический замок и храм, строение. Факультет словесности располагался однако не в этом, вблизи еще более великолепном строении, а по соседству, в сверкающем на солнце стеклянном параллелепипеде. Некоторое время юноша медлил, а потом вошел внутрь.
Поток абитуриентов уже схлынул, и в пустых аудиториях сидели принимавшие документы студентки. Одна из них взяла его аттестат, пробежала глазами, что-то хмыкнула и принялась объяснять про консультации и общежитие, но он слушал невнимательно – сердце так и билось в Саввушкиной груди и стучала в висках кровь.
– Послушайте, – сказала она насмешливо, – вы, кажется, ничего не поняли.
Саввушка поднял голову. На него смотрели с сочувствием и некоторой жалостью прекрасные серые глаза. Казалось, взгляд их говорил: «Ну куда же ты, дурачок?»
– …моего совета, – донеслось до него снова из марева, – не теряй времени. Как пару схлопочешь или даже тройку, забирай документы и в пед. Там попроще, особенно мальчикам.
– Нет, – ответил он твердо. – Я только сюда поступать буду.
– Ну как знаешь. Ни пуха.
– Спасибо.
– Эх ты, – засмеялась она, – даже этого не знаешь. К черту посылать надо.
– Простите, девушка, – сказал Савва, задетый ее снисходительным тоном, – а вам случайно ничего не говорит такая фамилия – Барятин?
– Говорит, – ответила она осторожно, и выражение ее лица изменилось. – А что?
– Да нет, ничего, – ответил он неопределенно, – я просто знаю его немного.
– В таком случае я бы посоветовала тебе об этом помалкивать.
– Почему? – спросил он обескураженно.
– Потому что профессор Барятин – это не тот человек, знакомство с которым тебе чем-то поможет. Скорее наоборот. К тому же он здесь давно не работает.
– Да я и не собирался ничего, – пробормотал Саввушка. – А как вас зовут?
– Вот поступишь, тогда и узнаешь. – Она снова засмеялась, и что-то очень милое промелькнуло в ее глазах.
Смутное предчувствие сжало Саввушкино сердце. Он в беспокойстве вышел на улицу и побрел наугад через парк. Теперь величавое здание университета вызывало у него не восхищение, а угнетало своей громадой, и он шел все дальше и дальше от него в сторону реки. Мысли его были путанны и печальны, он сам не мог понять, что с ним происходит и что именно так сильно на него подействовало, как вдруг парк оборвался и он увидел с высоты Воробьевых гор весь город, днем почти его раздавивший.
Падающее солнце отражалось в далеких кварталах за рекой, подсвечивало купола Новодевичьего монастыря, высотные здания, трубы, мосты и, сколько было видно глазу, до самого горизонта дома, дома, похожие отсюда на розовые и белые кубики, украшенные бисеринками стекла. Мимо шуршали, уносясь в сторону чудных особнячков за высокими желтыми заборами, ЗИЛы и «чайки», проехала запоздалая свадьба, обнимались вольные парочки, улыбались прекраснозубые иностранные туристы, фотографировали друг друга на фоне азиатской для них столицы и опять залезали в свои яркие автобусы под взглядами неброско одетых мужчин.
Саввушка глядел на все это с жадностью своих молодых и сильных семнадцати лет, не отрываясь и не трогаясь с места, как зачарованный, покуда в городе не зажглись огни и он засветился во мгле как в чаше. Чудная дрожь пробежала по Саввушкиному телу. Душу охватило волнение, и он почувствовал невыносимо острое желание, более сильное, чем все его прежние мечты о далеких странах, победить этот город, заставить его признать себя и впустить как равного.
Но для этого требовалось сдать экзамены, опередив неизмеримо лучше, чем он, подготовленных, натасканных репетиторами и подстрахованных нужными связями абитуриентов, которых и без того наплыло в тот год больше обычного.
Это ему почти удалось. Он блестяще сдал три первых экзамена, но на последнем, по языку, ему поставили тройку за дурной прононс, и до проходного балла он не дотянул, точь-в-точь как Иванушка-дурачок на Коньке-горбунке до заветного окошка, где сидела сероглазая царевна из приемной комиссии. Но ни второй, ни третьей попытки у него не было.
В тот же вечер он с горя надрался вместе с соседями по комнате. Им тоже ничего не светило, но они и не огорчались. Это были веселые, беззаботные люди, приезжавшие сдавать экзамены не для того, чтобы поступить, а чтобы месяц пожить в свое удовольствие в Москве и погулять с абитуриентками. Они проделывали это не первый год, хорошо знали друг друга и наперебой утешали удрученного, наивного воркутинца:
– Сюда все равно просто так поступить нельзя. Или папа у тебя министр, или тыщу за каждый экзамен плати.
Но Саввушка их не слушал: насчет взяток он не верил, это был все-таки университет, а что касается папы, как известно, это обстоятельство он игнорировал.
Его молодому самолюбию был нанесен, однако, сокрушительный удар, оправиться от которого он был не в силах. Было слишком очевидно, что эту последнюю тройку ему именно для того и поставили, чтобы он не поступил. Но за что? Что сделал он дурного той женщине? Мир явил ему несправедливость во всем своем безобразии, к тому же в том месте, где меньше всего он был готов эту несправедливость увидеть, и смириться с этим Саввушкина душа не могла.
Был поздний августовский вечер, за окном общаги горели огни непобежденного города, которому было, оказывается, все равно, останется в нем мальчик из Заполярья с редкостным именем Савватий или уедет, честно это или нет – кому какое дело? Пора было собирать вещи.
А в этот самый час Артем Михайлович Смородин сидел в своем кабинете на двенадцатом этаже большого стеклянного здания, смотревшего фасадом на город и торцом на цирк. Это здание было спроектировано и построено как гостиница, но потом с гостиницей решили повременить и вместо нее открыли учебный корпус. В ресторане разместили библиотеку, номера переделали под аудитории, поделив их перегородками, но сколько постоялый двор ни перекраивай, двором он и останется, и само собой это скверное здание гуманитарных факультетов, в просторечии именуемое гумном, ни в какое сравнение не могло идти с тем подлинным университетом на Моховой, где когда-то учился Тёма.
Прямо под корпусом проходил тоннель метро, и Артема Михайловича вечно раздражало позвякивание стекол в книжном шкафу. Нет, решительно все было не то – ни стены, ни дух, ни люди. Все измельчало и выродилось, ушли или были изгнаны люди, являвшие собой гордость просторных аудиторий старого здания, и Тёме было безумно этого жаль. А больше всего он жалел, что среди изгнанников оказался его учитель, и происшедшая между ними двадцать лет назад размолвка о сю пору тяжелым камнем лежала на Тёмином сердце.
Граф, граф, из породы динозавров ученый муж, каких еще в те времена было по пальцам перечесть. Отвернулся учитель от самого одаренного своего ученика, и кто теперь разберет, почему так вышло. Ведь не виноват же был Тёма, что не захотел следовать обычной дорожкой барятинских учеников, работавших кто в провинциальных музеях и библиотеках, а кто и просто в школах, но у кого поднимется рука его в этом упрекнуть и не сам ли профессор тому виной?
Да, на его лекциях по древнерусской словесности стояли в проходах, каждое его слово записывалось на магнитофон, ему аплодировали и дарили цветы, его советы ценились и по ним одним можно было написать диссертацию, что многие и делали. Однако на факультете Барятина не любили, не прощали ему независимости и ума, и, хотя открыто выступать против него никто не решался, отыгрывались, как это водится, на учениках.
Так получалось, что они годами не могли защититься, найти приличную работу, издать книгу или статью – всякий раз находились обстоятельства, тому препятствующие, а Барятин палец о палец не ударял, чтобы помочь. Он был, похоже, даже рад, что к нему идут немногие, но самые бескорыстные, кому был дорог высокий дух науки и кто ради этого был готов терпеть любые лишения. Из таких людей и состоял знаменитый семинар профессора Барятина, там провел свои лучшие годы Тёма Смородин, влюбленный в учителя и безмерно счастливый тем, что учитель видит и ценит его любовь и выделяет среди других.
Но страшная мысль, что пройдут еще три года, два, год, все кончится, его отправят в захолустный город Н. спиваться на должности младшего научного сотрудника энского краеведческого музея без какой-либо надежды оттуда выбраться, не давала Тёме покоя. Ведь не для этого же в самом деле он учился в университете. За спиной у Тёмы никого не было, он всего добивался в жизни сам, без чьей-либо помощи поступил и теперь сам был намерен обустроить свою судьбу. А потому, когда год спустя после того белозерского лета Тёме предложили вступить в партию – предложили, он не просил! – Тёма согласился, и с того момента, или так просто совпало, этого Артем Михайлович не знал и по сей день, – в его отношениях с Барятиным что-то разладилось.
Граф, никогда ни во что не вмешивавшийся, подчеркнуто лояльный и ко всем доброжелательный, всей душой уходящий в прежнюю жизнь, живущий как барин в громадной квартире на Пречистенке и посещавший каждое воскресенье храм Ильи Обыденного, никого никогда не осуждавший, за что злые языки и горячие головы звали его страусом, вовсе даже не диссидентствующий и не инакомыслящий, благородный граф, который всем все прощал, на экзаменах ниже четверки не ставил, разрешал списывать и за любой ответ говорил «спасибо», но так, что люди уходили от него пристыженные или просветленные – этот самый человек Тёму осудил. Не за то, что он в партию вступил, казалось, Барятин слова-то такого не знал, а за то, обронил он сухо, что вы, оказывается, способны поступить не по совести.
Не по совести? Тогда впервые в Тёминой душе поднялась настоящая злость и обида. Он мог бы много на это «не по совести» возразить. Сказать, хорошо вам, ваше сиятельство, быть независимым с вашими регалиями, с вашей биографией и связями в научном мире, с вашим происхождением наконец. Хорошо вам вести себя как вздумается, ручки дамам целовать, с Пасхой всех поздравлять, вы полжизни за границей прожили и теперь живете в любезном Отечестве нашем навроде иностранца: что другим нельзя, то вам можно.
А мы-то как? Вы ведь не пойдете за меня просить, если что случится, хоть и знаете, как они поступают с теми, кто от таких предложений отказывается. Вы, Алексей Константинович, изобразите на вашем лице глубокое сожаление и в утешение скажете что-нибудь душеспасительное о смирении, о пользе жизненного опыта и о прочих добродетелях. Вы найдете что сказать. А то, что нас, как щенков, отсюда выкидывают и всем плевать, как мы после этого храма, после альма-мачехи перебиваемся, а вы разве что раз в полгода в барские хоромы на чай к себе позовете и о народном образовании порассуждаете – этого вы знать не хотите!
Но Тёма смолчал. Он умел быть сдержанным, когда нужно, и это молчание, похоже, не понравилось Барятину еще больше. Однако на защите старик повел себя, по обыкновению, в высшей степени благородно и аттестовал Тёмин труд с наилучшей стороны. Тёму взяли в аспирантуру, но уже к другому руководителю, знавшему примерно столько же, сколько знал его новый подопечный в начале третьего курса. И как бы счастливо ни складывалась дальше его судьба, он чувствовал необъяснимую досаду при мыслях о Барятине, и в иные минуты чай в пречистенской квартире, от которой он был теперь отлучен, казался ему важнее собственных успехов.
Успехи, слава Богу, были. У Барятина он научился самому главному – работать самостоятельно по источникам, находить и обрабатывать материал – и вскоре с блеском защитился. А в это самое время неуступчивый граф, не то-таки подписавший какое-то письмо, не то, наоборот, отказавшийся подписать, вылетел из университета, хотя сведущие люди уверяли, что не стал бы Барятин ни из-за каких писем уходить – дело тут явно в другом, а письмо только повод. Но так или иначе, курс лекций по древней словесности, который читал профессор много лет, было предложено читать Тёме.
И вот тут послушный, благонадежный Артем Михайлович выкинул фортель. Он отказался. Мало того, он в самой категоричной и недвусмысленной форме заявил, что, конечно, не может согласиться с опрометчивым поступком Барятина, но, во-первых, следует иметь в виду, что Алексей Константинович – человек совершенно иного склада и он имеет право, выстраданное им право, на собственную точку зрения, а во-вторых, и это более важное соображение, такими людьми разбрасываться нельзя, даже если нам они совершенно не нравятся. Так что он, Тёма, против увольнения Барятина и читать его курс не станет.
Это выступление произвело на славившемся покорностью факультете эффект разорвавшейся бомбы. К Артему Михайловичу подходили знакомые и незнакомые люди, восхищались его поступком, жали руку, и из безвестного преподавателя он в одночасье превратился в заметную фигуру. Кое-кто, правда, поговаривал, что с Тёминой стороны – это был просто хорошо продуманный шаг. Понимая, что конкурировать с графом ему будет не под силу, Смородин нашел красивый предлог для отказа. Однако, если и принять во внимание эту малоправдоподобную ввиду безусловного ума и честолюбия Тёмы версию, следовало признать, что слишком опасен был этот предлог и одному Богу известно, какие он мог повлечь за собой последствия.
Последствия оказались таковыми. Барятина, разумеется, не вернули, а молодой ученый неожиданно получил от бывшего учителя записку, в которой тот коротко просил коллегу взять вышеозначенный курс, но приглашения на очередной и последующие чаепития Тёма так и не получил.
Зато он получил многое другое. Вместо ожидаемых неприятностей Смородин вдруг резко пошел в гору. Его выталкивало наверх, как пробку из воды. Он ездил то на картошку в подшефный колхоз «Ахманово», то на стажировку за границу, там и там пользовался успехом и очень быстро, без проволочек получил доцентскую ставку, которую другие ждали годами.
Некоторое время спустя ему дали возможность уйти в докторантуру, что тоже малообъяснимо было одними Тёмиными способностями. Таким образом к тридцати пяти годам Артем Михайлович стал доктором наук, автором нескольких монографий, но самое поразительное ждало его впереди. Он вернулся на факультет в очень сложное время, когда из-за темных и глубинных интриг пал прежний декан и между различными группировками началась борьба за нового. Однако вместо ожидаемых кандидатов, седовласых мужей – прожженных интриганов от науки, на царствие посадили Тёму.
Что все это значило, понять никто не мог. На Артема Михайловича взирали с недоумением, и, поскольку такое же недоумение выражало и его лицо, факультетские кумушки рассудили, что, верней всего, могучие тузы сошлись на нем как на промежуточной фигуре и основные дела будут твориться за его спиной. Так оно было или не так, но теперь перед новоиспеченным деканом и по совместительству председателем приемной комиссии лежали списки студентов, зачисленных на первый курс. А завтра утром эти списки должны были висеть в вестибюле несостоявшегося отеля к безумной радости двухсот пятидесяти и отчаянной горести нескольких тысяч абитуриентов и их родни.
Если бы Артему Михайловичу показали в эту минуту человека, придумавшего вступительные экзамены, он приказал бы сослать его в «Ахманово» навечно и ни под каким видом оттуда не выпускать. Жаркий, душный месяц, который все порядочные люди проводят и он сам столько лет проводил на море, толпы мамаш, синие от умственных потуг дети – вот чистилище для тех, кто хочет попасть в университет.
Постаревший за три последние недели, как за три года, узнавший враз столько мерзкого, сколько не знал он за всю предыдущую жизнь, декан тупо глядел за окно, слушал, как брякают стекла в такт проходящим поездам, и страдал.
Причиной его глубокой меланхолии было разочарование в университете и шире – во всей человеческой натуре. Артем Михайлович никогда не питал иллюзий на сей счет. Он хорошо понимал, что человек – существо слабое и не всегда способное противостоять насилию и соблазнам. И если говорить о вступительных экзаменах, то бывают случаи, когда за того или иного абитуриента просят коллеги, родственники, звонят по телефону сверху, и тогда, проверяя сочинения, экзаменаторы берут синие ручки.
Это было печально, ибо нарушало чистоту корпоративного духа, но, по крайней мере, поддавалось объяснению. Однако никогда бы он не поверил, покуда не увидел сам, что солидные люди, читающие вдохновенные лекции о Дон Кихоте или князе Мышкине, способны брать взятки, как если бы работали не в университете, а в отделе по учету и распределению жилплощади. Тёма был искренне и глубоко этим оскорблен. При всем своем практицизме он был в отношении университета идеалистом, он любил его и считал, что университет – это островок, пусть относительной, свободы и независимости духа. Ну хотя бы настолько, насколько в этой стране это вообще возможно. Ведь есть же разница между тем, когда человека принуждают совершить гадость и когда он сам ищет, как бы ее совершить. Он допускал для порядочного человека первое, но исключал второе и теперь почувствовал себя институткой, отданной в бордель.
Возмущаться, протестовать, взывать к совести – все было бесполезно. Все равно были списки тех, кто в любом случае поступит, и тех, кто ни под каким видом поступить не должен, все равно репетиторы принимали экзамены у своих учеников, и это входило в плату за уроки. И Тёма уступил, он закрыл на все глаза, ни во что не вмешивался, будто не был ни деканом, ни председателем приемной комиссии. Он решил, что осенью уйдет в отставку, уйдет в чистую науку и гори все синим пламенем. Слава Богу, у него детей не было и хлопотать ему было не за кого. Однако умыть руки вполне Артему Михайловичу не удалось.
В последний день к нему пришел секретарь комиссии и сказал, что списки составлены не до конца. Оставался так называемый полупроходной балл – этот камень преткновений всех экзаменационных комиссий. Из нескольких десятков человек, не дотянувших полбалла, он должен был отобрать семерых.
– Но почему один я? – возмутился Смородин.
Секретарь пожал плечами и усмехнулся. Все было понятно: никто больше не хотел брать на себя эту ответственность. Кому ты станешь потом доказывать, почему этого взял, а того нет. Тут приходится рвать по живому, одно неверное движение и не то что из деканов, из университета вылетишь. Это тебе не писульку какую-то там подписать. Угораздило же факультет словесности стать пансионом благородных девиц – тут такие интересы сшибаются, такие фамилии мелькают, что оторопь берет. А его, Тёму, бросили, как щенка, и никто ему не объяснит, как быть, чтобы не прослыть ни юдофилом, ни юдофобом, а вернее, понять, что теперь выгоднее, как проявить себя в меру либеральным – все ж университет, а не казарма, – но в то же время строгим и партийным.
Декан с безнадежным унынием глядел на примелькавшиеся фамилии, к семи часам насчет троих наконец позвонили, и, преодолевая отвращение к самому себе, Смородин внес их в заветный список, еще троих он вписал за какие-то необыкновенные характеристики и грамоты. Оставался один, но на этого одного сил решительно не было. Артем Михайлович выжидательно поглядывал на телефон, но никто не звонил, факультет опустел, в коридоре бродила недовольная уборщица, собирая шпаргалки, из открытого окна накатывало прохладными сумерками, сверкал и переливался огнями город за рекой, и усталый взгляд председателя вдруг наткнулся на странное имя – Савватий.
«Из попов, что ли?» – лениво подумал Тёма и взял личное дело. Родился в 1964 году в Воркуте, мать повар, отца нет. Кой черт только занес этого Савватия в Москву и как ухитрился он набрать столько баллов? Или, может быть, у него тетя в Госплане, а дядя в Минвузе? Но нет – тогда позвонили бы. И потом три пятерки и тройка напоследок. Нет, никого тут нет.
Тёма бросил личное дело Савватия в общую кипу и снова погрузился в мысли о низости человеческой натуры. Но что-то словно зацепило его. Отца нет, мать повариха. А что, если взять этого Савватия? Не сравнивать достоинства прочих родителей – все равно на всех не угодишь, а взять вот такого чистенького. И в случае чего сказать: классы у нас пока еще никто не отменял, так что не будем забывать, товарищи, дети кухарок должны укреплять и пропагандировать словесность.
Артем Михайлович злорадно усмехнулся, представив, как щегольнет этой звонкой фразой, занес недостающую фамилию в список, снова звякнуло в кабинете стекло, кто-то громко засмеялся на улице, и на смену мелькнувшему удовлетворению опять пришла тоска. Он пробежал глазами фамилии двухсот пятидесяти будущих любителей отечественной и зарубежной словесности и поморщился. Ну, куда столько? Чьи-то сынки и дочки, ткни в каждого второго – блатной, бороды русских писателей обросли исследователями, как днища кораблей паразитами. Всяк кормится, всяк норовит написать какую-нибудь чушь, которую только такие же бездельники и бездари читают.
А наука хиреет, ни одного мало-мальски ценного исследователя, ни одного крупного имени нет, и это в университете с его старой школой, с его традициями. Во что превратили факультет, Боже мой! Вот горькая участь науки, ставшей забавой для власть имущей дряни. Закрыть нас надо, и давно бы закрыли, когда бы тут не работали жены министров, дети маршалов, зятья членов политбюро. А он над ними начальник. И смех и грех. К черту, все к черту, бежать отсюда немедленно, без оглядки! Но как бежать, если твое сердце любит это вольное слово – университет, если оно не может видеть, как он пропадает? Ведь все равно всеми правдами и неправдами сюда прорываются честные и талантливые люди, все равно какой-то шанс что-то сделать есть.
– Савватий, – пробормотал Артем Михайлович. Может, у него хоть что-то получится? По крайней мере, вот человек, про которого наверняка можно сказать, что поступил он честно и не потому, что его натаскали на экзамены как собаку на утку, а потому, что голова у мальчика светлая. Только б ему впору не теперь, а лет двадцать назад сюда прийти. Кто его теперь здесь учить станет?
Смородин захлопнул ненавистную папку и поплелся домой. Была чудная летняя ночь, в городе пахло сыростью и опадающей листвой, в гостиной у Барятина сидели по традиции в эту ночь ученики и беседовали о важных и интересных вещах, и Тёма вдруг почувствовал какое-то невыразимое, безумное одиночество, какого не чувствовал уж много лет.
Что-то странное мучило его в эту минуту, и на этом фоне мелочными и глупыми казались мысли и о факультете, и о вступительных экзаменах, хотелось не то напиться, не то куда-то уехать, и наперед зная, что все равно не заснет, Артем Михайлович долго брел вдоль набережной Москвы-реки в сторону вокзала, подолгу останавливался и глядел на мерцавшую воду, а перед глазами вставала позабытая картина городка на берегу озера, светлая ночь и пряный запах цветов. Он не помнил ни названия этого городка, ни когда это было, но мелькнувшее воспоминание согрело его и утешило.
В ту же минуту усталой женщине в далеком полярном городе, где уже наступила осень, приснился высокий, красивый, как Лель, мальчик.
– Не тревожься, мой ангел, – шепнул он, – я для него все сделал.
Тася проснулась и заплакала, теперь уже не боясь никого потревожить, а утром ей позвонил Саввушка и растерянным голосом сказал, что он, кажется, поступил.
Возможно, Артем Михайлович и не ошибался насчет того плачевного состояния, в коем пребывал в эту пору факультет словесности, но Саввушку университет не разочаровал. Ибо в конце концов университет есть нечто большее, чем лекции, и молодой ум всегда найдет в нем достаточно пищи.
Поначалу юноша кинулся со всем своим простодушием и энтузиазмом ходить на занятия, записывал все дословно и не мог до конца поверить, как это его угораздило сюда попасть, когда, казалось, все было кончено. Он ловил на себе косые взгляды иных преподавателей, без тени смущения рассказывал им про добрую свою матушку, нисколько не озадаченный, с чего бы это преподавательница по английскому языку, та самая, что чуть не преградила ему путь в храм науки, смотрит теперь как на восставшего из гроба и интересуется его родительницей – уж не столоваться ль она решила в «Огнях Заполярья»? Но очень скоро и лекции, и семинары, кроме двух-трех, показались ему скучнее школьных уроков, и для Саввушки начался другой университет – попойки, похмелья и хриплые яростные споры в прокуренных комнатах общежития.
Славное это было местечко – общага! Построенное в форме креста недоучившимся модернистом, сверху донизу населенное клопами и тараканами, скольких выпестовало оно людей! Непризнанных гениев из сибирских городов и признанных бездарей из столиц союзных республик, страдальцев, стукачей, любителей футбола или любителей балета, нахлебников из стран социалистического лагеря и третьего мира. Там месяцами не ходили на занятия, но за неделю до сессии вдруг резко спохватывались, и пустовавшие семестр аудитории заполнялись веселым гулом. Там сессия растягивалась на весь следующий семестр, стараясь угодить надзиравшим за молодыми умами преподавателям общественных наук, Ленина звали не иначе как Владимир Ильич, а отвечая на простейший вопрос «Выготского читали?», с достоинством ответствовали: «Готского? Конечно, читал!»
Там бедствовали, тащили хвосты, подрабатывали грузчиками и уборщицами, там жили нелегально давно отчисленные, и все они, дворники и отличники, именные стипендиаты и начинающие алкоголики, комсомольские активисты и просто люди, с ужасом думали, что однажды вся эта лафа кончится. От лучших в мире театров и пивных придется возвращаться в свои Ждановы, Мурмански, Петропавловски камчатские и казахстанские, в десятки других больших и малых весей державы, казавшиеся после Москвы чем-то невыносимо пошлым и убогим.
Но пока не пришла эта печальная пора – гуляй, студент, гуляй так, чтобы потом о тебе рассказывали легенды, сколько ты мог выпить, сколько ночей подряд не спать, смейся и презирай тех, кто живет иначе и хочет обмануть судьбу, – все равно никуда ты от нее не денешься, а вот вспомнить тебе будет не о чем. Да и тебя самого здесь забудут.
К концу первого семестра Саввушка чувствовал себя в общаге как рыба в воде. Он просыпался с хмельной головой в чужих комнатах, не сразу сообразив, где находится, а тут уж звали на Строителей за пивом. Затоварятся полными сумками, купят на закуску хлеба и кабачковой икры и – пить до утра. Спорить, читать друг другу свои и чужие стихи и с криком «Старик, ты – гений!» снова пить. Какие к черту препы с их идиотскими нравоучениями и угрозами, когда один Саввушкин сосед – непризнанный писатель по фамилии Одоевский из знаменитого дворянского рода, а другой – еще более непризнанный поэт из всемирно известной Купавны. Что там семинары, что там сессия и коллоквиум, когда тут до пяти утра решается вопрос, есть Бог или нет, кто гениальнее, Пушкин или Высоцкий, и где, наконец, достать еще в этот час выпить.
Вероятно, непривыкший к таким питейным и интеллектуальным нагрузкам организм юноши скоро надорвался бы и от помрачения ума наш герой сам бы принялся писать стихи, но в его судьбу опять вмешалось провидение, и чудесным образом Саввушка был спасен. Спасение это пришло глухой ночью, когда, с пьяных глаз перепутав двери, он сунулся в чужую комнату и обомлел. Там сидело за столом небесное создание с ангельски склонившейся над книгой головкой, и, еще не видя ее лица, Савва почувствовал, что ноги его приросли к полу и никакая сила их не оторвет.
Аккуратная головка повернулась, на лице у создания появилась досада, но потом она сменилась удивлением, и Саввушка тотчас узнал сероглазую хозяйку.
– Так как вас зовут, сударыня? – спросил он хрипло.
– Неужели поступил?
Мигом выветрился из головы хмель. Саввушка сидел на краю стула, пил чай с малиновым вареньем и только сейчас в этой чистенькой комнатке с голубыми занавесками, напоминавшей обыкновенный дом, почувствовал, как соскучился за эти полгода по теплу и уюту. Как устал от одиночества, почти детского, нападавшего на него в Воркуте, когда он просыпался от слез матери и лежал в темноте, боясь выдать себя каким-то движением.
Он рассказывал что-то про себя, про вступительные экзамены и редкостное везение с проходным баллом, про поэта и прозаика и их шальную жизнь, девица качала головой, смеялась, хмурилась, подливала чаю и подкладывала варенья. Саввушка вспотел и хотел в туалет, но стойко терпел, не смея вспугнуть нечаянное счастье. Наконец ему было велено идти к себе, и, получив разрешение иногда заходить в гости, он отправился восвояси без вина пьяный. Сердцу его нужно было совсем немного, чтобы пропасть.
Ее звали Ольгой. Среди факультетских дев, делившихся на тех, кто до посинения сидит в библиотеке, томно вздыхая над стилистическими особенностями «Декамерона», и тех, кто весело и вольготно изучает их на практике, в библиотеку ни разу не заглянув, она была счастливым исключением. Однако Саввушкины друзья его выбор не одобрили. Это был редкий случай, когда поэт и прозаик, отложив свой вечный спор, сошлись во мнении и в один голос заявили, что она баба, конечно, видная, но себе на уме, а такие слишком себя ценят и ничего путного у тебя с ней не выйдет. А если и выйдет, добавил поэт, сам пожалеешь. Так что лучше, старик, оставь ее в покое – пусть ловит себе жениха, а на факе и без нее клевых герлов хватает. Однако Савва этим благоразумным советам не внял.
Он приходил теперь каждый вечер в угловую комнатку на десятом этаже в отутюженных брюках и начищенных ботинках, приносил цветы и шоколад, пока Ольга сама не запретила ему этого делать, разумно заметив, что деньги мать ему совсем для другого присылает. Саввушка слушался ее во всем. Он перетекал в руки своей прекрасной дамы как сыпучий песок и вскоре почувствовал себя одновременно Буратино и Пьеро в гостях у Мальвины.
А она стала требовать, чтобы он бросил загульную жизнь, взялся за ум и ходил если уж не на все лекции, то хотя бы на половину, остальное изучал по книгам и не терял понапрасну годы, какие никогда не повторятся, проверяла конспекты и с невыученными уроками, как школяра, до себя не допускала.
Но легко сказать – возьмись за ум, когда у тебя в комнате до утра гуляют братья-писатели, сочинившие манифест свободного творчества, кроют последними словами продажные редакции толстых журналов, отвергающие их гениальные опусы, а на твои робкие замечания, что не худо бы прилечь на пару часов и сходить хотя бы завтра на занятия – экзамены ж на носу, – заявляют, что сессия – это все туфта, вылететь из универа еще труднее, чем в него попасть.
Саввушка разрывался между друзьями и Ольгой, не подарившей ему, однако, до сих пор ни единого поцелуя, и не знал, как быть дальше. Душа и тело его жаждали любви – стыдно сказать, он был еще девственником. Она это быстро раскусила и, когда Саввушка пытался выйти из повиновения, больно щелкала по носу. Все его попытки перенести их отношения из-за стола с чаем и малиновым вареньем в постель кончались ничем: Ольга насмешливо говорила, что не хочет брать грех на душу и соблазнять невинного мальчика.
Мальчик в тысячный раз проклинал себя за то, что в минуту откровения рассказал ей про воркутинскую кокетку – свою первую и единственную любовь – и признался тем самым в полном отсутствии у него любовного опыта, клялся сам себе, что больше уж точно ни одной женщине доверять не станет, но не нужна ему была никакая другая женщина.
В конце концов между ними установились довольно своеобразные отношения. Она пообещала, что за каждую посещенную лекцию будет его целовать и впрямь целовала, так что голова у него шла кругом, но стоило ему захотеть чего-то большего, как она легко отстранялась и раскрасневшийся Саввушка оставался ни с чем. Эх, знать бы ему тогда, сколько еще это наказание продлится и сколько кровушки выпьет у него нижнетагильская Мальвина, может, и перестал бы он гладить брючки и к ней ходить, может, послушался бы советов друзей, которые дурного не пожелают, но люди его типа не склонны часто менять объекты любви. Отлученный от прелестного тела, но зато приобщенный ко всем культурным ценностям столицы, начиная Таганкой и кончая Большой Грузинской, Саввушка высох, почернел, в его облике появилось нечто романтическое, и не одна факультетская барышня на него заглядывалась, но он ни на кого не глядел и не думал сдаваться.
Друзья махнули на него рукой, принялись писать совместный эпический труд, надеясь одолеть твердолобого врага, соединив свои творческие усилия, но быстро разошлись во взглядах, учиться им окончательно надоело, и перед летней сессией оба забрали документы. Поэт решил перевестись поближе к прозе жизни в мясо-молочный институт, а прозаик подался егерем на Байкал. Саввушке оба завещали не скурвиться, почаще пить за их здоровье, а если все к черту надоест, то ехать на берега славного моря, где нет ни московской спеси, ни подлых баб.
В их отсутствие он сдал летнюю сессию куда лучше зимней, заработал стипендию и уйму поцелуев, после чего шальной, с разбитым сердцем отправился на побывку в Воркуту. Он чувствовал вину перед матушкой за то, что мало и скупо писал, был ласков и внимателен как никогда, рассказывал про Москву и свою жизнь в самых лучезарных тонах, хвалил университет и говорил, что люди там все основательные, ходят на лекции, а потом до полуночи сидят над книжками, и скромно давал понять, что он среди них не самый последний.
«Ну весь в отца», – вздохнула Тася. В душе она надеялась, что случилось чудо и Тёма с Саввушкой встретились друг с другом, она и так и эдак пыталась повернуть разговор, но Савва ее робких попыток не замечал.
Он был мысленно в Москве, тосковал по Мальвине, по шумной и бестолковой жизни и глядел на школьных друзей с сожалением. Странно было подумать, что кто-то может жить в этом захолустье и не замечать его ничтожества, когда на свете есть Москва, университет. Он рвался туда навстречу любви и сказочной жизни и был до того заносчив и невыносим, что обиженные одноклассники не выдержали и напоследок надавали своему бывшему предводителю и борцу за всемирную справедливость изрядных тумаков. «Ну и хрен с вами», – подумал он и, закрыв глаза, стал думать об Ольге.
Второй курс начался, однако, с того, что вместо счастливого свидания с возлюбленной Саввушку упекли в «Ахманово» убирать второй хлеб, а когда он вернулся в общагу, то его поселили в новую комнату, и с этого момента жизнь пошла кувырком.
Странная это была, ей-богу, комната! Здесь не было на стенах ни обнаженных красоток, ни солистов группы «Роллинг стоунз», ни футболистов голландского «Аякса», ни репродукций Рембрандта или портрета Льва Толстого на худой конец, а висели на стенах – без этого ни одна комната в общаге обойтись не могла, обойди их все сверху донизу – какие-то смурные бородатые люди.
Такими же смурными были и новые Саввушкины соседи: один маленький, с редкой всклокоченной бороденкой ржавого цвета и горящими глазами, а другой, напротив, отчаянно юный, долговязый, картавый и идеально круглоголовый.
На Савву они посмотрели настороженно и выпить за знакомство отказались. Саввушка только пожал плечами – много чести – и повесил рядом с бородачами придурков собственного бородача: портрет Че Гевары в шахтерской каске, переснятый из книги в серии «Жизнь замечательных людей».
Придурки переглянулись.
– Хиппуешь? – строго спросил тщедушный. Савва сдвинул брови: героический партизан был дорог ему как память о тревожной молодости.
– Гома, – спросил картавый, – а это тот самый тип, котогога Кастго отпгавил геволюцию делать?
– Он сам поехал, – возмутился Савва.
– Ишь ты, – усмехнулся Рома и поглядел на нового жильца с любопытством. – Ты, товарищ, стало быть, революционер?
– Да, – ответил он со злостью, – революционер. А что, нельзя?
– Да нет, можно, – пожал Рома плечами. – Интересно мне только, как это ты ухитрился-то, здесь год проучась, остаться таким девственным?
– Так и ухитрился. Однако Рома не отставал.
– Слушай, а в своей собственной стране тебе никогда не хотелось революцию сделать?
– Зачем? Ведь была уже, – глухо ответил Савва, чьи мысли после предыдущего вопроса ассоциативно переметнулись к Ольге, встретившей его после разлуки так нежно и хотя пресекшей в очередной раз попытки продвинуться дальше поцелуев, но как будто нечто пообещавшей.
Рома усмехнулся, и они протолковали до утра. Но на сей раз не о Боге и не о Пушкине. Непонятно, как только могла умещаться в этом тщедушном теле такая клокочущая энергия, однако отказать Роме в красноречии было нельзя. Саввушка был ошеломлен, и даже Ольга на время покинула его мысли. Как старая боевая лошадь, он услышал клич пылкой юности: несправедливость! И встрепенулся. Несправедливость творилась здесь, на его родной земле, и не только в редакциях толстых журналов, как полагали его прежние друзья!
Саввушкины соседи, впрочем, ни диссидентами, ни, упаси Боже, правозащитниками не были, да и кто бы стал их тут терпеть? Они занимались тем, что передавали друг другу, хранили и по возможности размножали литературу, считавшуюся по тем временам крамольной. А кроме того, писали на стенах факультетов жуткие лозунги, критикующие коммунистическую партию, чья история сидела у всех студентов как кость в горле.
Эти лозунги приятно будоражили публику, рождали множество слухов, стирались оперотрядом, потом снова возникали, а однажды на глазах у изумленного народа на факультете появились двое ладных мужичков, выгнали всех, кто был в этот момент в курилке, чьи стены особенно часто украшались подобными воззваниями, и перефотографировали их. Ничем другим похвастаться было нельзя, но и этого казалось достаточным, чтоб у кого надо болела голова.
В результате Саввушка в очередной раз благополучно похерил учебу и погрузился в глубоководное чтение. Но теперь он читал иные книги, и эти книги его перепахали. Он читал Солженицына и Зиновьева, академика Сахарова, Шафаревича, Авторханова, читал одного якобы опального историка, чье имя и называть-то не хочется, читал также Оруэлла, воспоминания Надежды Мандельштам и переписку Цветаевой, прочел роман Пастернака и вообразил себя Живагой, а Ольгу – Ларисой, прочел великолепные «Окаянные дни» – да мало ли тогда ходило по рукам литературы, из которой после «Архипелага» самое сильное впечатление на него произвела «Хроника текущих событий», неизвестно кем и как создаваемая и повествующая этому миру, что в нем есть бесстрашие.
Саввушка долго думал, стоит ли ему посвящать в эти дела Ольгу, и, не удержавшись, все же рассказал, втайне рассчитывая, что это возвысит его в ее глазах и она перестанет держать его за мальчика. Но она на удивление восприняла все в штыки, куда серьезнее, чем все его прошлогодние попойки, и велела выкинуть эту дурь из головы, потому что:
– Все это, милый, я уже читала и знаю.
– Читала?! – воскликнул он. – Но как можно, прочтя эти книги, делать вид, будто бы ничего не происходит, ходить на семинары по истории КПСС и, преданно глядя этим сволочам в глаза, лепетать про диктатуру пролетариата и руководящую роль их ублюдочной партии?
– А вот так и можно, – отвечала она. – Слава Богу, ни Пушкина, ни Достоевского в спецхране не держат. И не фига лезть на рожон – пупок надорвешь. Когда надо будет, все само собой рухнет. А у твоих дружков рожи, прости, отвратнейшие!
– Рожи тебе их не нравятся? – вскипел он. – Зато они не сидят как крысы по углам, а что-то делают. Уверяю тебя, что и Пушкин, и Достоевский тоже делали бы!
– Господи, – вздохнула она, – какое ж ты еще дитя! Ну, не сердись. Миленький, я тебя чем хочешь прошу, не связывайся ты с ними. Ну зачем тебе это надо?
Она стояла перед ним, безвольно опустив руки, и все дрожало в Саввушкиной груди. Он почувствовал, что в эту минуту смог бы добиться того, чего страстно желал почти год, казалось, глаза ее говорили: «Ну что же ты?» Она была совсем близко, но Саввушка отстранился:
– Чем бы это ни кончилось, я буду с ними.
– Ты еще салют отдай и крикни «всегда готов!» – Ее лицо мигом переменилось, и на нем снова появилась гримаса высокомерия. – Да пропади ты пропадом, но обещаю тебе, ты вляпаешься в какую-нибудь гнусную историю, а твои дружки выйдут сухими. А если у тебя есть время воду в ступе толочь и себя девать некуда, шел бы лучше на вокзал мешки разгружать, чем просаживаешь материнские деньги.
– Ну, это уж тебя не касается! – воскликнул он, уязвленный.
– Да живи ты как знаешь, но я тебя видеть больше не желаю.
– Как тебе будет угодно.
Так они мило поговорили, и Саввушка больше не захаживал в угловую комнатку на десятом этаже. Он просиживал теперь со своими новыми друзьями вечера на отделанных деревом кухнях в шикарных московских домах. Там пили виски, курили «Мальборо», и в облаках сладкого дыма витал дух инакомыслия, столь любезный томным хозяйкам этих обителей.
Они глухо обсуждали Афганистан, польскую смуту, слушали вражьи голоса, листали альбомы французской живописи, кто-то из гостей флиртовал, и среди этого великолепия и светскости Саввушка терялся, будто снова первый раз очутился в Москве. В этих домах были в почете Кандинский и Сальвадор Дали, здесь велись необычайно умные и многозначительные разговоры, к которым Савва ну ни с какого бока подкатиться не мог и чувствовал себя совершенным идиотом. Он с тоской вспоминал свою милую провинциальную Ольгу, но сделать первый шаг не решался.
На кухнях все уверенней говорили про скорые перемены, Роман пел соловьем, и Саввушка диву давался, откуда в этом парне была такая прорва сообразительности и бесцеремонности. Он находил общий язык со всеми: и в этих домах, и в пивных. Делать они тем не менее ничего не делали, но смаковали новые анекдоты и почитали себя людьми среди совдеповского быдла. Было вообще непонятно, за что и против чего выступают эти люди – им-то чем плохо живется? Своей беззаботностью они напоминали Саввушке веселых ребят, сдававших вместе с ним вступительные экзамены, и, разочарованный, он уж стал думать, как бы ему потихонечку от них отпасть и найти настоящих людей, – но тут случилось событие, которое давно должно было случиться, о чем не раз уже говорили, но во что невозможно было поверить.
Восхитительный, добродушный вождь, о коем классик еще с провидческой силой сказал: вот умер, а если разобраться, то ничего, кроме бровей, у него не было, – этот самый орденоносный символ преставился. В больших и малых аудиториях в час дня по московскому времени прерывались все лекции и семинары, вставали почтить память ушедшего студенты и либерально мыслящая профессура, совсем рядом, на Воробьевых горах, сухо прогремели артиллерийские залпы, и город отозвался на них гудками тысяч автомобилей.
Саввушка стоял в этот момент возле окна и глядел прямо перед собой. Он не испытывал ни радости, ни печали, и этот, похожий на весенний, день, выстрелы над рекой и гудки, напоминавшие свист болельщиков в Лужниках, – все это казалось нереальным, точно из обыденной жизни они все разом перенеслись в область сновидения и жив остался тот, кого так неудачно уронили в яму подле Кремлевской стены.
Обернувшись, Саввушка увидел вдруг Ольгу. Она не отвернулась от него, как прежде, когда они сталкивались в коридоре, а посмотрела немного печально и отрешенно. Саввушка подошел к ней и, отгоняя охватившую его робость, шутливо поздравил подругу со смертью тирана, стал рассказывать, как гудели они накануне на радостях в одном славном месте, куда без паспорта и пройти-то было нельзя – все оцепили.
Но помириться в тот раз им было не суждено. Мальвина оборотила гневное, заплаканное лицо и процедила:
– Недоумки!
И с точно такой же гневной жалостью смотрела на студентов сухонькая преподавательница латыни, любительница старых большевиков и Валерия Катулла – как в воду глядела. Огромная страна гадала, кто станет ее следующим вождем и чем будет отмечено его царствие, а радио принесло тревожную вещь, мигом переиначенную в анекдот: в стране свершилась сексуальная революция – к власти пришли органы.
Сразу же оказались закрытыми кухни на набережных Москвы-реки и улице Горького, затаились, боялись говорить даже в комнате, сняли со стен все портреты, включая героического партизана, а уже поползли слухи, один жутче другого, о массовых облавах, арестах, об усилении тюремного режима. Глушилась единственная фортка в свободный мир – вражий голос. Тогда-то и помянули покойничка: хоть и многих хороших людей он обидел, но такого безобразия при нем не было. А то ли еще будет?
Буквально за несколько дней их комната в общаге превратилась в книжный склад. Несли все, кто мог. Люди, еще вчера отчаянно смелые и готовые на что угодно, прижали хвосты и не глядели друг другу в глаза. Роман хватался за голову и убеждал струсивших соратников, что более идиотского места, чем общежитие, для хранения литературы придумать нельзя и в их же собственных интересах держать лучше все покуда у себя, но им несли и несли.
Тогда было решено переправить все самое ценное в камеру хранения и держать там, покуда не сыщется более подходящее место. Книгами набили знаменитый портфель, с коим Саввушка намеревался когда-то завоевать столицу, и отвезли на Ярославский вокзал. Раз в три дня ездили менять ячейку и на всякий случай шифр, но вскоре случилось непредвиденное.
Однажды вечером с вокзала вернулся бледный дрожащий Дима и не своим голосом объявил, что камера не открывается.
– Не может быть! – воскликнул Рома.
– Запегта, я честно деггал, – грустно подтвердил Дима.
– А в прошлый раз кто клал? – спросил Саввушка.
– Я, – отозвался Рома.
– Ты, может быть, шкаф перепутал?
– Вряд ли, – произнес он задумчиво, – разве что одну цифру.
– Ну, если только одну, то это не беда. Ее и самим вычислить можно.
Они составили все возможные комбинации и поехали на вокзал. Рома крутил ручку, Дима и Саввушка стояли на стреме, обливаясь потом, и всякий человек, приходивший класть или забирать вещи, казался им подозрительным. Все было как в кино: вот-вот выйдут могучие, угрюмые ребята в штатском и схватят нарушителей социалистической законности.
Однако все было тихо – только ячейка так и не отворилась.
– Значит, я перепутал не одну цифру, – заключил Рома, когда, подавленные, они вернулись в общагу.
– А может, хген с ним с погтфелем? Чего уж тепегь…
– Нет, – отозвался Рома еще более задумчиво, – не хрен. Мало того, что все пропадет, нас так или иначе вычислят. Не дураки же там сидят. Надо идти к дежурной.
– Ну так и пошли. Что же ты ганьше не сказал?
– Наивные вы люди. Ведь нас сперва перепишут со всеми нашими данными, а потом еще заставят подробную опись того, что в портфеле лежит, сделать. И где гарантия, что эта дежурная не вызовет милицию, если хоть одну строчку прочтет?
– Ладно, – сказал Савва, вставая, – давайте я, что ли, попробую.
Он налил себе водки, закусил ее головкой чеснока и отправился на вокзал. Там, дыша перегаром на толстую тетку в синем халате, стал плакаться, что он бедный студент, забыл портфель с конспектами, а их надо срочно сдавать. Тетка стояла неприступно и требовала паспорт – Саввушка напирал на то, что паспорт лежит на прописке, а без портфеля ему хана.
В конце концов, всласть наизмывавшись, тетка спросила:
– Какой номер ячейки-то?
Он ответил.
Тетка притихла и велела ему идти, сказав, что скоро придет. Но появилась она нескоро и, не глядя на него, открыла ячейку.
Какое же разочарование его ждало! Ячейка была абсолютно пуста. Тетка выругалась, и, когда ошеломленный юноша стал подниматься по лестнице, его вдруг окликнул незнакомый голос. Саввушка поднял голову и увидел веснушчатого парня лет двадцати пяти. Парень поманил его пальцем, точно обещал показать что-то интересное, и Савва как загипнотизированный отправился за ним. Следы его на время затерялись, и печально звякнуло стекло в просторном кабинете на двенадцатом этаже гуманитарного корпуса.
Прошло почти полтора года с тех пор, как новый декан приступил к исполнению своих обязанностей, а Артема Михайловича было не узнать. Это был уже совсем не тот, напуганный вступительными экзаменами и собирающийся бежать в отставку человек. Еще доучивались студенты, которых декан возил на картошку, а Артем Михайлович отпустил бородку, научился мягко похохатывать, говорить некатегорично, но убедительно, и на факультете стало тихо. Так тихо, что был слышен только его голос, и опрометчиво считавшие его за пластилин в чьих-то руках люди с изумлением замерли, ожидая, что предпримет новое начальство.
Смерть легендарного вождя, миротворца и миролюбца произвела на Артема Михайловича отнюдь не то удручающее впечатление, как на пугливых юнцов. Умненький Тёма почуял, что рухнула целая эпоха и жизнь станет иной. Он был убежден, что теперь на смену одряхлевшим вождям, министрам, директорам, ректорам и деканам придут новые люди, придет его, Тёмино, поколение, во многом более свободное и здравомыслящее, и это оно будет диктовать правила игры. А значит, он сможет сделать то, о чем мечтал с самого первого дня, когда впервые вошел в этот кабинет в качестве его хозяина, – сможет возродить факультет.
Это было то, ради чего он соглашался закрывать глаза на творившиеся вокруг гадости, идти на сделки и компромиссы, – факультет, его любимое детище, их требовал. Он знал, что изменить что-либо будет непросто, слишком многие люди заинтересованы в том, чтобы все шло по-прежнему, но Смородин был молод и напорист, а к тому же достаточно умен, чтобы в сутолоке чужих страстей держать нужное направление.
Да, знали бы они тогда, что за мысли сидят в Тёминой голове, сам Тёма не просидел бы в этом кабинете и часа. Но декан лавировал, делал никому не понятные маневры, какие-то кафедры сливал в одну, какие-то разъединял, вводил новые дисциплины, рассуждал о гуманизации образования и новых подходах и, предвосхищая своей странной политикой политику будущего вождя-реформатора, прибирал факультет к рукам.
Но что бы он ни делал, одна мысль неотступно его преследовала. Мысль о графе. Точно все, ради чего он тратил силы и нервы, забросил науку и часами дружески беседовал с отъявленными негодяями, делалось для того, чтобы добиться барятинского снисхождения и вернуть то время, когда они были вместе. Хотя теперь, став деканом и лучше поняв какие-то вещи, он мог бы многое сказать своему учителю.
Ведь в том, что все развалено до такой степени, что с нами нигде, ни в мире, ни в собственной стране, ни даже в университете, не считаются, есть и ваша вина, ваше сиятельство. Это вы от всего отстранились и дали себя уволить, это вы не стали пачкать руки в здешней грязи, предоставив это занятие другим. А знаете, как такая позиция называется? Возлагать на других бремена тяжкие и неудобоносимые. Но я не осуждаю вас.
Первое, что я сделаю, едва стану на ноги, я приглашу вас. Я поставлю вопрос таким образом: либо перед вами извинятся и покорнейше попросят вернуться, либо – я ухожу, и поверьте мне, они примут мои условия. Я опутаю их по рукам и ногам, я стану необходимым и незаменимым человеком, а потом, когда сделать со мной они уже ничего не смогут, я начну гнать их в шею и сажать на их места, на заведующих кафедрами, на ставки доцентов и профессоров – ваших учеников. Мы соберем их по всему свету, мы вытащим их из тех дыр, где они сидят, и создадим для них все условия, чтобы они могли достойно работать. Вы были неправы, граф, сейчас не время разбрасывать семена – слишком дурная почва. Сейчас надо объединяться во имя спасения духа. Вокруг нас ложь, беззаконие, вокруг нас все покупается и продается, произошло самое страшное, что могло произойти, и мы с вами, как представители факультета словесности, понимаем это лучше других – слово утратило свой божественный смысл, обесценилось и поэтому обесценилось все остальное. Но только понять этого никто не может – для них вначале было не Слово, для них слова – это кубики, из которых можно построить все, что угодно.
Мы живем в эпоху фельетонизма, нас очень мало, но мы, горстка верных духу людей, мы создаем свою Касталию.
Тёма в возбуждении прошелся по кабинету. Его живые, юношеские глаза засверкали от возбуждения, но мысли работали четко и трезво. Касталия – поразившая его воображение страна гармонии и духа – вставала перед ним. Артем Михайлович тосковал по ней как по золотому веку и никогда не мог понять, почему все-таки недолюбливает эту книгу Барятин.
Поздний посетитель легонько постучался в дверь и, не дождавшись отклика погруженного в сладостные мечты декана, вошел в кабинет. Увидев его, Смородин помрачнел.
Вошедший был человеком Тёминых лет, весьма интеллигентной наружности, его открытое лицо смотрело дружелюбно и прямо, умные улыбчивые глаза были какого-то необыкновенного василькового цвета, и одной встречи с ним хватило, чтобы настроение мгновенно повысилось. Есть же люди, от которых тепло идет как от печки. Но Тёме стало не тепло, а жарко.
Этот приятный во всех отношениях мужчина занимал на факультете словесности должность инженера, хотя и не вполне было понятно, по какой именно части он инженерил. Он присутствовал на всех ученых советах и совещаниях у декана, собеседовал с отъезжающими за рубеж и из-за рубежа приезжающими, задавал веселые вопросы и давал весьма ценные советы. Иногда приносил на какую-нибудь кафедру бутылку коньяка и запросто распивал ее с лаборантами и молодыми аспирантами, считался повсюду своим человеком, но его подлинная работа стала известна Артему Михайловичу только после назначения на нынешнюю должность. И уж на что, как говорилось выше, Тёма был человеком выдержанным и ни минуты не обольщался насчет того, в какой стране живет, но тут и его покоробило.
«Подожди, голуба, – подумал он мстительно, – придет время, ты у меня в первую очередь отсюда вылетишь. Никто из вас, сукиных детей, на пушечный выстрел сюда приблизиться не посмеет».
Инженер, как ему и полагалось, был человеком проницательным и однажды, глядя на декана безмятежными васильковыми глазами, принялся его увещевать.
– Артем Михалыч, дорогой мой, что же вы на меня все волком-то смотрите? Уж как я был рад, когда вас, молодого и энергичного, деканом назначили. Обеими руками вас поддерживал и буду поддерживать. Да поймите вы, пора оставить вам все эти интеллигентские комплексы. Не к лицу вам это, и я совсем не тот человек, за кого вы меня принимаете. У нас с вами общие цели, и я не меньше вашего заинтересован, чтоб факультет переменился. Я сам здесь учился, и мне, думаете, не обидно глядеть, во что его превратили. Да только ли факультет? – вздохнул он очень натурально.
«Сейчас закурит», – подумал Тёма.
Но инженер курить не стал.
– Вы правы, – продолжал он, – вы абсолютно правы: гнать надо поганой метлой всю эту нечисть, а на их место умных людей ставить. Но только без меня ничего у вас не получится. Сметут вас, голубчик. Сами ж видите, какие тут волки сидят. Они пока еще не понимают, что вы затеяли, а когда разберутся, места живого на вас не оставят. Вам бы меня держать в курсе ваших планов, и я бы, что знал полезное, рассказывал. И клянусь, ничуть бы вам не мешал – только помогал. Я ведь тоже, Артем Михайлович, считаю, – инженер усмехнулся и посмотрел на декана с такой обезоруживающей улыбкой, что у самого подозрительного человека на сердце бы отлегло, – что факультет, а не господа генералы должен решать, сколько будет дважды два. Я искренне говорю вам это.
– Благодарю, – сдержанно отозвался Тёма, – хотя и не вполне понимаю, что вы имеете в виду.
– Думаете, провоцирую я вас? – сказал инженер с горечью. – Эх, Артем Михайлович, до чего же трудно в этой стране умным людям друг с другом договориться. Оттого и стоим на месте.
Он ушел и к этому разговору больше не возвращался, а Смородин твердо решил, что ничего общего он с этим человеком никогда иметь не будет. В декане, как в истинном интеллигенте, жило стойкое убеждение против сыскного ведомства, а кроме того, хорошо усвоенный урок десятилетней давности, с которого началось его восхождение: если ты хочешь, чтобы с тобой считались, – умей показывать зубы.
Инженер все понял, он был по-прежнему любезен и добродушен, но Артему Михайловичу с некоторых пор стало казаться, что на его лице нет-нет да мелькнет беспокойство, и декан как мальчишка ликовал, понимая, что у непрошеного союзника земля под ногами горит ввиду отсутствия информации. А потому этот неожиданный визит Тёму встревожил: слишком уж молодцом держался сегодня его гость.
– Чем могу быть полезен? – сухо спросил Артем Михайлович, отметая какой-либо намек на задушевную беседу.
– Сущие пустяки, – проговорил инженер. С его лица не сходила улыбка: покой и доброжелательство излучала она. – Прямо уж и не знаю, что делать с нашими хлопцами. Мало того, что стены все перепачкали, так один еще с книжками попался.
– С Набоковым? – спросил Тёма презрительно, припомнив, как во времена его юности вышибли с факультета поклонника «Лолиты».
– Помилуйте, Артем Михалыч, – развел руками инженер, – стал бы я вас тогда беспокоить. Там дело хуже.
– Откуда же это хуже могло у него взяться?
– Ну этого он говорить, разумеется, не хочет.
– Уж не хотите ли вы, чтобы я его об этом попросил? – спросил Тёма высокомерно.
– Да нет, – пробормотал инженер, склонив голову набок и присматриваясь к декану, как художник к обнаженной натурщице. – Просто жалко парня. Ведь что, сволочи, делают, втянули его по молодости, на порядочности играют, а у парня судьба ломается. И парень-то талантливый, вот оно что, – добавил он задумчиво.
«Ну и дрянной же ты мужик», – подумал Тёма, изумленный таким иезуитством.
– Артем Михалыч, – вздохнул инженер, словно прочтя его мысли, – да что же это с вами такое? Ну ничему не верит! Да поймите вы, я к вам как друг пришел. Что вы все злорадствуете-то на мой счет? Чего добиться хотите? Чтобы меня убрали отсюда? Ну уберут! И пришлют на мое место какого-нибудь идиота, который будет стучать на вас ежедневно и развращать стукачеством ваших сотрудников. Это у нас запросто делается! Не могу я для этого парня ничего сделать, понимаете, не могу! Вы вообще, кажется, имеете весьма неверное представление о моих целях и полномочиях. Я здесь только для того, чтобы наблюдать. А вот вы…
– Что я? – вскинулся декан возмущенно.
– Вы могли бы ему помочь.
– Это как же?
– Напишите поручительство, что хорошо знаете этого студента, просите за него. Укажите, что он перспективен, талантлив, гениален, – словом, защитите его как отец родной, да заодно объясните, чтоб глупостями не занимался.
– Но ведь я его не знаю, – возразил Тёма.
– Знаете, – заметил инженер равнодушно, – у него, видите ли, имя еще такое необычное – Савватий.
– Мне это ничего не говорит.
– Бросьте, Артем Михалыч, ну, ей-богу, скучно.
– Это вы бросьте. Вы забываетесь, кажется, с кем говорите.
– Ну хорошо, – сказал инженер насмешливо, – и вы, разумеется, станете утверждать, что взяли этого парня с полупроходным баллом, потому что у него, ну, например, подходящее социальное происхождение. Так?
– Это не ваша забота, – отрезал Смородин и встал.
Но инженер и не думал уходить.
– А кстати, как так получилось, что ему последнюю – тройку поставили? Недоглядели, Артем Михалыч?
– Идите вы знаете куда!
– Н-да, – проговорил инженер после некоторого молчания, – я вас, кажется, недооценил. Эдак вы, мил человек, далеко пойдете. Надо ж, глазом не моргнул. Да отчислят его, поймите вы, отчислят. А может быть, еще что похуже сделают.
– Вы сделаете, – сказал Тёма жестко.
– Да, мы, – согласился инженер, вздохнув, – злая баба Бабариха.
– Кто, кто?
– Это я так. – Инженер поднялся, но возмущенное и даже несколько спесивое выражение декана его насторожило. – Послушайте, вы что хотите сказать, вы, может быть, ничего не знаете?
– Чего еще я не знаю?
– И она вам ничего не написала? Просто отправила его сюда, и все?
– Да кто «она»? Что за идиотская манера загадками изъясняться?
– Боже мой, – пробормотал инженер, – как я сам об этом прежде не подумал? Да ведь вы с вашим характером, наоборот, все бы сделали, чтобы только он сюда ни под каким видом не поступил. Слушайте, но должны же вы были в таком случае хоть что-то почувствовать, как-то догадаться. Вы же смотрели его личное дело. Ну, вы даете! Артем Михалыч, вы верите в судьбу? – спросил он вдруг с интересом.
– Не морочьте мне голову!
– Охота была, – усмехнулся инженер, к которому вернулась прежняя самоуверенность и безмятежность, – я только хочу поставить вас в известность, как частное лицо, заметьте, что студент, о котором мы так мило потолковали, – это ваш сын, Артем Михалыч.
Тёма побледнел, его руки непроизвольно сделали протестующий жест, готовы были сорваться какие-то слова, но инженер торжественно и строго покачал головой.
– Артем Михайлович, мы имеем дело только с проверенными фактами. Его мать Настасья Васильевна Кованова проживала в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году в Белозерске, где вы находились в это время на практике, а весной следующего года в Воркуте у нее родился сын.
– Почему в Воркуте? – спросил Тёма побелевшими губами.
– Потому что больше она нигде и никому не была нужна. Это, разумеется, ваша личная жизнь, и я ни в коей мере не собираюсь в нее вмешиваться, но мое предложение остается в силе.
«Я так и знал», – пробормотал Артем Михайлович, когда инженер вышел, и прижался горячим лбом к холодному дребезжащему стеклу, желая унять не то свою, не то его дрожь.
Чего-то подобного он в самом деле ждал всю жизнь!
В свое время белозерская повариха, о которой Артему Михайловичу так некстати намекнул его хорошо информированный собеседник, напрасно думала, будто ее князь был робок и тих. Кудрявый красавец Тёма был куда как боек, но только в мыслях, а при виде женского пола он испытывал примерно те же чувства, что древние греки перед троянским берегом.
Те знали, что первый из них, кто ступит на эту землю, будет убит, и потому медлили, а Тёма был неизвестно почему убежден, что первая его женщина непременно от него забеременеет и непрошенное дитя станет помехой на его великом жизненном пути.
По этой причине он отвергал одну за другой факультетских барышень, бросавших на него нескромные взоры, имел репутацию монаха, а сам ждал верного случая покончить с тяготившей его девственностью. Этот случай представился в Белозерске с тамошней дурочкой-поварихой, и Тёма думать о нем забыл. Он строил свою жизнь, удачно женился на обеспеченной хорошенькой москвичке (лучше бы, конечно, не женился, но что ему, безродному иногороднему аспиранту, оставалось делать, и не раз он вспоминал своего любимца Йозефа Кнехта, у которого, как известно, таких проблем в безбрачной Касталии не было), и кто мог подумать, что двадцать лет спустя худшие его опасения сбудутся и зачатый в первую темную ночь ребенок замаячит на его горизонте?
Он снова и снова вспоминал разговор с инженером, ходил, не замечая времени, по кабинету, и больше всего ему хотелось в эту минуту, чтобы только что состоявшийся разговор не имел места. Однако что было, то было – за грех молодости приходилось платить теперь, когда особенно важно было предстать перед недругами неуязвимым.
Артем Михайлович слишком хорошо понимал, что вздумай он теперь заступиться за мальчика, ему с радостью пойдут навстречу. Но тогда прощай, независимость, прощай, Йозеф Кнехт и Касталия, ничего у него не выйдет. Висит перед тобой, Тёмушка, крючок с аппетитной наживкой, Тёмушка его – ам! А оттуда, сверху, веселый рыболов с васильковыми глазами воскликнет: попался, который кусался? На то они и рассчитывают и как, поди, обрадовались, когда узнали, откуда этот Савватий взялся. Глазам не поверили.
Неосторожный, глупый мальчик, как же ты так подставился? И не могу я тебе ничем помочь. Нельзя мне этого, ну никак нельзя. Отчислят его или еще что похуже сделают. Это они могут, с мальчиками воевать – это их милое дело.
Тёма сжал руками голову, тер виски, но придумать ничего не мог. Такая тоска на него напала – хоть волком вой! Как могло так случиться? Вот и пробуй после этого уйти от судьбы – все равно она над тобой посмеется и настигнет, как царя Эдипа. Злобный, чужой рок. А мальчик? Что они с ним делают? Где он?
Он снова почувствовал бессилие, как в то лето, когда себе на лихо вписал Саввушку в этот список, снова мучила его давешняя мысль: порядочный человек имеет право совершить подлость не иначе как принуждаемый насилием, но к чему отнести этот случай?
Одно он знал наверняка, что звонить инженеру не станет. Сумеет себя убедить, хотя в душе ему очень захочется это сделать. И все-таки не станет, нет. А то, что парня отчислят – что ж, за ошибки надо платить, и потом опыта наберется, умнее будет. А если действительно талантлив, все равно дорогу себе найдет. Только б они его не сломали.
Артем Михайлович мучился напрасно. В эту минуту Саввушка находился вовсе не во внутренней тюрьме на Лубянке или в другом подобном месте. Он стоял, как когда-то очень давно, на смотровой площадке Воробьевых гор и глядел на Москву. Но теперь величественная картина города не будила в нем прежних чувств. Был сырой мартовский вечер, шли ко всенощной в маленькую церковь над обрывом реки старушки, а Саввушка был погружен в свои думы. Час назад между ним и молодым парнем с веснушчатым лицом состоялась очень странная беседа, и теперь Саввушка пытался понять, каков же ее итог.
Во-первых, ему вернули портфель, во-вторых, ему не задали ни одного вопроса, откуда, как и через кого к нему попало содержимое этого портфеля. Напротив, Саввушка и молодой человек, назвавший себя Женей, очень дружески прогуливались между двумя желтокаменными заборами церковного гетто и неспешно беседовали. Предметом их беседы были книги, которые читал Савва в последнее время, и Женя проявлял большую осведомленность об авторах этих книг.
Об иных он отзывался с уважением, о других, напротив, пренебрежительно, советовал почитать кое-что еще, какие-то вещи подтверждал, какие-то опровергал, и Саввушка получал истинное наслаждение от их беседы, даже забыв на время, кто его собеседник.
Впрочем, говорил большей частью сам Савва. На московских кухнях к нему относились свысока, и в общих разговорах он обычно помалкивал, поскольку не умел ни острить, ни ерничать, ни рассказывать анекдоты. Однако ж ему было что сказать – недаром коньком его была справедливость – и теперь он стал развивать свою давнюю любимую мысль.
– Когда вы преследуете людей, которые с вами борются, – говорил он, – я могу это понять. В конце концов, они знают, на что идут, и я тоже это знал. Но моя мать, которой в голову ни разу не приходило, что в этой стране что-то неладно, моя мать, всю жизнь работавшая как проклятая и столько лет прожившая в бараках и общежитиях, которой всего сорок лет – но видел бы ты ее! – она-то за что расплачивается? Она с чистым сердцем голосует за вас на каждых выборах и не может уехать из города, погубившего ее здоровье? Вы всех закрепостили бессмысленно, жестоко, а у меня, кроме нее, никого нет, и у нее одна жизнь. Все это ваше благополучие за этими заборами – все на ее горбу выстроено!
– Видишь ли, как это ни прискорбно, так было и будет всегда, – осторожно ответил Женя. – В одной очень любопытной книжке написано, что любая власть создает и кормит элиту, на которую опирается. Другое дело, что со временем эта элита вырождается и требует обновления. Судьбы же отдельных людей вообще от этого не зависят. Будь у нас тут самое что ни на есть справедливое общество, твоя мать все равно была бы несчастна. Согласись, что гораздо больше, чем вся вместе взятая система, перед ней виноват один-единственный человек – твой отец.
– У меня нет отца, – быстро ответил Савва.
– Он все равно где-то есть, – возразил Женя, – и несет какую-то ответственность и за тебя, и за нее.
– Нет.
– Но почему? Ведь, может быть, он не так виноват перед вами, как тебе кажется.
– Ты с отцом рос?
– Да, – пожал плечами Женя.
– Тогда тебе не понять, что должен чувствовать десятилетний мальчик, когда просыпается ночью от слез матери и слышит, как она шепчет это имя. И всю жизнь одна, одна…
– Ты очень категорично судишь.
– Женя, он должен был ее найти. И хватит об этом.
– Ну хорошо, допустим, все верно, – согласился Женя. – Дело только в нас. Мы плохие, а вы хорошие. Нас надо запретить, уничтожить, чтобы все стало честно и справедливо. Но не кажется ли тебе, что твои друзья, если когда-нибудь они дорвутся до власти, сами переселятся в эти особнячки, а бараки станут еще более ветхими и больше людей будут в них жить?
– Ты не имеешь права так говорить о людях, которые жертвуют собой ради других.
– Я не о тех говорю. Я говорю о людях, которые горазды только языком молоть, а когда запахло гарью, нашли крайнего. Знали, что ячейка обнаружена, или догадывались и послали тебя. Эти никогда ничего хорошего не сделают.
– С чего ты взял, что они знали или догадывались?
– Я знаю, – повторил Женя. – Ты, Савва, когда глупеньким мальчиком был, но все таким же честным да справедливым, написал в некое учреждение письмо с просьбой, чтобы тебя послали в далекие страны революцию делать. Покажи я тебе сейчас это письмо, ты устыдишься чего доброго. Ты теперь поумнел, с нами воюешь. А я тебе говорю, что лет через десять тебе точно так же стыдно станет, что ты этим помогал. Ты сейчас за них готов в огонь и в воду идти, но что хорошего будет, если они за твоей спиной отсидятся?
– Значит, тому быть, – хмуро ответил Савва.
– Нет, – возразил Женя, – это было бы, пользуясь твоим любимым выражением, несправедливо.
– Отчего же несправедливо?
– Потому что ты их умнее, только своим умом будешь ли ты когда-нибудь жить? Поверь мне, ты имеешь гораздо больше оснований учиться в университете, чем кто бы то ни было другой. Так что забирай портфель и ступай, Че Гевара! Только больше не попадайся.
– Подожди, – сказал Саввушка хрипло. – А что от меня за это потребуется? Докладывать время от времени, как настроение в студенческой среде? Или еще что похуже? Думаешь, я не знаю, как вы наших девочек к себе переводчицами берете, а потом иностранцам в постель подкладываете?
– Но ты же не девочка, – усмехнулся Женя. – А стукачей нам хватает. Так что иди спокойно и ни о чем не думай. И постарайся найти себе толкового научного руководителя. Сейчас для тебя это самое важное.
– Зачем тебе все это нужно?
– Просто так. Нравишься ты мне.
– Ну хорошо, – сказал Савва, на секунду задумавшись, – допустим, ты, Женя, честный и благородный человек и действуешь из каких-то высших соображений. Но не получится ли так, что завтра придет нехороший дядя, передаст от тебя привет и велит мне должок заплатить.
– Не выйдет. Видишь ли, у нас есть некоторые правила, и никто к тебе больше касательства не имеет. Прощай, а если помощь моя потребуется, вот телефон – позвони.
Женя исчез в прекрасных весенних сумерках, а Саввушка так и остался на смотровой площадке. Он думал, думал, что это значит, и вдруг напала на него какая-то тоска. Ловушка это или нет, догадывались ли ребята, что с ячейкой что-то неладно, или Женя морочит ему голову, что, наконец, в самом деле этому Жене от него надо, что сказать, откуда у него портфель и кто поверит в то, что его так просто отпустили, – какая, к черту, разница!
Он вдруг почувствовал, что за это время произошло нечто более страшное, чем неудача с ячейкой или трусость его друзей, произошло более страшное предательство, и Саввушке сделалось от этого больно. Он снова ощутил себя безмерно одиноким с этим дурацким портфелем перед громадой университета, снова захотелось ему куда-то уехать, и не волнение, а печаль навевали на него огни за рекой.
Саввушка брел по набережной, потом сел в троллейбус, доехал до общежития и почувствовал, что ноги не несут его ни в какое иное место, как в комнатку на десятом этаже.
– Пришел? – спросила Ольга насмешливо, но, приглядевшись, отступила на шаг. – Что это с тобой? Портфель у тебя какой смешной.
– Грусть-тоска меня съедает, – пробормотал Савва, – можно я у тебя посижу немного?
– Ну вот, – сказала она с укором, – то не было его чуть ли не полгода, то здрасте: грусть-тоска. Чего пришел-то тогда?
– Неохота мне никуда идти. И портфель этот пусть у тебя полежит.
– Пусть. Да и ты оставайся, пока я одна. Ну что уставился? – покраснела она. – Лучше подумай, где мы жить с тобой будем.
В это же самое время измученному нравственными терзаниями Артему Михайловичу позвонил домой инженер.
– Я с хорошей новостью, – пророкотал он, – Савва будет учиться.
Декан хотел возразить, что он ни о чем не просил и это его, инженера, собственная инициатива, а он никакого отношения ни к каким студентам не имеет, но вместо этого прикрыл трубку рукой и проговорил:
– Простите, а вы не могли бы сказать, он… Тёма замялся, и инженер, как заметил бы Бальзак, человек светский до мозга костей, усмехнулся:
– Не беспокойтесь. Он про вас ничего не знает.
– Могу ли я попросить, чтобы и впредь…
– Как вам будет угодно, – безмятежно ответил голос на том конце провода.
В доме был большой прием, Смородин вернулся к гостям и с ненавистью посмотрел на критиков и критикесс, пьющих чай с булками, еще не разметенных по разным углам литературного ринга и мирно толкующих о проблемах бытия и быта, жанров и стилей.
«Неужели все рухнуло?» – подумал он с тоской.
И словно отвечая на его немой вопрос, один из критиков ни с того ни с сего задумчиво произнес:
– Нет, господа, в нашей дикой стране тысяча лет еще пройдет, пока что-то изменится к лучшему. Верно, Артем Михайлович?
Однако ж, что бы там ни говорили умные люди, месяца два спустя факультет словесности охватила паника. Загадочный, до той поры чего-то выжидавший декан приступил к действиям. Он начал с того, что заменил все стекла в кабинете, так что больше они не дребезжали, а закончил тем, что заменил нескольких заведующих кафедрами и отправил на пенсию наиболее слабых преподавателей, так что задрожали все остальные. Время было смутное, Смородин вел себя решительно, и роптать никто не посмел. В декане чувствовалась неожиданная сила.
Те могущественные люди, которых Тёма покуда не трогал, но одного движения пальцем которых еще год назад было бы достаточно, чтобы смешать его с книжной пылью, сидели и не высовывались. Артем Михайлович ходил по факультету, как царь Петр среди бояр, и драл бороды.
Потом на общем собрании своих подчиненных он объявил царскую волю. Отныне под его личный контроль бралось все: вступительные экзамены, распределение, аспирантура, защита диссертаций и загранкомандировки. Никто из преподавателей не имеет права давать частные уроки абитуриентам, поступающим в университет, и всякий, кто будет в этом замешан, будет уволен незамедлительно. Отныне ни одна липовая диссертация в этих стенах защищена не будет, никто не будет принят на факультет или зачислен в аспирантуру в обход общих требований.
Тёму выслушали в гробовом молчании и, подавленные, разошлись. Это был его звездный час – он расплатился за все сполна. Но никому в голову, кроме одного-единственного человека, не могло прийти, что настоящей радости одержанная победа декану не принесла.
И дело было даже не в том, что он должен был сверять с этим человеком все свои шаги. Инженер никогда не преувеличивал своей роли и не стремился унизить своего партнера. Напротив, все делалось в высшей степени деликатно, и уже если говорить о пользе дела, то без этого человека Тёма только б наделал ошибок.
Артема Михайловича подкосило другое, и инженер с присущей ему проницательностью это понял, задав однажды вопрос, попавший в самое яблочко.
– Кстати, все хочу спросить, а как поживает Алексей Константинович?
– Барятин? – пожал Тёма плечами. – Понятия не имею.
– Ведь вы правы были тогда. Напрасно старика выгнали. Нам бы извиниться перед ним да попросить вернуться.
– Вот и извинились бы.
Этот разговор был Артему Михайловичу в высшей степени неприятен. Тот человек, ради которого все было затеяно, кому давно уже торжествующим голосом передал Артем Михайлович приглашение возглавить кафедру древней словесности и взять на нее кого он пожелает, отказался вернуться на факультет. И отказался как-то обидно, даже не утрудив себя выдумать причину. Просто «нет» сказал, и все. И добавил в коротком разговоре, не впустив Тёму в квартиру:
– Факультета больше не существует. Вы его добили.
Для Артема Михайловича было равносильно пощечине. Он сбежал вниз по заплеванной лестнице, сначала даже не осознав, что произошло. А потом, присев в пустынном дворе, где сгребал листья дворник в драной телогрейке и распивали бутылку двое алкашей, вдруг подумал, что всю жизнь завидовал своему учителю за те легкость и бесстрашие, с какими он живет, за то, что он никогда не цеплялся ни за положение, ни за славу, а нес их в себе и ни перед кем не унижался. А вот его ученик, даже став деканом, как был, так и остался лакеем. И потому сидит в его кабинете голубоглазый мерзавец, чье присутствие здесь так же отвратительно, как если бы речь шла о супружеской спальне.
Это было настолько пронзительное и тяжелое чувство, что в какой-то момент Тёме захотелось опять все бросить, устроиться где-нибудь обыкновенным школьным учителем и тем самым вымолить у графа прощения – он завидовал в эту минуту всему свету, даже этим алкашам и дворнику, – но недаром когда-то Артема Михайловича поставили деканом, он был человеком сильным и лишь усмехнулся: «Рано тебе еще, Йозеф». Однако твердо решил, что либо он преодолеет свою зависимость от Барятина, освободится от него и забудет наконец, как забыли о нем почти все, либо не будет ему покоя и вечно станет мучиться душа сожалением и тоской.
Что ж, ученики перерастают учителей, и теперь его, Тёмины, лекции записывают на магнитофон, теперь ему дарят цветы и аплодируют, и теперь у него есть собственный семинар и ученики.
Став магистром словесности, Артем Михайлович твердо решил блюсти первую касталийскую заповедь: забудь обо всем и займись элитой. Он устроил для желающих заниматься в его семинаре жесткий конкурс, отбирал себе самых способных студентов, и все мало-мальски честолюбивые любители словесности мечтали туда попасть.
Он сделал это еще и потому, что в какой-то момент понял, что весь факультет сразу изменить ему будет не по силам. Все равно будет блат на экзаменах, все равно всех бездарей не уволишь, но здесь был его университет в университете. Здесь всех должны были объединить бескорыстная любовь к истине и талант. Слухи о его семинаре ползли по Москве, и Артем Михайлович мог вполне им гордиться. Он растил элиту, растил тех, на кого собирался опереться, и давал им понять, что именно они останутся в первую очередь в университете, пойдут в аспирантуру и на кафедры. Пойдут не потому, что за них кто-то просит или же он сам к кому-то питает пристрастие, и только для одного человека он был готов сделать исключение.
За то время, что прошло после столь памятного декану разговора с его загадочным советником, в душе Артема Михайловича случилась странная метаморфоза. Если поначалу он всерьез опасался, что инженер не сдержит слова и на пороге кабинета в один прекрасный день появится долговязый лоботряс, от одной мысли о чем Тёму бил озноб, то теперь отношение Смородина к тому обстоятельству, что у него есть сын, стало меняться.
Артему Михайловичу исполнилось в ту пору сорок лет, и хотя он был по-прежнему полон сил, выглядел молодо и свежо, хотя его ждало блестящее будущее, он почувствовал, что переступил определенный рубеж, и теперь пришло время смотреть не только вперед, но оглянуться назад. Именно тогда он внезапно остро ощутил, что значит для него этот случайно принятый им мальчик.
Уже смирившийся с тем, что он не оставит миру потомства и на нем заглохнет славный род тульских интеллигентов Смородиных, Тёма полюбил саму мысль, что у него есть сын. Это согревало его и придавало некий смысл всей его нынешней деятельности. Теперь, потеряв графа, он мог утешить себя тем, что все, что он делает, он делает для сына.
Однако Артем Михайлович решил не открываться перед ним сразу, а приблизить для начала юношу к себе, стать для него учителем, явить себя во всем блеске и великолепии, очаровать, как очаровывал и покорял он многих, и уж потом, когда Савва и сам того будет страстно желать, подарить всю правду о его происхождении. Но когда он объявил о наборе в свой семинар и в числе многих записавшихся стал искать сына, того в списке не оказалось. Декан удивился такой непритязательности и велел его разыскать. Однако посланец Артема Михайловича вернулся с поразительным известием: Савва исчез. Уже несколько месяцев он не появлялся на занятиях, не жил в общежитии, и даже соседи по комнате о нем ничего не знали. Все его документы в полном порядке лежали в учебной части, кто-то из студентов сталкивался с ним изредка на факультете, и, что все это значит, декан понять не мог. Он смутно догадывался, что к таинственному исчезновению юноши, скорее всего, причастен инженер, но идти к нему с этим вопросом Артем Михайлович ни под каким видом не хотел. Он находился все время в каком-то подвешенном состоянии, мысли о сыне мешали ему сосредоточиться и заняться делами, а между тем произошло то, чего не ждали, хотя ожидать этого следовало – страна опять погрузилась в трехдневный траур.
На смену загадочному вождю, наводнившему державу страхом, оставившему после себя ценный теоретический труд «Учение Карла Маркса» и знаменитую водку, которую долго еще будут помнить благодарные подданные, – забудут все, но зеленая этикетка и милосердная цена четыре семьдесят навсегда останется в их памяти, – итак, ему на смену пришел ядреный старичок с пухлыми щечками, и черненько стало в государстве Российском. На факультете принялись гадать, как скажутся на них эти перемены, инженер подозрительно затих, и в какой-то момент Артему Михайловичу показалось, что вся эта история ему приснилась и нет у него никакого сына, как однажды Саввушка сам вошел в его кабинет и нерешительно остановился на пороге.
Ему было в ту пору без малого двадцать лет. Он был высок, худощав и мало походил на отца, разве что глаза и широкий лоб были у него такими же, как у Тёмы.
Смородин глядел на сына, не в силах вымолвить ни слова, и с самой первой минуты их свидания его не покидало ощущение, что он уже где-то видел это лицо. Он сделался печальным и строгим, и вошедший оробел, ожидая, что декан станет ругать его за прогулы, но Артем Михайлович, даже не задав традиционного вопроса, зачем пришел к нему на прием студент, стал рассказывать про свой семинар. Рассказывать так, как если б он отчитывался на Страшном суде перед Господом Богом.
Саввушка растерялся: наводивший ужас на студентов декан был сам на себя не похож.
Наконец он остановился, и Савва пролепетал:
– Да, но я хотел бы заниматься в другом семинаре.
– В каком же? – удивился Артем Михайлович, ибо странно было подумать, что на факультете есть нечто, могущее с ним конкурировать.
– Я, собственно, затем и пришел. Дело в том, что учебная часть не дает согласия.
– Она даст, если ты будешь настаивать, – щедро улыбнулся Тёма. Его сердце всколыхнулось, и ему захотелось теперь уже, в эту самую минуту, отбросить разделявшую их дистанцию, подойти и положить руки на эти юные сильные плечи. – Так что же ты выбрал, Савва?
Какие же удары готовит человеку иной раз судьба! Почище, чем когда-то Саввушке перед пустой ячейкой на Ярославском вокзале.
– Я хочу заниматься, собственно, я уже занимаюсь у профессора Барятина.
– У кого? – выдохнул Тёма, подаваясь вперед.
– У Алексея Константиновича Барятина. Вы, может быть, помните, он тут раньше работал.
– Откуда ты его знаешь? – спросил похолодевший декан.
– Мы с ним соседи, – улыбнулся Саввушка, и Артем Михайлович вспомнил: конечно же, именно этого парня в телогрейке и с метлой в руках он видел во дворе барятинского дома в самый горестный для себя день.
В те давно прошедшие, прекрасные времена среди студентов университета считалось хорошим тоном зарабатывать на жизнь не фарцой, как ныне, а заниматься благородным трудом дворника, сторожа или истопника. И Саввушка, чья жизнь таким чудесным образом переменилась, но зато и потребовала от него сразу столько нового, ступил на эту славную дорожку.
Мальвина его благословила, и всю осень он бродил по Москве, пытаясь где-нибудь устроиться дворником, с тем чтобы получить работу и служебную комнату, но ему всюду отказывали. Во время этих блужданий он наконец узнал и полюбил этот город, и теперь это были не кубики домов, едва различимые с Воробьевых гор, у него появились любимые улочки и дворы, дома, возле которых можно было подолгу стоять, бесцельно глядеть на окна, но легче от этого не становилось. Бесприютность угнетала его, Ольга даже перестала спрашивать, как дела, и махнула на незадачливого возлюбленного рукой, он давно потерял всякую надежду и ходил просто так, полагаясь на чудо, и однажды дождливыми октябрьскими сумерками возле него притормозила машина, и оттуда вылез улыбающийся парень.
– Женя? – изумился Саввушка, и у него неприятно засосало под ложечкой.
Но Женя был весел и непринужден, а Саввушка, напротив, находился в отвратнейшем расположении духа и рассказал о своих злоключениях.
– Я ж тебе говорил, надо будет что – звони. Давно бы уж метлой махал.
Никакого значения этому разговору Саввушка не придал и звонить никуда не стал, но через неделю Женя отыскал его сам и сказал, что знает местечко в центре.
– Где? – недоверчиво спросил Саввушка, облазивший весь центр.
– На Кропоткинской.
– Территория ЖЭКа номер пять Ленинского района, – хорошо поставленным голосом ответил Савва, – начальник – Валентин Никифорович Собакин – ветеран партии и редкостная сволочь. Выгнал меня взашей и сказал, что все студенты университета – лодыри и антисоветчики и он скорее в дерьме потонет, чем кого-нибудь возьмет.
– Ну в общем-то он прав, – усмехнулся Женя, – студенты ваши не подарок. Но ты все-таки попробуй – у него там текучка большая.
Саввушка попробовал, и на сей раз ветеран встретил его как отец родной. Самолично показал участок, распорядился насчет инвентаря и зарплаты, но самое главное, он показал дворнику его квартиру – не комнату! – и голова у Саввушки пошла кругом. В тот же вечер они с Ольгой уехали из опостылевшей общаги, не сказав никому ни слова.
Это была огромная квартира с невообразимо высокими потолками, пятью комнатами, кухней и черным ходом. В одной комнате они устроили спальню, в другой гостиную, в третьей – кабинет, что делать еще с двумя, просто не знали и ходили в гулкой тишине, не веря своему счастью.
С потолков на длинных шнурах свисали люстры, и их света не хватало на то, чтобы полностью осветить помещение, так что потолки терялись во тьме. Большая часть дома пустовала, в нем жили только какие-то странные, чудом уцелевшие люди, а в пустых квартирах ночами собирались бродяги, хиппи и алкаши. Но они вели себя мирно, с жильцами не ссорились, и сам этот дом посреди Москвы являл собой зрелище поразительное, как осколок какого-то иного мира.
В громадных брошенных квартирах стояла невывезенная мебель, жестяные коробки из-под сахара и муки, резные этажерки, кресла с потертой обшивкой, круглые столы, диваны, точно мода на старинные вещи сюда каким-то чудесным образом не дошла и уезжавшие на окраины люди не задумывались об истинной ценности того, что они покидают. Родившийся в городе, где не было ничего старинного, Саввушка с каким-то волнением ощущал многолетие этого дома и этих вещей. Самое лучшее Мальвина отобрала хозяйским глазом, и ночью вместе с алкашами Саввушка перенес диван, стол и несколько кресел к себе, так что их жилище стало напоминать барские покои прошлого века.
– Что-то уж больно все это странно, – бормотала Ольга, недоверчиво глядя на Савву, – и поступил ты как-то не так, и из университета тебя до сих пор не выгнали, квартира эта наконец. Хотела бы я знать, кто еще из дворников живет в таких хоромах?
– Судьба, – отвечал Саввушка, чье мужское самолюбие теперь было полностью удовлетворено.
– Странная у тебя какая-то судьба. Послушай, ты никогда не говорил мне, а кто твой отец?
– Понятия не имею, – сказал Савва и слукавил. На самом деле этот вопрос с некоторых пор стал сильно его занимать. Он чувствовал, что с его происхождением связана какая-то история, здесь что-то было не вполне ясно, однако спросить об этом было не у кого – тревожить мать Саввушка не хотел и ждал случая. Он уже знал тогда, что в жизни не надо ни к чему нарочито стремиться – все придет само собой в свой час.
Зима в тот год началась рано. В середине ноября помели снега, и работы стало много. На тротуарах снег быстро затвердевал, и лед приходилось часами скалывать ломом. Если снег выпадал с вечера, Саввушка шел убирать еще ночью, пока его не вытоптали утренние прохожие. Университет он совсем забросил и куда больше боялся, что его выгонят из дворников, чем из студентов. В это же время он познакомился с одним из жильцов дома – с высоким стариком, чью фамилию случайно услышал от знакомого алкаша.
– А это, брат, граф Барятин, – сказал алкаш. – Добрый старик. Как ни придешь за стаканчиком – никогда не откажет.
– Барятин, – повторил Саввушка задумчиво и вспомнил напутствия матери. – А он профессор?
– Какой еще профессор? – рассердился алкаш. – Я тебе говорю – граф.
Старик иногда выходил во двор, с дворником он всегда здоровался и шел в ближайший магазин за кефиром и хлебом, но даже допотопная авоська в его руках казалась чем-то почтенным, и неторопливо шествующий с посохом по двору он внушал благоговение.
Долгое время Саввушка не решался к нему подойти, но однажды, пересилив смущение, приблизился и робко спросил:
– Простите, а вам ничего не говорит имя Настасьи Васильевны Ковановой?
Старик задумался, потом пристально поглядел на юношу и отчетливо произнес несколько скрипучим голосом:
– Если мне не изменяет память, так звали одну очень славную женщину, с которой я имел удовольствие познакомиться когда-то в Белозерске.
– Это моя мама, – пролепетал Саввушка, убитый внезапной мыслью, что в этой телогрейке и с лопатой в руках он выглядит форменным пролетарием и каким же надо быть нахалом, чтобы побеспокоить столь почтенного человека.
Однако старик оживился, и его хмурые глаза потеплели:
– Вот как? Где же она живет теперь? Я ведь пытался ее тогда разыскать.
– В Воркуте.
– Мне кажется, это не самый удачный переезд, – пробормотал старик, вздрогнув. – Во всяком случае, мне это место знакомо не с лучшей стороны.
Но этих слов Саввушка уже не расслышал. Название города «Белозерск» произвело на него какое-то странное впечатление, он точно что-то вспомнил, расслышал в своих детских воспоминаниях и спросил:
– Вы случайно не знаете, кто мой отец?
– Нет, – ответил Барятин односложно и, помолчав, добавил: – Вы, юноша, не откажете мне в любезности, если я приглашу вас сегодня ко мне зайти?
– Нет, – сказал Артем Михайлович, – очень сожалею, но я не могу позволить вам заниматься у человека, который давно уже нигде не работает.
– Но почему? – воскликнул Савва. – Какая вам разница? Он же знает все равно больше, чем любой из здешних профессоров.
– Нет, – повторил Тёма, – существует порядок, и я должен его придерживаться. Я вам предлагаю, молодой человек, гораздо лучшее, и мне странно, что вы не хотите этого оценить.
– Я думал раньше, – сказал Савва дрожащим голосом, – что вы мне не откажете. Все говорят, что вы справедливый человек, а вы просто чего-то боитесь. Если я не получу разрешения, то заберу документы.
Он ушел, и Артем Михайлович по старой своей привычке прижался горячим лбом к холодному и недребезжащему больше стеклу. Бог ты мой, что за проклятье над ним тяготеет и почему повсюду его преследует этот наверняка выживший из ума старик, отнявший когда-то покой и радость собственных удач, а теперь отнимающий сына. Нет, пусть лучше он действительно заберет документы и исчезнет навсегда, чем станет выматывать душу. Пусть исчезнут они оба.
Дверь снова отворилась, и в кабинет вошел инженер.
– Ну что вам еще? – спросил Тёма грубо.
– Артем Михайлович, мне только что попался в коридоре наш общий знакомый. Он был, кажется, чем-то сильно расстроен.
– А вы караулили, что ли?
– Нет, – пожал плечами инженер, – у меня просто хорошая память на лица.
– Вот и шли бы вы со своей хорошей памятью шпионов ловить!
– Артем Михалыч, – сказал инженер, не обращая внимания на раздражительность декана, – я догадываюсь, о чем просил вас юноша, и полагаю, никаких оснований отказывать ему нет.
– Да вам-то что? – взорвался Тёма. – Что вы вечно суете нос куда не просят? Это мое дело, понимаете, мое.
– Было б это только ваше дело, я бы и не вмешивался.
– Все равно, – повторил Тёма упрямо, – согласия своего я не дам.
– Артем Михайлович, – усмехнулся инженер, – хотите, я вам сказку одну напомню. Подарили одному человеку сундучок со всяким добром и велели раньше времени не открывать, чтоб добро его не разбежалось. А он не послушался – открыл, а как собрать, не знает. И помог ему другой человек, а за это потребовал помните что?
– Послушайте, – простонал декан, – вы мне с вашими шутками – вот уже где сидите! Ну, объясните вы мне, что вам нужно? Мы что, ракеты производим, подводные лодки строим, тайны храним государственные? Что вы тут вообще делаете? Оставьте мне хоть что-то!
– Давайте так договоримся, – ответил инженер уклончиво, – мы вашу просьбу выполнили, выполните и вы нашу. И позвольте дать вам один совет. Я вашего сына немного знаю, хоть и заочно, и уверяю вас: так вы ничего не добьетесь – только хуже сделаете. А вот если уступите, он ваше великодушие оценит. Не сейчас, так позже.
– Что же, – произнес Тёма с горечью, – стало быть, мало вам меня, теперь еще и Савва потребовался. Тогда совет за совет. Напрасно вы его к Барятину отпускаете. Ничего у вас потом не получится.
– Вы нас недооцениваете, – засмеялся инженер и вышел.
И для Саввушки наконец начался настоящий университет, так же сильно отличавшийся от того, куда он ходил прежде, как этот дом отличался от общежития. Он приходил теперь с утра, убрав участок, в барятинскую библиотеку, и старик часами рассказывал ему о том, о чем когда-то говорил в переполненных аудиториях. Дом был полон книг, те, что не помещались на полках, лежали на полу в каком-то невообразимом беспорядке, но профессор моментально находил нужную, и Саввушка читал до посинения.
Перед ним открывался какой-то иной мир. С каждой новой книгой, с каждым днем шаг за шагом он погружался в зыбкую древность, и из отъявленного шалопая мало-помалу стал превращаться в закоренелого любомудра и книжника. Он и сам не подозревал в себе такого сильного, ненасытного желания как можно больше понять и узнать. В нем точно проснулась та детская, казалось, совсем угасшая способность учиться легко и играючи, и даже профессор поражался тому, с какой страстью и скоростью учил его ученик древние языки, копался в летописях, что-то сопоставлял, задавая все новые и новые вопросы и пытаясь сам найти на них ответы. Все было интересно ему, бередило ум и душу, и огромная, до этого совсем неизвестная страна с ее веселым и спокойным народом, с тысячью ее монастырей и городов, с плавной сменой месяцев и лет, прерываемых войнами и голодом и снова возвращающаяся к мерному ходу, стала его родиной.
За этими занятиями прошло почти два года, и это было самое счастливое время в его жизни. Летом он много ездил: на Соловки, в Устюг, в Каргополь, в старообрядческие деревни на Печору, и всюду у профессора находились знакомые, дававшие Саввушке кров. Казалось, существовало какое-то удивительное братство барятинских учеников, и Савва с радостью чувствовал, что и он принадлежит к этим людям.
В одну из таких поездок они отправились с Барятиным вместе. Сперва добрались до Кириллова, а назавтра оказались в городке на берегу огромного озера. Городок был тихий, просторный, он спускался к самой воде террасами; в центре, окруженном земляными валами, стояли торговые ряды, соборы, монастырь. Они бродили там целый день, а к вечеру забрели в предместье. Старик указал Саввушке на двухэтажное здание на пригорке и сказал:
– Это школа, где работала ваша мама.
Вокруг цвела черемуха, по двору бегали улыбчивые круглолицые дети, Саввушка глядел на них, и этот ветреный день, огромное озеро, острый запах черемухи и детские лица – все это как-то странно тронуло его, и он долго еще вспоминал этот городок. Он внес какую-то тревогу в его душу, точно была между ними давняя, неведомая Саввушке связь и что-то его здесь еще ждало.
Но потом опять началась осень, они вернулись из своего длительного странствия в город, к знакомому двору на Кропоткинской, где сгребал Савва то листья, то снег и неизменные бутылки и окурки. Он снова сидел вечерами в барятинской библиотеке, писал дипломную работу, часами говорил с профессором, и все чаще это были не лекции, когда учитель объясняет, а ученик записывает, но беседы и споры.
Саввушке многое удавалось. В нем удачно сочеталась интеллектуальная природа отца и крестьянская матери, его диплом тянул на хорошую кандидатскую диссертацию – он писал его так, словно это был какой-то роман, и, смеясь, вспоминал своих старых друзей. А потом опять брал ватник и метлу, под размеренные взмахи руки хорошо думалось, сердце радовалось сделанной работе, и он был бы вполне счастлив такой жизнью, если б не Ольга.
Что сталось с его прекрасной и строгой Мальвиной! Они жили все это время вместе, как муж и жена, хоть и не расписанные, он любил ее и не искал для себя ничего прочего, но всякий раз, когда она уходила из дома, Саввушку охватывал безотчетный страх. Ему начинало казаться, что огромный город поглотит ее и не вернет.
Она закончила университет на год раньше, чем он, но защищать диплом не стала и жила с ним, разрываясь между любовью к нему и страшной мыслью, что время, пока они могут здесь жить, сокращается, как шагреневая кожа.
– Я плохая, пусть, я дурная, – говорила она. – А ты умный и хороший. Но тебе ничего не надо, ты торчишь целыми днями у своего старика, таскаешься как сумасшедший по этим городам и думать не хочешь, что с нами будет завтра. А я так не могу – не думать. Я не хочу, чтобы меня отсюда выкинули, как никому не нужную вещь, понимаешь? Почему ты не пошел к Смородину, когда он тебя звал? Ведь он заботится о своих учениках, он бы тебя не оставил. А твой Барятин, будь он семи пядей во лбу, ничего для тебя не сделает. Будь проклят тот день, когда я с тобой связалась. Ну придумай хоть что-нибудь.
Она плакала и сквозь слезы говорила:
– Боже мой, если б ты знал, как я ненавижу эту страну. Она унижает меня, она доводит меня до того, что я готова пойти к любому, у кого только есть московская прописка. Я презираю себя, ненавижу, но поделать ничего не могу.
Иногда она бредила и твердила, что они оба должны занять денег, фиктивно жениться, а потом развестись и соединиться.
Саввушка гладил ее волосы, целовал и шутливо говорил, что он лучше навсегда пойдет в дворники, пусть начальник выдаст ему медную бляху и зачислит в постоянный штат или же они поедут к Одоевскому на Байкал, но Ольга только мотала головой и сбрасывала его руку. О том, что им все-таки придется скоро уехать, она и слышать не хотела.
– Ты посмотри, что вокруг тебя делается, дурачок блаженный!
На их курсе, действительно, шло брожение. Иногородние спешно женились на москвичках, москвички выходили замуж за иностранцев, кто не мог найти себе пару, женились фиктивно. Все искали лучшей доли, и у кого поднимется рука их осудить?
Но Савва этого будто не замечал. Он не заметил даже того, что страна третий раз за три года, правда, теперь без всякой помпы, закопала под Кремлевскую стену очередного вождя, и на его место сел новый, от которого все принялись почему-то многого ждать. Савва жил как во сне и только мысль о разлуке с графом его по-настоящему страшила.
Они встречались теперь даже чаще, чем прежде, но говорили не только о том, что касается древности, но больше о вещах посторонних. И в один из таких разговоров Барятин, только что рассказавший Саввушке, почему в сорок шестом году он поверил Сталину и в числе немногих безумцев вернулся из эмиграции на родину, за что и удостоился чести строить железную дорогу на Воркуту, вдруг заметил:
– Я всегда думал, что моему поколению выпало самое тяжкое время и хуже уже никогда и никому не будет. Но теперь мне страшно за вас.
– Страшно? – переспросил Саввушка удивленно. – Но ведь как будто все, наоборот, меняется к лучшему.
– Они все забавляются какими-то словами, – покачал старик головой, – а в глубине зреет катастрофа, размеров которой никто даже не может вообразить. Но мы еще хлебнем полную чашу и позавидуем сами себе, что знали иное время. Тогда с нами боролись, потому что мы мешали, но в будущем мы просто будем никому не нужны. Не нужным станет все – архивы, музеи, библиотеки, университеты. И вы должны быть к этому готовы. Ну да ладно, Савва, – закончил он вдруг, – заговорил я вас что-то. Идите, вон, снега сколько насыпало.
Саввушка ушел, а старик, подойдя к окну и наблюдая за юношей, вдруг подумал, что лукавил, когда говорил «мы», – он успеет умереть до того, как все окончательно рухнет, но что станется с этим мальчиком?
Напрасно когда-то молодой и честолюбивый Тёма Смородин думал, будто бы Барятина не заботит судьба его учеников. Он ходил просить за многих, но очень скоро убедился, что от его рекомендаций бывает только хуже. Отчасти именно поэтому, уйдя из университета, он жил все это время затворником и отказывался от многих предложений вернуться в науку, до тех пор пока в заснеженном дворе возле собственного дома ему не повстречался сын его бывшего ученика и поразившей однажды его воображение женщины, чьи следы он безуспешно пытался разыскать. И теперь он был благодарен судьбе за то, что она послала ему этого мальчика, не меньше, чем был благодарен своей судьбе сам Савва.
Барятин сделал для него все, что мог сделать. Он читал ему самые сокровенные лекции, он отдавал ему себя всего без остатка, он стал для него крестным отцом и теперь решился на поступок, которого никогда от себя не ожидал.
Однажды выйдя из дома, старик отправился не гулять на бульвар, как обычно, а сел в троллейбус и поехал в сторону Воробьевых гор, в университет, где не был без малого двадцать лет.
Никто его не узнавал, с удивлением оглядывали его фигуру в старомодном пальто и заросшее бородой лицо ни разу не слышавшие эту фамилию студенты. Он поднялся на двенадцатый этаж и попросил доложить о себе. Секретарша тотчас же вернулась, распахнув дверь, и Барятин увидел своего ученика, растерянно встающего из-за стола.
– Вы? – спросил Артем Михайлович пораженно.
– Здравствуй, Тёма, – сказал Барятин глухо. Некоторое время он молчал, и Смородину казалось, что все происходит не наяву. Перед ним был человек, значивший для него больше всех людей, человек, которого он мучительно любил и боялся, и декан, давно привыкший к тому, что все входящие в этот кабинет испытывают робость, вдруг сам почувствовал себя почти ребенком, каким некогда пришел в барятинский семинар.
– Я очень ждал вас, Алексей Константинович, – сказал он наконец.
– Я знаю, – кивнул Барятин.
– Вы можете начать читать лекции в любой момент. На каком хотите курсе.
– Нет, Тёма, – ответил он, – я к тебе не за этим пришел.
Он сидел перед деканом, сложив на коленях крупные руки, в старом пальто, с которого стекали на пол капли воды, и Тёме вдруг сделалось стыдно за то, что он – преуспевающий человек, а граф – обыкновенный старик, каких в Москве тысячи, живет на пенсию, ходит в магазин за кефиром и хлебом. Он впервые поймал себя на мысли, что оскорбленное самолюбие все эти годы мешало ему задаться вопросом, как и на что он живет.
– Я к тебе, Тёма, с просьбой, – сказал Барятин, – к тебе сейчас, наверное, многие приходят.
– Приходят, – пробормотал Артем Михайлович, – но редко.
– Разогнал всех? – усмехнулся Барятин.
– Я сделаю все, о чем вы меня попросите, – сказал Тёма твердо, впервые встретившись со стариком глазами.
– У меня есть ученик. Ты, может быть, знаешь его?
– Знаю.
– Помоги ему, – сказал Барятин, и Артема Михайловича точно током пронзило: профессор знал, кто отец этого мальчика, и, вероятно, знал уже очень давно, еще задолго до разговора с инженером, до аспирантуры, еще тогда, когда ходил к нему Тёма в семинар.
– Он очень талантлив. Ты знаешь, я не стал бы за него просить иначе.
– Вы напрасно пришли, – сказал Смородин, – я для него и так все сделаю.
– Ты ведь знаешь, – точно не слушая его, произнес старик, – моим ученикам не очень-то везло. А этот – он у меня последний.
Барятин встал, и Тёма поднялся вслед за ним.
– Алексей Константинович, – сказал он, и голос у него дрогнул. Больше всего ему хотелось в эту минуту остановить графа и рассказать, чем он жил все эти годы, как тосковал и ждал хотя бы одного звонка, одного поздравления. Ведь он, Артем Смородин, – тоже барятинский ученик и ничей другой. Он добился чего-то в жизни, ему повезло, и этот успех в равной мере принадлежит учителю.
– Все хорошо, Тёма, – сказал Барятин, – я про тебя все знаю. Но ты не отчаивайся. Ты еще очень молод, у тебя есть время что-то изменить.
В приемной толкались какие-то люди, пришел завхоз и стал говорить про новые столы и пишущие машинки, к четырем нужно было идти на защиту, а после на банкет, и весь этот день декан думал о Савве и о Барятине, о странности судьбы, что связала их троих, и в том, что Барятин все-таки к нему пришел, в том, что без него обойтись все равно было нельзя, он увидел некий знак свыше, некий намек на прощение. Эта мысль принесла ему утешение, и две недели спустя, когда начали составлять списки студентов, рекомендованных кафедрами в аспирантуру, Артем Михайлович собственной рукой внес туда Савву. Все повторялось, только на сей раз осознанно, и одному Богу было известно, что несло это повторение теперь.
Мгновение поколебавшись, он написал: научные руководители – профессор Барятин и профессор Смородин. Так было вернее, чтобы не случилось никаких неприятностей в ректорате, где эти списки должны были утверждаться. А кроме того, это ставило некую точку в их длительных взаимоотношениях с Барятиным – теперь они выступали на равных.
Предварительное распределение состоялось в конце февраля. В кабинете декана собралось все факультетское начальство, под дверьми томились бледные студенты, по одному заходили в кабинет, возвращаясь оттуда с самыми разнообразными выражениями лиц. Наконец очередь дошла до Саввушки, и во второй раз в жизни он переступил порог этой комнаты. Начальник курса зачитал довольно кислым голосом характеристику, ничего хорошего для выпускника не содержавшую, секретарь комитета комсомола отметил низкую общественную активность, и все клонилось к тому, чтобы запихнуть парня в какую-нибудь сельскую школу поучительствовать и тем самым выполнить план, спущенный Минвузом, но тут поднялся декан, и смирившийся было со своей участью Савва даже не успел хорошенько подумать, как лучше известить обо всем Ольгу. Он остолбенел, ожидая от декана чего угодно, но только не этого. Да и похоже, не он один был поражен – однако Артем Михайлович любил эффектные ходы, чувствительно напоминавшие всем собравшимся, кто здесь хозяин.
Из слов декана следовало, что два года назад крупнейший специалист в области древней словесности, его уважаемый учитель профессор Барятин обратился лично к декану с просьбой направить к нему какого-нибудь способного студента. Этот выбор пал на Савву, и декан рад, что не ошибся. Юноша прекрасно справился с возложенной на него почетной миссией, и по результатам своей работы может и должен быть рекомендован в аспирантуру. Не чуя ног, будущий аспирант вышел в коридор, а за ним следом поднялся голубоглазый мужчина, неприметно сидевший возле окна.
– Я поздравляю вас, Савватий Артемьевич, – сказал он, широко улыбаясь и пожимая Саввушке руку.
– Спасибо, – ответил Савва, раздумывая, как бы ему поскорее улизнуть от докучливого собеседника и обрадовать Ольгу.
– Я понимаю, – улыбнулся мужчина, – вы торопитесь поскорее схватиться за лопату и на радостях очистить весь двор, но я вас надолго не задержу.
– Откуда вы знаете? – удивился Савва.
– У вас руки настоящего дворника, – подмигнул ему мужчина васильковым глазом. – Я имею к вам одно предложение и полагаю, оно будет для вас интересным.
– Да-да, – отозвался Савва рассеянно и мысленно мгновенно улетев, – простите, я вас не знаю.
– Я товарищ Жени.
– Жени? – переспросил он пораженно.
– А что, – удивился мужчина, – вы думаете, у Жени не может быть товарищей?
– Да нет, чего-то в этом роде я ждал всегда. Должок, верно, спрашивать хотите. А что же он сам не пришел?
– Что вы, – замахал руками мужчина, – какие могут быть у вас долги? Напротив, сплошные авансы. Я уж комплиментов после Артема Михайловича вам говорить не буду. Мне с ним все равно не сравняться. Хотя он, кажется, что-то напутал в вашей научной биографии. Но это и неважно. В любом случае я рад, что мы в вас не ошиблись.
– Женя, Женя, – покачал Саввушка головой с грустью, – помнится, он мне обещал нечто совсем иное.
– Бросьте, Савватий Артемьевич, – поморщился инженер, – в этом ли дело? Лучше послушайте, что я вам скажу. Вы человек, бесспорно, талантливый, а таким людям живется не всегда хорошо. Так вот мы хотим взять на себя заботу о вашем достатке.
– Вот еще? С какой стати?
– Не спешите, подумайте хорошенько. Вы, можно сказать, человек семейный. Вам нужно жилье, и мы готовы вам его предоставить. Например, ту самую квартиру, где вы сейчас живете.
– А что вы за это захотите? Послать меня в жаркие страны?
– Савватий Артемьевич, – сказал мужчина укоризненно, – вы к нам несправедливы. Мы и так сделали для вас много хорошего и, заметьте, ничего не просили взамен.
– Что же вы сделали?
– Ну, если я скажу вам, что вы с нашей помощью поступили в университет, вы мне, может быть, и не поверите. Но согласитесь, что именно благодаря нам вы смогли познакомиться с единственным человеком, кто научил вас вашей премудрости.
– Но вам-то она на что? – усмехнулся Савва.
– Вы абсолютно правы, ни на что. И нам от вас по большому счету ничего не надо. Вы можете заниматься тем, чем хотите, работать там, где пожелаете, разве что к вам не будут цепляться по мелочам и строить против вас козни, как строили всю жизнь против вашего любимого учителя.
– Я вас не понимаю, – вздохнул Савва, – ну чем я заслужил такую милость?
– Считайте, что мы вам просто симпатизируем.
– Однако ваша симпатия не взаимна.
– Вы думаете меня этим удивить? Относитесь к нам как угодно – мне все равно. Впрочем, если вы уж так настаиваете на объяснении, я могу предложить вам одну гипотезу. Вы никогда не задумывались, что мы – единственные в этой стране, кто знает истинное положение вещей? И те книжки в вашем портфельчике, который вы столь остроумно засунули в ячейку, мы прочли задолго до вас. Но в отличие от их уважаемых авторов мы располагаем всей информацией и видим картину на несколько лет вперед. А картина-то грустная. Все катится в пропасть, и вас, гуманитариев, это коснется в первую очередь. Впрочем, полагаю, Алексей Константинович что-то подобное вам говорил. Мы, увы, не в силах предотвратить эту катастрофу, но мы сможем кого-то спасти. Те, кто придут за нами, вам помогать не станут. Мы хотим сберечь вас, Савва, потому что именно вы и такие люди, как вы, должны стать элитой в этой стране. Я никогда бы не стал всего этого вам говорить, зная вашу щепетильность, мы помогали бы вам тайно, как помогали до этого, но теперь нам действительно потребуется ваша помощь.
– Какая? – спросил он, ошеломленный не меньше, чем полчаса назад в кабинете декана.
– Нам нужен своего рода эксперт. Вас ждет блестящее будущее, вы войдете в элиту научного мира и будете видеть, кому надо помогать так, как помогали вам, а кого, напротив, надо попридержать. Здесь не должно быть ошибок ни в ту, ни в другую сторону, у нас, поверьте, совсем немного времени.
– Но ведь вы тоже могли ошибиться, выбрав именно меня, – возразил Савва.
– Исключено. Мы проверяли вас на компьютере. Я понимаю, то, что вы услышали, для вас неожиданно и скорее неприятно, чем приятно. Я вас не тороплю. Вы можете посоветоваться, с кем сочтете нужным.
– Это что же, даже не тайна?
– Вы сами не станете болтать с кем попало, – усмехнулся мужчина. – И мой вам совет – соглашайтесь. Это ваш единственный шанс сделать то, что вы можете и должны сделать в науке.
– Послушайте, – Савва на мгновение задумался и повернулся к мужчине, – вот вы сказали, что поддерживаете талантливых людей в нашей области. А вы могли бы мне кого-нибудь назвать?
– Отчего же, – произнес мужчина, и какое-то странное выражение промелькнуло на его лице, – одно имя я вам назову. Это ваш отец – Артем Михайлович Смородин.
Великим постом Барятин и Саввушка ходили в Илью ко всенощной. Вечера были сырыми и теплыми, они шли медленно и присаживались по дороге на лавочках в пустых дворах Остожья. Старик был совсем слаб, но на службу ходил часто и отстаивал ее всю от начала до конца. У Саввы уже через полчаса начинало ломить спину и гудели ноги, мысли витали, и, когда он жаловался Барятину на то, что не может сосредоточиться, граф лишь слабо улыбался:
– Ничего, это к вам придет.
Он говорил теперь мало и редко, и Саввушка не решался завести с ним разговор о том, что занимало его мысли все это время.
Иногда глядя на притихшую, уже совсем отчаявшуюся Ольгу, которую, казалось, не обрадовало, а только огорчило известие о его аспирантуре, делающее ее положение еще более неопределенным, он думал о том, что надо принять это предложение, остаться в их доме, жить тут, копаясь до скончания века в рукописях, а если действительно когда-нибудь все это станет никому не нужным – Бог с ним, с метлой он всегда заработает на хлеб. Потом он начинал думать об отце. Он не испытывал теперь к нему того неприятия, о котором некогда говорил на Воробьевых горах, он был даже склонен к нему прийти, потому что – ну что же? – отцов не выбирают. И уж во всяком случае не ему судить этого человека. Саввушке нужно было, однако, на все это барятинское благословение, но поговорить со стариком он так и не успел: в апреле у графа случился инфаркт и его увезли в больницу.
Он лежал в реанимации, врачи ничего утешительного не говорили и, когда Савва приставал к ним с расспросами, раздраженно отмахивались:
– Ему восемьдесят два года, понимаете, восемьдесят два. Скажите спасибо, что его вообще взяли.
Савва что-то бормотал про Академию наук, что можно было бы достать лекарств, у него есть такая возможность, но ему внятно объяснили, что никакие лекарства здесь уже не помогут. Он сидел часами возле неподвижного старика, читая «Братьев Карамазовых», и в эти бессонные долгие ночи, в забитой больными палате, где негде было даже прилечь, он вдруг с какой-то отчетливостью понял, что его отец – вот этот человек, и никогда не был и не будет ему отцом Артем Михайлович Смородин, декан их факультета. Это было нечто от Саввушки не зависящее, через что он не мог переступить.
Иногда Барятин приходил в себя, силился что-то сказать, но у него ничего не получалось, он только слабо улыбался, шевелил рукой, и Саввушка вдруг догадался, что старик пытается его перекрестить.
В конце месяца ему стало совсем плохо. Саввушка побежал в Илью за священником. Когда они пришли, старик был уже в беспамятстве. Священник совершил глухую исповедь, и назавтра Барятина не стало. Это случилось в четверг на Страстной неделе, когда повсюду в ни о чем не подозревающей стране шли первомайские демонстрации, а несколько дней тому назад за тысячу километров от Москвы произошло событие, которому поначалу никакого значения не придали, но от которого, как оказалось позднее, начался отсчет катастрофы.
Барятина отпевали уже на Светлой. В храме были открыты алтарные врата, священники, одетые в красные ризы, хор, певший одновременно «Вечную память» и «Христос воскресе», свет, свечи, после сумрачного и строгого убранства поста – все это совсем не вязалось со смертью.
Заботу о похоронах взяли на себя люди, которых Савва совсем не знал. Они же заказали автобус, договорились о кладбище и организовали поминки. За эти дни Савва так измучился, что ему хотелось побыть одному. Он стоял в сторонке, молился, не чувствуя теперь ни дрожи в ногах, ни рассеянности в мыслях. Когда вышли из церкви, к процессии присоединились еще какие-то люди и поехали на кладбище за окраину Москвы.
Все было как в тумане. Он не запомнил ничьих лиц, ни речей, все слова проходили мимо него, а на душу вдруг снова навалилась тоска, и то чувство, что, словно сжалившись над ним, коснулось его в храме, исчезло. Вид огромного, безликого, без единого деревца кладбища, стандартные надгробия и перекошенные цоколи, тянувшиеся на много километров и плотно прижатые друг к другу, – все это наводило на сердце такое безумное уныние, что хотелось выть, на это кладбище глядя.
Гроб опустили в землю, рядом копавшие могилы мужики толковали о том, что надо пить не водку теперь, а красное вино, поскольку оно лучше предохраняет от радиации щитовидку. И вид этого ужасного кладбища стал точно последней каплей, отвратившей Саввушку от города, который он когда-то мечтал победить.
Люди стали возвращаться к автобусу. Только теперь Савва разглядел среди них несколько знакомых лиц: барятинских учеников, алкашей из дома на Кропоткинской, декана и рядом с ним знакомого мужчину.
Выбрав минуту, он подошел к нему.
Лицо инженера было печально, похоже, он не спал ночь, и его глаза сделались опухшими и красными, утратив свой чудный васильковый цвет.
– Ну, как ты? – спросил он, закурив.
– Я хочу сказать вам, – произнес Савва с усилием, – что не смогу принять вашего предложения.
Некоторое время инженер молчал, а потом его лицо исказила гримаса и без того воспаленные глаза стали еще темнее.
– Что? – спросил он жестко. – Брезгуешь? Аристократом себя почувствовал, князем? Как этот? Мало тебе морду били – так подожди, набьют еще.
Он развернулся и пошел к машине, а к Саввушке вдруг подбежала Ольга и схватила его за руку.
– Что ты ему сказал? Что?
Савва посмотрел на нее с недоумением, а потом понимание и горечь промелькнули в его глазах.
– Зря ты, Ольга. Не надо нам от них ничего. В конце концов, и Пушкин, и Достоевский есть в любой районной библиотеке. А дети лучше чтобы росли не здесь.
– Нет, – отшатнулась она, – не будет тебе никаких детей. Лучше к ним шлюхой пойду работать!
Месяц спустя Савва защитил диплом, но его представление в аспирантуру из ректората вернули. На факультете были удивлены: поддержанная могущественным деканом кандидатура казалась бесспорной. Но эта новость быстро померкла на фоне ошеломительного известия об уходе самого Артема Михайловича.
Говорили, впрочем, что два этих события между собой связаны. Будто бы Смородин сам ездил в министерство, криком кричал и был вне себя, а ему в ответ едко заметили, что всем давно известно о его личном пристрастии к этому студенту и о причинах этого пристрастия и что ему никто не позволит устраивать семейные дела, в то время как вся страна решительно встала на путь обновления и борьбы с протекционизмом. Говорили даже, что кто-то видел, как Артем Михайлович отыскал этого злосчастного Савву в коридоре, в чем-то пытался его убедить, и лицо у него было просящее и виноватое как у школьника, а Савва глядел в сторону и молчал.
Но в такие уж небылицы мало кто верил. Во всяком случае человек, который знал всю подноготную декана по долгу службы, все эти слухи о внебрачном сыне решительно высмеял и как бы между прочим обмолвился, что на самом деле дипломная работа у парня была плохенькая и декан лишь из уважения к бывшему учителю тянул его в аспирантуру.
Решили, что верней всего неподкупный Тёма оказался замешанным в какой-то некрасивой истории и спешит спасти шкуру. А впрочем, это было не так уж и важно. И не такие головы сверху летели. Все менялось.
И только в маленьком городе на берегу Белого озера все осталось как прежде. Те же торговые ряды, купола церквей, земляные валы, сырой ветер с севера и двухэтажное бревенчатое здание на окраине.
Но теперь школа была пуста. В кабинете директора за столом сидела пожилая женщина. Она не сразу заметила вошедшего к ней посетителя, а потом подняла голову и удивленно спросила:
– Вы кого-то ищете?
– Вам учитель литературы не требуется?
– Требуется, – ответила она.
Женщина взяла его диплом и недоверчиво хмыкнула.
– И что бы вы хотели от нас получить?
– Жилье, – ответил он коротко. Она понимающе кивнула.
– Вы один?
– Пока один. Но потом ко мне, возможно, приедет мама.
– Что ж, если вы не раздумаете, то комнатку на первое время мы вам подыщем. А там видно будет.
– Я не раздумаю.
– Погодите, – вздохнула она, – боюсь, после Москвы вам тут не очень понравится. Хотя я помню, приезжали к нам раньше из вашего университета.
– Кто? – спросил он, и его спокойное лицо побледнело.
– Да это уж сколько лет назад было, – усмехнулась она, – я еще учительницей была. Профессор, помню, приезжал. Важный такой, с бородой. Девчонки с ним и парнишечка один. На вас немного похож. Профессор им все про старину рассказывал. А через год опять приехал – других уже привез. Да еще ходил про повариху нашу спрашивал.
– Какую повариху?
– Работала у нас тут одна женщина, а потом уехала куда-то. Ребенок у нее, говорят, родился. Я и не знаю толком. А звать-то вас как?
– Саввой, – ответил он не сразу и подумал, что этот городок на берегу озера чем-то, наверное, похож на безымянный остров, куда его выкинуло волной, и значит, все еще сбудется: в этом городе будет достаток, из воды поднимутся на берег богатыри и чей-то нежный голос скажет ему:
– Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Вечер был покойный и чистый. Солнце медленно уходило за Северо-Байкальский хребет, освещая неподвижную студеную воду, но едва оно полностью скрылось, задуло два ветра. Низовой со стороны моря погнал на берег тяжелую пенистую волну, а верховой принес с запада облака. Они повисли над горами и к утру стали сползать вниз, укрывая густой массой камни, тайгу и степь. Когда рано утром Катя вышла из дому, почти ничего не было видно вокруг: только слышно в вязкой тишине, как катились, затихая, на берег волны и где-то далеко в море гудело судно. Давно уже встало солнце, а зябкий туман по-прежнему висел над землей. Девушка шла по сырой траве, и чем дальше она уходила от моря, тем становилось теплее. Тропа поднималась в гору, и вместе с нею поднимались в нагревающемся воздухе облака, цепляясь за ветки кедрового стланика и прилипая к скалам. Обернувшись, Катя увидела под собой громаду воды, мачту метеостанции и заросшую дикими цветами и ковылем даурскую степь. Выше на склонах хребта начиналась тайга, здесь шумели в ущельях водопады и текли реки. Но до моря они не доходили, исчезая в расщелинах, а дальше тянулись сухие каменистые русла, наполнявшиеся только весной. Летом вода текла под землей и скапливалась в маленьком круглом озере. Это было глухое, окруженное со всех сторон тайгой место, с отражавшимися в дремотной воде деревьями и мелькавшими в глубине тенями непуганых рыб.
Вода в озерце хорошо прогревалась, и Катя любила приходить сюда и купаться. Она подолгу плескалась в прозрачной воде, а потом, раскинувшись, лежала на берегу безо всякой одежды, загорала, дремала и томилась воспоминаниями и надеждами. В ее нежном возрасте воспоминаний было меньше, а грез больше. И Бог знает, о чем она только не передумывала в эти неподвижные часы, кем себя не воображала и какого принца не ждала в девичьих мечтах. Только откуда было взяться ему в этой глуши? Не было вокруг никого, кроме нескольких людей на метеостанции, где она работала уже второй месяц, а казалось, год, и день изо дня выполняла однообразную и скучную работу. И сколько так будет еще?
Ей вдруг стало себя жалко и захотелось плакать, просто так, не из-за чего, и она дала волю слезам. Но слезы прошли быстро, как легкий грибной дождик, и принесли облегчение и восторг, оттого что она еще молода, все у нее впереди и жизнь будет обязательно прекрасной, таинственной, чуточку опасной, но счастливой.
Катя встала во весь рост, подошла к кромке воды, потянулась и засмеялась: на нее смотрела стройная обнаженная девушка с длинными волосами, прикрывавшими маленькие круглые груди, и крепкими бедрами. На эту девушку опасливо косилась, но не двигалась древняя как мир щука, и равнодушно летали вокруг стрекозы и бабочки. Но вдруг ей почудилось, что из тайги кто-то на нее смотрит. Катя обернулась и увидела совсем рядом пронзительные темно-зеленые глаза. Это было так неожиданно, что она даже не сдвинулась с места. В следующее мгновение глаза исчезли и по траве пробежал шорох. Катя схватила в руки одежду и, не чуя ног, бросилась по тропе. Она боялась обернуться, однако никто ее не преследовал. Лес кончился и впереди показался берег моря. Катя торопливо оделась и пошла спокойнее через степь, распугивая маленьких серых птиц, гнездившихся под ногами.
Когда она подошла к дому, начальник метеостанции Буранов удивленно посмотрел на нее.
– Что это с тобой?
– Там… – Она махнула рукой в сторону тайги.
– Бурхана встретила?
– Кто это?
– Это бог такой у бурятов. Не любит он, когда девушки в тайгу одни ходят.
Он смотрел на нее в упор насмешливыми глазами, и Кате было непонятно, что эти глаза выражают.
– Поедем со мной в Солонцовую.
– Нет, – качнула головой девушка. Она побаивалась начальника и предпочитала держаться от него подальше.
– Ну как знаешь, – сказал он сухо и скрылся в красивом большом доме с черепичной крышей и резным крыльцом.
В это пустынное место на безлюдном западном берегу Байкала с мрачноватым названием мыс Покойники Катя напросилась сама. Она выросла в унылой хакасской степи и мечтала о Байкале с детства, но когда первый раз увидела его, море – никто не называл его здесь озером – показалось ей печальным и диким, совсем не таким, как она представляла раньше.
Больше суток небольшой катер геологов «Чароит» плыл вдоль самого берега, спасаясь от тяжелой волны, и все время слева тянулись горы, то круто обрывающиеся в воду, то отступающие и образующие маленькие бухты. Изредка попадались поселки, но потом они пропали и остались одни только скалы, камни, тайга и редкие черные птицы. Ночь Катя спала плохо, а рано утром когда вышла на палубу, то увидела, что море сузилось. С обеих сторон высились скалы и изрезанные берега, а за кормой хищно кружили невесть откуда взявшиеся жирные драчливые чайки.
Прошли большой поселок на большом безлесом острове, и снова море раздвинулось, правый берег исчез вдали, и скоро стало неясно, что виднеется на горизонте, его очертания или низкие сизые облака. Иногда «Чароит» сворачивал в бухточки, на берегу которых стояли одинокие темные дома, тыкался прямо носом в гальку, не заглушая мотора, и кто-то из Катиных попутчиков сходил, кого-то забирали с той же будничностью, с какой в городах развозит людей по домам автобус. Плыли дальше на север, все выше и угрюмее громоздились горы. В воде встречались льдины, плавание начало уже утомлять, и казалась пугающей эта глушь, как вдруг Катя увидела на берегу крохотную избушку. Домик стоял под склоном горы так изящно и прелестно, будто не человек догадался его здесь построить, а он сам собой вырос. И когда через час катер приплыл в Покойники, где горы отходили далеко от воды и на голом берегу торчал обнесенный плетнем барак, а за ним виднелся особняк, такой красивый, что его красота казалась даже неестественной, она почему-то все время вспоминала ту избушку. Словно та ей что-то обещала. Но сколько она ни спрашивала, никто ей ничего о чудесном домике не говорил.
Кроме начальника, на метеостанции жили еще два человека: невысокий пухлый мужичок неопределенного возраста по фамилии Курлов и его жилистая хозяйственная теща. Курлова Катя невзлюбила с самого первого дня. Он смотрел на нее ухмыляясь, лез с бестолковыми замечаниями и пытался учить жизни. А однажды, когда она пошла в баню, ввалился следом и стал приближаться, водя перед собой руками, будто щупая жаркий влажный воздух.
– Уйди! – крикнула она, отворачиваясь.
– Катенька, – часто дыша, зашептал Курлов, – мехов надарю, соболей, песцов, шубу себе сошьешь.
Она заметалась по бане, как залетевшая в окно птица, и забилась в дальний угол у бочки с горячей водой.
– Красавица, – бормотал он, – не пожалеешь. Катя тоскливо заозиралась, а потом схватила ковш и зачерпнула кипяток.
– Ты что? Ты что делаешь!
Он мигом прекратил щупать воздух, сорвал с головы шляпу и прикрыл ею возмутившуюся плоть.
– У! – крикнула она, смекнув проснувшимся бабьим умом, что есть вещи, из-за которых ни один мужик рисковать не станет. Но Курлов уже отбежал от двери, и она выскочила из бани в чем мать родила, по дороге чуть не сбив начальника.
А потом полчаса ревела, давясь слезами и боясь, что будет слышно за стенкой, и вспоминала подружку в новосибирском метеотехникуме.
– Катька, дура, куда ты едешь? Ты думаешь, тебе там дадут спокойно жить? В первую же ночь кто-нибудь вломится. Мужики там голодные живут, дикие. Ух!
Ее всю трясло, и к утру она решила, что с первым же катером уедет, но назавтра на Курлова было жутко смотреть. Он ходил не поднимая головы, а под левым глазом у него матово отсвечивал бурый фингал. Катя одновременно торжествующе и жалостливо глянула на обидчика и с сомнением на его кроткую с утра родственницу. Как ни крепка была надзиравшая за зятьком Алена Гордеевна, тут явно чувствовалась мужская рука.
Катя осталась и сама не могла понять, нравится ей эта жизнь или нет. Настроение ее менялось по три раза на дню под стать байкальской погоде, которую она исправно летописала по очереди с членами курловского семейства. Начальника же все это как будто не касалось. У него была своя непонятная жизнь. Он часто уезжал на лодке в море или уходил в тайгу, иногда к нему прилетали на вертолете гости, и в такие дни все сбивались с ног. Старуха готовила угощение и рыбные пироги, Курлов топил баню, а из бурановских хором раздавались возгласы, пьяные крики, и рыхлые сытые мужики с удивительно похожими лицами среди бела дня бухались в море, омывая в чистых водах жирные телеса. Кате в эти дни Буранов велел носа из дома не высовывать и до нее лишь доносились слова пьяной благодарности:
– Все у тебя, Андреич, хорошо, только девочек нет.
– А если поискать? Может, найдется кто? Дальше следовали скабрезные шуточки, матерные перебранки – Буранов поддакивал, пока наконец утомленные гости не падали где попало. И Курлов с Аленой Гордеевной относили их спать.
Зачем нужны были начальнику эти противные люди, Катя не понимала. Ей казалось, что он и сам не очень-то их любит, и когда они улетали, увозя с собой рыбу, тушки козлят и птиц, облегченно вздыхал и уходил на несколько дней в тайгу.
И снова долго тянулись и быстро проходили размеренные однообразные дни, раз в неделю на мыс заходили катера и уходили дальше в Нижнеангарск, в Листвянку, на Ольхон или в Давшу. Пустынное море перекатывало гальку и уносило с берега забытые вещи, выкидывая взамен темные, словно обуглившиеся стволы, волновалось, штормило, но к середине лета выдохлось и лишь слабо ворочалось и тихо вздыхало в глубоком ложе, как ленивое животное.
В одну из таких теплых июльских ночей Катя шла по двору в легком платьице, как вдруг дорогу ей преградила высокая худая фигура, обняла и смачно со знанием дела поцеловала в губы. Катя растерялась и пропустила этот поцелуй, как соня-вратарь пропускает мяч, а потом возмущенно отпихнула фигуру и заехала наглецу по физиономии.
– Да за кого вы тут все меня держите?
– Ммм, – обиженно замычала фигура, – я же с дружескими чувствами.
– Знаю я эти чувства, – буркнула Катя и пошла к дому, но фигура бросилась за ней следом и умоляюще сказала:
– Не уходите.
– Ты кто будешь-то?
– Сударыня, – фигура выпрямилась, стукнула ногой о ногу и совсем не по-сибирски, сильно напирая на звук «а», отрекомендовалась: – Абъещщик здешних угодий Евгений Адоевскай.
– Лесник, что ли?
– Если вам так угодно. А вы, стало быть, красавица Катрин, о которой говорит все побережье от Онгурен до Мужиная и которую до сих пор никто не видел?
Голос у него был хороший и теплый, и в тон леснику она ответила:
– Так меня никто и не зовет.
– Я со своей стороны, – забормотал Одоевский, – сударыня, помилуйте, я к вашим услугам хоть сейчас. Я отвезу вас в такое место, которое вы в жизни никогда не видели и больше не увидите.
– Сейчас поздно.
– Завтра, – живо сказал новый знакомый и поцеловал ей ручку. – А теперь я бегу и никому обо мне не говорите. Я тут инкогнито.
Катя проводила его удивленным взглядом и усмехнулась: «От Онгурен до Мужиная». Ей сделалось весело и легко, захотелось с кем-нибудь поговорить, но вдруг в ночи она услыхала голоса.
– Что этот придурок тут делал?
– А кто его знает, пустобреха.
– Пустобреха, – передразнил Курлова Буранов. – Смотри опять понаедут, цепляться начнут.
– Ну, скажете своим дружкам – вот и весь разговор.
При свете дня Одоевский Катю разочаровал. На вид ему было лет тридцать и выглядел он помятым и неряшливым под стать своей хлипкой, страшной лодке. При такой внешности развязный тон казался неуместным, как если бы Алена Гордеевна вздумала кокетничать с Бурановым.
– Поедемте в Хаврошку.
– Куда? – засмеялась она.
– А что тут смешного? – внезапно обиделся ее кавалер. – Чем это вам наша Хаврошка не нравится? Уж по крайней мере пристойнее ваших мертвецов.
Хаврошкой оказалась та самая избушка, которую заприметила Катя с катера. Правда, внутри чудный домик выглядел довольно убого: нары, печь, высокий грубый стол, горшки, сковородки, керосиновая лампа на подоконнике. За столом сидел парень в белом овечьем свитере и читал.
– Сударыня, позвольте представить: мой близкий друг и коллега Александр Дедов.
Услышав фамилию, Катя хмыкнула, но в этот момент парень поднял голову, хлопнул длиннющими мохнатыми ресницами, и она поняла, чьи глаза привиделись ей три недели назад на берегу таежного озерца. Да, это были те самые пронзительные, цвета хвои глаза, смотревшие теперь немного смущенно.
– …умница и книгочей, идеалист, борец с браконьерами и лучший защитник Байкала.
– Не говори ерунды, – сказал парень и снова уткнулся в книгу.
– Дед, – не останавливался Одоевский, – в конце концов, это просто неприлично. Вы представить себе не можете, как он перепугался, когда узнал, что к нам пожалует дама. Одичал-с в тайге.
– Угу, – пробормотала Катя, – бурхан.
Через полчаса она чувствовала себя в этой избушке лучше, чем дома. Одоевский, хоть и довольно плохонько, играл на гитаре и пел тенорком жалостливые песни о бродягах, туристах и белых офицерах. Дедов сидел набычившись, и ей жутко нравилось дразнить их обоих взглядами, кокетничать и шалить. Водился за Катенькой этот милый грех, но выходило у нее всегда так невинно, что никто на нее не обижался.
Наконец пришло время прощаться. Одоевский, уже с трудом сохраняя непринужденность, спросил:
– А тебя там не обижают, моя пери?
– Вот еще, – повела она плечиком, – я сама кого хочешь обижу. Да и есть у меня защитник.
– Вовчик, что ли? – расхохотался москвич.
– Да нет. Буранов. – И она заметила, что они оба нахмурились. – У него, кстати, и книг много, – сказала Катя, обращаясь уже к одному Дедову, – хочешь, я для тебя что-нибудь попрошу.
– Не хочу.
Обратно ее вез Одоевский. На полдороге мотор заглох и дальше шли на веслах. Катя рассеянно отвечала на вопросы бодрившегося гребца и с ужасом смотрела на море. Никогда она не казалась себе такой беззащитной. Чтобы срезать расстояние между двумя мысами, они плыли довольно далеко от берега, и страшно было подумать, что под ними такая же глубина, как темная гора на берегу. А лодка, казалось, стояла на месте. Одоевский кряхтел, чертыхался, грести было неудобно, и легкий ветерок, дувший с берега, отгонял их в открытое море. После полуночи он успокоился, и через два часа лодка ткнулась в гальку.
Наутро она проснулась влюбленной. Она сама не знала, в кого именно влюбилась, но ей нравилось все – тихое море, теплые доски на крыльце, мягкий южный ветер култук и редкие причудливые облака, зависшие над горою. Даже Курлов не казался ей в то утро таким противным. Он ходил прибитый и печальный, и не умевшая ни на кого долго сердиться Катя решила, что ему надо отпустить грехи.
Ее обидчик удил рыбу в той самой фетровой шляпе и был похож на не полностью утратившего достоинства бича.
– Здравствуйте, Владимир Игнатьевич, – налетела на него Катя со спины.
Курлов пробурчал что-то нечленораздельное.
– Да что ж вы на меня и не смотрите-то?
– А че мне на тебя смотреть?
Он дернул удочку и стал крутить катушку, но согнувшееся было удилище внезапно обмякло, и Курлов вытащил пустой крючок.
– Черт! – прошипел он недовольно.
– Так это вы нас, значит, всех рыбой кормите?
– Уг у, – он наконец скосил на нее мутноватые глазки, – глупая ты до чего ж!
– Ну вот! – огорчилась она.
Не слушая ее сетований, Курлов снова приклеился к поплавку, едва видневшемуся на фоне слепящей воды. Катя так и не увидела ничего, как вдруг Вовчик подсек, откинулся на спину и стал судорожно подматывать натянувшуюся леску. В воде показалась отливающая серебряным боком здоровая рыбина. Она шла к берегу недоуменно, но довольно покорно. Однако когда до берега оставалось меньше метра, рыбина вдруг круто развернулась, Курлов дернул на себя удилище, рыбина слетела с крючка и оказалась на камнях совсем рядом с водой. Мгновение – и она исчезнет.
Катя кинулась к ней, и в последний момент отбросила подальше от воды.
– Ух ты! – воскликнула она восхищенно. Повеселевший рыболов засопел, с благодарностью посмотрел на свою помощницу и неожиданно вздохнул:
– Эх, Катя, хорошая ты девка, а достанешься какому-нибудь негодяю.
– Почему негодяю? – опешила она.
Он снова закинул мудреную снасть с большим поплавком и несколькими грузилами, одно за другим расположенными на леске, и вопросом на вопрос ответил:
– А я гляжу, ты давеча в Хаврошку ездила?
– Ну ездила. А что?
– Ничего, только смотри, гора налетит.
– Какая еще гора?
– Какая-какая? Вот налетит – узнаешь! Да еще этот увалень Москва, который в море ничего не смыслит.
– Чтой-то вы меня стращаете, Владимир Игнатьич?
– Катя, Катя, – Вовчик поднял на нее грустные глаза, – у тебя мама-папа есть?
– Мама.
– Вот и ехала бы к маме. Кой черт тебя сюда занес, девку молодую?
– А что тут страшного? – ответила она с вызовом. – Разве только нахал какой в баню залезет, когда там девушка моется.
Однако ее визит в Хаврошку вызвал неудовольствие не только у Курлова. И теща его была с Катей суха, ходила поджав губы и смотрела с тем характерным женским осуждением, которое всегда досадно девичьей душе. В довершение ко всему был несколько холоден и Буранов, не было в его взгляде обычной покровительственной ласки, и бедняжка и вовсе растерялась. Но не отказывать же себе в удовольствии морочить голову двум молодым людям, которые, казалось, только и ждали, что кто-нибудь оживит их отшельническое существование. И потом – где еще была такая чудная избушка?
В этом домике она почувствовала себя вскоре хозяйкой, подружилась с дедовской собакой Чарой, готовила лесникам обед, ворчала на неряху и болтуна Одоевского и свысока глядела на молчаливого и сосредоточенного Дедова. Но одной вещи Катя понять не могла. Странная глухая вражда была между обитателями Хаврошки и Покойников. Лесники на дух не переносили метеорологов, те – лесников, и было совершенно непонятно, что делит между собой несчастная горстка людей, разбросанная по дикому берегу.
Но сколько она ни пыталась их заочно примирить, все было бессмысленно. Буранов при упоминании соседей только недобро посмеивался, а лесники отмалчивались, пока наконец Дедов не выдержал и кратко, точно гвоздь вбил, бухнул:
– Рвачи!
– Какие же они рвачи? – обиделась Катя. – У Буранова лицензия есть. Я знаю.
– А ты никогда не думала, – вдруг зло заговорил Дедов, сверкая хвойными глазищами и, как опахалами, взмахивая ресницами, – почему здесь, кроме твоего дражайшего начальника, никто не охотится? Он раньше жил в бухте Солонцовой и за пять лет так испоганил тамошнюю тайгу, что охотники до сих пор туда не ходят – за собак боятся. У него там капканы на каждом шагу стояли. А указа на него нет – у Буранова пол-Иркутска куплено. Вся эта сволочь из Серого дома к нему съезжается. Ты на дачке-то у него была?
– Ну была.
– А кто все это строил, знаешь? Бичи на него работали, а он с ними спиртом расплачивался. Тут за спирт что хочешь сделают – Байкал осушат и никто слова не скажет. Это сейчас он слегка поутих, в свое удовольствие зажил. А когда деньги были ему нужны – что ты, как он крутился! Ферму песцовую завел, сколько омуля и хариуса извел, чтобы песца прокормить, сколько зверья загубил! Нагадил там – сюда гадить перебрался. Ты погоди, тут зимой машины будут через день ходить, за соболем, за рыбой, тут тыщи сколачивают за сезон, а в тайге после них шаром покати. Лицензия! Лицензия для них – одно прикрытие.
– Что же вы тогда не вмешиваетесь? – пробормотала она, оглушенная его напором.
– А он на мой участок и не суется, – ответил Дедов надменно.
– Много это меняет? – вмешался Одоевский. – Ну к тебе не лезет и что? Не все ж такие придурки, как мы с тобой, за сто рублей карячиться. Не с Бурановым надо воевать, а с теми, кому он нужен.
– Вот и воюй!
– Не буду, – холодно ответил Одоевский. – Хватит с меня воевать. Я затем сюда и забрался, чтобы ни с кем больше не связываться. Да и кому это надо? Они на вертолетах – мы на веслах. Нам бензина и того не дают.
Катя покраснела, но о ней, кажется, забыли.
– Надо ждать, Дед. Они дойдут до крайней точки и сами одумаются. Их жизнь заставит, если хоть капля ума в мозгах осталась.
– Зато ты умный больно!
– Я не умный, Дед, я ученый, – печально проговорил Одоевский и взглянул на Катю: – Ну что ты заскучала, моя радость? Не грусти и не бери ничего в голову. Мы сидим втроем на краю света и, право, не в самом дурном месте, где даже ветры каждый имеет свое имя, и пока что из этого озера можно пить чистую воду, у нас достаточно еды, мы любим друг друга и слава Богу. А что еще человеку надо?
– А дальше что будет? – спросил Дедов зло.
– Милый мой, не заботься о дне завтрашнем. Сумей прожить то, что тебе отведено.
«Надо будет выжать из Вовчика бочку бензина», – подумала Катя. Она была очень смущена, чувствовала себя виноватой и не могла разобраться, перед кем ей более неудобно – перед Бурановым или лесниками, но ей очень хотелось их примирить – только как это сделать, Катя не знала.
Давать бензин Курлов наотрез отказался.
– К начальнику иди, – сказал он, сплюнув, – а лучше не ходи – все равно не даст.
– Пусть только попробует!
– Сами, что ль, попросили? – не поверил Буранов, когда Катя изложила свою просьбу.
– Да ну что вы? Это все я. Они же возят меня туда-сюда.
– А ты им присоветуй: чего проще бензина купить. Бочка омуля – на бочку бензина. А то ишь: девочек катать им нравится – а санки пусть Буран таскает.
– Они не согласятся, – вздохнула Катя, – они б меня и так убили, если б узнали, что я у вас просила.
– Брезгуют, значит? – Бурановские глаза сузились и заблестели. – И браконьером, поди, называли, да?
Катя смолчала, уже жалея, что не послушалась мудрого Курлова и затеяла этот разговор. Но Буранов был задет за живое и загремел:
– А ты спроси их в следующий раз: кто из нас браконьер: я или какой-нибудь паршивый леспромхоз, который половину леса угробит, реку загубит, что ж они с этими-то не воюют – ко мне прицепились? Понаездят сюда, понапишут – Байкал, жемчужина, спасать надо, а потом глазки строят: как насчет омулька, как насчет соболька? И попробуй не дай!
– Но они-то не просят, – возразила она несмело.
– А до них сколько было? И рыбохрана, и егеря все этим кормятся и завидуют: во сколько Буран нахапал. А как оно дается и чего стоит, кто-нибудь спросил? Я нищим сюда приехал десять лет назад, и все, что у меня есть, – все своим горбом заколотил, радикулит нажил, замерзал, голодал, да что там говорить?
Он махнул рукой, и Катя поразилась: спокойный, обычно сдержанный начальник не был похож на самого себя. Она хотела уйти, но он неожиданно разговорился:
– Катя, Кятя, кто бы знал, как я жил. Я гордый был дурень, идти на поклон ни к кому не захотел, с бичами кантовался, деньги копил. Поверишь ли, дал зарок, капли в рот не брать, пока на ноги не встану. Потом устроился наконец егерем, сеть купил, рыбачить начал, охотиться. Все один, никого не спрашивая. И вот раз поставил сеть в двухстах метрах от берега. А когда пошел ее доставать, налетела гора! Ты знаешь, что такое гора? Это ад кромешный! Еще пять минут назад все было спокойно, тихо, и вдруг налетает ветер, ураган, не то что лодки – баржи, катера в море тонут. А у меня лодчонка была хуже, чем у твоих оборванцев. Мотор заглох – я за весла и грести. Не к берегу, нет, об этом и думать было нечего, а лишь для того чтобы удержать лодку носом к волне и не дать ей перевернуться. А гора не стихает, меня все дальше в море, холод собачий, ветер, брызги. Я выбивался из сил и понимал, что пропадаю, ни за что, за какую-то паршивую рыбу, за сеть, и ни одна собака не узнает об этом. И такая ярость меня охватила.
Буранов перевел дух, лицо его неприятно исказилось, и вспыхнули с новой силой мышиные глаза.
– Я только этой злостью и спасся. Чтоб доказать всем, что я не бич какой-нибудь и буду жить здесь, как человек. Я отвоюю это право, и я его отвоевал. Гора стихла через шесть часов, я добрался до берега, вытащил сеть и понял, что это все, раз я не сдох, раз море меня отпустило, значит, мне ничего не страшно. Так что плевать я хотел на всех егерей и лесников, на всех защитничков природы – мне билет выдали, лицензию бессрочную – бери, что душа ни пожелает. И я вжился в тайгу, всю ее до малейшего сучка знаю, знаю, когда что случится, где пройдет какой зверь и откуда задует ветер. Я не ангел, и ко мне иногда прилетает охотиться эта жирная мразь – но что же делать? Лучше терпеть их, чем давать взятки мелкой швали. Да, я беру от тайги слишком много, но не возьму я – возьмут другие. Если бы эта земля была моя, я бы относился к ней совсем иначе. Я первый позвал бы Дедова к себе на работу и платил бы ему в сто, тысячу раз больше, чем он получает сейчас. Но до тех пор пока все ничье, так и будет. Отдайте Байкал таким людям, как я. Сколько нас в России – тысяча, две, десять – умных, энергичных, смелых. Мы преобразим и поднимем все, мы станем хозяевами и будем не грабить, а создавать.
Буранов умолк, застыли и подернулись поволокой его глаза, и совсем другим, покровительственным тоном он сказал:
– А насчет бензина скажи Вовчику. Пусть им даст. Ради тебя.
Он повернулся и ушел, а Катя так и осталась растерянная около его чудного дома с резными ставнями и коньком на крыше.
«Он очень несчастлив, – подумала она вдруг, – и очень хочет убедить всех и себя прежде всего, что ему хорошо. Бедный, бедный. И все они тут какие-то ненормальные».
Был тихий, теплый вечер, море лежало недвижимое, отражались в воде облака, гонялся за мушками мелкий хариус, несколько раз показалась недалеко от берега голова нерпы, пролетели утки, и странно было подумать, что в этом мире кто-то может тосковать, страдать, делить, когда было столько всего вокруг – хватит на всех и на вся.
Катя шла вдоль самой кромки воды по камням и вдруг поймала себя на мысли, что не чувствует себя одинокой, ей дано дотронуться до таинственной жизни, но все равно была в этой очарованной природе печаль. Солнце зашло за гору, но сумерки наступили не сразу. Еще долго отражала вода темно-розовое сияние облаков, почти за километр были слышны голоса людей на метеостанции, и совсем далеко в горах сухо прогремел выстрел. Пора было возвращаться к дому, но она все оттягивала и оттягивала этот момент, смотрела на воду и дымку дальнего берега, казавшуюся отсюда высокой дубравой, и вдруг подумала, что никогда этот вечер не повторится. Медленно уйдет за огромную лесистую гору и нагрянет с моря ночь, но эта мысль принесла не слезы, а странное смирение и чувство покоя.
Одоевский с подозрением посмотрел на бочку, выслушал путаные Катины объяснения про фонды лесничества и быстро сказал:
– Деду про бензин ни слова. Бочка останется тут, и я тут буду заправляться.
Потом взглянул на кряхтевшего хмурого Курлова.
– Ты что это, Гнатич, жалеешь какую-то паршивую бочку бензина? У тебя ж их – во!
– Да, жалею, – отрезал Курлов.
– Гнатич, – широко улыбнулся Одоевский, – чай, мы природу от тебя охраняем, должен же и ты внести посильный вклад в охрану озера Байкал. А то живешь, живешь, только и знаешь, что брать, а отдавать кто будет?
– Озеро, – проворчал Курлов, – вот погоди, осень настанет, оно тебе покажет, какое оно озеро. Че тут отдавать-то? Само все делается. Что ж я, по-твоему, у воды буду жить и не напьюсь?
– Много вас развелось – пить скоро будет нечего, – вздохнул Одоевский.
– Нас-то как раз немного, – сказал Курлов неожиданно зло. – Мой дед и отец тут жили и никаких лицензий не знали. Жили, и все. И я б так жил, и Сашка Дедов – мы б друг другу не мешали. А вот такие, как ты, понаехали отовсюдова. Сталкивают всех, перессорили. Интеллигенты! Им, вишь, в городе жить не ндравится!
– Так ведь и начальник твой из той же породы.
– Он хоть не трепло собачье, как ты.
– Эх, Гнатич, убогий ты человек. Тебе меня все равно не понять, а потому и обидеть меня ты не можешь, как ни старайся. Ты мне лучше скажи: правду говорят, будто бы ты бабу свою в Иркутск сплавил, чтобы с тещей любовь крутить?
– Дурак ты, Москва, – сказал Курлов обиженно. – Она там сейчас каператив строит.
– Никак, уехать надумали, Гнатич?
– Ну.
– А не жалко?
– А че тут жалеть? Че жалеть-то? – обозлился Курлов. – Живешь как скотина, а я по-людски хочу, с квартиркой, с водой горячей, сортиром теплым. Понял? Это тебе все – тьфу, голь перекатная. А мы уж сколько так живем?
– Так, значит, ты слабину-то дал первый?
– Здесь подыхать будешь – никто за тобой не приедет. И похоронить толком не похоронят.
– Да рано вы о смерти думаете, Владимир Игнатьевич, – встряла Катя. – Вы еще всех нас переживете.
– Все под Богом ходим, – строго ответил Курлов.
– Это да, – легко согласился Одоевский. – Ну спасибо тебе, Гнатич, за топливо. Иди с миром и больше не греши.
Вовчик чертыхнулся и ушел в дом.
– Ну, Катька, – сказал Одоевский и щелкнул пальцами, – теперь мы с тобой богатенькие. Хочешь, прямо сейчас на Ушканы махнем? Там нерпы пропасть, а берег мраморный.
– А гора налетит?
– Гора, – усмехнулся Одоевский, – горы ты не бойся. Кому суждено быть повешенным, тот не потопнет.
С Одоевским Катя виделась теперь часто. Москвич давно оставил снисходительно-насмешливый тон, сидел допоздна в ее светелке и говорил, говорил до тех пор, пока она его не выпроваживала. Он уходил, всем своим видом показывая полное желание остаться, а Катя, смеясь, его гнала и страшно шептала, что он компрометирует ее в глазах Алены Гордеевны.
– Катюшка, да все знают, что ты моя любовница.
– Уходи, я устала, спать хочу.
– Катенька, там темно, страшно одному плыть.
– Тогда спи на коврике с Динкой.
– Какая ж ты все-таки жестокая!
Иногда они ссорились, и Одоевский клятвенно заверял, что ноги его больше в этом доме не будет, и говорил, что знает одну бурятскую вдовушку в Онгурене, женщину бедную, но великодушную, и в ее доме есть место для его оскорбленного сердца, но через день после этой тирады снова появлялся. Катя привыкла к нему, и только было ей досадно, что Одоевский вечно один.
– Где же ваш друг Бабин или как там его, я забыла?
Москвич глянул на нее проникновенно и покачал головой:
– И думать о нем забудь, моя ясынька. Дед – монах, Илья Муромец, он в тайге силу копит и ни на что не отвлекается.
– А ты что ж не копишь?
– Я устал уже, Катенька, и не вижу смысла, зачем ее копить. – Одоевский вдруг загрустил. – Я, Катя, человек конченый. Пробовал быть инженером – скучно стало, пробовал поэтом – не получилось, занялся политикой и за то пострадал. Подался в дворники, потом в истопники, все на что-то надеялся, писал, размышлял, философствовал, был хорош собой и нравился дамам. Потом сам себе надоел, бросил все, уехал из Москвы, чтобы жизнь познать, там был, тут был, это попробовал, на другое поглядел – везде одно и то же. Ничего-то из меня не вышло. Живу покуда здесь, а надоест – махну в Америку.
– Зачем в Америку-то?
– Да незачем, – согласился Одоевский. – Но только ведь тут через пару лет Буранов все краны перекроет и хуже, чем при коммунистах, станет. Не повезло мне. Не в то время я родился. Родители мои князьями были, и век у них был счастливый, а нам что досталось? Одни объедки.
Когда он принимался жаловаться, Кате становилось скучно, даже как-то неприятно, и, чувствуя это, Одоевский усмехнулся:
– Да что тебе говорить? Прав Сашка – у тебя одна мысль: как бы замуж поскорее выйти.
«Врет», – спокойно подумала Катя.
А Одоевский, не сводя с нее испытывающего взгляда, едко продолжил:
– Выйдешь в конце концов за барина здешнего, подарит он тебе шубу от щедрот своих, два месяца будешь счастлива, а потом заскучаешь и начнешь изменять ему с Вовчиком.
Катя почувствовала себя задетой:
– Да что ж вы к Буранову-то все прицепились? Он хоть делом занят. А ты-то? Только ноешь да жалуешься, не мужик, а… – осеклась она.
Одоевский потемнел:
– Знаешь, моя радость, мне такие же слова жена бывшая говорила. Что ты за мужик без дела? А я не хочу никаким делом заниматься. И от жены ушел, потому что она из меня такого вот Вовчика хотела сделать – тащи, тащи, ломай спину. Все вы, бабы, одинаковые. Вон Курлова возьми того же – пошел бы он к Буранову, если б не дура его крашеная, которой вишь ли, каператив захотелось. Едрена мать! Да к этому хапуге ни один уважающий себя человек не пойдет. Лучше бичом последним быть… Он же хуже партийной мрази. Те уже импотенты, евнухи, а вот он… не дай Бог такому развернуться. Грядущий Хам.
– Ты просто завидуешь.
– А, что с тебя, дурочки, взять? – махнул рукой Одоевский и пошел к морю.
«Ну и черт с тобой, катись», – подумала она, но в тот же день поругалась и с начальником.
Буранов, после того как у него в очередной раз побывали гости, подарил Кате коробку шоколадных конфет. Тяжело вздохнув, байкальская барышня от конфет отказалась. Сероглазый благодетель усмехнулся, ничего не сказал и бросил гостинец на землю. Тут же налетели гуси, захлопали крыльями и устроили на берегу свалку. Нелепая эта сцена происходила на глазах у хозяйственной Алены Гордеевны, но когда старуха попыталась прогнать гусей, дело было сделано: обкомовские сладости перекочевали в гусиные желудки.
– Ты что же сделала, негодница, а? – зашлась во гневе старуха.
– Жирнее будут, – буркнула Катя.
Метеостанция опустела. Буранов снова уехал, Одоевский больше не появлялся, и Катя затосковала. Тихое, сонное море навевало на нее тоску, даже ходить купаться и загорать на таежное озерцо ей надоело. Часами она сидела в своей прохладной комнатке у окна и глядела на размытый дальний берег моря – полуостров со смешным названием «Святой Нос» и тушу гигантского животного на фоне этого Носа – мраморные Ушканьи острова, куда собирался свозить ее, да так и не свозил оскорбленный потомок московских бар. Дни были похожи один на другой, и Катя потеряла им счет, не было ни дождей, ни ветра, палило вовсю жгучее байкальское солнце, изредка налетали стремительные грозы, все тряслось, а потом снова успокаивалось, и редкие облака прочно висели на хребте, не в силах перевалиться на эту сторону.
Катя томилась и лениво перебрехивалась с тещей, после отъезда Буранова обретшей скипетр и державу в их маленьком государстве. Потом эта ругань ей надоела, и, чтобы окончательно не закиснуть, она принялась помогать старухе по хозяйству, стала кормить гусей. По счастью, гуси не были забывчивыми, некоторые задобренные шоколадными конфетами, они отнеслись к девушке благосклонно, и скоро Катя стала их различать и дала каждому имя.
Самого жирного и неуклюжего она назвала Вовой, самого меланхоличного Женей, самого хитрого и проворного – Бураном, а самого… самого красивого – Дедушкой. Она следила за тем, чтобы гуси жили в согласии, не дрались, и птицы не отходили от нее ни на шаг, тянули голову к ее ногам, и ей чудилось, что самый робкий, сизый Дедушка делает это особенно нежно и все смотрит чудными шоколадными глазами.
Что же касается Алены Гордеевны, то она приняла произошедшую в нахальной девчонке перемену еще лучше поименованных гусей, и Катя с удивлением обнаружила, что грозная теща была славной и доброй старушкой. Она учила юную соседку, как делать рыбный пирог, и приговаривала:
– От замуж выйдешь, спасибо тебе муженек скажет.
– Вам скажет.
– И мне тоже. Но мужика в строгости надо держать. Мужик нынче не тот пошел, дурной, гулящий, – так шо ты давай его далеко не отпускай. Лет-то сколько тебе, милая?
– Девятнадцать.
– Я в твои годы уж второго ждала. Трудно, конечно, мужика тут найти, – вздохнула Алена Гордеевна, – но вот бы тебе с Василь Андреичем получше познакомиться. А ты все с Москвой ходишь. Что он тебе, пустомеля, и только. А замуж все равно не возьмет. Наиграется и бросит. Знаю я этих столичных. Самое зло от них. Чтоб у нас в Сибири раньше так жили, чтоб пили, сквернословили, да ни в жизнь. Никогда такого не было, все из Москвы пришло.
– Он не такой, – возразила Катя.
– Не такой, – проворчала старуха, – то-то я смотрю, все тебе не такие. Доча моя от тоже прынца ждала. Ждала, ждала, а нашла кого? Тьфу!
– А по-моему, Владимир Игнатьич хороший, – вступилась Катя.
Алена Гордеевна расцвела.
– И мне он по сердцу пришелся. Только вот беда, детей у них нет. Кабы были у них дети, все б по-другому было.
– Может, будут еще?
– Да где там? Не хочет она рожать. Какие, говорит, дети в тайге? Вот и маются оба.
Курлов действительно маялся. Его супруга и не писала, и не ехала, и единственное, что его развлекало, были туристы, толпою валившие через Покойники за перевал, туда, где начиналась великая река Лена, по легенде вытекавшая когда-то в этом месте из Байкала. Вовчик показывал дорогу, его угощали водкой, и он с радостью парился с туристами в бане, а после с важным видом объяснял, отчего мыс получил свое кладбищенское название.
– Одне говорят, – повествовал хмельной Курлов, – что море тут спокойное, оттого и мыс прозвали покойным, но а уж потом в Покойники переделали. Други говорят наоборот – море тут бурное и шибко много покойников на берег выкидывает. А на самом-то деле лет сто, а может и боле, буряты тут устроили пир и столько всего зараз съели, что половина из их перемерла. Во как! Но вы с огнем там поосторожнее, в тайге, дожжей нет, не ровен час тайгу подожгете: и лес сгорит, и сами погибнете. То-то лесничкам счас работы!
Катя слушала его и с ужасом думала, что где-то ходят по тайге в эту минуту близкие ей люди, ночами ей снились рваные, тяжелые сны и все время казалось, что вот-вот стрясется беда. Это ощущение было разлито в воздухе, в дневном жаре и безветрии, и даже студеное море не было в силах этот жар унять и гнало на берег мертвую зыбь от Ушканов. Стала сухой и ломкой трава в степи, и почти весь растаял в горах снег – только высоко в распадках лежали белые куски и около них дрожал и тек знойный воздух.
Отдохновение наступало лишь ночью, когда она приходила в радиорубку, передавала сводку и потом долго крутила ручку радиоприемника на коротких волнах и слушала, как переговариваются между собой капитаны кораблей, летчики, геологи, охотники и десятки других людей, разбросанных по тайге и по морю. Она ловила в этих разговорах какую-нибудь весточку, и эти люди, которых она никогда не видела, сделались ей страшно близкими. С некоторыми она познакомилась, болтала ночами о пустяках, пока их не разгонял строгий начальственный баритон. И тогда приходилось возвращаться домой, но спала Катя плохо, зато много ела и с ужасом смотрела на свое налившееся, раздобревшее тело. А днями не сводила глаз с тайги, казавшейся снизу такой безлюдной, смотрела, не виднеется ли где-нибудь дым, чтобы броситься туда на помощь, но тайга будто застыла, и только жалобно кричали и хлопали крыльями вокруг Кати ее четыре верных гуся.
Так прошел в томлении и тревоге август, начался сентябрь, это была лучшая байкальская пора, ягодная, грибная, но Катю ничто не радовало до тех пор, пока однажды уже немного прохладным днем она не услышала со стороны Хаврошки звук мотора, который могла бы узнать среди десятка подобных.
Лодка описала круг, ткнулась в берег, из нее с лаем выскочила дедовская Чара, подлетела к Кате и стала лизать руки. Следом за ней показался исхудавший, с шальными глазами Одоевский, и Катя бросилась к леснику на шею, как к родному.
– Катечка, Катечка, – зашептал осчастливленный Одоевский, коему ничего подобного после первого пиратского поцелуя не перепадало, – я так думал о тебе, о себе, так мучился. Ты даже не представляешь.
Она прижалась к нему, слушала его бестолковый шепот, нежности, и сразу же сделалось ей покойно и хорошо, но, когда через час Катя поила Одоевского чаем и угощала на скорою руку испеченным пирогом, ей было немного досадно, что она себя распустила, и потому держалась теперь суховато. Но москвичу не было до этого дела, он поедал зубами пирог, а глазами хозяйку, махал руками и без умолку рассказывал, как они ходили за перевал, как лазали по кедровому стланику и гоняли туристов, какие кедры растут с той стороны хребта, горстями доставал из кармана орехи, и Катю начало уже немного клонить ко сну, но остановить красноречивого гостя не было никакой возможности.
– А Деда чуть медведь не съел, – вдруг сказал Одоевский, разгрызая орешек.
Она побледнела.
– Представляешь, – захохотал он, – у нас в Хаврошке мишка завелся, сбежал, значит, под Дедово крыло, где его никто не трогает. Ну и пошел как-то наш Дедуля в тайгу. А ружье забыл. Понимаешь? А ему навстречу – ба! Хозяин. Лохматый, грязный, изо рта вонь, встал на задние лапы и идет себе, приятель. Слава те Господи у нашего Ильи Муромца ума хватило не бежать. Остановился и как заорет: «Миша, не балуй!» А медведь рычит, еще ближе подходит, наклонился, падалью дышит. Дед знай ему орать прямо в ухо: «Миша, не балуй, Миша, не балуй!»
– Боже мой!
– Ну ничего, постояли так, поорали друг на друга, выяснили, кто есть кто, и разошлись с миром. Дед-то наш хвилософ, у него, вишь ли, теория есть: ежели ты к тайге-то по-хорошему, так и она тоже.
Одоевский продолжал что-то говорить, но Катя его не слушала, а потом резко сказала:
– Конечно, с тобой ничего не случится.
Он разом сник, и она виновато пробормотала:
– Прости, я очень испугалась.
Одоевский подошел к ней, обнял за плечи, но Катя тихонечко высвободилась:
– Не надо, Жень.
Он отошел к окну и закурил. Она ждала, что он что-нибудь скажет, вывернется из этой неловкой ситуации, как всегда выворачивался, но он упрямо и даже демонстративно молчал, предоставляя ей самой разбираться.
– Женечка, давай на лодке покатаемся, – предложила Катя несмело, но в уме плутовала отчаянно: катание на лодке тем и было хорошо, что там не надо было ничего ни слушать, ни говорить, сиди себе и думай о своем под гудение мотора.
– Ты думаешь, что если ласково отказывать, – сказал Одоевский, оборачиваясь, – будет не так больно?
– Женечка, миленький, хорошенький, – зашептала Катя, – у тебя все получится, вот увидишь, очень скоро. Все будет хорошо, все исполнится, как ты хочешь. Я знаю.
– Да чтоб я в этом сомневался когда, – пробормотал Одоевский.
Катя отошла к окну и посмотрела ему вслед. Он торопливо сбежал по склону к воде и стал заводить мотор. Тишина была такая, что за пятьдесят шагов было слышно, как он чертыхается и рядом с ним почему-то жалобно, тоскливо скулит Чара.
«Ну что ты, глупая? – доносилось до Кати, – все же будет хорошо, ты сама слышала».
Кате вдруг стало тепло, точно Одоевский, того не ведая, принес ей весточку от любимого человека, с глазами которого была связана Катя тайной, и точно так же передаст этому человеку ответ, и тот придет очень скоро, теперь она знала это наверняка и торопила москвича и его непослушный мотор. Но у него ничего не получалось, и лишь все отчаянней и горестней лаяла Чара.
К лодке кто-то подошел, и Катя узнала Буранова. Начальник присел на корточки, залез руками в двигатель, и через минуту мотор затрещал. Катя проводила лодку глазами, закрыла окно, легла, но долго еще ей было слышно, как на одной ноте ревет мотор. Этот звук давно должен был прекратиться, но он все гудел и гудел, точно стучал в окно поздний гость сладким известием. Слышала она это во сне или наяву, Бог знает, но наконец она заснула совсем, и сон на нее навалился какой-то муторный, липкий, она чувствовала, что давно уже наступило утро и давно пора вставать, но все гудел в ушах мотор, и не было сил разомкнуть глаза. В дверь тихонько, робко постучали, и тотчас же Катя проснулась.
«Божечка, сколько же я спала?»
В дверь снова постучали.
– Кто?
– Это я, – раздался хриплый, сорвавшийся голос, и ее точно теплой волной окатило.
– Сейчас оденусь, подожди, – крикнула она – так сладко было это крикнуть. Она бросилась к шкафу, мимоходом посмотрела на себя в зеркало, скинула ночную сорочку, надела юбку, свежую блузу и только после того посмотрела в окно и не узнала моря.
Ушканьи острова скрылись с глаз, море поднялось точно тесто на дрожжах, вздрагивало и ходило ходуном, ветер гнал от берега волну – за валом вал.
«Ишь, – зачарованно подумала Катя, – разгулялся ты, Байкал-батюшка».
– Заходи, – позвала она.
Дедов почему-то не заходил. Он стоял в самом конце коридорчика и старался не встречаться с ней зелеными колдовскими глазами. Бледный, в изодранной куртке, мокрый, и она почувствовала к нему такую нежность, что и говорить ничего не хотелось, не пугать этот миг, а только стоять и смотреть.
– Ты что, Дед, – сказала она наконец ласково, – оробел?
И подумала, как ей будет приятно, когда он войдет в ее комнатку и сядет на кровать, где только что она спала.
– А Женя где? – спросил Дедов негромко.
– Дед, окстись, он с вечера еще уехал.
Дедов сперва растерянно, беззащитно улыбнулся, а потом вдруг резко побледнел, но Катя по инерции продолжила:
– Ты думал, я его с собой положила?
– Я думал… – начал Дедов, и зрачки его глаз расширились, потемнели и застыли от ужаса. – Буран у себя? – крикнул он.
– Да, – сказала она, похолодев.
Они побежали через двор, и Кате казалось, что бегут они очень долго и за ними бежит весь мир: собаки, гуси, Алена Гордеевна, Курлов, толкаются, кричат, взмахивают руками, и наконец все остановились у высокого резного крыльца.
Хозяин открыл дверь и, казалось, не был удивлен их приходу.
– Катер дай, – крикнул Дедов, – Одоевский в море.
Буранов пристально глянул на Катю, потом на него и спокойно сказал:
– Не дам.
– Я ж тебя с собой не зову, падлу, – прохрипел Дедов, – катера тебе жалко?
– И катера тоже.
– Дайте! – пронзительно сказала Катя. – Ведь, может, он еще там!
– Утонуть захотели, сосунки! Одного вам мало!
– Вы же все знали, еще вчера, – вдруг тихо сказала Катя, махнула рукой, закачалась и пошла к вздыбившемуся морю.
Дедов недоуменно посмотрел на Буранова, и тот как бы нехотя сказал:
– Я вызвал спасателей. Но шансов мало. Почти нет.
Они просидели с Катей на берегу в тот день несколько часов, все еще на что-то надеясь или просто безмолвно моля море отдать им близкого человека и мучаясь от бессилия ему помочь, если только он еще жив и, выбиваясь из сил, борется с волной. Они сидели на деревянном днище полусгнившей лодки, оставшейся, верно, с тех времен, когда не было катеров. Мельком глянув на Катю, Дедов поразился тому, как она изменилась за эти часы. Будто жизнь ее переломилась надвое, и из игривой девушки, одновременно томившей и раздражавшей его взглядами и словами, она превратилась в усталую и покорную женщину, готовую принять любую беду. И он вдруг подумал, что никогда она не была ему так близка, как сейчас, в эту минуту, когда нелепо казалось об этом думать. Она стала похожа на его мать – точно так же та стояла на берегу Малого моря в Хужире, когда налетала сарма, и что-то шептала, молилась, путая имена Христа, Будды, Николы-угодника и бурхана.
Так они сидели и не говорили друг другу ни слова и не слышали мрачного Курлова, яростно матерящего то море, то гору, то растяпу Одоевского, то всю эту никчемную жизнь, которой все здесь живут. Несколько раз приходила старуха и пыталась увести Катю домой, но та сидела недвижно и не слушала ничьих уговоров.
Под вечер Дедов ушел в Хаврошку. Около дома его неожиданно встретила беспокойная Чара, она отказывалась от еды, жалобно скулила, и тогда Дедов понял: это все, Одоевского море не отдаст.
Море так и не успокоилось, всю осень лишь ненадолго стихая, снова и снова задувала гора – страшный ветер, срывавшийся с хребта и сотрясавший поверхность моря вдоль всего западного побережья. Ветер пронизывал насквозь поселки, деревеньки, охотничьи зимовья и бурятские улусы, и казалось, не только море, но и сама земля дрожит от этого ветра. В ноябре в тайге уже лежал снег, ночами случались морозы до минус тридцати, но море все ворочалось и никак не могло улечься, скидывая намерзшие льды, взламывало их с грохотом и нагромождало торосы.
Все это время Дедов жестоко страдал и не мог успокоиться ни на час. Он глядел на море и думал о том, сколько жизней оно забрало и сколько безвестных тел лежит в его глубинах и никогда отсюда не поднимется.
Смерть друга уязвила его в самое сердце, целыми днями он не мог заставить себя ничего делать, не выходил из избушки, курил и избегал смотреть на обманувшее его море. Они прожили с Одоевским в Хаврошке больше двух лет, и, несмотря на различие в характерах, прожили в согласии, какое редко бывает в тайге между двумя людьми.
Бывали у них ссоры и размолвки, но теперь, оставшись один, Дедов тосковал по погибшему товарищу, как по брату, и не мог сам себе объяснить, почему, как могло случиться, что безобидный, боявшийся взять в руки ружье Одоевский погиб, а мерзавец и хапуга Буранов продолжает как ни в чем не бывало жить.
В Дедове с детства сидела какая-то чуть ли не раскольническая, кержацкая уверенность, что существует в мире закон, согласно которому доведенная до крайней меры разорения природа восстанет и покарает обидчика, но почему же море ошиблось и взяло того, кого обязано было пощадить. Значит, не было такого закона или же тот, кто им ведал, оказался сам браконьером, и тогда все бессмысленно, ничто их не убережет, восторжествует Буранов и все живое погибнет, сметенное страшной, равнодушной горой.
Она снилась ему теперь каждую ночь, эта темная жуткая гора, – снились осыпающиеся камни и вырванные с камнями деревья, снились пересохшие реки и пепелища лесов, снилось исчезнувшее море и безобразный разлом на его месте, точно опрокинутая вниз гора, в глубине которой лежали все людские тела, и страшная сухость была в этих снах.
К концу ноября он совсем разболелся и почти не выходил из дома, уже много дней не видел людей, и единственной живой душой, разделявшей его уныние, была чудом спасшаяся собака. Чара лежала у его ног, изредка поднимая голову и внимательно глядя на хозяина странным каким-то взглядом, напоминавшим Дедову другие глаза.
Наступали и быстро проходили дни, зимовье погружалось в долгие глухие сумерки, и в этих сумерках было что-то очень тревожное, сухое. Он пил без конца воду, но сухость не исчезала, и Дедов чувствовал, что им кто-то завладел и отнял и волю, и силы, и все желания.
В одну из таких ночей Дедову приснился Одоевский. Это был даже не сон, а видение, очень явственное, не разорванное, будто он сам смотрел на свое спящее тело со стороны, смотрел на спящую Чару и будто бы слабо колыхнулась занавеска, и через окно с зеленым светом далекой звезды в зимовье спустилась высокая худая фигура и тихо позвала товарища:
– Де-ед!
Спящий человек открыл глаза и поднял голову.
– Дед, – сказал Одоевский шепотом и почему-то улыбаясь, – я хочу сказать тебе очень важную вещь.
– Где ты? – спросил Дедов, с трудом ворочая тяжелым пересохшим языком.
– Я… я не умею этого объяснить, – ответил Одоевский, улыбаясь так же тихо и светло, – но я здесь на хорошем счету, меня любят и мне отсюда вас всех видно.
Завиляла хвостом Чара, и Одоевский продолжил:
– А собака что ж, я не стал брать ее с собою. Она нужнее тебе. Я все про тебя знаю, Дед. Ты немного раскис и хандришь. Не хандри, ступай скорее к той, кто тебя ждет. Ей очень плохо без тебя, Дед.
Чара залаяла, и от этого лая Дедов в самом деле проснулся. В маленькое окошко светила луна, и, приподнявшись на нарах, он увидел огромные резкие тени на снегу, дальше за ними начиналась чернота незамерзшего моря, только не было видно той самой звезды, в свете которой пришло ему это видение.
И от того, что ее не было видно, Дедову сделалось жутко, он встал, затопил печь и до утра сидел у открытой заслонки, грел руки, и только когда стало светло, лег на нары и забылся. От бывалых людей Дедов знал, как трудно пережить в тайге одному зиму, но он никогда не думал, что это случится с ним и это он будет бредить и бояться выйти из дому.
Странные вещи происходили с ним. Его жутко тянуло на метеостанцию к маленькой женщине, тосковавшей по берегу моря, к ее глазам, которые, он был убежден, вылечат его от любой беды и спасут от любого зла, но он не мог выйти из дому и боялся того расстояния, которое разделяло Хаврошку и Покойники. Он стал бояться тайги, бояться моря, его волн, ветров, непогоды.
Снова дула гора, и снова на море ходили валы, потом задул с бурятского берега баргузин, ему следом пошла огромная мертвая зыбь, и в череде этих тягостных, непогодных дней был один, странным образом врезавшийся в его память.
В этот день его снова еще сильнее, чем прежде, тянуло в Покойники, как это было три месяца назад, когда не вернулся вечером Одоевский и, проведя бессонную ночь, Дедов ринулся на метеостанцию с одной-единственной целью – убедить себя в том, что его друг нашел свое счастье с маленькой женщиной, которую он, Дедов, первым вспугнул летним днем на берегу таежного озерца. Точно так же захотелось ему пойти и сейчас и снова в чем-то убедиться или чему-нибудь помешать, лаяла и рвалась в тайгу Чара, но он так и не пошел, все ему стало вдруг безразлично, доживет ли он до весны или сойдет с ума от одиночества и отчаяния, – только не мог он в тот день спокойно смотреть на море и все время думал, что, может быть, сейчас, в эту минуту, идет где-то катер и борется с волной. Куда, какой катер, какой сумасшедший выйдет в это время в море – он не знал, но будто чувствовал это движение по волне, и ему чудилось, что этот катер увозит его самого и никогда больше он не вернется на этот глухой берег и не увидит маленькую женщину в синем сарафане с покойным смуглым лицом и выгоревшей от солнца челкой на лбу. Он смотрел на море, пока не стало темно, потом ушел в избушку, и в ту ночь захотелось ему увидеть Катю хотя бы во сне.
И был Дедову сон, но приснилась ему не Катя, а пришел снова Одоевский, покачал головой и, оставшись где-то вдали, крикнул, но будто шепот расслышал Дедов:
– Дед, ну почему ты такой дурной и меня не послушался? Эх ты…
И в этом зыбком сне Дедов потянулся к спасенному кем-то товарищу, но Одоевский исчез, оставив его одного в занесенном снегом зимовье, и Дедов, здоровый, сильный мужик, каким он всегда себя считал, неожиданно проснулся в слезах, как ребенок, и плакал до утра, не стесняясь Чары. Однако утешения ему эти слезы не принесли, они лишь исцелили его от страха перед тайгой и морем, но исцеление это не было радостным – на что теперь нужна ему эта тайга?
Через две недели море наконец встало. С утра Дедов ушел за дровами, а когда вернулся, то увидел у зимовья следы. Он торопливо открыл дверь: у печи сидел постаревший лет на пять, какой-то измятый Курлов и грел руки.
На столе стояла бутылка спирта и лежала строганина.
– Ну здоров, – сказал гость. – Че на Новый год-то не приходил?
– Что, был уже? – спросил Дедов равнодушно.
– Ты че? – Курловская физиономия вытянулась. – Совсем, что ли, тут одичал? Да уж неделя завтра, как в новом году живем. И так он море в этот год раньше стало, зима-то какая.
Они выпили спирту, и Дедов без всякого интереса спросил:
– Ну как там у вас?
– Да ничего, живем – хлеб жуем.
– А ты ж вроде уезжать собирался, – вдруг вспомнил Дедов.
– Э, брат, – махнул рукой Вовчик, и лицо его еще больше сморщилось: – тут такая история вышла. Одним словом, обманула меня лахудра моя. Каператив на мои денежки выстроила, на себя записала и хвостом вильнула. Мол, я с тобой развожусь и знать тебя не желаю. С кем-то она там снюхалась. Мне Буранов говорит, в суд надо подавать, помочь обещал, а я думаю – ладно, хрен с ней, пусть подавится этим каперативом.
Он длинно и сочно выматерился, разлил спирт и, чокнувшись с Дедовым, продолжил:
– Да и то сказать, как мы с ней жили: собачились, ни ей радости, ни мне. А старуха-то ее, она мне в ноги упала, прости, говорит, батюшка Владимир Игнатьич, прости дуру. Я ей: «Ты-то тут при чем, старая, знала, что ль, все, да молчала? Ну так и чего от тебя еще ждать, порода ваша разэдакая». А она вскочила, крестится: «Ей-богу, – говорит, – не знала, батюшка, ей-богу. Опозорила меня дочка моя, видеть ее после этого не желаю. Не гони меня только, Христа ради». Я ее спрашиваю: «А чего тебе тут?» Она как заревет: «Я тут привыкла, у меня тут хозяйство, все козочки мои, курочки, гусочки, не гони, Христом Богом прошу». А у меня, сам знаешь, сколько на нее зла. Плюнул, повернулся, уйти хочу, а она, что ты думаешь, только руки мне не целует: «Не гони, я тут помереть хочу, место для могилки приискала, тут вольно, хорошо».
– И название соответствующее, – буркнул Дедов.
– А? Ну я и говорю. А то, твердит, в городе и лежать-то негде. Сожгут-де меня. Она, вишь, пуще всего боится, как бы ее в крематорий не свезли.
– Ну и ты что?
– Что, что? И то, я так поостыл и думаю: «Че ее гнать, старую? Друг твой, царствие ему небесное, хоть и смеялся надо мной, уж не живу ли я с ней, а я инда гляну на нее и впрямь будто жена моя, свыкся уж». И она первое-то время как шелковая ходила, все «батюшка Владимир Игнатьич», пироги кажный день пекла, а теперь опять за старое взялась, ругается, дерется.
Дедов усмехнулся.
– Че лыбисся-то? Буранов от тоже угодил. От уж, казалось, этот жучило нигде не пропадет, а на его шею хомут нашелся. Окрутила его фифа наша.
– Катя? – Дедов побледнел.
– Ну. И как окрутила. Он, вишь, после того, как Москва потоп, сдвинулся маненько, тайгу забросил, и рыбалку, и охоту, все за ней ходил как тень. А она хоть бы глянула на него. Уж и старуха моя ее стыдить начала. Чего, говорит, тебе ишо дуре нужно, какой человек тебя вниманьем удостоил. А она молчит, хоть бы улыбнулась. И тоже с приветом. Алена-то Гордеевна на Покров гуся собралась жарить, а та не дает. Ни одного, представляешь? И гуси от нее ни на шаг. Ну это ладно. Старуха-то моя гусей вроде тоже пожалела, а ей говорит:
«Ты Москву забыть, что ли, не можешь? Жалко, конечно, что потоп, но пустомеля он был. А Буранов – хозяин, с ним как за стеной будешь жить, все у тебя будет».
Та только морщится. А Буран наш, как она его отошьет, на берег сядет и сидит себе камешки в воду бросает. Осень, ни сети не ставит, ничего. Так месяц прошел, вдруг однажды приходит она к нему и говорит:
«Послушайте, можете вы для меня одно дело сделать?»
Он говорит: любое.
«Поставьте на берегу крест».
Он аж затрясся: ты, говорит, меня за мальчика, что ли, держишь?
Ему понятно, прилетят дружки его, глянут, что он натворил, – это ж скандал. А она одно заладила: если хоть чуточку со мной считаетесь – поставьте.
И тут гляди-ко: я думал, Алена Гордеевна снова стыдить ее начнет, а она губы-то подожмет, ну знаешь, как она губы-то поджимает, и говорит: «Уважь просьбу, Василь Андреич». Буранов побледнел, выскочил. А назавтра, глядь, ушел в тайгу и лиственницу тащит. И стал тесать, долго тесал. Ну поставили мы ему крест, как раз под ноябрьские праздники на сороковой день вышло, помолчали – добрым словом вспомнили.
Она говорит: «Вы его не знали, а он добрый был, справедливый». Я вот теперь рассуждаю: любила она его, что ль? Да нет вроде – помыкала, смеялась – все ж на моих глазах было. Бензин мой прокатывали.
– Какой еще бензин? – встрял безнадежно унылый Дедов.
– Хитрый ты парень, – прищурился Вовчик, – ох хитрый. Я тогда еще себе думал, что с Москвой-то она так, балуется, а сохнет по тебе. Ладно, это начало еще. Ты слушай, слушай, как оно дальше было. Поставил он, значит, крест, здоровый такой, сто лет простоит, не сгниет, и давай: я для тебя, что просила, сделал, теперь, дескать, твой черед. А она – и, заметь, на людях все – это ты, говорит, для себя сделал. Но вишь, коли такой оборот, старуха моя опять пропаганду ведет. Выходи да выходи, но теперь с другого бока, мол-де, пропадет мужик, пить начнет, места себе не находит, того гляди, лихо будет. А она все как будто чего-то ждала. Ждала, ждала, уж декабрь, снег кругом, холод, и вдруг говорит так тихонечко, грустно, но уж больно решительно:
«Поехали».
«Куда?» – спрашиваем.
«В Онгурен, в сельсовет».
«Ей, – говорит, – милая, ну куда мы ж теперь поедем, эка тебе приспичило. Теперь уж января надо ждать, лед станет, тогда и поедем. А счас волна-то какая, на льдину не ровен час налетишь, это ж все. За Москвой прямым ходом пойдешь».
«Нет, сейчас или никогда».
Ну, смеется девка чертова.
«Поедем, именно сейчас. Когда волна».
На Буранчика глядеть страшно: море-то кусается, вроде баргузин, зыбь, а ну опять гора налетит? У него хоть мотор и японский, тут все может быть. Мы ее в три глотки отговариваем, гуси эти чертовы хлопочут, собаки лают, а она на старуху как глянет:
«За ним должок по этой части водится». И на море кивает.
А до Онгурена, сам знаешь, два часа ходу.
И уехали. Алена Гордеевна их на берегу провожала, все крестилась, гуси аж в воду залезли, на невесте лица нет, он тоже бледный. Будто не на свадьбу, на похороны собрались. А она-то в шубке соболиной, Буран ей подарил, красивая, глаз не отведешь, девка. Ты-то нет, а я-то всю ее видел, знаю, че говорю.
Вовчик вздохнул, чмокнул губами и потрепал свою шкиперскую бородку.
– Гляжу я на нее, грешный человек, и думаю: жалко шубку, хорошая шубка, тыщ десять такая стоит, не меньше. Соболь-то отборный. И как в воду глядел.
– Что? – поднял голову Дедов.
До этого момента он сидел уткнувшись носом в кружку, и Вовчику было непонятно, слушает его Дедов или нет. Но теперь, удостоверившись, что слушает, Курлов позволил себе сделать столь приятную для рассказчика паузу, выпил водки, предварительно сунув в стакан безымянный палец правой руки и коснувшись им стола, дабы ублажить бурхана и иметь фарт, закусил, закурил, помолчал, глянул на убитого горем лесника и продолжил:
– Это уж потом Буранов рассказывал. Добрались они худо бедно до Онгурена. У хозяина там все схвачено, всех по рации предупредили, их ждут. Но не сообразили – свидетели нужны. Ладно, она ему говорит – ты со своей стороны выбирай, а я со своей. Где тут улица Советская? Ну показали ей. Нашла она какую-то халупу, вдова бурятка там живет, может, помнишь, муж у нее три года назад потонул. Ну и зовет ее: можно, дескать, вас попросить, мы-де в затруднительном положении.
Та сперва не соглашалась: «Мне, – говорит, – и надеть нечего, мало ли у нас народу живет, вон туда пойдите или туда». А наша ни в какую: «Мне именно вы нужны». Ну ладно, согласилась она, детей на соседку оставила и пошли. Расписали их как положено, руки пожали, кольцами они обменялись, ну поцеловались, само собой.
Дедов вздрагивал от каждого слова, точно его лупили молотком по голове, а помолодевший Курлов вдруг каким-то не своим высоким голосом хихикнул:
– И что она учудила?
– Что? – спросил лесник с отчаянной надеждой.
– Сымает прилюдно шубку и женщине той одевает: носи, милая, на память. А мне пальтишко свое давай. Зипун там какой-то. Бураша наш чуть не упал. А она ему так зло: «Что, не нравлюсь такая? Может, сразу разведемся? Теперь так и будет. И хапать у меня больше ничего не будешь. Сеть не поставишь, капкана лишнего». Налетела на него, опозорила перед всеми.
– Да, брат, – вздохнул Курлов, – так и пропадаем мы все через баб. Так что Буранчик наш совсем одомашился. Сидит книжки читает и такой довольный – сколько я его знаю, никогда таким не видел. А и то сказать – и здесь он не прогадал. Через неделю заходит к нам «Чароит», на зимовку они уходили, и там начальник ихний Бочкарев. Так и так, говорит, с будущего года делают тут заповедник. От Рытого до Елохина. Так что кончилась наша вольная жизнь. Ты рад?
– А? – очнулся Дедов. – Да я рад, конечно. Поздравь Катю, когда увидишь, от меня.
– Да я не об этом, – усмехнулся Курлов. – Я че пришел-то. Письмо от тебе.
Дедов раскрыл конверт и стал читать.
– Ну чего там?
– Мать, – ответил он нехотя, – к себе зовет.
– Вот и хорошо, – рассудил Курлов, – и поезжай, парень. Хватит тебе тут псом цепным сидеть. Теперь и без тебя разберутся. Счастье ты свое проспал, ищи в другом месте.
Он глянул за окно.
– Во, не успело солнце взойти, как уже темнеет. Поеду-ка я, пожалуй.
Они вышли из зимовья. Смеркалось, и тишина была такая, что, казалось, тресни сейчас сучок в тайге, слышно будет по всему берегу от Хаврошки до Покойников. Солнце ушло, сгустились сумерки, и над горою появилась первая зеленоватая звезда. Дедов поднял голову и вздрогнул: это была та самая звезда, с которой приходил его друг.
Вовчик завел мотоцикл.
– Надо ж, шубу на зипун обменяла. Чудны дела твои, Господи. Ну бывай, парень.
Он уехал, и долго еще был слышен мотоцикл, потом снова стало тихо. А Дедов так и стоял на берегу, и на душе у него вдруг полегчало. Он долго смотрел с непонятной нежностью на чистую звезду, упокоившую все ветра и согревшую теплом разбросанные по пустынному берегу дома. Потом кликнул Чару, вернулся в зимовье и лег спать.
Ночью Балашова будил детский плач. В полудреме он слышал, как Антонина шлепала босиком к детской кроватке, брала на руки годовалую Иринку и расхаживала с ней по комнате. Иринкин плач будоражил его, он окончательно просыпался и потом долго еще не мог уснуть. Нашарив рукой папиросы, Балашов вставал и шел по долгому пустому коридору на кухню. В большом закопченном помещении стояли две газовые плиты, на веревках сохло белье, и с него мерно капала вода в подставленные на пол тазы. Балашов садился на табуретку у окна, закуривал и словно назло себе разжигал мысли о том, что такая жизнь ему к черту не нужна, давно пора послать все куда подальше и уехать из Москвы – все равно ему здесь ничего не светит, потому что его угораздило родиться в двадцать седьмом и на войну он не попал. А теперь кругом заправляют фронтовики и его держат за не нюхавшего пороху мальчишку, хотя он был взрослый мужик и имел право на то, чтобы с ним считались. Он был зол на Антонину за то, что два года назад позволил ей себя окрутить, связать ребенком, и теперь был вынужден прозябать среди мокрого белья, чада, приторного запаха молока и детской мочи. Балашов курил папиросу за папиросой, затягиваясь до боли в горле и расплющивая бычки о подоконник, покуда обмусоленные папиросы не вызывали у него тошноты. Потом шел обратно в комнату и долго еще ворочался без сна. А Антонина спала, блаженно улыбаясь во сне, и не слышала, как он гремел стулом, но стоило Иринке чуть закашлять, как она беспокойно поднимала голову и прислушивалась.
Зимой в строительном управлении, где работал Балашов, стали вербовать отряды целинников, и он записался добровольцем. Балашов решил, что на целине быстрее добьется своего и, когда вернется, к нему станут относиться иначе и больше не будут попрекать тем, что он не проливал за родину кровь и не кормил в окопах вшей. Балашов был уверен, что Антонина отнесется к его отъезду спокойно, потому что ей и так хватало забот с ребенком, но она вдруг стала плакать и просить, чтобы он остался или взял ее с собой. И ему пришлось несколько вечеров подряд объяснять, что на целину с детьми не берут, там голая степь, а он должен ехать, в конце концов, это его долг, и ему просто стыдно за малодушную жену, комсомолку, которая печется только о себе, в то время когда в стране происходит такое важное дело.
Антонина поддавалась настроению мужа, потихоньку успокаивалась и думала о том, что через полгода или даже раньше, как только муж устроится и на целину будут пускать с детьми, она сразу же приедет к нему и они будут вместе растить хлеб. Балашов вяло поддакивал и обещал вызвать ее поскорее, но для себя твердо решил, что этому не бывать и Антонина с ребенком будет только мешать в его новой жизни. Он хотел сказать ей об этом с самого начала, но представил, сколько слез на него обрушится, и решил, что напишет потом в письме. Он стал спокойно спать по ночам и ходил по квартире, как явившийся в деревню уполномоченный, громко и вызывающе распевая «дан приказ ему на запад, ей в другую сторону, уезжали комсомольцы покорять всю целину». Натерпевшиеся за последние тридцать лет лиха соседи смотрели на него с опаской и перестали шпынять за изгаженный подоконник и следы в коридоре.
Через месяц Антонина провожала мужа на громадной вокзальной площади. Победно гремели оркестры, ликовали люди, от сотрясения воздуха рвались флаги, транспаранты и самодельные бумажные плакаты, и последние свои годы доживал монументальный портрет с жирными усами и отеческой улыбкой почившего вождя. Одетый в гимнастерку, с вещмешком, Балашов пробивался через толпу и ловил на себе восхищенные взгляды нарядных женщин и моложавых студентов. И ему казалось, что в жизни ему наконец-таки повезло, из задних рядов, с галерки, удалось взобраться на сцену, и ради него собрались здесь эти люди, говорили речи, махали руками, плакали, целовались, провожая счастливчика в диковинное путешествие. Он тащил за собой Антонину и не замечал ее постного, некрасивого лица, а она еле сдерживалась, чтобы не заплакать, и думала о том, что, будь ее воля, она остановила бы всю эту людскую массу, только бы никуда не уезжал ее муж. Но длиннющий состав с теплушками тронулся, люди расступились, давая ему дорогу, и поволокли упирающуюся Антонину к выходу.
Она пришла домой и сразу же стала ждать, когда он вернется. Антонина не могла понять, что Балашов уехал, и мучилась от того, что наступал вечер и Балашов не приходил, и она одна ложилась спать, одна вставала и уходила с Иринкой из дома. Она отводила дочку в ясли и шла в учреждение, где работала машинисткой, весь день печатала, но в голове было пусто-пусто, она лепила ошибки, потом приходилось их подтирать – было очень стыдно, но никто на нее не ругался, потому что все знали: муж Антонины – целинник. Дома она укладывала Иринку спать и не знала, чем себя занять, ей не хватало каких-то мелочей, вроде стопки грязной посуды после ужина, балашовских рубашек и запаха табака. Не хватало настолько, что ночью, просыпаясь высадить Иринку на горшок, она потом украдкой шла на кухню и, воровато оглядываясь и прислушиваясь к гулкой тишине, закуривала папиросу, после двух-трех затяжек заходилась в кашле, но, счастливая своим причастием к мужу, шла в комнату и спокойно спала до утра.
Письма от Балашова приходили редко, он писал скупо, и из его неряшливых торопливых строчек нельзя было понять, как ему там живется и скоро ли он окончательно устроится. Но и эти неровные клочки бумаги она читала по многу раз и находила в них особый смысл. Антонина подолгу продумывала свои ответы и старалась писать так, чтобы у себя на целине в трудовых буднях и битвах за урожай Балашов знал – Антонина и вся страна следят за его подвигом и шлют ему горячий комсомольский привет. Она жадно и трудно читала газеты, искала его лицо на запыленных степью фотографиях, вычитывала его фамилию в ликующих репортажах и очерках о целинных героях, как вычитывала на работе опечатки в приказах, но целина была велика, и маленький Балашов растворился в ней без следа. И все равно Антонина знала, что он трудится среди сильных загорелых парней, у которых ладится и спорится любое дело, и она любила этих парней за то, что они работали вместе с ее мужем.
Впрочем, среди героев Антонина искала своего благоверного напрасно. Их привезли в чахлую степь, где не было ничего, кроме пыльного ветра-суховея и голого горизонта. И надо было тянуть провода и строить дома, и скоро от праздника и ликования ничего не осталось. Степь сводила с ума, и Балашову казалось, что на свете нет ничего, кроме этой дикой холмистой земли, и то, что они делают, бессмысленно, потому что земля эта бесплодна и страшна, она сожрет горстку людей и никогда здесь не будет ни хлеба, ни домов. Приходилось таскать на себе песок и цемент, воду, желтую и мерзкую на вкус, привозила иссохшаяся лошадь, словно пришедшая обратно на смену железному коню. А железные кони без запчастей не ржавели только потому, что в степи не было дождей. И бледные юноши с горящими взорами, которым не досталось войны, а жаждалось подвигов и славы, не выдерживали чесотки, грязи, зноя, маялись животом и разуверялись во всем с той же яростью, с которой вчера еще верили. Основную работу делали суровые, насупившиеся мужики, которых сорвали откуда-то из-под Смоленска и Вологды, и мужикам этим все было нипочем, потому что они видали и похлеще, и хмурились и зло матерились лишь оттого, что из родных деревень им писали, что некому пахать и поля зарастают бурьяном.
А потом внезапно, без перехода и предупреждения, помела зима, и во временном бараке стало невозможно согреться. Двоих увезли с умопомешательством из степи, но люди становились еще более молчаливыми и строгими, обрастали бородами и взрослели и продолжали грызть степь и тянуть провода. Балашов крепился сколько мог, но потом понял, что отсюда надо немедленно бежать. Однако бежать было некуда, до ближайшего поселка было шестьдесят верст по степному бездорожью, и тогда он взмолился и стал просить, чтобы его отпустили. И люди угрюмо курили, собравшись у печки-буржуйки в бараке, и ничего не говорили, и, боясь, что его не отпустят, Балашов стал истерически кричать, что у него тяжело заболел ребенок, жена в отчаянии и он должен ехать, потому что оставлять ее в такой момент одну преступно. Но как только ребенок выздоровеет, он сразу же вернется и отработает свой отпуск. И все стыдились того, что этот взрослый мужик, не зеленый юнец, оказался дерьмом и лжет в том, в чем лгать нельзя. Потому что еще неделю назад он читал вслух письмо Антонины и хвастал, какая у него дуреха жена, и никаких других писем с тех пор не привозили. И его выкинули из барака, не пожалели бензина, довезли на единственной полуторке до моста через Ишим, откуда было рукой подать до Акмолинска.
Балашов бежал по степи, не чуя под собой ног. Из Акмолинска он добрался до Кокчетава, оттуда до Павлодара, о том, чтобы возвращаться в Москву, он и думать не смел и скитался по Казахстану, перебиваясь случайными заработками, подачками и опустившись донельзя, покуда в Петропавловске на вокзале его не подобрала женщина.
Ей было лет сорок, она выглядела неряшливо и несвежо, но Балашову было все равно. Женщина привела его в покосившуюся хибару на окраине чистенького немецкого города, звала «сыночек мой», кормила, клала с собой спать, давала водки, и Балашов послушно делал все, что она велела. Но, постепенно приходя в себя, он почувствовал беспокойство. Женщина пугала его, она была вечно мрачна, часто напивалась и истерически рыдала, страшно и черно ругаясь, как не ругались и мужики. Она ходила по дому немытая, дурно пахнущая, и он стал брезговать жить в ее грязном доме, среди неубранных объедков, тараканов, сальных тарелок, подгнившей картошки, стал брезговать ложиться с нею в постель и отвечать на ее неуемные ночные ласки. Балашов часто уходил из дому, слонялся по городу, с тоской думал о том, что надо немедленно уезжать, но воля его была парализована, и, закоченев на ветреных убогих улочках, он возвращался в дом, где было одновременно смрадно и тепло. Потом стороной он узнал, что в войну муж хозяйки был полицаем. Его расстреляли сразу же после освобождения Полесья, а ее выслали в Казахстан на поселение. Балашов собирался у нее на глазах, а она смотрела на него неотвязным, бессмысленным взглядом и твердила:
– Я никого не убивала, миленький, не убивала, – и хватала его за руки своими сильными пальцами.
С вокзала Балашов отправил Антонине телеграмму с тем, чтобы она выслала ему денег на дорогу, и вернулся в Москву, Антонина чувствовала, что разговоры о целине мужу неприятны, и ни о чем его не расспрашивала. Она была с ним ласкова и мягка и накричала на соседку, когда та ехидно заметила, что больно рано да невесел вернулся покоритель целины. Балашова ее забота только злила. Он грубил Антонине на каждом слове, отталкивал Иринку, часто уходил из дому и возвращался пьяным. Толкал жену на ссоры, ему хотелось ругаться, слышать от нее гадости и говорить в ответ гадости еще хлеще, чтобы ей было так же погано, как и ему. Он был злобным и невыносимым, но Антонина сдерживалась и не позволяла себе ни обидеться, ни расплакаться и относилась к мужу как к больному человеку. На работу Балашов не выходил, днями он маялся от безделья, а ночами снова ворочался без сна и курил папиросу за папиросой в темной кухне. Антонина тоже не спала и ждала, когда он вернется и забудется мутным утренним сном. Потом однажды его прорвало, и Балашов рассказал Антонине про бегство с целины, мерзлый барак и жену полицая, его знобило и трясло, и Антонина положила его голову к себе на колени, мучилась и молилась за его израненную душу, и Балашов стал отогреваться и медленно, с трудом возвращаться. Потом он уснул, и она долго любовалась его смягченным просветленным лицом и берегла его сон до утра. Но впоследствии Балашов долго не мог простить ей своей слабости и в душе стал бояться и избегать Антонину за то, что она видела его униженным и беспомощным.
К лету Балашов оправился окончательно и устроился на работу, которая пришлась ему по вкусу, поставщиком оборудования для шинного завода. Он повеселел, снова стал задиристым и активным и ревниво искал местечко, где получше. В частых командировках у него стали заводиться романы, появились приятели, острые забавы, и он почуял пряную прелесть в сытой, ни к чему не обязывающей жизни. К Антонине он стал равнодушен, другие женщины – знающие себе цену, откровенно любующиеся собой и льстящие ему – влекли его. В сравнении с ними худая, высокая Антонина с нездоровым цветом лица сильно проигрывала. Балашов стал тяготиться ее кротостью и покорностью и, каждый раз возвращаясь домой, в душе напрягался, думая о жене. Он окончательно решил, что женитьба на Антонине была ошибкой, он еще слишком молод, как следует не пожил и не должен упускать отведенных ему природой удовольствий. В конце концов, перед отъездом в одну из командировок Балашов сказал Антонине, что намерен с ней развестись и больше не вернется. Он рассчитал так, что на слезы и крики у Антонины будет не больше получаса, но она только побледнела и ровным, почти равнодушным голосом сказала мужу, что он волен жить как хочет, но затеивать сейчас развод у нее нет сил и она просит его обождать. Балашов обрадовался и легко согласился – Антонину ему было жаль, она была скучной и блеклой, и никогда в ее жизни не будет столько радости, как у него, так пусть хоть тешит себя тем, что у нее есть муж. А ему какая разница – жениться он покуда не собирался, главное, он стал абсолютно свободен и Антонина больше не маячила перед глазами и не было нужды что-то фальшиво объяснять, чувствуя неловкость.
Балашов переехал к матери на Плющиху, благо он был там всегда прописан. От расставания с Антониной у него осталось неясное чувство, как у пассажира, который уезжает на поезде с маленького полустанка, куда его Бог весть как занесло. И еще первое время держалась какая-то благодарность Антонине за то, что она его так легко отпустила, да и была неплохой женой.
Когда Балашов ушел от Антонины во второй раз, она решила, что это конец, она не выдержит и сойдет с ума от горечи и тоски. Она была на первом, самом маятном месяце беременности, мучилась и думала, что если бы не Ирина, то покончила бы с собой. Когда же наконец поняла, что у нее будет ребенок, успокоилась, затихла и стала ждать. Тетка уговаривала ее не оставлять ребенка, потому что это безумие – поднимать одной двоих детей, и устроила ее на операцию. Но накануне назначенного дня Антонина свалилась с температурой и провалялась до тех пор, когда делать аборт было уже поздно. Вторая беременность давалась ей трудно, она осунулась, подурнела, ей часто бывало плохо, но Антонина скрывала, что ждет ребенка, пока соседка ей об этом прямо не сказала и не освободила от мытья полов в коридоре. Ходить беременной одной без мужа было ужасно стыдно, ей казалось, что на нее смотрят и думают что-то нехорошее, она торопилась домой и стеснялась выйти на кухню, вечерами сидела у себя в комнате и занималась с Иринкой.
Зимой родился мальчик. Он был болезненный и слабенький, и нечего было думать, чтобы отдать его в ясли. Ночами у него часто случались приступы астмы, он кашлял до синюшности и задыхался. Ребенка лечили, но ничего ему не помогало. Антонина была в отчаянии, наконец один старичок, бывший земский доктор, теперь уже нигде не работавший, сказал ей прямо, что жизнь мальчика зависит от нее самой. Она научилась снимать приступы, угадывала их приближение, делала сыну горячие ванночки, массажи и чувствовала, как одолевает проклятую болезнь. Антонина сильно изменилась, прежде робкая, боявшаяся сказать лишнее слово или обратить на себя внимание, она стала властной и требовательной. Она больше не стеснялась того, что одна растит детей, и как должное принимала и тратила деньги, которые ей присылал Балашов, хотя поначалу ей казалось, что деньги эти нечистые и она не имеет на них права.
На работе к Антонине прониклись, ей давали печатать на дом, а вскоре выделили отдельную квартиру в новом пятиэтажном доме. Квартира была на первом этаже, с собственной кухней, и Антонине это очень подходило. Она ставила коляску с Сережкой прямо под окно, присматривала за ним и успевала приготовить еду, погладить белье и попечатать. Маленький Сережка, который только что и умел, как улыбаться и мочить пеленки, точно укрыл ее беззащитность, и жить стало легче. Иринка тоже росла послушной, но слишком уж для девочки резкой. Антонина чувствовала, как им хорошо вместе, и отсутствие мужа не так сильно болело в ней, она забыла его для себя, но помнила как отца своим детям и, покупая что-нибудь из вещей, говорила:
– Это прислал с Камчатки папа.
Меж тем папа жировал, как окунь на мелководье. Формальное положение женатого мужчины весьма устраивало Балашова, делало его респектабельным в глазах вышестоящих инстанций и развязывало руки в отношениях с женщинами. Всех своих пассий Балашов заранее уведомлял, что у него есть жена и дочь и порвать с ними он никогда не сможет. О сыне он умалчивал не потому, что ничего не знал, а потому, что родившегося уже без него ребенка он как бы не считал своим, хотя и стал высылать Антонине больше денег. У Балашова началась другая жизнь, он много ездил, скитался, часто менял места работы, какая-то неудовлетворенность все время гнала его вперед, но это была не та неудовлетворенность, от которой опускаются руки, – это был вкус к жизни, жажда чего-то нового каждый день, нового человека, нового ощущения, нового переживания. И этот вкус к жизни Балашов ставил превыше всего – ни деньги, ни карьера, ни уют, ни почести, ничто так не влекло его, как ощущение полноты жизни, того, что она, жизнь, бесценна в каждом своем мгновении и от этого мгновения должно взять как можно больше.
Это было чудное, незабываемое время – люди разгибали спины, переставали бояться, теряли свою подозрительность и отчужденность, и среди этих людей Балашов был удачлив, стремителен, он нравился своим огнем, привлекал многих, легко и без сожаления расставался с ними, рано вставал и мог много идти, не зная толком, где приклонит голову на следующий день. И от этих скитаний он получил самое ценное – умение чувствовать людей, распознавать их слабости, и это умение, бессознательное, интуитивное, всякий раз помогало ему. С кем только не случалось Балашову сидеть в компании – и с уголовниками, и с циркачами, и с отцами провинциальных городов, и везде он знал, как себя вести и преподносить. Изредка вспоминая о жене и людях ей подобных, Балашов чувствовал жалость – Антонина осталась в прошлом и не сумела себя от него излечить. В самом деле, как можно было жить изо дня в день на одном и том же месте, делать одну и ту же работу, не зная ничего нового, пряного, тянуться к тусклому небу в городах, когда настоящая жизнь начиналась совсем в других местах, где шел косяками на нерест лосось, где никто не считал денег и спускал сотни за одну ночь в кабаке. И так Балашов прожил несколько лет, но, земную жизнь пройдя за половину, почувствовал, что устал, и ему захотелось другого – солидной должности, устойчивого положения, благо для этого представился удобный случай.
Знакомая дама, врачиха из кремлевской больницы, устроила Балашову через одного из своих пациентов протекцию, и его должны были взять в солидную организацию, ведающую внешнеэкономическими связями. Место было почтенное и сулило много радостей, но по ходу оформления возникли небольшие заминки. В отделе кадров у Балашова тщательно выспросили биографию, попросили уточнить некоторые ее эпизоды, задали вопрос о семейном положении. Приятно улыбнувшись, Балашов поведал, что он женат, у него двое детей, дочка, которая уже ходит в школу, и сын – богатырь, который стреляет из лука. Однако его проникновенный рассказ был прерван вопросом, почему он живет отдельно от жены. На это Балашов с готовностью ответил, что вынужден был проживать на другой площади, потому что ухаживал за престарелой матерью, а та не хотела съезжаться с невесткой. Теперь, когда мама умерла, они ищут вариант обмена, но пока что не могут найти. Беседа перешла на другие темы, но Балашов почувствовал, что вопрос о его семейном положении взят на заметку и будет проверен. Теперь он был жутко зол на то, что в свое время проявил благородство и не развелся с Антониной, в нынешнем же его положении развод мог сильно ему навредить. В тот же день он отправился с визитом к Антонине, по дороге обдумывая, как следует себя вести и что сказать.
Антонину он нашел сильно переменившейся. Она выглядела уверенно, смотрела насмешливо и даже неприязненно и не предложила ему ни раздеться, ни пройти в комнату.
«Боже мой, – подумал Балашов, оглядывая ее худощавую фигуру, – неужели у нее за все эти годы так ничего и не было?»
– Послушай, Тоня, – начал он свою речь, – я не знаю, какая у тебя жизнь, и ничего от тебя не требую. Ты вольна жить, как тебе вздумается. Но, поскольку ты не хочешь развода, следовательно, мы по-прежнему считаемся мужем и женой, и это накладывает на нас определенные обязательства. Деньги, как ты могла убедиться, я высылаю тебе исправно. Ты же, в свою очередь, должна оказать мне одну услугу. Если тебе позвонят и спросят, какие у нас отношения, скажи, что хорошие. Я понимаю, возможно, тебе это будет неприятно, но в свое время ты сама не захотела разводиться, и теперь было бы непоследовательно с твоей стороны заявлять, что мы не муж и жена.
Балашов помолчал, словно взвешивая, достаточно ли убедительно он сказал, и добавил:
– И вообще не следует думать, что в моих делах заинтересован один я. Чем большего я добьюсь, тем лучше будет и тебе и детям.
– Все сказал? – ровно спросила Антонина.
– Тут еще такое дело, – произнес Балашов доверительно и нежно. – Если тебя спросят, вряд ли, но все-таки, если начнут спрашивать про целину, ты скажи им, что ребенок у нас тогда сильно заболел и ты меня телеграммой вызвала. Ладно, Тонь?
– Теперь все?
– Все, наверное, – ответил Балашов задумчиво.
– А тогда убирайся. И поживее. А не то дети придут. И очень обрадуются, что папа наконец нашел свое золото и прилетел из Петропавловска-Камчатского.
Слово «Петропавловск» напоминало ему что-то очень неприятное, навроде несвежей рыбы, и на какое-то мгновение Балашову стало все равно, как поведет себя Антонина и что с ним станется.
А потом вдруг захотелось, чтобы она его обязательно потопила и наговорила про него кучу гадостей, что-нибудь такое, что за ним и вовсе не водилось. И тогда эта чванливая бабенка, которая конечно же давно завела любовника, окажется дрянью, и он придет к ней и при детях прямо в лицо скажет, что она поганая дрянь. И ради этого торжественного мщения не было жаль ни хорошего места, ни нужных связей, но уже на следующее утро, протрезвев от ярости, Балашов понял, что Антонина его пожалеет и он примет эту жалость, и ему стало так муторно на душе, что опять захотелось про все забыть.
Балашов не ошибся, в самом деле, когда через несколько дней Антонине позвонили и приятный баритон почтительно, но настойчиво осведомился о характере ее взаимоотношений с супругом, Антонина высказалась именно в том смысле, как того было нужно Балашову. Балашова взяли на новую работу, но назначение не принесло ему той радости, которой он был вправе от этого ожидать, и врачиха из кремлевской больницы недовольно поджала губки, когда он стал недостаточно искренне и пылко ее благодарить.
Но очень скоро неприятные моменты, связанные с устройством, забылись, и Балашов зажил жизнью делового человека. Затянувшаяся молодость прошла, он стал бережнее относиться к себе, не позволял переутомляться, как раньше, и берег дыхание. И так в прилежном труде и умеренных развлечениях прошло еще несколько лет, неторопливых и недлинных. Жизнь была гладкой и незамысловатой, но очень приятной, как хорошо приготовленный коктейль.
Балашов был неплохим сотрудником, его ценили за исполнительность и здравый смысл. Он трезво относился к своим возможностям и перспективам, хорошо понимая, что свое он уже взял и выше ему не прыгнуть и нет нужды завидовать тем, у кого кабинеты попросторнее и кресла помягче. Но какое-то неистребимое мальчишество все время не давало ему покоя, и его тянуло в элиту, к избранным, тем, кто имеет власть и право, ему не терпелось попробовать этих ощущений и узнать, каковы они, чего стоят и почему ради этих должностей люди жертвуют чем угодно – честью, здоровьем, в чем оно, наслаждение властью. Сколько раз во время его скитаний ему приходилось развлекать власть имущих, теперь ему хотелось, чтобы развлекали его. Судьба как золотая рыбка усмехнулась и преподнесла ему назначение на должность рангом выше.
Заискивающе улыбнувшись своей новой секретарше, войдя в громадный светлый кабинет с многообещающей картой мира во всю стену, Балашов вспомнил первым делом презирающих его парней на целине, вспомнил себя униженного, оплеванного и захотел восторжествовать и ощутить превосходство, но никакого торжества в душе не получилось, и он обиделся на свою душу точно так, как обиделась на него самого оказавшая ему некогда протеже кремлевская врачиха. И долго еще ему казалось, что это приобретенное не по праву богатство у него отымется и барского вида охранник в проходной выкинет его на улицу под колеса служебных «Волг» с легко запоминающимися номерами.
Однако прошло еще какое-то время, и никто его не выкидывал на улицу, на «Волге» отвозили на работу и привозили домой. И если вначале посылали в составе делегаций в непрестижные развивающиеся страны, то скоро он стал ездить в респектабельную Европу и за океан заключать договоры с уважаемыми партнерами и говорить короткие деловые тосты о пользе взаимовыгодного сотрудничества, запивая их «Посольской» водкой и закусывая икрой. Но какой-то вирус боязни и неуверенности, что он делает что-то не так, не давал ему покоя, и по ночам, куря на облицованной сизым кафелем кухне «Кент» или «Кэмел», Балашов не знал, то ли гнать прочь, то ли цепляться за эту безымянную тоску. И однажды она сыграла с ним злую шутку.
Случилось это в Токио, где они заключали договор об эксплуатации лесной зоны в районе строительства железной дороги. Японцы упрямились, выдвигали непосильные условия, хитрили, дело двигалось черепашьим шагом, а из Москвы давили – стране нужны йены. Раз вечером Балашов ушел прогуляться и забрел в какой-то зеленый пригород. Справа и слева были небольшие дома в садах, он остановился около одного из них с плавной, похожей на ладью крышей и стал смотреть, как в доме зажгли свет, а потом загорелись разноцветные фонарики, развешанные в саду между деревьями, и рядом с цветником забил радужный фонтан. Было покойно и тихо, пахло цветами и лимонами, и на следующий день, когда японцы сняли одни условия и выдвинули другие, более приемлемые, дело тронулось с мертвой точки, и плохенький переводчик то и дело лез в словарь и путался в терминах, а деликатнейшие и застенчивые представители фирмы, все как на подбор в широких затемненных очках и безукоризненных костюмах, ничем не выражали своего недовольства и ждали, весь этот душный, несмотря на кондиционеры, тяжелый день Балашов был рассеян, глядел на часы, торопил время и думал не об индексах и коэффициентах лесопользования, а о том, что пора кончать с тусклой жизнью и гробить себя на контракты и банкеты, коротать романы с холеными, умелыми женщинами, которые были так холодны, что после их ухода приходилось пить коньяк, для того чтобы согреться, что пора наконец подумать об обыкновенном уюте и привести в дом хорошенькую женщину, разбить сад и затеять в нем фонтан с разноцветными фонариками. И, уже переводя свои мысли в деловое русло и запивая их на банкете водкой, Балашов решил, что по приезде в Москву он немедленно оформит развод с Антониной, хоть это и будет стоить ему неприятного разговора в парткоме, и займется устройством личной жизни. Однако по приезде в Москву выяснилось, что деликатнейшие и застенчивые японцы надули Балашова бессовестнейшим образом и он заключил крайне невыгодный договор. И тогда Балашова вызвали в самый просторный кабинет и выложили все разом: и про этот злосчастный договор, и про его частную жизнь, и про то, что он дезертировал в свое время с целины, и про связи в Марокко, где он торчал в годичной командировке и, тщательно конспирируясь, ходил в бордель. И про то, что всем известны его отношения с семьей, и про еще многое другое, что он за собой не знал или успел забыть. Все это ему припомнили, сняли с должности, исключили из партии, и барствующий охранник отобрал у Балашова его тисненное золотом удостоверение, а казенные «Волги» по-волчьи на него завыли сиренами, чтобы он не путался под колесами у больших людей.
Балашов был разбит наголову, как швед под Полтавой. Целыми днями он валялся дома, а когда становилось невмоготу, уходил и слонялся по улице, словно прогуливающий уроки школяр. Идти было не к кому, а возвращаться домой не хотелось. Впервые за много лет его собственная квартира, где никогда не орали дети и мягко и расслабляюще светили бра, нагоняла на него тоску, и он ощущал в ней мерзость запустения и одиночества. И тогда он вспомнил про Антонину и поехал к ней. Антонина встретила его очень сдержанно, и Балашов коротко сказал ей, что некоторое время не сможет платить алименты, потому что нигде не работает. Он был так плох, что Антонина смягчилась, и весь вечер Балашов просидел у нее на кухне, клял судьбу, самураев и людскую несправедливость. Антонина слушала его без злорадства и равнодушия, Балашов отогрелся и почувствовал, что уходить ему никуда не хочется. Он смотрел на Антонину, как не смотрел на нее Бог знает сколько лет, она была красива красотою зрелой, уверенной в себе женщины, ладная, покойная, и неожиданно для самого себя Балашов стал говорить ей, что дурак он был, когда от нее ушел, а теперь все так лихо получилось и у него, и у нее. И говорил, что скучал и мучился, хотел прийти, но боялся, что она его прогонит, а теперь у него больше нет сил, он устал и ничего ему не надо: ни власти, ни почета, ни денег, ни дорог, а только семью, детей. И хотя он почувствовал это только здесь, у нее на кухне, в его словах не было фальши или лжи, а лишь преувеличение мужика, задетого за живое. И через каждые два слова он твердил ей, жадно заглядывая в глаза:
– Веришь? Понимаешь?
Антонина слушала его с печальной улыбкой и не перебивала, но потом поднялась и сказала:
– Вот что, милый, поздно уже. Поезжай-ка домой.
– Но, Тоня, – взмолился Балашов, – я ведь серьезно. В конце концов, мы же муж и жена, нас никто не разводил. Мы ведь не старые еще, Тоня. Мы с тобой ребеночка еще заведем, хочешь? А детям скажешь, что я наконец приехал. Ну что ты, Тоня?
И он стал что-то еще говорить взахлеб про сад и разноцветные фонарики, которые привезет ей из Японии, а потом подошел к Антонине и попытался притянуть ее к себе и поцеловать. Но Антонина вздрогнула, отошла от него и покачала головой:
– Нет, Балашов, поздно ты собрался. Отболело уж все. И дети в тебя давно не верят. Про золото на Камчатке. Лет-то знаешь сколько прошло? Иринка вон школу кончает.
– У тебя кто-то есть? – резко спросил Балашов. Антонина хотела не отвечать, но против воли у нее вырвалось:
– Некогда мне было этим заниматься.
– Так что же, ты больше не любишь меня? Не нужен я тебе такой? Тебе удачливого подавай? – угрожающе проговорил Балашов.
– Ты, если хочешь, заходи, я буду рада, – ответила Антонина.
– Нет, ты постой. – Балашов яростно схватил ее за рукав и зашипел: – Мне нужна жена, слышишь? Жена! Если ты не хочешь быть мне женой, то развод, поняла? Немедленно, сейчас же! Развод!
– Как тебе будет угодно, – сухо ответила Антонина и высвободила руку.
Балашов ушел. У Антонины ночью разболелось сердце, утром она поехала на дачу, где были дети, и весь день провела с ними. А Балашов понял, что никогда и ни при каких обстоятельствах он не разведется с Антониной, это единственная твердая валюта, которая есть в его жизни. И от этой мысли ему стало легче, он подумал, что все не так страшно, у всех жизнь нескладная, и кто там разберет, кому хуже, кому лучше. Он нашел себе тихую работу, вечерами смотрел телевизор, а на выходные дни ездил на Истринское водохранилище ловить лещей. Жизнь перевалилась на другой бок, стала тихой и неяркой, и надобно было поудобнее устраиваться в саночках, которые легонько катились вниз.
Он стал ходить к Антонине, играл с сыном и иногда брал его с собой на рыбалку. Антонина ему ничуть не препятствовала, и единственное, что омрачало его отношения с семьей, было поведение дочери. Иринка на дух не переносила Балашова и всячески ему это выказывала. Ей ничего не стоило сказать ему дерзость или демонстративно уйти из дома, когда он приходил. Она наотрез отказывалась от любых подарков, а однажды, когда Антонины и Сережки не было дома, и вовсе не открыла Балашову дверь. Он не знал, как себя с ней вести, что отвечать на ее выходки, терялся и предпочитал приходить тогда, когда наверняка знал, что Иринки нет дома.
– Что, трепещешь перед дочкой? – спрашивала его Антонина. – И то, сам виноват. Прошлялся где ни попадя – что ж ты теперь от нее хочешь?
Но с Иринкой она разговаривала иначе:
– Доча, плохой он или хороший, не тебе судить. Он твой отец. Ишь чего надумала, собственного папашу из дома гнать.
– Папашу! – фыркала Иринка. – Где он был, этот папаша, когда мы все тут загибались? Он что, про нас помнил, приходил, помогал тебе? Тридцатник пришлет, откупится, и все дела. А теперь, конечно, детки выросли, здоровые, сильные, забот с ними никаких. Теперь он папаша! О старости, поди, думает, кто с ним будет нянчиться, когда все его бабы разбегутся. И вообще, я не понимаю, зачем он тебе сдался? Гнать его надо!
– Ну вот что, – отвечала Антонина уязвленно, – нужен он мне или нет, я буду решать сама. А ты сделай милость, не настраивай против него Сережку. Тебе он, может, и не нужен, а парню без отца плохо.
Сережка действительно относился к Балашову иначе. Толи потому, что был парень, то ли потому, что не застал того времени, когда Антонина лила из-за Балашова горькие слезы, но никакой неприязни к отцу он не испытывал. Он ни разу не задал ни отцу, ни матери вопроса, почему они живут порознь, не пытался их сблизить или примирить, был на редкость мягок и тактичен, но все же Балашов чувствовал в отношении сына к себе какую-то сдержанность, недоговоренность. Он искал в нем что-то от себя, то, что давало бы ему право сказать – это мой сын, моя кровь, мое продолжение, но ничего похожего на Балашова в этом четырнадцатилетнем приветливом мальчике не было, и Балашов испытывал чуть ли не разочарование и бессилие. Откровенно не принимающая его дочь была ближе и понятнее, чем сын. Балашов чувствовал, что Иринка не любит его за нечто конкретное, ощутимое, не любит, как умеют не любить спесивые девицы, которых он повидал немало. Сын же другое дело, иногда Балашову казалось, что тот проводит с ним время только из жалости, из уважения к тому обстоятельству, что Балашов является его отцом. И если бы не это скуластое лицо с тонкими губами, то Балашов вообще засомневался бы, его ли это сын. Он чувствовал в себе потребность влиять на сына, но откровенных разговоров не получалось, чаще они мучительно молчали, и Сережка снова по обязанности, что ли, рассказывал вялые истории из школьной жизни.
И тогда Балашов ощутил пустоту, но не ту азартную, острую после краха с японцами, а будничную и ровную пустоту, которая не свалилась как снег на голову, но правильно и в срок прибыла на станцию назначения. И напрасно Иринка никак не могла успокоиться и говорила матери, что с таким воспитателем из братца вырастет второй мерзавец, которому ничего не будет стоить бросить жену с ребенком и укатить от нее с любовницей, – воспитателя из Балашова не получилось, он тихо отстал от семьи и пошел скитаться дальше. Антонина только усмехнулась, опять на Камчатку поехал, котище седой, но зла на гулливого супруга не держала.
А годы шли, ничем не насыщенные, монотонные, но очень скорые, и после очередного юбилея Балашов заволновался, стал жадно хвататься за жизнь и искать развлечений, терпких и густых, как духи для женщин зрелого возраста. Но силы были не те и обаяние было не то, прелестные женщины с искристым смехом и рысистыми глазами уже охотились в иных лесах, а Балашову доставались другие, на которых раньше он бы и смотреть не стал. Они были капризны и противны ему, звали Балашова папашей, стоили много денег, и денег было не жаль, но хотелось напоследок прикоснуться к свежести и юности и взять там сколько можно соков и сил. Он чувствовал постоянный голод и страх, что не успеет ухватить жгучих земных утех, молодился и ухаживал за своим телом и кожей лица как холеная баба, жертвовал всем ради самого главного – непустой постели, потому что за простои приходилось платить временем, которого оставалось в обрез. Он окружал себя и свою квартиру романтическим ореолом, придумывал себе легенды, точно матерый шпион во вражеском стане, и все ждал, когда на его искусственные приманки попадется отливающая серебром здоровая рыбина с тугой плотью. Но когда она наконец попалась, почувствовал, что справиться с ней не сможет и рыбка сама утащит его в мутную глубину.
В доме отдыха, где Балашов имел обыкновение проводить часть отпуска, он познакомился с моложавой чернявой южанкой с диковинным именем Сабина. У нее были блестящие, цвета спелых маслин глаза, небольшие усики на верхней губе и густой, тягучий голос, бросавший шевальера в сладкую дрожь. Она нашла его в толпе самодовольных мещан, видела в нем родственную душу, разочарованную и усталую, и звала степным волком. Она томила и выдерживала его весь срок, рассказывала о своей трагической судьбе и неких обстоятельствах, которые мешают им соединиться, и под конец пала. Потом приезжала к Балашову из Днепропетровска, они пили красное вино, проводили ночи напролет в неге и любви, и после этих набегов утомленный южным темпераментом любовник приходил в себя несколько дней. Балашов слал Сабине жалостливые письма, умолял ее не бросать его, писал о новом смысле и тайне, озарившей его трудную жизненную стезю, Сабина велела терпеть и ждать, надолго исчезала, но однажды приехала к нему и объявила, что преграда, разъединявшая их, рухнула и отныне они смогут принадлежать друг другу.
Однако, в отличие от прежних балашовских мармулеток, Сабина оказалась гораздо предприимчивее, и очень скоро Балашов познал кислый вкус женской дисциплины. Поскольку никаких конструктивных предложений от сентиментального любовника не поступало, он перестал быть степным волком, а превратился в обыкновенного подлеца, обманувшего почти неопытную девушку и загубившего ее молодую жизнь на корню. Балашова эти речи утомляли нещадно, и он признался самому себе, что был бы рад, если бы все вернулось на круги своя и Сабина уехала в прекрасную даль. Но признаться в этом своей напористой и цепкой подруге не решался.
Балашов лениво трепыхался в Сабинином садке, как хлебнувший воздуха лещ, и позволял делать с собой что угодно. Сабина же стала требовать от Балашова, чтобы он немедленно развелся с Антониной и создал новую благополучную семью с патриархальными основами. Однако инстинкт самосохранения, в отличие от другого инстинкта, срабатывал безукоризненно, и на все уговоры, нежности и угрозы Балашов заученными фразами отвечал, что никогда не посмеет предложить подобное этой святой женщине. Сабина пощипывала усики, обдумывая, как получше состряпать свое дельце, и в конце концов решила устроить очную ставку между заинтересованными сторонами и вынудить Антонину уступить – припугнуть, оскорбить, нахамить и как угодно отбить охоту считаться женой этого тюфяка. Балашову очень не хотелось идти к Антонине в Сабинином обществе, но тут уж степная волчица взревела на полную мощность.
Подлец предстал перед Антониной затравленным и несчастным и начал, запинаясь, представлять Сабину, которая приехала к ним издалека и была так добра, так мила к нему… он глаза боялся поднять на Антонину, и добиться чего-либо толкового от него было невозможно.
– Ну-ка помолчи, – прикрикнула на супруга Антонина, – а вы говорите, да живее.
Сабина взяла Антонину под локоток и повела медовые речи:
– Милочка, таки мы же с вами интеллигентные люди, мы же не будем устраивать никаких скандалов, зачем нам это? Константин Владимирович уже не молод, ему тяжело жить одному. Ему нужно, чтобы о нем кто-нибудь постоянно заботился, готовил обеды, ухаживал, да. У меня тоже была нелегкая жизнь, я вас чудесно понимаю, как вам нелегко приходилось, как вы страдали. Да, милочка, женская доля – тяжкая доля. Но кто, если не мы, будет растить детей, возиться с такими, как он, – и она сокрушенно кивнула в сторону навострившего уши Балашова. – Что же делать, я понимаю, он доставил вам много горя, но и он имеет право на спокойную старость. Ведь нельзя же его бросать одного. Вы с ним, конечно, после всего этого жить не сможете, я вас не осуждаю, нет-нет, а я уж как-нибудь… Антонина Сергеевна, отпустите его с миром.
– Что, Балашов, пойдешь к ней? – спросила Антонина.
– Я… да я… как ты, Тонечка… не знаю, – забормотал Балашов.
– Так пойдешь или нет? Балашов молчал.
– Видите, не хочет он что-то. А, Балашов? Давай скорее, не тяни резину.
– Костик? – мягко шепнула Сабина. – Ну же!
– Ну говори же! – воскликнула Антонина.
– Косточка? – еще слаще дыхнула Сабина. Балашов вдруг извернулся, пригнулся и по слогам выпалил:
– Не-ха-чу! – прошмыгнул в спасительную кухню.
Сабина переменилась в лице, несколько секунд подождала, затем выдала отбойную тираду, в которой слова «импотент» и «климатик» были самыми ласковыми, и, высоко неся голову, ушла.
– Дурень, – ругала Антонина Балашова, как ругают хозяйки побитых в драке кобелей. – Ты б хоть думал, с кем связываешься. Она же тебя сожрет. Ей не ты нужен, а твоя квартира. А потом она начнет наставлять тебе рога, и какой-нибудь ейный хахель выкинет тебя на улицу. Ты глянь, седой уж стал, а ума ни на грош. И что тебе неймется?
Балашов со всем послушно соглашался, влюбленно и благоговейно взирая с табуретки на Антонину. Потом запыхтел, как самовар, выпятил грудь и отправился к себе прогонять «мерзавку» из дому. Эта акция стоила ему исцарапанного лица и ушата грязи, но все же в результате Балашов одержал верх, Сапочка выкатилась, а предусмотрительный степной волк на следующее же утро врезал в дверь новый замок.
С той поры Балашов угомонился. Пылкая южанка оказалась последней женщиной, разбившей его сердце, и других попыток разбиться Балашов не предпринимал. Стало пошаливать здоровье, вместо пансионатов он ездил в санатории, а приходя к Антонине, старался откушать ее супов, поелику сам такие делать не умел, а пельмени и консервы желудок воспринимал нынче плохо. Антонина осталась к тому времени одна, у детей уже были свои семьи, и Балашов стал приходить к ней чаще, а на праздники иногда оставался ночевать.
Потом он опять пропал и долго не появлялся. Антонина решила, что Балашов снова загулял, но на сердце у нее было неспокойно, и она позвонила ему, чего прежде никогда не делала. Балашов слабым голосом просипел, что неважно себя чувствует, и, собрав сумку с продуктами, Антонина отправилась проведать мужа. Балашов лежал в прокуренной комнате, в обществе развешанных по стенам обнаженных красоток, и глаза у него были такие же тоскливые, как и у них. Антонина дала ему поесть и стала ругаться, что он не позвал и так бы и подох тут среди этого срама. Балашов, нагнувшись над тарелкой с супом, слушал ее невнимательно, и, жалостливо глядя на его объемную с залысинами голову, Антонина проговорила:
– А что, Балашов, права была твоя мадама – стар ты стал, чтоб одному-то жить. Переезжай-ка ты ко мне.
Балашов еще некоторое время продолжал таскать ко рту ложку, а потом отшвырнул ее в сторону и затрясся:
– А-а-а, купить меня хочешь? Думаешь, я тебя не вижу? Крутишься тут вокруг меня, заманить к себе хочешь? Ты думаешь, мне супы твои нужны, ты думаешь, я теперь стар и бери меня голыми руками! А где ты раньше была? Ты мне, ведьма, жизнь испоганила. Из-за тебя я на эту целину поперся, из-за тебя по борделям и по б… таскался, из-за тебя меня с работы поперли. Тебе-то хорошо, дети, ласка, уважение со всех сторон. А я жил как пес, никому не нужен, дочь меня из дому выгоняет, сын мне чужой. Я ведь к тебе приходил, я тебя просил, давай заново начнем – отказалась? А ты дрянь, – еще больше затрясся он, – ты что со мной сделала? Я когда жениться захотел, ты Сабину поперла? Приревновала? А теперь благородную из себя строишь, мученицу, чтоб все на тебя умилялись. Я тебя насквозь вижу, ты меня всего лишила, ты мне жизнь загубила, а теперь до конца втоптать в грязь хочешь! Не выйдет у тебя этого, не получится, не пойду я к тебе, сдохну, а не пойду! Поняла, старая… – И он стал махать руками и жадно хватать воздух, а затем вдруг резко угомонился и стал с неестественной медленностью валиться на бок.
Очнулся Балашов уже в Антонининой квартире, о своем припадке он забыл и скоро оправился. Антонина разгородила комнату ширмой, поставила Балашову топчан, так он и стал жить у нее. На жениных хлебах Балашов раздобрел, успокоился, вскоре вышел на пенсию и превратился в образцового пенсионера-общественника, ходил в ЖЭК на собрания, разговаривал с жильцами и писал раздумья о жизни в центральную прессу, подписывая их «Балашов. Ветеран труда» и жалея, что к этому нельзя добавить «Балашов. Ветеран войны». Ему неизменно отвечали, благодаря за ценные замечания, обещали учесть, наладить, исправить, и Балашов гордился своей деятельностью и говорил, что на таких, как он, держится государство и народная власть.
Свежий ветер апрельских перемен благотворно подействовал на его душу, Балашов понял, что во всех его жизненных невзгодах была виновата не Антонина, не японцы и не целина, а проклятая эпоха застоя, губившая самых достойных людей. И Балашов был счастлив, что сумел одолеть это тяжкое время и дожил до светлых дней обновления. Теперь его душа страстно требовала реабилитации, восстановления в партии, откуда изгнала его торговая мафия, он обращался в самые высшие инстанции и ожидал благоприятного ответа, но, увы, бюрократизм пустил слишком сильные корни в обществе и даже в этой высшей и праведной инстанции, и балашовская просьба осталась неудовлетворенной.
Но теперь он верил в народ и шел к простым людям, его неуемная энергия разбрызгивалась во все стороны, как кипящее масло со сковородки. Балашов читал лекции в красном уголке, судил товарищеским судом пьяниц, злостных алиментщиков и забулдыг, несколько раз выступал в окрестных школах с рассказами о героическом покорении целины, участником коего он был. Однако его политическая карьера вскоре закончилась крахом, целина к тому времени не только что вышла из моды, но и стала опасной, район, где жила Антонина, переименовали обратно в Черемушкинский, а в ЖЭКе Балашову и вовсе заявили, что он по другому адресу прописан. Балашов перестроился и переключился было рассказывать байки из заграничной жизни мужикам-доминошникам, но те не захотели слушать про фантастические сделки, интриги и марокканских девочек и строго отстучали Балашову – не трепись, не похож ты на бывшего начальника, поди те не в трущобах живут.
И Балашову ничего не оставалось, как окончательно смириться, перекочевать к Антонине, и скоро ему и впрямь стало казаться, что он прожил у нее всю жизнь и ничего другого, ни взлетов, ни падений, ни степи, ни скитаний, в его жизни не было, а была только эта ворчливая, властная женщина с гладко зачесанными волосами. Иногда Балашов пытался указать Антонине, как жить, но, в отличие от высоких инстанций, Антонина оказалась строптивой и полностью игнорировала воззрения супруга на домашнюю экономику. Балашов сердился, обзывал ее злюкой и дурой набитой, Антонина не отставала, и случалось, супруги по нескольку дней не разговаривали и совершали трапезу порознь.
Эти размолвки Балашов тщательно переживал, разговаривал сам с собой, бубнил, а у Антонины времени на переживания не оставалось. Иринка часто подкидывала ей внука, и снова приходилось ночами вставать к его кроватке, но теперь сил таскать ребенка на руках у нее не было, и она тихо баюкала его непозабытыми словами. Сама Иринка не приходила принципиально.
– Потому что ты, мама, конечно, прости, но он тебя предал, а теперь ты ему подставляешь обе щеки. Можно подумать, что ты всю жизнь хранила ему верность и только ждала того часа, когда он со всеми своими болячками сядет тебе на шею. А потом, глядя на таких, как ты, они все начинают так думать. Что можно бросать женщину с ребенком, кобелиться, а она все вывезет, будет терпеть, ждать, утешать. И он еще недоволен, что я с ним, видите ли, недостаточно ласкова. А я не хочу превращаться в ломовую лошадь. Я и без мужа прекрасно проживу. Ребенок у меня есть, и больше мне ничего не надо.
Вскоре она и впрямь развелась и стала жить вдвоем с сыном. Антонина отнеслась к разводу дочери спокойно, а на Балашова это событие произвело удручающее впечатление. Он перестал атаковать прессу своими наставлениями, забыл о герое московской перестройки, бывшем, как и он сам, жертвой мафии и бюрократов. Теперь целыми днями он мучился и думал, вспоминал свою жизнь и расспрашивал Антонину, как она жила без него в самые тяжкие годы, и сопоставлял, и высчитывал, и получалось так, что именно тогда, когда задыхался и умирал его маленький сын, он познавал сладкий вкус жизни. И чем хуже и отчаяннее было Антонине, тем, как назло, по годам и числам, было легче и веселее ему. Антонина с ужасом замечала, что этот пожилой мужчина, почти старик, с одутловатым лицом и одышкой, к которому она так привыкла, что перестала воспринимать его отдельно от себя, изводит себя и мается душевной болью.
И снова не спал по ночам Балашов, ворочался у себя за ширмой и, не давая уснуть, шел на кухню и курил бесчисленные папиросы. Антонина как тень шла следом и пыталась его утешить, но Балашов с новой мстительностью выспрашивал ее о прошлом. Она старалась ничего не рассказывать, отвлекала его, уводила в сторону, как малое дитя, но Балашов наседал на нее со всей стариковской упрямостью и твердолобостью, допытываясь до малейших деталей, и она все ему рассказывала, потому что в старости люди не властны над памятью. А Балашов вспоминал свое, перебирал по крохам и песчинкам, пытаясь отыскать какие-то блестки.
Но больше всего его мучили мысли не об Антонине, а о детях – Балашов твердо знал, что именно они, а не он, сытый, устроенный, расплачиваются за его грехи. Его сын, женившийся на женщине на десять лет старше его, с двумя детьми, сын, у которого были глаза человека, не принадлежавшего самому себе. Дочь – никогда Балашов не верил, что Ирина сама оставила мужа, не могло такого быть, его дочь бросили, обманули, и ничем он ни помочь, ни вступиться за нее не мог. И это бессилие было хуже любой боли, хуже наказания, его нельзя было никому высказать и некуда было уйти.
Иринка жила вдвоем с сыном в коммуналке, которая досталась ей после развода и разъезда с бывшим супругом. Балашов пытался уговорить ее сам и передавал через Антонину, просил переехать в его пустующую квартиру, но Иринка отказывалась. И шикарная квартира, которую ему стоило адских трудов получить, потому что он был женат и имелась площадь его жены, его не прописывали одного и прописали только потому, что это был валютный кооператив, а Балашов был большой начальник, – эта дивная квартира пустовала. И тогда Балашов подумал, что единственное утешение, которое может быть у человека в старости, – это знать, что ты нужен, нужен чем угодно – своими силами, любовью, временем, деньгами, дачей, квартирой, подарками, связями, и тем самым оправдывать свое существование. И опять он ощутил не зависть или неприязнь, но глухую тоску, оттого что жена его сполна была награждена тем, чего был лишен он.
Он знал, что Антонина простила ему все, что могла простить, и относилась спокойно и легко, как к самой себе, но замутненная душа Балашова не могла принять этого прощения. И тогда он стал исподволь продумывать мысль о том, чтобы уйти от Антонины и скоротать свой век одному – принимать от нее заботу он считал себя больше не вправе. Но при этом он испытывал странное предубеждение против своей квартиры. Возвращаться туда Балашову казалось невозможным. Потому ли, что он считал эту квартиру принадлежащей дочери или она была связана с теми воспоминаниями, которых он бежал, а может быть, Балашов просто понимал, что Антонина найдет его там и привезет обратно, но так или иначе он решил отказаться от всего нажитого, уехать из Москвы и затеряться.
Балашов дождался того дня, когда Антонина уехала сидеть с внуком, и оставил ей короткую записку, где просил его простить, не искать и писал, что хочет теперь одного – чтобы та таинственная сила, которая была властна над его жизнью, смеялась над ним, топила и вытаскивала из грязи, чтобы она наказала его и сняла проклятие с близких ему людей. Затем он собрал свои пожитки и отправился на Казанский вокзал, откуда много лет назад увозил его на целину длиннющий состав с теплушками. Здесь, в душном зале, в огромной очереди старику сделалось дурно, и он потерял сознание.
Антонина узнала о том, что случилось с мужем, только поздно ночью, пробормотала: «В могилу меня сведет этот Лев Толстой» – и поехала на вокзал забирать беглеца. Но к тому времени Балашов оказался в больнице, с ним случился инсульт в очень тяжелой форме. Три месяца он лежал парализованный в больнице, а потом его отдали жене и сказали, что держать его в больнице смысла больше нет, болезнь неизлечима и в таком состоянии он может умереть хоть завтра, а может прожить еще два года. В лучшем случае частично восстановится рука и, может быть, вернется речь.
Антонина ухаживала за мужем, который более походил на труп, чем на человека, и горевала с той покорностью, с какой горюют старые люди. Иногда ее подменяла дочь, но уход за разбитым параличом стариком был грязным и тяжелым. Ирина не выдерживала смрада и плакала на кухне:
– Мам, за что тебе это? Ты ведь такая добрая, хорошая, никому дурного не делала. За что тебя так Бог наказывает? Всю жизнь с ним маялась, а теперь еще такая мука.
В сознание Балашов приходил медленно и все мычал, силился что-то сказать и требовал ручку, но пальцы все равно не слушались. Незадолго до смерти ему удалось проговорить то единственное, что его занимало и мучило:
– Антонина, – прошептал Балашов невнятно, – ты вели, чтобы меня в церкви отпевали… грехов на мне много… и не оставляй меня потом, молись…
Больше он ничего не сказал, но в его взгляде появились глубокая, ясная печаль и сокрушение, которых у него прежде не было.
Балашова хоронили на Покров. Когда вышли из церкви и специально нанятые мужики с сонными лицами понесли гроб, повалил крупными хлопьями снег. В вырытой утром яме было белым-бело, полный батюшка наспех закончил таинство, и мужики торопливо засыпали гроб рыжей землей вперемешку со снегом. На могиле поставили узорчатый металлический крест, а через несколько дней Антонина принесла фотографию молодого Балашова, на которой тот смотрел дурашливыми растерянными глазами.
После смерти мужа Антонина сильно сдала. Из крепкой пожилой женщины она превратилась в сухонькую старушку с белыми легкими волосами, нянчила внука и украдкой от матери рассказывала ему про деда, который всю жизнь искал золото на Камчатке.
Ранним пасмурным утром с кемского причала, хаотичного, громоздкого сооружения, состоящего из аварийных мосточков, сходней, вбитых в дно старых свай, доков и сараев, уходило в море несколько частных катеров. Мотоботы увозили столпившихся на берегу людей, которые привычно и скоро спускали в трюм вещи и устраивались на палубе в ожидании недалекого морского пути. К семи толпа рассеялась, суда ушли за мыс, и на пристани остались только двое мужчин в штормовках и одетый в теплую куртку мальчик лет семи с рюкзачком за спиной и зачехленной удочкой в руках. Мальчик никогда не видел так много воды, восторженно крутил головой и не понимал, чем озабочены его папа и крестный, почему все время ходят по причалу, перетаскивают рюкзаки, что-то выясняют у чужих дяденек и друг с другом спорят. Ему хотелось поскорее сесть в катер и поплыть, от нетерпения дрожали пухлые губы и сверкали на нежном раскрасневшемся личике большие темные глаза с густыми ресницами. Однако взрослые не спешили. После долгих раздумий затаскивать рюкзаки в последний мотобот, рассчитанный на пять-шесть человек, но взявший на борт уже вдвое больше, они не решились. Два года назад один из них на подобном суденышке и у этих же берегов едва не затонул.
– Даже не на подобном, а именно на этом, – уточнил потерпевший, пристально разглядывая приглашавшую путешественников низко сидевшую в воде посудину и ее нового хозяина. – А Павел Петрович-то где?
– На материк уехал, – буркнул худощавый мореход.
– Вот оно что-о… А я смотрю, тот самый катер, ну точно тот, – обрадованно заговорил Илья Поддубный. – Ой, Серега, погляди, какая собака, – и, убедившись, что ребенок занялся желтой лохматой лайкой с закрученным хвостом и не слушает, с удовольствием поведал смурному судовладельцу историю о том, как по дороге на Анзер на сем безымянном катере при сильной волне едва не заклинило двигатель и больше часа, забыв о приступе морской болезни, вместе с американским телекорреспондентом итальянского происхождения Бобом Аспирини он черпал из-за борта воду и охлаждал мотор, а потом, когда, так и не добравшись до Анзера, вернулся в поселок и пил водку с незадачливым экс-капитаном Павлом Петровичем, а Боб валялся на полу кубрика без чувств, вытянул из морского волка неохотное признание: если бы перегревшийся двигатель заглох, потерявший ход мотобот неминуемо налетел бы на скалы и затонул.
– Да не, не затонул бы, чего-нибудь придумали б, – сказал небритый мужик, поморщившись.
– Что, что тут придумаешь? – загорячился Поддубный и волнительно поджег сигарету. – Волна такая была, разбило бы о камни катер, а потом и всех людей, бляхас-мухас.
– Да не, придумали б, – повторил хозяин и зевнул. – Ну так что, не поедете?
Раздосадованный помор позвал собаку, скрылся в недрах кораблика, запустил мотор, и мальчику сделалось грустно. Он хотел заплакать, но вовремя вспомнил, что обещал себя хорошо вести, и принялся ждать большого морского парохода с белой трубой. Однако проходил час за часом, сжимались и разжимались в воде медузы, летали крупные морские чайки, лазили по причалу легко одетые местные ребятишки, вышла в море рыбацкая лодка под мотором и отчаянные, визгливые пацанки крутились недалеко от берега на самодельном плоту…
По мере того как день разгорался, холодный, пронизывающий ветер усиливался, шелестел по молу, где не было ни навеса, ни укрытия, поднимая мусор и разнося как пароль таинственное и непонятное слово «печак», а горизонт оставался пуст, и только слева в дымке угадывались очертания не то громадного военного корабля, не то горбатого каменистого островка, и под ногами уходила зеленая, грязная, перемешанная морская и речная вода, обнажая сваи старого мола и прилепившиеся к ним блестящие черные водоросли.
Теперь Макаров жалел, что они не отправились на катерке, – авось не заклинило и не потопли бы, а сейчас уж подплывали бы к островам, – но, когда высказал бесполезную мысль вслух, его товарищ неожиданно снова занервничал и стал раздраженно говорить, что не понимает он беспечный российский народ, который, чего бы с ним ни происходило, не только свою жизнь ни во что не ставит, но и на других ему плевать.
– А у тебя дома жена с дитем в животе.
Ввязываться в обычный спор не хотелось, гораздо лучше было б после бессонной ночи подремать, но в памяти болезненно оживали долгие часы, проведенные в местных аэропортах, на берегах больших рек, остановках сельских автобусов, что ходят два раза в неделю, если не сломаются, многодневное сидение где-нибудь в тундре, тайге либо в горной долине, когда прислушиваешься, не раздастся ли вдали звук летящего вертолета, но нет, тишина, и ты уже не можешь ни читать, ни говорить, и жжет язык от бесчисленных, безо всякого удовольствия выкуренных сигарет, покуда и те не кончатся и нечем будет ожидание скрасить.
Был канун самого большого в островном монастыре праздника, на причале появлялись все новые и новые люди, подъехала машина с иностранными туристами, а следом за ней неожиданный, как жираф, громадный запыленный паломнический автобус с украинскими номерами. Теперь слухи на пристани циркулировали более верные: корабль придет, и руководительница паломнической группы подтверждала, да, она звонила накануне в монастырь, говорила с настоятелем, и архимандрит обещал, что непременно пришлет с утра судно и заберет паломников, чтобы они поспели ко всенощной.
Непаломники гадали, возьмут ли с пилигримами и их, хватит ли всем места, ревниво приглядывались друг к другу и вспоминали, кто раньше на причале сидит. С чьей-то легкой руки пошел гулять по берегу слух, будто на борт монастырского судна можно подняться только по благословению – далекий от таинственных церковных условностей люд приуныл и искоса поглядывал на двух одесских батюшек, переносящих корабельные невзгоды с подобающей сану невозмутимостью и неизвестно, готовых ли благословить на морское путешествие такое скопище народу, – но никакого парохода не было. Потом внимание всех ожидающих привлекла громадная белуха, появившаяся совсем недалеко от мола. Она выбрасывала из воды белое, жирное тело, и публика рассматривала с преувеличенным восторгом дельфина и снимала на видеокамеры, хоть на время отвлекшись от основного, наскучившего дела.
Должно быть, болезнь Макарова началась именно тогда, на причале, во всяком случае, еще накануне вечером, сидя у окна скорого мурманского поезда и глядя в полумглу, на карельские леса и озера, он чувствовал себя совершенно здоровым, но теперь его слегка зазнобило, однако не настолько, чтобы расхотелось есть или курить, и под осуждающие взгляды проникшейся было симпатией к его благообразному облику питерской богомолки он с усилием жевал копченую «Еврейскую» колбасу и пил по очереди с таким же благообразным товарищем из горлышка «Рябину на коньяке».
А быстро насытившийся мальчик ходил среди людей и с изумлением разглядывал большие рюкзаки, упакованные байдарки и катамараны, мольберты художников, киноаппаратуру съемочной группы, добродушных собак, богомолок в строгих платках и священников в черных рясах; кто-то предложил ему конфету, но он застеснялся и убежал к отцу, а потом принялся играть со шведским песиком, бросал камешки в воду и разговаривал с большим морем. Ему было очень жалко, что море холодное и в нем нельзя купаться, но тут он вспомнил, как дядя Илья еще дома говорил, что там, куда они едут, есть много маленьких озер с теплой водой и жить они будут в настоящей палатке на берегу морского залива, готовить на костре еду, собирать грибы и удить рыбу. От этих мыслей на душе становилось радостно, и хотелось, чтобы все скорее так и произошло.
– Ну когда приплывет пароход? – спрашивал он нетерпеливо и жалобно.
– Скоро, Сереженька, теперь уже скоро.
– А откуда? Оттуда? – И показывал прямо.
– Нет, крестничек, – ласково глядел на него дядя Илья. – Во-он видишь, справа мыс?
Мальчик смотрел и смотрел вдаль, пока вода не стала резать глаза; замелькали разноцветные круги, кучевые облака над линией горизонта, черные точки птиц и слепящие блики, застучали колеса поезда, на котором они приехали ранним утром; детская головка склонилась, и ребенок уснул.
«Печак» появился из-за мыса в первом часу. Сережа проснулся от шума его двигателя и не поверил глазам: возле причала, там, где еще совсем недавно было пусто, пришвартовался пароход. Он был не таким большим и красивым, каким мальчик его представлял, но все равно с настоящей мачтой, капитаном, трапом, иллюминаторами, шлюпками и спасательными кругами, и из него стали вылезать такие же туристы, с рюкзаками, в штормовках, улыбающиеся иностранцы и местные жители, которых легко было узнать по будничности и равнодушной отстраненности, с какой они сходили с катера и незаметно исчезали с причала. Две толпы смешались на берегу, стали путаться в вещах и толкаться, поднялась суматоха, и залаяла собака. Дядя Илья принялся объяснять папе, которому в имени корабля все время чудилось слово «печенег», почему корабль называется иначе, не менее странным словом. Но Сережа их не слушал. Он пытался поймать на лицах пассажиров особенное выражение, торопился разглядеть образ таинственных, близких и по-прежнему недостижимых островов, однако все вернувшиеся выглядели деловито и были заняты уже другими, прозаическими проблемами: как поскорее добраться до вокзала, купить билеты и сесть в поезд.
Измученная ожиданием толпа на причале стала вразнобой спрашивать, скоро ли отходит «Печак» и в котором часу начнется посадка, но белобрысый, худенький капитан долго не отвечал, а когда кто-то стал настойчиво и бесцеремонно добиваться, сколько он возьмет человек, с неприязнью посмотрел на осаждавших катер людей и сорвавшимся голоском пискнул:
– Я никого из вас не возьму! У меня судно не пассажирское, и я сюда за бензином пришел. Не понятно кому? – и мотнул головой в сторону кормы, где, укрытые брезентом, стояли десятка два здоровенных пустых ржавых бочек, которые команда начала с трудом выталкивать на не оборудованный для погрузки причал.
От ожидания картина бытия сделалась необыкновенно подробной, все измельчилось вокруг и рассыпалось на десятки хаотичных, но странно связанных между собой кусочков и ощущений, ни одно из которых нельзя было выкинуть, все западало в память и томило. Проходили на борт, расталкивая толпу, незаметные, хорошо знакомые друг с другом и с командой люди, ничего не объясняя, заносили коробки с помидорами, арбузы, торты, бананы, прикатили на тележке телевизор и холодильник, спускались внутрь, а остававшиеся на причале мучились ожиданием, пили пиво, закусывали консервами, курили, и самое худшее в этом ожидании было то, что никто не знал, чем оно окончится. Куда должен плыть корабль, на какой берег отвозить людей и что их гонит в место, в которое много лет никто по своей воле не ездил, – какая сила управляла всеми событиями этого дня и где приклонят они сегодня головы?
Шел уже седьмой или восьмой час их нахождения на пристани. Шведы сидели совершенно покорные и обрусевшие; сдержанно злилась на обманувшие ее монастырские власти руководительница паломнического автобуса, раздражаясь оттого, что подворье на берегу закрыто, все уехали на острова и никто не встретил людей, проехавших почти три тысячи километров. Мальчик же больше ни о чем не спрашивал и никуда отца не тянул, как если бы они навсегда поселились на этой пристани и так станут здесь жить словно беженцы или переселенцы. Уже исполнилось четыре часа, угрюмая, оборванная команда понуро закатила по сходням полные бочки бензина и стала готовиться к отплытию, казалось, судно вот-вот отчалит, оставив на материке несчастную, целый день на ветру прождавшую толпу людей; но когда всем стало ясно, что хамство возьмет верх над жадностью, насладившись растерянностью и страхом, капитан гадливо оглядел причал и рявкнул:
– Цена – сто двадцать. Все согласны?
И тотчас же народ схватился за рюкзаки и сумки и хлынул на палубу. Никто в точности не знал, возьмут ли на «Печак» всех, перед узкими, шаткими сходнями возникла давка, поднялся визг, матросы едва успевали осаживать толпу, забирать деньги и отдавать сдачу.
– Ребенка, ребенка пропустите! – орал кто-то неправдоподобно тонким и пронзительным голосом, но мальчик не понимал, что ребенок – это он, дрожал от страха и бился, а потом сильные руки подняли его в воздух и над мусорной, маслянистой водой, над медузами и водорослями он взмыл легко, словно птица, в следующее мгновение его принял дядя Илья, и Сережа очутился на палубе.
А снаружи паломники, шведы, собаки, туристы, попы и интеллигенты – все перемешались, передавая через головы вещи, бросая их в трюм, толкаясь, споря, ругаясь и крича; о бензине, билетах, страховках, налогах, отчетности, списках и безопасности пассажиров никто не спрашивал и не говорил, забитое до отказа людьми, тяжело груженное судно просело в воде, и через десять минут на опустевшем причале никого не осталось, кроме группы молоденьких московских ребят с гитарой, ездивших принципиально или по нехватке средств автостопом и сумевших добраться таким образом до Кеми. Однако на море халявный принцип, похоже, не действовал, детям не хватало на билеты совсем немного денег, они кричали на берегу, прыгали и, задираясь, предлагали отдраить хозяину за перевоз его лоханку, но капитан приказал отчаливать.
От обилия народа утлый «Печак» кренился то на правый, то на левый борт, люди были возбуждены, капитан высовывался из рубки и орал, но, не считая скандинавов, никто его не слушал и больше не боялся, все вольно перемещались по палубе, смеялись, махали руками, фотографировали, прятались от ветра.
Так они прошли мимо нескольких небольших безлесых островов справа и слева по ходу судна, затем оставили позади маяк и створ, пространство вокруг очистилось, как очистилось и небо над их головою, и вода вокруг, засветило яркое солнце, и если в закрытой кемской губе не совсем очевидно было, что причал находится на берегу моря, то теперь пассажирам открылась громада блестящей воды, которую неторопливо рассекал старенький катер, идя строго на восход и оставляя за собой устье шумной порожистой реки и высокий карельский берег.
Макаров ходил вслед за восторженным Сережей по кораблю, объяснял сыну названия и назначение тех судовых приспособлений, о которых имел представление, и умалчивал о неизвестных, и умный мальчик с оттопыренными ушами, шевеля губами, новые, волшебные слова повторял и запоминал. Вода текла совсем близко, и взрослый человек изо всех сил сжимал детскую руку, не в состоянии отогнать страшное видение, как сын перегибается через поручни и падает за борт, – а мальчик снова сделался беспечен и весел, точно и не было долгих часов ожидания катера и посадки.
У кого-то из пассажиров оказалась подзорная труба, в которую все по очереди смотрели на скалистые, поросшие лишайником и мхом пустынные острова, на одинокий дом на одном из них, там находилась либо метеостанция, либо жил человек, присматривающий за навигационными знаками; мелькнула среди волн черная голова тюленя, он некоторое время провожал судно, а потом исчез под водой, и уже через час пути впереди на дрожащей линии горизонта в сизой дымке показалась узкая и длинная, неровная полоска суши, и повеселевший, просветленный Поддубный благоговейно произнес ее схожее с птичьим название.
Иногда на спокойном море возникала, подобно барьеру, стоячая волна, когда сталкивались ветер и движимая силой прилива вода, проходили далеко в стороне от слабосильного катера большие грузовые суда и маленькие рыбацкие шхуны, и, глядя на них, обрадованный Поддубный рассказывал столпившимся вокруг пассажирам историю про группу отчаянных ребят, добравшихся до монастыря на байдарке, а то вдруг замирал с мечтательным выражением лица. Озирая пустынное пространство, отделявшее архипелаг от последних горбатых островов, вытянувшихся с юга на север цепочкой от материка, Павел представлял затерянных в массе серо-зеленой колышущейся воды людей, которым с низенькой, ныряющей вверх-вниз байды даже не было видно земли, много часов они равномерно гребли, ориентируясь по компасу, в любую минуту рискуя перевернуться на волнах или оказаться унесенными в открытое море и там бесследно сгинуть, но зато какую радость должны были испытать, наконец добравшись до берега, и Бог весть отчего ему тоже захотелось так когда-нибудь поплыть, отдав себя на волю судьбе.
А еще совсем недавно мечтавший оказаться на корабле Сережа уже заскучал, он стремился теперь на берег и жалобно, как днем на причале, спрашивал у отца:
– Ну скоро мы приплывем?
Только на исходе четвертого часа большой остров наконец остановился, приблизился, и катер, минуя крохотные островки, луды и навигационные знаки, прошел по извилистому входу в глубокую бухту. Монастырь стал виден очень отчетливо, ветер стих, и, освещенный снизившимся солнцем, северный оток походил на сказочный остров, куда выкинуло из бочки царевича Гвидона, белый, радостный, совсем не хмурый и не грозный, каким казался по своей давней и недавней истории. Туристы столпились на палубе, щелкая фотоаппаратами и медленно водя видоискателями камер, то приближая, то отдаляя панораму монастырских стен, возле которых стояло на причале несколько больших судов, яхт, катеров, мотодор и мотоботов и толпились на пирсе встречающие.
Мальчишки на берегу предлагали сувениры, открытки, схему архипелага и банки с черникой. Сережа застеснялся, но с любопытством оглядывался по сторонам, все было ему интересно, а бывалый Поддубный, не обращая ни на кого внимания, торопливо повел своих спутников вверх по улице.
Обе маленькие частные гостиницы, с ресторанами, горячей водой, сауной и двухместными номерами, оказались заняты, и после недолгих поисков они остановились в двухэтажном здании старой музейной гостиницы прямо напротив одной из монастырских башен. Номера были очень дешевыми и большими, на пять, а то и на десять коек, и, с трудом поднявшись по скрипучей крашеной лестнице, заняв первую попавшуюся кровать в огромной угловой комнате, утомленный Макаров возмечтал полежать, но Илья затеребил его, предложил оставить в номере вещи и поужинать на берегу залива. Скорее от апатии и нежелания что-то объяснять и спорить Павел согласился.
Трое обогнули монастырскую стену, сложенную из таких громадных валунов, что невозможно было представить, как четыреста лет назад могли люди, не имевшие никакой техники, водрузить каменные глыбы одна на другую, прошли вдоль берега озера, примыкавшего к монастырю с противоположной от моря стороны. В озере купалась, точнее, мыла длинные, густые волосы темноглазая девушка в синем купальнике. Ничуть не смутившись, весело и простосердечно она улыбнулась прохожим, и очень чуткий и оттого обыкновенно суровый к девичьим вольностям Поддубный приветливо спросил: «Ну как водичка?» – и она заулыбалась еще радостнее: «Ой, холодная!» – и дальше через поселок, где чередовались старые добротные постройки, кирпичные двухэтажные дома, какие можно было встретить в любом провинциальном городе, и новые финские коттеджи, дошли они до магазина.
Встали в неподвижную поселковую очередь, где долго выбирают товар, разговаривают с продавщицей и обмениваются местными новостями, потом вспоминают, что забыли взять конфет, а заодно и сладкой наливки, тянут время, но никто не злится и болтунов не подгоняет, и тут Макарову, который всегда умилялся провинциальной неторопливости, вдруг сделалось дурно.
– Побудь здесь с лелькой и ничего не клянчи, – сказал он скороговоркой, выбежал на улицу и, увидев впереди пустырь, согнулся в три погибели.
Тело тряслось как в лихорадке, болел желудок, и, когда через четверть часа Поддубный с Сережей вышли из магазина улыбающиеся, с нежнейшей островной селедкой и батоном мягкого белого хлеба, от которого зубами отдирали куски, и протянули батон Макарову, тот из последних сил принудил себя сделать вид, что ему хорошо и он просто любуется монастырем.
Они вышли из поселка и двинулись дальше по лесной дороге; на берегу широкого залива, где пахло морскими водорослями и валялся в обилии плавник, развели костер. Отсюда были видны главки церквей и уходящее вдаль покойное море, но никакие звуки поселка до лесистого берега не долетали. Сережа приносил новые и новые выброшенные морем и высушенные солнцем белесые, просоленные дрова, бросал их в огонь, и жаркое, без дыма пламя взметалось высоко в небо. Поддубный светился от бликов огня, от довольства и предвкушения вечерней посиделки, и Павел все еще держал себя в руках, выпил полную дозу и закусил селедкой, но дальше сдерживаться не смог и, согнувшись, со стоном отбежал в сторону леса.
А потом долго лежал на сыром, мягком мху, в чернике, не пытаясь ничем себе помочь, просто дожидаясь, когда отпустит живот и можно будет встать и пойти. У мальчика дрожали губы, он не понимал, почему так изменилось и посерело папино лицо, расширились и помутнели глаза; забеспокоившийся Илья спрашивал, что с ним, недоверчиво качал головой, советовал не есть жирного и предлагал какие-то таблетки, но вечер был испорчен, и этого первого, драгоценного вечера было жаль и неудобно перед товарищем, который – Макаров это хорошо видел – очень хотел, чтобы куму понравился остров, для него старался и сюда поехал; однако вместе с ощущением неловкости в душе появлялось новое, тревожное чувство, что все не просто так и во всем, начиная с угрюмого капитана, есть некий умысел.
И покуда Поддубный с Сережей сжигали мусор, а потом заливали костер, собирали банки, так что на берегу не осталось и следа от их пикника, он с тоскою и кротостью болящего глядел на меркнущее небо, встающий из воды красный полумесяц, на не боящихся людей уток и крикливых морских чаек.
На обратном пути Макарову сделалось легче, и Поддубный предложил зайти в монастырь. Было совсем темно, но в поселке гремела музыка, народ толпился у открытых ночных магазинов, то и дело попадались навстречу компании прогуливающихся людей, все были веселы, легкомысленны, здоровы, и этот дух праздности и гульбы, что стоял над ночным островом, странным образом напоминал не богомольный монастырь и не бывший лагерь, а какой-то праздник, молодежный фестиваль, курортный приморский городок или туристскую базу.
Ближе к монастырю музыка стала тише, свет домов и витрин остался позади, и в поздний час перед белеющей громадой собора негромко разговаривали несколько паломников и высокий иеромонах. Вокруг лежали распиленные бревна, у келейного корпуса светилась и остро пахла клумба с цветами, кое-где горели редкие огоньки. Иногда по поселку за стеной проезжал мотоцикл, и снова все стихало. Сережа тоже притих, Павел сел на лавочку и в полузабытьи, немного раскачиваясь, попытался унять дрожь в теле, но Поддубный попросил его подойти к монаху и спросить, в каком часу начнется служба, сам он стеснялся, потому что от него пахло водкой. Чернец посмотрел на приблизившегося и покачивающегося от слабости постороннего человека с явным неудовольствием, еще свирепее глядели на него паломники и трудники, однако жавшийся к отцу мальчик всех смягчил.
Всенощная кончилась, но со стороны толстых стен, справа ли, слева, быть может, из келий, доносилось удивительное пение. Макарову подумалось, ему мерещится оттого, что поднялась температура, или же кто-то в ночи слушает пластинку с церковной музыкой, но тут Илья схватил его за руку:
– Пошли быстрее. Плохо, что выпили, но все равно пошли.
По темной крутой лестнице они поднялись в громадный собор и очутились в едва освещенном свечками помещении. В храме было совсем немного народу, в основном женщины. Они пели акафист, в темной, невидимой вышине отражались и возвращались их голоса, потом молодой священник принялся читать Евангелие, на белых стенах лежали дрожащие от движения воздуха тени, никто не шевелился, и Макаров, забыв о недомогании, стоял, выпрямившись и оцепенев.
«Как все это странно», – думал он, вслушиваясь в знакомые, но совершенно иначе звучавшие под высокими сводами слова. Он не знал, сколько так прошло времени, и только чувствовал, что очень озяб, от сырых стен несло прохладой. Сережа еле держался на ногах, Макаров тронул Поддубного за рукав, и, поддерживая засыпающего на ходу ребенка, они спустились, с трудом нащупав в кромешной тьме неровные ступеньки, и двинулись к полуосвещенной гостинице.
Уложив сына, Павел снова вышел на улицу и направился к озеру. В сырой ночной мгле приезжий разделся на берегу возле пустой дороги и ступил в воду. Под ногами была тина, какие-то банки и железяки, и, испугавшись, что поранит ногу, он торопливо поплыл. Вода была не слишком теплой, прямо перед ним возвышались стены, но дорога, идущая вокруг озера, оказалась неожиданно оживленной, по ней гуляли ночные отдыхающие, потом торопливо стали проходить возвращавшиеся от вечерней службы люди, которых он видел совсем недавно в высоком, пустынном храме. Темные фигуры бесшумно скользили вдоль линии тихо плещущейся воды, звучали звонкие женские голоса, певшие во время службы акафист, и купальщику сделалось неловко. Когда все стихло, быстро вылез на скользкий берег, растерся полотенцем, надел свежее белье и новую рубашку и, повеселевший, пошел в гостиницу, вспоминая и взвешивая весь этот утомительно долгий, тяжелый день.
Бодрость, однако, быстро прошла, и ночью ему стало совсем нехорошо. Павел спал в бреду, не соображая, наяву или во сне грезится ему раскачивающаяся комната, голые, исписанные стены и долгий ряд застеленных кроватей с тумбочками, точно в пионерском лагере.
С утра Поддубный потрогал его лоб, уверенно сказал, что поднялась температура и, возможно, у него начинается кишечный грипп, отругал за то, что полез ночью купаться, дал еще горсть таблеток, взял крестника и ушел на праздничную литургию. Макарову пришлось смириться с тем, что ему на службу не идти, он читал, полудремал, кипятил чай и думал о том, что либо им придется поменять все планы и оставаться в этой громадной, неуютной комнате, где в любую минуту к ним могут подселить посторонних людей, и неизвестно сколько дней ждать выздоровления, либо из гостиницы уходить и с рюкзаками тащиться в лес – но хватит ли у него сил дойти и как станет он в лесу жить?
Из полузабытья его вывел колокольный звон. Шатаясь, он поднялся, вышел из гостиницы, пересек дорогу и оказался в монастыре. Крестный ход только что покинул собор, больной примкнул к молящимся и пошел вместе с богомольцами и туристами вокруг монастырских стен. Среди идущих людей он узнавал вчерашних пассажиров «Печака», вдохновенные лица южных паломников и отчужденные физиономии горожан, встретились ему не взятые на борт автостопщики, видно добравшиеся до архипелага на байдарке, и очень серьезные шведы, которые заулыбались и приветливо помахали знакомому рукой. Нестройно пел хор, несколько раз разношерстная, то отстающая, то забегающая вперед процессия останавливалась, худощавый священник читал молитву и окроплял людей святой водой. Брызги попадали и на Макарова, и он с надеждой растирал воду по лицу и рукам, думая, что она поможет избавиться от хвори, пробовал подпевать, хотя совсем не знал слов, с умилением глядел на идущего среди взрослых людей сына за руку с крестным и усердно кланялся. Но очень скоро ему сделалось опять нехорошо, и, не дождавшись, пока растянувшееся на узкой дороге шествие обогнет долгие монастырские стены и вернется в собор, он отправился в гостиницу.
Полчаса спустя пришел веселый, возбужденный Сережа, который совсем не хотел есть, а – идти на море, в лес, лазить по башням и гулять, но ему велели съесть бутерброд и ждать, покуда голодный, слегка уставший Поддубный плотно завтракал и рассказывал, что несколько раз заходил в дирекцию музея, чтобы пожаловаться на капитана «Печака», но директора не застал, однако дело это, бляхас-мухас, так не оставит.
– Ну а ты-то как? – Поддубный посмотрел вопросительно, и, превозмогая себя, уступая его нетерпеливости и напору, Макаров неискренне пробормотал:
– Лучше.
– Я видел в монастыре объявление. Завтра на Анзер пойдет «Святитель Николай» с паломниками.
– Ну, тогда давай на Анзер.
– На пароходе? – обрадовался мальчик.
– Нет, – нахмурился Поддубный, – на Анзер нам, Сереженька, пожалуй, ни к чему. Если папа сможет, пойдем лучше в лес.
Становиться на островах лагерем и разводить костры было запрещено, но еще во время своего прошлого пешего путешествия вокруг большого отока на берегу долгой, глубоко вдающейся в сушу с восточной стороны острова морской губы Поддубный отыскал удачное место для стоянки, где никому в голову не пришло бы туристов искать. Укромный берег был чуть-чуть далековато от монастыря расположен, но именно там, в заливе, Илья решил поселиться и из палаточного лагеря совершать вылазки по всей территории большого острова.
Самое главное было незаметно уйти из поселка и не попадаться на глаза лесникам. Они свернули к обнесенному колючей проволокой полю, Илья уверенно нащупал крючок на дверце с надписью «проход закрыт», и мимо двух небольших самолетов, на одном из которых было написано «AIR MALЕ», пересекли взлетную полосу, состоящую сплошь из ребристых металлических покрытий.
Давно не было дождей, лесная дорога, на которую они вышли, была совершенно сухой, иногда она плавно поднималась, а потом так же плавно и долго опускалась, слева тянулся лес, справа открывалось и пропадало за деревьями чистое пространство синей воды. По обочинам росли грибы, Сережа кинулся было их собирать, но взрослые его остановили.
– Потом, потом.
В конце первой трети пути, когда справа открылась Долгая губа, навстречу идущим попался мужчина с нервным, худощавым лицом. Он заглянул в их лица, зашевелил губами, будто желая что-то произнести, но они прошли мимо, не остановившись и не сказав незнакомцу ни слова, и долго еще мальчик чувствовал спиной изучающий взгляд. Потом мужчина внезапно повернул обратно, обогнал их, и через некоторое время они увидели его опять идущим навстречу, и снова повторилось то странное, невысказанное, что уже было, как будто их откинуло на полчаса назад во времени и на два километра в пространстве.
Макаров уже совсем выдохся и едва волочил ноги, движение машин прекратилось, не от кого было прятаться в лесной глуши, и только впереди мелькали две небольшие фигурки. Вскоре они нагнали невысокую, загорелую, светлую девочку лет пятнадцати и пухлого, толстощекого, русоголового мальчика помоложе.
За спиной у девочки был небольшой рюкзачок, а в руках у мальчика корзинка.
– Дядя, до Реболды далеко ль? – спросила девочка, напирая на «о».
– Да примерно столько же, сколько прошли, – ответил товарищ Макарова, с улыбкой их разглядывая. – А на что вам Реболда, ребятки? Знакомые там?
– Поглядеть хотим.
– Да там и глядеть-то не на что, – пожал плечами Поддубный. – Несколько домов обычных, и все. В них сборщики водорослей живут.
– Ну и пусть.
– А ночевать где станете?
– У нас спальник с собой.
– А если дождь?
– Пленкой укроемся.
– Как же это родители-то вас одних отпустили?
– А чего тут такого?
Они смотрели совершенно доверчиво и безбоязненно, и от присутствия этих детей Павлу вдруг сделалось радостно.
– Ну счастливо вам!
– И вам счастливо!
…Морской залив был совершенно закрытым и не слишком большим, однако неуловимые мелочи указывали на то, что это не берег пресного озера. Напротив мыса возвышался небольшой, заросший деревьями островок, море казалось таким мелким, словно его можно перейти вброд, виднелись в прозрачной светлой воде крупные разноцветные камни, и огромные валуны лежали на земле. Был тихий солнечный вечер, долгие тени упали на траву, на покрытые лишайниками и мхом плоские камни, краснели крупные, как мелкий виноград, ягоды брусники и рыжие шляпки громадных подосиновиков.
Поддубный внимательно оглядел стоянку: за два года, со времени его последнего приезда, на мысу никто не побывал, не разжигал огонь и не тронул забытый им в прошлый раз подвешенный к сосне половник. Вместе с Сережей он поставил на покатой площадке палатку, развел костерок, сходил на придорожное озеро за пресной водой и вскипятил чаю, соорудил лавочку подле громадной каменной плиты, которая идеально подходила для стола, будто кто-то специально ее обтесал. Рассеянно следя за действиями сына и кума, никакого стыда Павел уже не испытывал – ему было все равно, и только успокаивала мысль, что завтра не надо никуда идти, можно будет целый день лежать в палатке или просто на улице, смотреть в небо, ничего не ждать и ни о чем не думать.
К вечеру ему стало совсем худо. Поддубный ухаживал за другом бережно и безбоязненно, но оба думали об одном и том же, хотя вслух и не говорили: по уму – надо идти в поселок искать врача или возвращаться на материк, а если завтра от него заразится еще и Илья, то их положение станет вовсе бедственным, никто не отыщет ушедших в лес и не придет на помощь. Сгинуть от загадочной болезни в лесу на берегу глухого залива, в никому не ведомом месте, куда не ступает человеческая нога и не заходят катера, сведя с ума десяток людей в Москве, которые кинутся их искать и будут опрашивать всех подряд: паломников, девушку, мывшую голову в Святом озере, черного монаха и двух ушедших в Реболду детей, подбираясь к истине все ближе, как в игре «горячо-холодно», но все равно пропавших не найдут, потому что лесная дорога обрывается у дзота и следы сапог на литорали смывает отлив.
Всю ночь Макаров полудремал, выходил из палатки и снова залезал внутрь. Над заливом вставало в зелени рассветного неба большое солнце, было зябко, но костер еще не догорел, Павел выпил остывшего крепкого чаю – и вдруг так остро ощутил неслучайность всего происходящего, хрупкость и неправоту своей нынешней, внешне такой обыденной и вроде бы правильной, жизни, что захотелось непременно все в ней переменить. Он не знал, что именно должен совершить, но ощущение это было невероятно резким и неприятным, лишенным того смягчающего флера, к которому Макаров привык, и полусерьезные слова материалистически мыслившего и умевшего быть очень жестким и волевым отца, который, неоправданно сурово ругая сына за редкие тройки, говорил, что дети должны быть умнее своих родителей, потому как иначе человечество опять залезет на деревья, странным образом отозвались в душе путешественника.
На покрасневшем небе появились подсвеченные солнцем облака и медленно заволакивали пространство над головой, медленно пролетела пара уток, и снова стало тихо. Хотелось спать, но он все еще чего-то ждал, смотрел, как поднимается солнце и начинается его второй день на островах, которые так немилосердно его встретили и не захотели перед ним раскрываться, а потом залез в палатку и, отвернувшись к боковой стенке, провалился в тяжелый сон.
Сережа проснулся оттого, что по палатке стучал дождь. Некоторое время он обиженно слушал мерный шум, затем тихонько, чтобы не разбудить спящих, вылез из теплого спальника, откинул полог и зажмурился – на улице светило солнце, а то, что он принимал за дождь, оказалось шелестом листьев, которые дрожали на ветру и задевали тент.
Путаясь в растяжках, мальчик выбрался из палатки, упал на четвереньки, а потом поднялся и, весь во мху и сухих иголках, пошел смотреть море. Все удивляло его: горький запах водорослей, росший по неровным берегам настоящий горох, черные безвкусные ягодки водяники, соленая вода, не только противная на вкус, но и совсем не мылившаяся, и, чтобы вымыть руки, приходилось сперва чуть-чуть поливать их пресной водой, которая оказалась большой ценностью и нельзя было ее лить сколько угодно. Но больше всего мальчика поразило, что вчера море было гораздо ближе к лагерю, оно уходило и возвращалось, обнажая полоску суши, называвшуюся таинственным и красивым, совершенно новым словом – «литораль».
На этой влажной, изрытой морскими червями литорали все утро он сооружал башни из камней, строил из песка дворцы, рассматривал мелких жучков, бросал в воду камешки и так увлекся, что не заметил, как к нему подошел улыбающийся счастливой детской улыбкой хорошо выспавшийся, голый по пояс человек.
– Ботинки-то на разные ноги надел. Эх, крестничек, крестничек, когда ж ты научишься? Господи, красота-то какая! – Он перекрестился и стал обливаться, чистить зубы, мыть шею и отфыркиваться. – На вываку бодя?
– Что? – засмеялся мальчик.
– На рыбалку, говорю, пойдешь? – повторил Илья, выплевывая изо рта воду.
– Пойду, – обрадовался Сережа. – А папа?
– Пусть поспит. Да мы ненадолго. Он проснется, и мы тут как тут. Ушицы ему сварим, такой ушицы, что он у нас мигом выздоровеет.
Вдоль кромки береговой линии они с трудом продрались сквозь можжевельник и заросли черники. Море осталось у них за спиной, мох сменился твердой почвой, и на выходе из леса у дороги приезжие увидели давешних детей. Мальчик и девочка сидели возле моста через ручей, будто никуда не ходили, однако теперь вид у них был растерянный и несчастный. Девочка, отвернувшись, жевала травинку, а мальчик глядел насупившись, отчего его румяные щеки казались еще более толстыми, а глаза совсем маленькими.
– Ну как там Реболда? – весело спросил Поддубный.
– А ну ее… эту Ебалду. Гребаное место. Не ходите туда, – ответила девочка устало. – Мужики там злые, пьяные…
Поддубный присел рядом с ними на корточки и стал рассматривать грибы в корзинке.
– Белый… Смотри-ка, Серень. А это подосиновик. Вы сами-то откуда будете, ребятки?
– Я из Архангельска. А он из Питера.
– А вы, дядь, откуда? – спросил мальчик.
– Я-то? Везде понемногу пожил. Домой как станем выбираться?
– На той неделе «Лаушта» придет.
– А когда?
– Точно никто не знает.
– Чудеса. Тут у вас никто ничего не знает. Ни как сюда попасть, ни как назад выбраться.
– Всяко теплоход придет школьников с островов забирать. Вы почему, дядь, спрашиваете? Тоже поедете?
– Да не-е, еще поживем, – протянул Поддубный. …Вокруг было пустынно и тихо. Начал накрапывать дождик, но на укрытый ветвями лесной путь вода не попадала, и идущие слышали только мерное капанье и видели прямые линии дождя, когда открывалось новое озеро. Наконец справа мелькнуло за деревьями совсем небольшое, травянистое, очень старое озерцо с черной торфяной водой.
– Вот здесь-то мы и станем ловить, – произнес Поддубный, снимая рюкзачок и потирая руки.
Кувшинки дрожали оттого, что их задевали крупные рыбины, по воде расходились круги. Поддубный помог мальчику наладить удочку, и красивый, высокий, разноцветный поплавок встал точно среди крупных и плотных листьев и тотчас же затанцевал и ушел под воду.
Клевало бесперебойно, они таскали мелких и средних окуней, сорожек и ершиков, но через каждые несколько забросов снасть цеплялась за кувшинку и обрывалась; их ели комары и гнус, дождь очень скоро смывал с раздраженной кожи лица и рук следы репеллента. Большой с малым потеряли счет и времени, и рыбам, они не могли понять, стало ли темнее вокруг оттого, что сгустились облака, или же день клонился к вечеру; не взяв с собой еды, оба ощущали в желудке легкость и пустоту, но никакая сила не могла утянуть их с этого озерца, с топкого берега, где они стояли на склизком мосточке и вытягивали окуней. Иногда над головой с шумом рассекали воздух большие, крикливые птицы; дождь пошел сильнее, и тихое озеро замутилось, потемнело, закипело, зашумело, покрылось пузырями и пеленой дождя.
Уже кончились все крючки и грузила, но хотелось еще поймать напоследок какую-нибудь рыбину побольше. Отцепив блесну, Илья привязал к леске тройник, подвесил большой поплавок, насадил живца и аккуратно закинул снасть вперед, на открытое пространство. Поплавок заплясал по воде, живец потянул его за собой к берегу, остановился, а потом возле него появился бурунчик и снасть исчезла с поверхности.
Натянулась леска, и у Поддубного ёкнуло: взяла!
Потянуло моментально подсечь, и это желание нашептывала Поддубному его нетерпеливая натура, но умом он понимал, что тянуть сразу же нельзя. Надо выждать, пока щука заглотит живца поглубже и уже не сможет выплюнуть тройник, заставил себя закурить сигарету и успокоиться и, только когда докурил до середины, догадался, какую совершил ошибку: рыбина ушла в траву и кувшинки, и, сколько он ни тянул и ни дергал гибкий, чуткий спиннинг, снасть цеплялась за прочные, как веревки, стебли водных растений.
Сережа не понимал, что происходит, думал, что это так дергает и сгибает спиннинг в дугу неподъемная рыбина, а Поддубному хотелось от досады завыть. Щука была совсем рядом, она ходила на леске, волновала траву и душу, оторвала несколько листьев, он не видел ее, но мог ощущать и догадывался, что это была не слишком крупная, но и не маленькая щука, а как раз такая, которую всего лучше жарить. От этих сбивчивых мыслей, от рыбацкого бессилия и внутренней злобы рыболов задрожал, отшвырнул сигарету и принялся стаскивать с себя одежду.
Тело Ильи тотчас же облепил гнус, и он бросился в предосеннюю воду. Ноги ушли в ил и ударились о коряги, и Поддубный неловко по-собачьи поплыл по мелководью, пока не добрался до того места, где виднелся среди кувшинок большой красный поплавок. Он жадно и осторожно потянул снасть; ослабевшая леска легко подалась, повисла на тростнике – а в воде плавал измятый, покусанный окунек.
Сережа заревел, и Поддубный пожалел, что не может ему последовать. Не попадая зубом на зуб и ногами в брючины, весь измазанный тиной и водорослями, он с трудом оделся на скользких мостках, опустошенный, едва не свалившись в воду, и снова закурил. Отсыревшая сигарета сломалась, ему сделалось нехорошо, а дождь принялся идти сильнее, и с удочками и металлическим садком, доверху набитым мелкой рыбой, двое побрели по лесной дороге обратно к лагерю. Лес теперь не мог защитить их от дождя, с веток падали на голову тяжелые капли и по волосам стекали за шиворот. Мокрым было у них все: и рубашка, и белье, и ноги.
Стало уже совсем темно, но глаза различали светлые пятна луж, по которым барабанил дождь, небо не слилось окончательно с лесом, однако теперь, идя по ночной дороге и приглядываясь к ней уже другими, менее восторженными глазами, Поддубный сообразил, что она была построена заключенными и здесь не то проходила, не то должна была проходить узкоколейка, по которой вывозили лес, и от этого мысли его сделались еще более сумрачными. Сзади послышался шум машины, но отходить и прятаться в лесу не было сил. Они просто посторонились и увидели «скорую помощь». Возможно, в ней ехали на рыбалку, заправившись бензином, который привез «Печак», жители поселка, а может быть, заболел кто-то из пьяных мужиков в Реболде и нужно было срочно его вывозить.
У Поддубного мелькнуло желание машину остановить – но кто станет его слушать и ехать неизвестно за кем на берег залива? Если «скорая» идет в Реболду, подумал он торопливо, мы можем успеть перехватить ее на обратном пути. Наконец они дошли до развилки, свернули с дороги – и попали в кромешную тьму. На мгновение обоим сделалось страшно, что они заблудятся и потеряются, не найдут лесную тропку и свой мыс. Сережа шел за взрослым прихрамывающим человеком след в след ни жив ни мертв. Ему казалось, что это он во всем виноват, а Поддубный пожалел, что потащил его на рыбалку и вообще согласился, чтобы с ними ехал ребенок.
Двое рыболовов почувствовали странное отчуждение и взаимную обиду, но когда мимо дота спустились к обрыву и по литорали по колено в воде двинулись к стоянке, то уже издали увидели сильное пламя костра, освещавшее золотистые стволы сосен, натянутый над рюкзаками синий тент, косые линии дождя, черные, лоснящиеся котелки на крюках и деловитого кухонного мужичка в дождевике и с поварешкой в руке.
– Кум, ты прости… я часы не взял… – промямлил Поддубный, виновато и вместе с тем удивленно глядя на Макарова. – Ты как тут, кум?
– Я-то хорошо, – усмехнулся тот, – не знал только, где вас искать. Сережка не мешал тебе?
Утро было теплым и душным, над заливом стелился густой туман, укрывая противоположный берег и лесистый островок, скрывая всю прибрежную линию, так что невозможно было понять, где стоит – на берегу моря, реки, озера или в лесу – их лагерь. Все застыло и не двигалось, туман повис на ветках деревьев, прилип к камням и смешивался с водой, и слышно было, как где-то не очень далеко, в заливе, шла мотодора. Не хотелось вставать и вылезать из сумрачной, сыроватой палатки, но уже одевшийся и умывшийся Сережа запросил есть.
С трудом приходя в себя после вчерашнего восторга, взрослые вяло позавтракали одним чаем, а потом стали не спеша собираться в однодневный поход на третий по величине остров архипелага, на котором в монастырские времена разводили коров, ибо, как пояснил мальчику дядя Илья, держать живородящую скотину на большом острове по уставу обители не дозволялось, а молоко требовалось, чтобы кормить паломников и трудников.
После дождя и неудачной сушки одежды враз сделавшийся предусмотрительным Поддубный очень долго и обстоятельно собирал рюкзак, наливал в пластиковые бутылки кипяченую воду для питья, тщательно укладывал еду, еще предложил захватить сапоги, потому что дорога в одном месте была сыровата, и наконец, поколебавшись, положил свитера и плащи на случай ухудшения погоды, ибо Север есть Север и утром никогда нельзя сказать, что тебя ждет днем.
Сережа меж тем уже давно уложил рюкзачок с плащом и питьем, был возбужден и ожидал от их сегодняшнего марш-броска чего-то необыкновенного. Он не верил своему счастью, что его повсюду берут и он на равных ходит со взрослыми, торопился предупреждать каждое движение обоих мужчин, мыл вместе с папой посуду, пилил и складывал в маленькую поленницу на вечер дрова, сходил к ручью за водой и не мог больше пяти минут усидеть на одном месте.
Наконец, тяжело ступая, двое взрослых двинулись вслед за подпрыгивающим ребенком в путь и, меняясь каждые полчаса, прикладываясь к бутылке с пресной водой, по очереди потащили рюкзак с одеждой, обувью и провиантом навстречу пробивавшемуся сквозь редевший туман похожему на желток сваренного в мешочек яйца, сырому солнцу. Макаров язвительно поражался умению друга создавать трудности из ничего и превращать приятную прогулку в суровое испытание. Поддубный не обращал внимания на его насмешки и шел по дороге все увереннее и быстрее. Так же уверенно и невозмутимо, немного не доходя до поселка, в том месте, где дорога раздваивалась и открывался вид на монастырь, на фоне которого нелепо и странно, как нечто чужеродное, привнесенное из другого времени, смотрелись маленькие, серые, игрушечные самолеты и приземистое здание аэропорта, он свернул налево, чтобы сократить путь, но вместо этого они проплутали с полчаса в огородах, среди чахлой картошки, и, окончательно проветрившись и взбодрившись, вернулись на старую тропу, перешли через летное поле и попали на запущенную и в то же время исхоженную, оживленную дорогу.
Путь этот был необыкновенно хорош, так же окружал тропу смешанный лес, глядели с обеих сторон небольшие озера, встречались заросшие травой земляные насыпи, а справа тянулась линия электропередачи, уходящая в одном месте в чащобу и там теряющаяся возле неведомого секретного объекта.
Так они миновали еще несколько аккуратных полосатых верстовых столбов, Сереже уже надоел однообразный лес и хотелось выйти скорее к морю, но моря все не было и не было. Дорога делалась то более топкой, то сухой, он совсем устал и был готов упасть на мох, как вдруг дядя Илья с его необыкновенно чутким носом услышал запах соленой воды и свежего, влажного ветра, окончательно разогнавшего утреннюю хмарь. Вскоре они услышали шум прибоя, стало намного прохладнее и за прибрежными искривленными лесотундровыми березками путникам бросилась в глаза глубокая и резкая морская синь.
Дорога на берегу не обрывалась, а переходила в довольно широкую, извивающуюся лентой каменную насыпь, тянущуюся через неширокий пролив к соседнему плоскому острову. Посреди искусственной дамбы имелись три арки, через которые стремительно, как в горной реке, протекала морская вода, и казалось, что это она, а не безвестные строители изогнули дамбу прихотливым образом. В воде виднелись поплавки от сетей, а чуть в стороне от дамбы стояла на якоре мотодора.
Дядя Илья показывал рукой в сторону Долгой губы, на противоположном берегу которой находился их лагерь и которая управляла течениями пролива, что-то увлеченно объяснял, но никакого впечатления на мальчика это сооружение не произвело, и он совсем не понимал, зачем надо было так долго идти – лучше бы порыбачили на вчерашнем озерце, но взрослые, наоборот, необыкновенно оживились и принялись обсуждать, как можно было построить дамбу без всякой техники и насколько было оправданно это строительство, рассматривали железные скобы, которыми она была скреплена, а потом спустились к воде и сфотографировались у последнего верстового столба.
– Ну и что тут интересного? – спросил Сережа обиженно, когда мужчины поднялись.
– А ты знаешь, что на Муксалме живут северные олени? – сказал дядя Илья. – Я однажды там вспугнул целое стадо.
– А мы их увидим? – оживился мальчик.
– Может, и увидим.
– И погладим?
– Это вряд ли. Они никого к себе не подпускают.
«Ну меня-то подпустят», – подумал Сережа, однако вслух не сказал и побежал вперед.
Каменная дорога привела их на низкий травянистый берег, где почти не было лесов, но много лугов и пастбищ, а в километре, за березовой рощицей, стояли на небольшом расстоянии друг от друга два громадных дома, по всей видимости предназначенных для тех, кто пас на острове скот. Красивые снаружи, внутри эти дома мальчику не понравились. Все было загажено и разорено, и только паркетные полы сохраняли представление о былом богатстве постройки и ее заказчика. В одном из них уцелели большие комнаты с решетками на окнах и двери с глазками и вырезанными окошками, и Сережа догадался, что этот дом – тюрьма.
– Я знаю, здесь плохих людей держали, – объявил он громко.
– В этой тюрьме были очень хорошие люди, – сказал папа чужим, неприятным голосом.
Молчаливые и хмурые, они бродили по дому, заглядывали в камеры, давно уже пустовавшие, но в одной, по-видимому, до сих пор останавливались летом косцы, там стояли железные кровати и стол, пол был уставлен пустыми бутылками и консервными банками и окно закрыто рваным полиэтиленом, потом вышли на улицу, где было так хорошо после этих страшных комнат: светило чистое северное солнце, застыли над головой облака, тянуло теплым ветром, сквозь зелень листвы и нежность хвои проглядывало пронзительно-синее, текущее море и отчетливо видна была граница между водой и небом.
– А когда мы пойдем искать оленей? – спросил Сережа нетерпеливо.
– В другой раз, – рассеянно отозвался папа.
– Но вы же обещали! – Голос у мальчика задрожал, глазам стало горячо, и он сделался похожим на свою вспыльчивую и прекрасную во гневе маму, так что Макаров невольно подивился этому сходству.
– Знаешь, малыш, оленей очень трудно найти, – стал виновато объяснять Илья. – Они же дикие. Их можно увидеть, если только очень повезет.
– Зачем же вы тогда… – Сережа недоговорил, обиженно опустил голову и отошел в сторону.
Недовольные друг другом, трое скупо перекусили на берегу моря, посидели на старом, полуразрушенном причале над водой и двинулись обратно через дамбу и лес.
Маленький путник еле шел и то и дело принимался хныкать, тогда папа его ругал, грозился отправить домой к маме, и хотя Сережа хорошо понимал всю бессмысленность этой угрозы, на время замолкал. На летном поле возле поселка не осталось ни одного самолетика, последние километры давались тяжело; иногда между идущими завязывался и снова затухал вялый разговор, медленно смеркалось, в спину светила луна, и три фигуры отбрасывали длинные прямые тени, становилось холодно, и было беспокойно на душе оттого, что они оставили на весь день лагерь без призора и туда мог зайти чужой человек.
Но на стоянке было тихо. Аккуратная фиолетовая шатровая палатка стояла одна среди сосен, рядом чернело кострище, укрытые пленкой, лежали нетронутые продукты, чисто вымытые тарелки, котелки, бутылки с пресной водой и кучка сухих дров на растопку. Все было покойным и мирным, разумно организованным и продуманным; они скоро развели костер, разогрели вчерашнюю, за сутки настоявшуюся и необыкновенно вкусную уху, подобрели, размякли, а потом подкинули еще дров и, лежа возле огня, пили чай, таращились на луну, которая заливала весь берег, подсвечивала и двигала воду.
Сережа давно уснул, в этот вечер он не капризничал и не просился подольше побыть у костра, не говорил, что ему страшно оставаться одному в палатке, а двое сидели очень долго, вспоминали прошлые походы, друзей, которые все реже и реже с ними ходили и занимались более важными и серьезными делами; не злоупотребляя, как накануне, пили за их здоровье и успехи, подкидывали в костер новые дрова, обнаружили звонкое эхо на том берегу залива и, словно дети, его дразнили. Павел жалел, что многое упустил и не увидел в молодости и вместо того, чтобы начать ездить с не знающим возраста, ничем не обремененным, по-юношески бескомпромиссным и ревностным Поддубным, уже тогда был примерным и чересчур послушным студентом, общественником и даже старостой группы, ходил на все лекции, готовился к семинарам, конспектировал ученые книги, рано женился, поступил в аспирантуру и защитил диссертацию, что ему вовсе не пригодилось в дальнейшем, а пришлось заниматься совершенно другими, неинтересными, хотя и достаточно прибыльными вещами, и вообще в его жизни странно поменялись юность и зрелость.
Мысль эта показалась ему чрезвычайно глубокой, и, уже лежа в палатке, он хотел подольше на ней задержаться и думал о том, сколько совершил бессмысленных, зряшных поступков и как было бы хорошо, если бы у его сына жизнь сложилась иначе, хотя жаловаться Макарову, в сущности, было не на что, все у него было, и жил он гораздо лучше, интереснее и устроеннее, чем его родители, покупал интересные книги, много ездил по свету и ни в чем себе не отказывал – а вот что ждет Сережу, что будет завтра с его домом, с этим островом, со всей похожей на выстроенную среди моря дамбу, изогнутой страной, не знает никто.
Он очень любил такие возвышенные размышления и сравнения, в молодости мог говорить о высоком часами, но теперь стеснялся и только с Ильей позволял себе иногда пофилософствовать и порассуждать. Вот и сейчас ему хотелось высказать и обсудить некоторые казавшиеся ему очень важными мысли, но Поддубный спал, из его хронически больной носоглотки со свистом вылетал воздух, Павел лежал на спине, закинув руки за голову, а потом глаза его сами собой закрылись, все смешалось в голове и он быстро уснул.
Ему не снилось никаких снов – сны снились его сыну, и оказалось Сережино сновидение ярким, долгим и сильным. В нем было много света, воздуха и больших крикливых птиц, которые кружились над землей и водой, а по земле бегали серые пушистые звери, клонились и качались деревья, и со знакомыми мальчиком и девочкой Сережа шел сквозь высокий и редкий лес.
В этом лесу больше не было никого из людей – ни папы, ни крестного, ни машин, только трое детей на пустынной дороге, и двигались они легко и стремительно, едва касаясь ногами земли, так что можно было подумать летят.
«Куда мы идем?» – спрашивал Сережа.
«В поход вокруг большого острова».
«А надолго?»
«На три дня».
«У-я! Здорово как!»
Вдали показались небольшие, некрасивые дома, лодки, рыбацкие сети, тони, сохнущие на ветру длинные зеленые и фиолетовые водоросли, и девочка шепотом сказала:
«Тсс, туда не пойдем».
«Там тоже была тюрьма?» – испугался Сережа.
«Нет, просто плохие дядьки живут».
Незаметно они прошли мимо поселка, мимо нетронутого леса с долгими соснами, которые шумели в вышине на фоне синего неба и облаков, так что шум их мешался с прибоем, и оказались на берегу моря. Все было здесь совершенно иным, чем в заливе. По морю плавали дельфины, тюлени и морские зайцы, Сережа видел в воде множество рыб, будто оказался возле громадного аквариума, а в проливе между их берегом и соседним лесистым и холмистым красивым островом шел белый нарядный катер, на котором стояли на палубе важные епископы в светлых ризах, простые монахи, приходские священники, женщины в белых платках, и все они пели.
Солнце освещало катер и отражалось в сверкающих одеждах и наперсных крестах.
«“Святитель Николай” на Анзер паломников везет», – пояснил мальчик со знанием дела.
«На А-анзер, – протянул Сережа. – А мы где?»
«На Печаке», – сказала девочка.
«Но ведь “Печак” – корабль, – удивился Сережа, – корабль со злым капитаном?»
«Печак – это мыс, а в его честь назвали корабль. И капитан совсем не злой. Я его знаю».
«Мы вовсе ни на каком не на Печаке, – возразил мальчик и поглядел на Сережу и сестру снисходительно. – Печак – на юге, а мы на севере».
«На юге – Толстик», – произнесла девочка неуверенно.
«Толстик! Ха-ха-ха!» – Сережа даже засмеялся от удовольствия.
«Нет, Печак!»
«Не спорь со мной, я старше».
«Воображала!»
«Это ты воображала! Подумаешь, он живет в Ленинграде».
«И вы тоже спорите».
«Олени! – воскликнула девочка и подпрыгнула. – Смотрите, настоящие олени!»
«Где?»
Олени шли вдоль морского берега, поднимая головы с ветвистыми рогами и чутко прислушиваясь; брат с сестрой, забыв о ссоре, побежали навстречу, и Сережа бросился вслед за ними, но вдруг ему захотелось в туалет по-маленькому.
«Я сейча-ас! Подожди-ите меня!» – крикнул он и проснулся.
Некоторое время мальчик лежал неподвижно и не мог взять в толк, что случилось, куда пропали ребята, олени, море, Анзер и катер с паломниками и почему он лежит поперек спального мешка, упираясь ногами папе в живот, а потом, дрожа от нетерпения, выскользнул из теплого спальника, откинул полог, босиком выскочил на улицу и вспугнул темного зверька, рывшегося у котелков и грязных тарелок в остатках вчерашней еды.
Зверек помчался через лес, солнечные лучи взметнулись над землей, и на кустах и на траве, на палатке, полиэтиленовой пленке, лавочке и повсюду заблестела роса. Ночной костер еще не успел прогореть и дымился, низкое и близкое солнце подсвечивало утренний лес, отбрасывая бесконечно длинные тени, свет брызгался, смеялся, как живой, и Сереже захотелось поскорее вернуться к ребятам и пойти с ними дальше в поход, пока они не ушли. Он отодвинул обратно к краю чуть было распрямившегося родителя, с головой забрался в спальный мешок, свернулся калачиком и зажмурился, но сон не возвращался. Кто-то вспугнул сновидение так же, как Сережа вспугнул черного зверька, и мальчику стало грустно оттого, что все кончилось. В палатке становилось светлее, солнце еще выше поднялось над водой, перед глазами мелькали и вспыхивали полосы света, качались над тентом листья и снова шелестели словно капли дождя, и как-то странно было на душе, непонятно, хорошо или нет.
Он балансировал в зыбком полузабытьи, меж сном и явью, слышал, как встали папа и крестный и за палаткой раздался негромкий стук топора и приглушенный разговор, как разливают по кружкам чай и укладывают походный рюкзачок, но не мог разлепить веки, и, когда в десятом часу мальчика стали будить и звать поскорее завтракать, Сережа заупрямился, не захотел вылезать из палатки, по-младенчески хныкал и куксился.
Как ни стыдили его двое мужчин, как ни уговаривали, что сегодня не надо будет так много шагать, но зато они возьмут лодку и будут плыть по озерам и удить рыбу и увидят самую главную достопримечательность острова, без которой поездка на архипелаг теряет смысл, как ни грозился папа отправить сына немедленно домой и больше никуда и никогда с собой не брать, упрямый ребенок идти на Секирную гору не соглашался. И крестному стало жалко его.
– Не в последний раз приехали. Еще сходит, – изрек Поддубный великодушно и остался с мальчиком в лагере, а Макаров пошел один налегке по разбитой дороге навстречу вчерашним следам.
Они скоро потеряли друг друга из виду, но если бы кто-нибудь глядел на них с высоты, то увидел бы, как расходятся по разным дорогам и удаляются друг от друга одинокий путник и мужчина с ребенком. Солнце светило ярко, некоторое время мальчик и крестный собирали бруснику, сочившуюся по обрывам над берегами, а потом в защищенной от ветра бухте Поддубный полез в море. Он нырял и думал, какое странное выдалось лето, если в конце августа можно ходить раздетым по берегу, купаться, ощущать на губах вкус соленой воды и плавать с открытыми глазами среди медуз, однако отплывать от берега далеко побоялся.
Теплый залив оказался невероятно обманчивым – то, что представлялось взгляду сверху мелководьем, оборачивалось глубиной, которая странно затягивала тело.
Сережа сидел на берегу и ни о чем не просил, ночной сон выветрился из его памяти, но ему было отчего-то грустно, и он смотрел на крестного так жалобно, что сердце взрослого человека не выдержало.
– Ладно, Серега, полезай. Но если заболеешь или проговоришься куме, на глаза мне не попадайся.
– Ага! – отозвался мальчик, не веря своему счастью, и стал раскидывать по берегу одежду.
Поддубный хотел было заставить его аккуратно все сложить, но потом вспомнил неряху Макарова и махнул рукой: эту породу не могла переделать даже его аккуратная и хлопотливая кума.
Худенький, с выпирающими лопатками отрок плескался в море, забегал в воду и быстро из нее выбегал, визжал, брызгался, от восторга у него горели глаза, дрожали от холода сизые губы, сбилась в сторону цепочка с серебряным крестиком. Преувеличенно строгим голосом лелька велел своему крестнику выйти из моря, растер его докрасна полотенцем, не слушая криков и приговаривая: «Терпи давай, терпи, мужик!» – и двое ушли в лес собирать грибы.
Они шли вдоль берега залива в противоположную от дороги сторону, перескакивали с камня на камень и вдруг наткнулись на странную пирамиду. Первым ее заметил Сережа. На большом плоском камне лежали один на другом несколько камней поменьше; это загадочное сооружение, должно быть хорошо видное с воды, служило кому-то опознавательным знаком. Но кому? Кто и зачем мог здесь останавливаться? Когда была воздвигнута эта пирамидка? И не сюда ли шла накануне в утреннем тумане таинственная лодка-мотодора?
Вокруг не было и намека на стоянку, но в глубь леса вела едва приметная тропинка. У мальчика перехватило дыхание от предчувствия чего-то необыкновенного, как если бы он наяву вдруг возвратился к своему сновидению. Они пошли по этой робкой тропке – грибы попадались нечасто, лес здесь был очень редким, хорошо просматривался – и через несколько сотен метров наткнулись на идеально круглое, как блюдечко, молодое лесное озерцо со светлой, прозрачной водой, точно капнула с неба и растеклась по земле большая капля. Вода в озере была спокойной и зовущей, и оба тотчас же пожалели о том, что не захватили удочек и не могут проверить, водится ли в этом таинственном водоеме рыба, хотя рыба, конечно, водилась, и наверняка особенно большая и непуганая – а иначе зачем было ставить на берегу залива знак?
Дядя Илья наклонился к озеру, встал на четвереньки и, как большое животное, стал шумно пить, и Сережа ему последовал. Вода оказалась вкусной, будто ее подсластили, не хотелось никуда с этого озера уходить, но крестный пообещал, что завтра они придут сюда с утра все вместе и, если погода будет хорошей, станут целый день рыбачить и купаться. Вдоль берега не вилась обычная тропа, но зато в изобилии росла сладкая и крупная черника, так что скоро у обоих оказались измазанными черным язык и губы. Теперь грибы стали попадаться чаще, они срезали острым перочинным ножом и клали в ведерко огромные, никогда прежде, на материке, не виданные опята, крепкие, быстро становившиеся на срезе фиолетовыми подосиновики, кляклые моховики и даже нашли в сосняке несколько маленьких белых. Потом заплутали, попали в глубокий овраг, спустились по нему и пошли еще дальше на север. Местность была совершенно пустынной. Илья шел и думал, вдруг ему попадется среди деревьев и камней тайное свидетельство давнего прошлого, вроде землянки монаха-отшельника, укромной часовенки или памятника лагерных лет, он не знал, каким именно может быть этот след: заброшенная могила, укрывище беглеца, безымянный крест, истлевшая одежда или чьи-то открытые останки, но ничего подобного в лесу не встречалось, зато даже здесь, вдали от поселка, валялись консервные банки, бутылки, пакеты и пустые пачки из-под сигарет.
Лес становился то более темным, то светлел, сырой сумрак раскидистых елей сменялся сухостью и легкостью березняка и торжественностью небольших сосновых рощ, серый и зеленый пушистый мох чередовался с ягодниками, папоротниками и высокой травой – но весь лес этот был незрелым, а настоящий, строевой, корабельный, был, по-видимому, вырублен и вывезен по красивой лагерной узкоколейке.
В одном месте они увидели перед собой высокий холм. С трудом продираясь между деревьями, цепляясь за гибкие стволы берез и стараясь не опрокинуть полное пластмассовое ведерко, грибники полезли по самой круче, то и дело оглядываясь и ощущая себя вровень с верхушками деревьев, а потом и поднимаясь над ними. На вершине холма стояло полуразрушенное громоздкое деревянное сооружение, должно быть старый геодезический знак. Забраться на него было невозможно, а с самого холма моря не было видно, и неясно было, куда идти, потому что вид сверху заслоняли деревья.
Меж тем, пока они ходили по лесу, погода начала быстро меняться: небо затянулось облаками, солнце исчезло, задул ветер и стало прохладно. Поддубный спустился вниз, раздумывая, куда им теперь повернуть, и жалея, что не взял компас.
Заблудиться на острове всерьез вряд ли было возможно, однако он чувствовал, что мальчик устал и проголодался, а сколько еще они станут бродить и куда выйдут, не придется ли им в лесу ночевать, одному Богу ведомо.
Они все шли и шли, попали на вырубку, почва под ногами делалась все более жидкой, Поддубный вспоминал приметы, по которым можно было б определить без компаса и солнца стороны света, но ничего определенного не попадалось, зато вскоре за деревьями показалось открытое пространство. Взрослый человек обрадовался, но когда они приблизились, то увидели болото.
– Ну говори, куда пойдем? – спросил он шутливо и спохватился: только бы мальчик ни о чем не догадался и не испугался.
Однако Сережа не удивился его вопросу и показал тонкой рукой в сторону березняка.
– Туда? – не поверил Илья.
Они продрались сквозь деревья, срезали по пути еще несколько подосиновиков и неожиданно оказались на реболдской дороге, возле которой все это время кружили, и очень скоро она привела на юг, мимо пересечения с узкоколейкой к стоянке на берегу безымянного залива.
Приветливая, круглотелая и круглолицая, как вчерашняя луна над заливом, женщина взяла у Павла паспорт, а ее сын, услужливый и очень взрослый мальчик лет тринадцати, вынес путнику из сарая новые весла.
– Я вам лодку получше даю, – сказала женщина низким, грудным голосом. – Только с веслами поосторожнее. Смотрите, чтоб лопасти между камнями не застряли. Если сломаете, очень дорого придется платить. Ну, счастливого пути!
Озера были соединены между собой каналами, сложенными из камней таким же образом, что и дамба, и некоторые из этих каналов были настолько узкими, что весла упирались в скользкие каменные стены и надо было отталкиваться тупыми концами. Иногда в каналах попадались встречные лодки с отдыхающими, и было очень непросто разойтись в узких, затененных нависшими деревьями, таинственных проходах. Лодки перемещались по озерам, люди ловили рыбу, кто-то шел под парусом на открытых плесах, кто-то заблудился и уже несколько часов кружил по обманному глухому кругу в Щучьем озере, называемому «заливом дураков». Однако, предупрежденный другом об опасности потерять дорогу, Павел был очень внимателен, и, покуда Сережа с Поддубным чистили и жарили грибы для ужина, искали в лесу сушину, а потом пилили, кололи и складывали дрова и все это время Илья расспрашивал крестника про его сновидения, он плыл от одного указателя на берегу к другому, отыскивая путь к последнему, самому большому из соединенных каналами озер.
В одном только месте путешественник ошибся, взял левее нужного направления, и оказался отрезанным от канала деревянными столбиками, погруженными в воду, над которыми лодка никак не хотела проходить, и пришлось возвращаться назад. Наконец миновав последний проточный канал и высокие валунные подпорные стенки на склонах окружающих холмов, Павел вошел в самое дальнее озеро, которое в прежние времена называлось Белым, а после было переименовано в Красное.
Странное это было озеро. Все прочие из увиденных в тот день озер Макарову необыкновенно понравились, он бы с радостью постоял на любом из них с палаткой, посидел у берега или заякорившись на глубине с удочкой – но это выглядело изувеченным. Оно было сильно подтоплено плотиной в северной части, и оттого вдоль изрезанных берегов и в заливах его стояли сотни, тысячи голых деревьев, обрубленных стволов, пней. Макаров вспоминал дамбу и пастбища на безлесой Муксалме, деревянный док возле монастыря и каналы и думал о том, что нигде на земле, или уж по крайней мере в его родной стране, нельзя встретить место, где так разумно была бы устроена человеческая жизнь, вписана в существование природы, ее ландшафт и климат, как в этом древнем монастырском краю, но загубленное озеро странным образом всему противоречило и производило впечатление тягостное.
Еще с середины плеса он увидел гору и высокую белеющую одноглавую церковку на ее вершине – цель своего путешествия. До скита надо было пройти от западного берега Красного озера чуть более трех километров. Он вытащил лодку на песок, спрятал рядом в кустах ненужный рюкзачок и с одним фотоаппаратом отправился по неприметной тропке мимо большого деревянного дома и валунного амбара.
Местность здесь была совершенно иной, нежели в той части острова, где они устроили лагерь. Вокруг тянулись поля и луга, стояли стога сена, летали мелкие птицы, стрекотали кузнечики, кружились бабочки, пахло полевыми цветами, и трое местных жителей – пожилой мужчина и две женщины средних лет, оставив мотоцикл с коляской, собирали лесную малину. Все напоминало обычную картину средней полосы, и поверить в то, что всего в нескольких километрах отсюда находится студеное море с лесотундрой по берегам, а через сотню с лишним километров на севере проходит полярный круг, было невозможно. Слишком южным и лиственным был лес вокруг.
Стало пасмурно, и казалось, вот-вот пойдет теплый летний дождь. Гора затерялась за деревьями, он шел наугад, не уверенный, что не сбился с пути, пересек небольшую протоку, соединявшую два озера, и вскоре вышел с заброшенной лесной тропы на наезженную дорогу и увидел совсем близко гору и восьмигранную столпообразную церковь на ней. Она находилась прямо по направлению его пути, как если бы дорога шла через вершину холма, однако, не доходя до подножия совсем немного, сворачивала направо, а влево и круто вверх меж елей и сосен вела вдоль сложенной из булыжников невысокой стены мощенная камнем дорожка.
По ней Павел стал подниматься к вершине, но на полпути его задержало объявление, гласившее, что вход на гору платный, одна цена для российских туристов, другая для иностранных, а кроме того, отдельная плата взимается за фотосъемку. Здесь же, на склоне, над огородом с теплицами и садом, находился довольно большой деревянный двухэтажный дом с балконом и валунной баней, возле которого сидели на лавке смотрители горы – бородатый, благообразный старик и женщина пожилого возраста, должно быть призванные нелепые слова овеществлять.
Павел поздоровался с ними, мужчина и женщина поздоровались в ответ, но больше ничего не сказали, и путешественник беспрепятственно поднялся к тому месту на вершине позади храма, откуда со смотровой площадки открывался вид на северную часть острова.
Ничего более красивого в своей жизни Макаров не видел. Внизу лежали небольшое, продолговатое, изогнутое озерцо и луг, а за ними тянулся до самого каменистого берега лес и дальше сливающееся с горизонтом море. Смотрящий находился в той самой точке, которую называют высотой птичьего полета и с которой человеческому глазу видна земля в идеальном сочетании степени подробностей ее и охвата кругозора. Он видел лес и каждое дерево в нем, ему открывалось белеющее селение на берегу моря и долгая-долгая линия воды, уходящая далеко на север, туда, где начиналась Арктика, дрейфовали полярные льды и задували ранние осенние шторма, но, не доходя до архипелага, затихали и бережно обтекали теплую и мягкую землю островов.
Дул устойчивый нехолодный ветер, небо наполовину очистилось, и прямо над головой Макарова проходила чуть размытая граница большой, темной, но так и не пролившейся дождем тучи и нежного голубого пространства. Туча медленно смещалась на юг, за его спину, никого не было вокруг, и можно было подумать, что остров снова пуст и принадлежит одним лишь ангелам, как полтысячи лет назад, до того, как пришли сюда первые люди.
Наверное, так можно было бы простоять и час, и два, разглядывая каждую деталь, как на утонченной, любовно выписанной картине, но в этот момент взгляд человека натолкнулся на уходившую в крутизну спуска узкую деревянную лестницу с перилами с обеих сторон. Павел живо вспомнил все, что было написано и про этот скит, и про эту лестницу, вспомнил другую знаменитую картину, где были изображены гора с церковкой, лесное озеро и двое монахов, удящих рыбу, вспомнил пролетарского писателя, который стоял на этом месте и этим видом любовался всего несколько лет спустя, когда скит был превращен в карцер и на краю живописного обрыва расстреливали, а по крутой лестнице сбрасывали несчастных, связывая им руки и ноги.
Он достал фотоаппарат и сделал несколько снимков. Снова била его дрожь, и казалось, он делает что-то неприличное, неправильное, но он щелкал и щелкал панораму острова, уходящую вниз и теряющуюся в зелени леса огромную лестницу и церковь, в барабан которой был давным-давно вделан и светил маяк, указывая путь кораблям и во времена монастыря, и во времена лагеря, и военной школы, и туристической базы, и снова монастыря. Церковь была закрыта, а возле лестницы была прибита еще одна табличка: «Лестница в аварийном состоянии. Спускаться запрещено», и некоторые ступеньки сгнили, а часть была сломана.
Старик смотритель со слезящимися голубыми глазами неслышно подошел к Макарову.
– Вниз-то пойдешь?
От неожиданности Павел вздрогнул:
– Нельзя же.
– Раньше говорили: кто по этой лестнице сойдет – с того грехи снимаются.
– А людей тоже за этим скидывали? – вырвалось у Макарова.
– Легенда это зэковская.
Смотритель жевал беззубым ртом и больше ничего не говорил, ни на что не жаловался и не просил, но когда, держа в руках камеру, Макаров спускался обратно тем же путем, что и пришел, женщина вопросительно посмотрела на него:
– А денег не заплатите?
Не потребовала, не настаивала, и оттого ему сделалось неприятно вдвойне.
– У меня нету, – сказал он упавшим голосом. – Все в лодке осталось. Может быть, сигарет возьмете? Пачка чуть начатая.
– Возьму, – охотно согласилась она.
Он отдал ей пачку, торопливо пошел вниз и всю дорогу не мог отделаться от тягостного чувства своей причастности к чему-то неправильному. Это чувство давно уже угнетало его, возможно и стало причиной болезни, но теперь, хотя хворь прошла, оно сделалось особенно сильным, и весь обратный путь к Красному озеру Павел снова вел с Поддубным мысленный разговор, продолжавший их вчерашний спор на обратном пути с Муксалмы.
«Зачем мы сюда приехали и что тут делаем? Неужели мало на свете других прекрасных мест для созерцания и удовольствия? Ведь может быть, капитан «Печака» тоже чувствовал нечто подобное и поэтому таким зверем смотрел на праздных людей?»
В горячке этих мыслей у развилки за брошенным хутором Павел пошел не той дорогой и вышел к озеру с другой стороны, но не сразу это понял и, не увидев на берегу лодки, испугался, что ее могли угнать. Тотчас же вспомнилась ему добрая хозяйка лодочной станции и в ужасе подумалось, как станет он выбираться к стоянке, сколько будет должен отдать ей денег и не придется ли бросить здесь все вместе с паспортом и бежать.
«Это должно было кончиться чем-то дурным», – твердил Макаров, лихорадочно обыскивая глазами угрюмое озеро. Затопленные деревья и стволы тянулись на сотни метров, тихо плескалась вода, приближались сумерки, он с трудом различал очертания берегов, снова поднялся на дорогу и пошел к развилке. Мужчина и женщины, не поднимая головы, по-прежнему собирали малину и не обращали на прохожего внимания. Он хотел было спросить их про лодку, но не знал, как вернее задать вопрос, словно был иностранцем, и молча прошел мимо, взяв на сей раз левее. Да, верно, он шел именно здесь, по этой лесной дороге, но на сердце все равно оставалось тревожно.
Не лодку угнать, так могли подшутить и спрятать или унести весла, украсть легкомысленно спрятанный в кустах рюкзачок – мало ли что на уме у живущих на больном острове людей, которым все прошлое – легенда и они не хотят ее знать, но живут так, словно ничего здесь не было.
Однако никто ничего не тронул и лодка лежала на песке, там, где он ее бросил. Озера были совершенно пустыми теперь, все отдыхающие давно вернулись на лодочную станцию, он остался один на тихой предзакатной воде, быстро проходил через каналы и спокойно греб на плесах, и это одиночество, вечернее безмолвие, уже подернутые желтизной смешанные леса с чередовавшимися округлыми березами и черными остроконечными елями, яркая августовская заря с пылающими розовыми облаками, отражавшимися на застывшей, блестящей, сонной поверхности, по которой легко шла лодка, оставляя долгий, темный след, достигавший выложенного камнями невысокого берега, проносившиеся мимо утки, редкие всплески рыб и голова какого-то водяного зверька, неспешно плывущего поперек озера – эта обыденная, прекрасная и равнодушная жизнь только усиливала его смятение.
Недалеко от причала сидел и, согнувшись, как нестеровский монашек, удил самодельной удочкой рыбу мальчик с лодочной станции, он проводил взглядом последнюю лодку, залаяла собака, и женщина на причале поглядела на приплывшего с озера человека удивленно, не решаясь спросить, как он отдохнул и не заблудился ль по дороге к скиту, предложила купить пива и сушеных окуньков по рублю за штучку. Павел рассеянно сунул ей деньги, взял бутылку и пакет таких же мелких рыбок, каких ловили они с Сережей, и пошел вперед.
Внезапно и очень резко похолодало, Макаров пошел быстрее, и вдруг ему снова почудилось, что кто-то за ним бежит. Павел скинул капюшон, потому что тот мешал боковому зрению и слуху. Состояние его было близко к панике. Определенно за ним кто-то шел. И как только идущий останавливался, этот человек, уже дважды попадавшийся им по пути к Долгой губе, останавливался тоже, затихал и с ненавистью глядел в спину и озирающееся лицо преследуемого.
«Боже, Боже!» – взмолился несчастный путник. Он замер, чтобы пропустить преследователя, но сзади было тихо. Никого не было в этот вечерний час на дороге. Все это был бред, отголосок ночных кошмаров, угрызений совести и одиночества, всего, что извлекали из его души северные острова.
Макаров заставил себя остановиться и выпить пива. Оно было теплым и противным, и после него сразу же захотелось курить. Павел принялся искать пачку – но сигарет нигде не было, и не сразу припомнилось, что он подарил их женщине с Секирной горы. В желудке заурчало от голода, он стал торопливо очищать окуньков и жевать невкусную, пересушенную и пересоленную, рыбу, но заглушить желание курить не могло ничто, и оттого состояние его сделалось еще более муторным. Чего бы не отдал он сейчас за обжигающий горло дым и мерцающую во тьме, успокаивающую сигарету, и как трудно было поверить, что всего несколько дней назад одна только мысль о табаке вызывала у него отвращение.
«Так когда же я был болен – тогда или сейчас? Отчего тебе покойно и хорошо здесь и почему мучаюсь я? Почему раздражает меня эта покойная красота?» – спрашивал у товарища идущий по дороге человек, озираясь по сторонам и уже желая, чтобы попался ему хоть кто-нибудь, у кого можно было бы разжиться табачком.
«Глупый ты, глупый, – отвечал Илья, – я же предупреждал: не попади в дурацкий круг», но, не слушая его, Павел думал: «Надо скорее отсюда уезжать, пока не случилось с нами чего-либо похуже», а отсутствовавший Поддубный больше не говорил ничего.
…В поселке, в ночном магазине, среди покупавших водку болтливых людей Павлу стало чуть легче, и на миг мелькнула мысль никуда не ходить, а переночевать в гостинице, взять бутылку, закуску и посидеть одному со своими думками, Сережка уже наверняка спит, а Илья как-нибудь догадается, что товарищ его не рискнул идти ночным лесом. Но он заставил себя отсечь эту мысль, спросил лишь пачку сигарет и, два часа спустя вернувшись в сплошной темноте в лагерь и уже ничего не боясь, коротко сказал обрадовавшемуся, облегченно вздохнувшему и одновременно с тем встревоженному его видом куму, что все ему необыкновенно понравилось, только он очень устал, соскучился по жене и хочет домой.
– Кум, мы так не договаривались, – начал было возражать Илья.
– То гд а мы уедем без тебя, – произнес Макаров твердо.
– На чем?
– Я узнавал, завтра в пять уходит «Алушта».
– Хорошо, поедем на «Алуште», – не стал спорить Поддубный и ушел в палатку, оставив Макарова одного возле затухающего ночного костра.
С утра погода испортилась, ветер пронизывал весь остров, раскачивал верхушки деревьев и гнал по небу сухие облака, по заливу гуляла рябая, пенистая волна, кричали на берегу и не шли в воду чайки, и на ветру и холоде они сворачивали палатку и упаковывали рюкзаки. Снова Поддубный был очень серьезен, придирчиво убирал лагерь, сжигал мусор и даже не стал обжигать консервные банки и закапывать в землю бутылки, а положил все в рюкзак.
Расстроился, обиделся и запротестовал против неожиданного решения взрослых только Сережа и стал проситься на вчерашнее лесное озерцо, но папа даже не захотел его слушать, а крестный пообещал, что они будут плыть на настоящем рейсовом морском пароходе, вместе с архангельской девочкой и питерским мальчиком и не несколько часов, а целые сутки, смотреть на закат солнца и восход луны, ночевать в каюте, делать остановки напротив больших поморских сел с красивыми названиями и ловить морскую рыбу, покуда судно стоит на рейде и ждет пассажиров, и ребенок успокоился.
Путники вышли из лагеря заранее, с тем чтобы еще заглянуть в музей, и шагали молча и неспешно, в одном месте сделали привал и перекусили, но, когда в час дня показался впереди поселок и они свернули налево, к причалу, почему-то называемому Тамариным, в шуме ветра внезапно послышалась музыка.
Она была довольно далеко, и, как в первую ночь в монастыре, нельзя было понять, на самом ли деле раздаются звуки «Прощания славянки» или просто носится с визгом над островом разгулявшийся ветер, пригибает траву и разгоняет мошку на неровном, сыром лугу. Макаров не обращал на его завывание внимания, а Илья вдруг побледнел, они ускорили шаг и, схватив Сережу за руки, почти бежали по дороге с большими, громыхающими рюкзаками, хотя бежать было уже совсем поздно.
Огромная морская «Алушта» уже покинула на четыре часа раньше времени из-за надвигающегося шторма остров и, переваливаясь на гребнях с боку на бок, выходила из бухты Благополучия, увозя на материк детей, отпускников, студентов, туристов, паломников и трудников. В самой бухте было спокойно, но дальше глаз замечал, как меняется цвет возмущенного моря и по нему ходят белоголовые соловцы. Подобно давшим название островам или, напротив, от них название получившим волнам, Макаров тоже пробовал было возмущаться, хотел куда-то бежать и едва ли не требовать, чтобы корабль вернули, но Илья отсоветовал: в поселке вряд ли кто-либо был введен в заблуждение преждевременным отплытием «Алушты», парохода ждали на берегу с раннего утра, и давно было получено штормовое предупреждение, а до двоих нарушивших правила нахождения на острове безвестных бродяг и мальчика никому дела не было.
В первый момент они не подумали о ребенке, но, когда Павел перевел недовольный взгляд на сына и увидел его большие глаза, дрожащие губы и перекосившееся лицо, взрослому стало и трогательно, и жалко. Сережино несчастье было так велико, что не умещалось в маленьком существе, мальчик ничего не говорил, не плакал, не кричал, а замер и разом потерял ко всему интерес, как бывало с ним только в тех редких случаях, когда он болел с высокой температурой. Напрасно предлагали ему купить в поселковом магазине мороженое, зря обещал папа сводить в Москве на аттракционы и даже в кафе с американскими бутербродами, которые Павел так же презирал и ненавидел, как мальчик втайне обожал, – ничто не могло сравниться со счастьем плыть на этом огромном, сказочном, уменьшавшемся на глазах корабле.
Возвращавшаяся с причала пухленькая, краснощекая бабушка остановилась и покачала головой:
– Ох, мотает родимую как! Людей-то сколько забрала.
– Вот видишь, может быть, нас туда бы еще и не взяли, – сказал папа утешительно.
– Как не взяли б? – удивилась бабка. – У нас всех берут. У меня вот зять с сыном и племянницей уплыли.
– В Петербург? – нахально спросил Илья, зорко приглядываясь к старухе.
– А вы откуда знаете? – обрадовалась, но тотчас же спохватилась и насторожилась та, а у Сережи еще сильнее и обиженнее задрожала обветренная нижняя губа.
– Все равно бы нам каюты не досталось, Серенький, – досадуя на непонятливую старуху, упорствовал Павел. – А на палубе плыть – что за радость? Мы на самолете полетим, это в сто раз лучше.
– Ты знаешь, сколько стоит билет? – усмехнулся Поддубный, и красивые глаза его сузились. – Я себе этого позволить не могу.
– Ой, милые, – запричитала бабка, – какой самолет! Это раньше, а теперь… Он и быват-то раз в неделю. По пятницам.
И, еще раз подозрительно посмотрев на Илью, покачивая головой и сокрушаясь об убегающей от шторма «Алуште» и своем беспутном зяте, который черт знает с кем водится и совсем не смотрит за детьми, пошла по дороге.
«Странный остров, – думал Макаров, идя вслед за кумом к гостинице, – то не хотел принимать, теперь не хочет выпускать, устраивает каверзы, обманывает». – И вдруг кольнула нелепая мысль, что пароход был последним и они опоздали не просто на его высокий, надежный борт, но опоздали вообще.
– А как же моя школа? – тихонько спросил Сережа.
– Не волнуйся, малыш, мы обязательно успеем вернуться.
– Тут, между прочим, есть своя школа, и ничуть не хуже, чем в Москве, произнес оскорбленным тоном Илья. – Без всяких дурацких экзаменов.
– Тут мамы нет, – вздохнул Павел. – Ты прости меня, кум, за вчерашнее. Я правда, наверное, перевпечатлялся.
Шторм обошел архипелаг стороной, к вечеру ветер стал стихать, несколько раз принимался ливень и прибивал пыль, над землей и морем, уходя одним концом в воду, а другим в лес, поднималась и размывалась на небе радуга, наконец погода угомонилась, стало опять тепло, и после обеда они прогулялись до небольшой и недалекой пустыни, находившейся на южном склоне холма и защищенной от северных ветров. Прежде здесь была дача архимандрита, а теперь вся территория принадлежала музею, и веснушчатая девушка в зеленой брезентовой куртке взяла у них деньги за посещение примечательного места.
К рубленой даче – обычному небогатому домику с балконом вела лиственничная аллея, посаженная уже при лагерных властях, и устроен ботанический сад; возле высоких деревьев и кустарников стояли небольшие таблички с названиями видов растений на русском и латинском языках, росли розы, акации, яблони, кусты сирени и шиповника, а вправо и вверх, мимо засыпанного землей валунного амбара и колодца, была проложена тропинка к маленькой заброшенной часовне, откуда открывался вид на белый монастырь.
Сережа никуда больше их не тащил, думал о своем, а Поддубный стал вспоминать, как впервые оказался на этом месте, в восемнадцать лет, и подружился с разговорчивым музейным сторожем. Был восемьдесят первый год, в поселке работал один-единственный полупустой магазин, где спиртное продавали, как и по всей области, с двух до семи, а больше купить было нечего, над монастырем вместо порушенного креста возвышалась гулаговская пятиконечная звезда, старик, пригорюнившись, говорил про умершую христианскую веру, а горячий московский неофит с юношеским азартом возражал умиленному дедуле, что православная вера не умерла и Святая Русь еще воскреснет. Был ли жив тот старик и верил ли теперь, в последнее лето столетия, в воскресение Святой Руси изрядно повзрослевший Илюша Поддубный?
По дороге домой Сережа раскапризничался, однако отец не стал его больше стыдить. Он чувствовал себя виноватым перед сыном, оттого что все эти дни так мало времени с ним был, сперва болея, а потом бродя в одиночестве по тропам острова. Павел посадил мальчика к себе на плечи, и они шли по широкой дороге, перед детскими глазами тянулся лес, сливаясь в одну бесконечную полосу, потом показались вдали и медленно приближались, наплывали на идущих купола и кресты, башни и стены монастыря. Иногда навстречу им попадались люди, с любопытством оглядывали двоих мужчин и ребенка, но Сережа ничего не замечал. Его совсем не заинтересовали и древние филипповские садки – не имеющие ничего общего с настоящими садами большие искусственные пруды для разведения и содержания морской рыбы, отделенные от моря полуразрушенной грядой валунов, и так же равнодушно отказался он идти к последней из не увиденных ими достопримечательностей – переговорному камню.
Ни разу за все путешествие мальчику не мечталось перенестись домой так сильно, как в эту минуту. Не хотелось больше ни палатки, ни гостиницы, ни даже каюты на корабле, ни купе в поезде, но – дома. Он устал, и загорелое лицо его вдруг сделалось печальным и бледным.
– Крестничек, а крестничек, ты случаем не заболел? – обеспокоенно спросил Поддубный, чувствуя свою вину за вчерашнее несанкционированное Сережино купание в море.
Мальчик покачал головой. Еще совсем недавно он сказал бы о своем желании оказаться дома вслух, но за неделю с ним что-то произошло, он сделался не только по-взрослому рассудительным – чего говорить о невозможном! – но и очень сдержанным и даже скрытным.
– Давай теперь я его понесу, – предложил Илья.
– Не надо, я сам, – возразил Макаров.
Павлу было очень хорошо в эту минуту, он чувствовал, что ребенок вовсе не болен, а просто притаился, и тягостное, не оставлявшее взрослого человека в покое все дни предчувствие, что на островах с ними случится дурное, что подстерегает и неизвестно где встретит их беда и – как самое страшное острова отнимут у него мальчика, покинуло его, рассеялось по ветру и унеслось за море, душа успокоилась, и подумалось обыкновенно и заурядно, что их хождение по сухим песчаным дорогам и есть счастье, какое больше не повторится, потому что сын вырастет и не придется его вот так нести, и еще что никакого нового счастья, о котором он мечтал в молодости, уже не придумать.
Потом он вспомнил про жену, про ее беременность, подумал о том, что очень скоро опять станет отцом, будет волноваться, когда отвезет женщину в роддом, примется бродить по дому и не находить себе места, а потом потянутся бессонные ночи, детский плач, стирка, прогулки с коляской – он опять не будет себе целиком принадлежать, но зато придется еще больше работать и меньше путешествовать. Эта мысль не пугала и не огорчала его, теперь Макаров был ко всему готов и полагал, что переживет новое рождение более глубоко и осознанно по сравнению с прошлым разом, но, даже если у него родится девочка, о которой он мечтал, вряд ли будет любить ее сильнее и глубже, чем быстроногого худенького мальчишку с исцарапанными руками, обхватившими, как оказалось, не слишком-то умную отцову голову.
Уже смеркалось, когда они вернулись в гостиницу, в огромную, пионерскую комнату, где ночевали в первую ночь, и, накормив и уложив ребенка спать, сидя у окна, безмолвно глядели на улицу, по которой ходило гораздо меньше людей, чем неделю назад, не раздавался смех и не играла музыка, точно «Алушта» увезла на материк половину острова.
В одиннадцатом часу вышли покурить. Было темно, но еще не настали беспросветные черные осенние ночи, и отблеск полярных зорь лежал на небе неопределенно-фиолетового цвета, затеняя блеск звезд, и на его фоне, четко очерченные, виднелись монастырские стены и отражавшие слабый свет купола высоких церквей. Когда они уже собирались уходить, барабан на большом куполе собора неожиданно засветился, будто кто-то зажег внутри громадную свечу или лампаду.
Свечение делалось все сильнее и ярче, остановились на улице редкие поздние прохожие и тоже уставились на барабан, громко восклицали и показывали рукой на таинственный источник света. Макарова снова забил озноб, он подумал, что надо разбудить Сережу и показать ему это чудо, которое ничем нельзя было объяснить, – весь собор был темен и пуст. Но тут из-за большой главы выплыла идеально полная луна, тело которой просвечивало через сквозные окошки барабана, и, должно быть, лишь раз в несколько лет случалось так, что луна оказывалась в такой точке небосвода, откуда свет ее, пронзая узким лучом окошко под куполом, падал на поселковую улицу и поздних прохожих.
Ночное солнышко поднялось еще выше над монастырем и береговой линией. Никогда прежде Павел не думал, что оно способно с такой скоростью двигаться по небосводу, но относительно неподвижной главы собора перемещение было заметно и поразительно.
Луна озаряла кресты и лемеха, мачты кораблей, крыши поселковых домов, памятник заключенным и светила над всей этой землей, лесами, горами, скитами, над озерами, которых было столько же, сколько дней в году, над их покинутой стоянкой, морскими проливами, берегами, дамбой, безымянными могилами, навигационными знаками, и он явственно представил это все, будто превратился в одну из птиц и глядел на острова сверху.
Утром последнего дня они пошли на литургию. В комнате было зябко, и Сереже хотелось еще полежать, но папа был странно молчалив, будто у него простыло горло, а необыкновенно серьезный, сам на себя непохожий дядя Илья велел мальчику скорее одеваться и, даже не попив чаю, идти в храм.
Служили не в большом соборе, а в маленькой церковке, куда они поднялись по узкой лестнице через такую низкую дверь, что взрослым пришлось наклонить голову, чтобы не задеть притолоку, и последовали дальше краем громадной, пустынной трапезной.
Народу в храме было совсем мало, и ничто не нарушало течения самой обычной, не праздничной службы. Не было почему-то и монахов, слаженно пел женский хор, священник и дьякон отчетливо выговаривали слова, и все напоминало добротный приходский храм с дисциплинированными прихожанами, где никто не перешептывается, не передает свечи, не ходит во время службы и не толкается.
Когда пели херувимскую, в храм вошла хорошо одетая женщина с бесноватой девушкой. Больной было лет пятнадцать, и девушку можно было бы назвать красивой, когда бы время от времени нежное, тонкое лицо с тихими глазами не искажала судорога и девушка не начинала выкрикивать бессвязные слова.
Сереже сделалось страшно, захотелось уйти и не видеть этого перекошенного, несчастного лица, не слышать выкриков и жалобного мычания, нарушавшего размеренный ход службы, он не понимал, почему никто ее отсюда не выведет и как разрешают в храме, где нужно тихо себя вести, находиться, но папа почему-то никуда не уходил, никаких замечаний никто вошедшим не делал, и мальчик боялся пошевелиться, а только прятался за родительскую спину. Он уже ничего не слышал, не пел вместе со всеми Символ веры и лишь тихонечко дрожал, боялся повернуть голову в сторону страшной молодой тети, однако какая-то сила влекла его взгляд, и то и дело он натыкался на искаженное, застывшее лицо.
Кончился евхаристический канон, люди поднялись с колен, иеромонах стал исповедовать готовившихся к причастию, для остальных молодой послушник монотонно читал житие Митрофания Воронежского, чье поминовение совершалось в этот августовский день. Сережа ничего не понимал в скором чтении, папа присел на лавочку, и мальчик сел рядом с ним. Он немного успокоился и решил хорошенько осмотреться, как вдруг печальная женщина вместе с девушкой подошли к их лавочке и больная опустилась на скамейку прямо рядом с ними. От ужаса мальчик окаменел, а девушка то погружалась в оцепенение, то вдруг начинала хватать Сережиного папу совершенно холодными, белыми руками и мычать. Сереже казалось, сердце его сейчас не выдержит и вслед за папой больная станет хватать и его, но папа сидел не двигаясь, а женщина одержимую успокаивала и забирала ее узкую руку, но, посидев недвижимо несколько минут, девушка снова вцеплялась в Макарова. Что-то удерживало взрослого человека от того, чтобы встать и пересесть, не пускало, было невозможно обнаружить неприязнь, страх или брезгливость, или же краешком души он чувствовал родство с этой несчастной, в измученных взглядах и касаниях которой прорывались страсть и тоска по обыкновенной жизни, а кроме того, быть может, робкая благодарность за то, что он не отталкивает холодную и узкую одинокую руку.
Бесноватую подвели к иеромонаху. Он накрыл ей голову епитрахилью и прочел очистительную молитву. На несколько минут больная затихла, причастилась, но никакого видимого чуда не произошло. Женщины ушли из храма, несчастная с недоумением озиралась, искала и не находила того, кого искала, глядела на Павла в упор, безмолвно звала, и он долго ее потом вспоминал и думал: отчего случилась с ней эта болезнь, за какой грех прицепилась к юному и нежному существу?
Поддубный меж тем купил несколько книжек по истории монастыря, церковный календарь, написал поминальные записки с именами всех своих ближних, друзей, крестников, крестниц и кумовьев – несмотря на уединенное житье, он всегда очень внимательно к родственным обязанностям относился, – а потом они долго ходили по монастырю, осмотрели удивительную просторную трапезную с широким столпом посредине, лазили по стенам и заброшенным церквам, соединенным галереями и переходами.
Бродя по обители, они вспоминали и по очереди, дополняя друг друга, рассказывали утомленному, все еще не пришедшему в себя и оттого покорно слушающему их мальчику, что знали из древней истории. Про основателей монастыря, приплывших сюда в поисках уединенной жизни на утлой лодчонке из большого поморского села, где впадала в Белое море река Выг, и, по легенде, едва пристали святители к берегу – не там, где находился теперь монастырь, а в Сосновой губе, недалеко от Секирной горы, лодку унесло обратно в море, и то был пришедшим знак – оставаться здесь и дальше на север не идти; про предприимчивого игумена, богатого московского боярина и правдолюбца, начавшего обустраивать обитель, возводить ее башни, стены, каменные храмы и впоследствии задушенного по приказу свирепого царя, и про будущего патриарха, одно время жившего на недосягаемом Анзере и ставшего виновником семилетней осады крепости и расправы над верными древлеправославной вере и старым книгам иноками. И о более поздних временах, когда под постройками лавры была устроена тюрьма для инаковерующих и невинно осужденных, плиты с их могил располагались рядом со входом в большой собор. И про юродивого, предсказавшего судьбу трем российским императорам. Про оборону острова от английских кораблей в середине прошлого века. Оба очень старались, как будто пытались придать новый смысл своему путешествию и сделать его если не паломничеством, то хотя бы культурным мероприятием, а когда Сережа наконец опомнился и вырвался из их цепучих исторических объятий и залез на пушку, восторженно паля по яхтам и катерам, уже между собой друзья принялись оживленно обсуждать книги светских авторов, описывавших разложение и упадок нравов в обители в самые последние перед ее гибелью времена. Но мысль о том, что многие из тех людей, которых, справедливо или нет, уличали пытливые российские интеллигенты-путешественники – от Немировича-Данченко до Пришвина – в лицемерии, грубости и невежестве, оказались мучениками, все преображала, и как странно было поверить, что удерживаемое в памяти дорогое, родное, страшное происходило на этой красивой земле, а теперь пребывало в запустении и заброшенности.
Где-то вяло велись реставрационные работы, но Поддубный заметил, что за время его двухлетнего отсутствия в монастыре ничего не изменилось, колокольня была по-прежнему окружена лесами, церкви не закрывались и не охранялись, и даже большой храм, куда они заходили в первый вечер, был совершенно пуст, служба в нем шла только раз в году, во время престольного праздника, и, вероятно, каждый раз его заново освящали, потому что в течение года сюда приходила местная или приезжая молодежь, распивала в алтаре или боковых приделах пиво и водку.
В тот день не было ни одной туристической группы, и никто не мешал им бродить по монастырским стенам, осматривать музей, где имелось множество предметов крестьянского быта, рыболовные тони, сети, старинные повозки, стояли чучела животных, а в новых залах была выставлена звезда, много лет возвышавшаяся на колокольне и воровато снятая коммунистическими властями в их последний безмятежный год, упоминание о котором отозвалось в Павле беспокойством. Это было время, когда они с Ильей заканчивали университет, украдкой читали запрещенные книги, верили им и не верили, спорили о прочитанном и думать не думали, какая всех ждет судьба. Звезда казалась теперь совсем нестрашной, но маленькой и нелепой на музейном полу.
Висели на стенах фотографии бывших заключенных, все было оформлено очень пронзительно, как в маленьком театре, однако в продуманности и преднамеренности производимого на посетителей впечатления чудилось что-то наигранное, слишком нравоучительное и тем досадное, и Макаров опять не знал, надо ли рассказывать сыну про кровавую звезду или пусть лучше острова останутся в его памяти местом, где поют птицы, светит в конце августа солнце и веселые, беззаботные люди ходят по желтым песчаным дорогам.
Возле братского корпуса работали молодые мужчины, пилили дрова и складывали их в поленницу; торопливо проходили монахи, подъехала грузовая машина, за рулем которой сидел человек в рясе; братию и трудников стали созывать к трапезе, и Макарову сделалось жаль, что он совсем мало ходил на службу и самое яркое воспоминание об островах уносит от красоты озер, лесных дорог и северного сияния, от своих рассеянных и путаных мыслей, но не от этой, более высокой и значительной деятельности. А Сережа уже тянул его к морю, к пришвартовавшимся кораблям, железной вышке, стоявшей на берегу залива, возле большого амбара, где в прежние времена, до того как был построен аэропорт и взлетно-посадочная полоса, приводнялись гидропланы с лагерным начальством, и вслед за нетерпеливым мальчиком он полез по узким железным ступенькам к верхней площадке, откуда было видно всю бухту Благополучия, поселок, монастырь, причал, леса, дороги и силуэты больших судов на горизонте.
Должно быть, кумовья немного друг от друга устали, как случалось иногда в конце их совместных путешествий, и в третьем часу пополудни, оставив большого и маленького Макаровых с фотоаппаратом на продуваемой ветром верхотуре, Поддубный отправился в недавно открытый монастырский музей.
В небольшой комнате его встретила миловидная девушка в накинутой на плечи светлой шали и долго рассказывала, как возродилась несколько лет назад обитель и в ней поселились первые иноки, как ходят монахи на водосвятие в январе, на Крещение, устраивают прорубь и в ней купаются приполярной ночью сначала мужчины, а потом женщины, никогда не болеют и даже избавляются от застарелых хворей. Он рассматривал современные фотографии и документы, вырезки из газет, картины и сделанные на камнях миниатюры, ему попадались на глаза паспортные данные, бывшие имена и фамилии монахов – и оказалось, что бородатые, отрешенные от мира иноки с редкими церковными именами были в миру самыми обыкновенными людьми, с самыми простыми именами и фамилиями, родились в самых обыкновенных городах и поселках.
Конечно же, не самыми обыкновенными, и откуда еще, как не из маленьких городов и деревень, было им взяться – но никогда прежде Поддубный не сталкивался с такой открытостью иноческого прошлого. Некоторых из монахов он видел на подворье монастыря в Москве, и ему было интересно узнать, отчего иные из братии несли послушание в самом центре большого города, в окружении ресторанов, гостиниц и игорных домов, а другие подвизались на уединенных островах.
Быть может, в его любопытстве и было нечто чрезмерное, но, как человек воспитанный, приезжий старался держаться ненавязчиво, и девушка видела в нем просто заинтересованного и благожелательного посетителя, ей было приятно ему рассказывать про обитель и ее насельников, хотя время от времени в интонации и словах рассказчицы проскальзывали настороженность и растерянность – она не могла разобрать, кем же все-таки был этот интеллигентный мужчина с ранней проседью: для обычного, случайно заглянувшего в музей туриста он казался слишком внимательным, сведущим в монастырских мелочах и грамотным в церковных выражениях, но и на благочестивого паломника не походил.
Однако она не задавала никаких вопросов, а он ничего о себе не говорил, ему было просто интересно слушать про другую жизнь и пытаться понять, что должно было произойти в душе сюда приехавших и как они живут, ведомы ли им сомнение, растерянность и страх. Поддубный спрашивал, как складываются отношения между монастырем, музеем и поселком, и девушка очень вразумительно и искренне все рассказывала, что положение на островах гораздо лучше, нежели в других местах, где сталкиваются вновь открытые монастыри и занимавшие до недавнего времени их территорию жители и где делят иконы, книги, одежду и утварь законная наследница церковь и музейные работники.
Она говорила, что поселок давно уже никому не нужен, островитяне всеми заброшены и только монастырь помогает им, как может, хотя конечно же не все так просто и когда-то в кремле, как стала называться в советское время обитель, находился винно-водочный магазин, к нему жители очень привыкли, но монастырские власти сумели убедить местное население вынести торговую точку за ограду. У монахов средств мало, однако они делают все, что могут, помогают многодетным семьям, устраивают детские праздники и раздают бесплатные одежду и продукты.
– А один брат недавно умер, – проговорила девушка с печалью. – У него была лейкемия. Он был еще совсем молодой, и мы все его очень любили. Хотели похоронить на старом монастырском кладбище, но жители воспротивились – не захотели, чтобы в поселке были новые могилы.
Поддубный слушал внимательно, как если бы этот подробный рассказ имел к нему прямое отношение, касался лично знакомых ему, очень близких и дорогих людей и от того, что девушка повествовала, зависела в будущем его собственная судьба. Он любовался своим необыкновенным экскурсоводом, которая между прочим упомянула, что приехала на остров три года назад из Петербурга и работает учительницей рисования в местной школе, но, любуясь ею, странствующий человек думал о том, что скоро кончится лето, прекратится навигация и больше чем на полгода остров окажется отрезанным от внешнего мира, на него навалится приполярная ночь, сделается промозглым воздух, задуют студеные ветра, пойдет по морю шуга, теплая земля станет холоднее незамерзающей воды и некому будет рассказывать про монастырь. Ему очень хотелось спросить девушку, как справляется она с одиночеством, чего ищет на островах, почему оставила свой красивый город и сколько еще хочет здесь жить, но Илья себя сдерживал.
Двое монахов пошли с удочками в сторону леса, быть может, на то самое торфяное озерцо, где рыбачил он с Сережей, чтобы вытащить упущенную щуку и приготовить ее к окончанию строгого Успенского поста. По случаю пятницы легко взлетел маленький дорогой самолет и, сделав над островом круг, ушел на юг, в сторону Архангельска, чуть ниже летела пара уток. Подъехала к стеклянному магазину машина с хлебом, и раздался в море пароходный гудок.
Острое чувство, что этот красивый и страшный край и есть его возлюбленная, обретенная родина, коснулось светлой души Ильи Поддубного, и ему стало жаль своего друга, который так ничего в островах и не понял.
– Ну что, пойдем к директору на капитана жаловаться? – спросил подошедший Макаров.
Илья покачал головой. Они медленно побрели к Святому озеру, и дорогой Поддубный начал негромко и немного сбивчиво рассказывать о том, что услышал в музее, о чудесной девушке и о монастырской братии, но позабывший о своем давешнем намерении закрыть острова для всех, кроме иноков, трудников и паломников, ушибленный высотой и ветром Макаров ни с того ни с сего перебил его, принялся спорить и возражать.
Вдохновенно и страстно, озирая не только пространство, но и время, Павел говорил о том, что будущее архипелага вовсе не за музеем и не за монастырем, не за их прихотливыми взаимоотношениями и посильными пожертвованиями и даже не за льготами для островитян, которых следовало бы добиться не только в случае с музейным катером, но и с местным самолетом, а за расширяющейся взлетной полосой, за частными гостиницами с горячей водой и домашними ресторанами, за шведами, финнами и фешенебельными корабельными турами из Москвы. Дать деньги на реставрацию, помочь жителям острова найти оплачиваемую работу и устроить человеческую жизнь могут только они, другого пути, как ни выдумывай, нет, монастырского прошлого уже не воротить и наступления новой жизни не остановить, но, если бы нашлись предприимчивые, разумные люди, которые бы островами занялись, они бы быстро все подправили и привели в порядок, и тогда земля стала бы опять цветущей, снова паслись бы стада на Муксалме, развели бы рыбу в филипповских садках и вырастили арбузы на южном берегу.
Поддубный не возражал, но и не соглашался, и Павел постепенно выдохся, замолчал. День был снова тихий и теплый, непривычно умиротворенный для конца августа, монастырь отражался в озерной воде башнями и стенами, точно кто-то сделал фотоснимок и заключил его в рамку; с внутренней части острова он выглядел еще красивее, выше и стройнее, чем со стороны моря; припекало солнышко, и хотелось никуда не уезжать, а поселиться здесь навсегда и не искать более оправдания праздности, лени и полуверию.
– А может, правда, Паш, останемся? – сказал Поддубный.
Макаров ничего не ответил. Пора было идти в гостиницу и укладываться, и больше к этому разговору они не возвращались, и хотя оба понимали, что никто из них здесь не останется и даже вряд ли сильно переменится и станет вести себя иначе, чем раньше, и каждый продолжит жить, как жил, – знать, что другая жизнь возможна, она постоянно рядом, вход в нее всегда открыт, было утешительно и сладко, и они совсем забыли о мальчике, который сидел на высоком камне и горько плакал.
В тот же вечер трое приезжих ушли на материк на «Беломорье». Море оставалось покойным, взрослые стояли вместе с Сережей на корме, мальчик бросал чайкам хлеб, с восхищением наблюдал за огромными дерущимися птицами, печаль его скоро прошла, а Поддубный с Макаровым глядели назад, туда, где долго скрывалась полоска островов и таяло белое пятнышко монастыря, и даже когда земля скрылась, все еще казалось, что виднеются на линии горизонта очертания вечно плывущей Секирной горы, пока наконец суша не слилась с морем, и за разговором они не заметили, как в сумерках добрались до Беломорска, бывшего поморского села Сороки.
Я вышел из университета в 1984 году и с тех пор не знал, куда мне себя деть. По распределению я работал лаборантом на кафедре русского языка в техническом вузе и считался на этой кафедре таким же ненужным довеском, как сама она в институте. Но это меня нисколько не волновало. Уже несколько лет я чувствовал в себе иное призвание: мне хотелось стать журналистом, писать материалы, ездить в командировки и встречаться с разными людьми. Однажды я даже набрался смелости и позвонил в редакцию крупной московской газеты. Трубку снял мужчина.
– Я… мм… – волнуясь, проговорил я, – хотел бы с вами сотрудничать, если вы не возра…
– Возражаю, – сказал мужчина и повесил трубку.
В другой редакции мне посоветовали самому найти тему, написать материал и принести его в газету – если материал будет интересным, то, вполне возможно, его напечатают.
Но я не знал, о чем писать. Я с тоской слонялся по огромному, то жаркому, то слякотному городу, задыхался от пыли и скопления людей и не видел ни одной, ни малейшей зацепки, с чего бы я мог начать свою журналистскую деятельность. В конце концов надо мной сжалилась моя тетушка и отрекомендовала меня своему знакомому Сергею Сергеевичу.
Строго говоря, мне очень не нравилось, что я попал именно в этот журнал. Это был, пожалуй, единственный журнал, с которым бы мне не хотелось иметь никакого дела. Я не был верующим и в церковь заходил только из любопытства послушать, как поют, и поглазеть на лица старух, но я не любил атеизма. Я всегда считал, что люди верующие совершеннее нас, что они видят и знают нечто такое, чего мы не знаем, и нет большего уродства, чем кичиться своим безверием.
Я стал с тоской представлять, что сейчас выйдет какой-нибудь тип, как две капли воды похожий на нашего профессора атеизма Грушева с его глазами-пуговичками, однако ко мне подошел человек средних лет, с мягкими шелковистыми русыми волосами, небольшой аккуратной бородкой, в очках, с ласковыми внимательными глазами – и до полного сходства с батюшкой ему недоставало только рясы и наперсного креста.
– Петр? – обратился он ко мне. Я оробело кивнул.
– Ради Бога, простите, что заставил вас так долго ждать.
– Ну-с, рассказывайте, – сказал он, когда мы уже сели. – Алина Георгиевна мне вас очень нахваливала.
– Да я, собственно, – замялся я, – лучше бы я вас послушал.
– А вы читали когда-нибудь наш журнал? – спросил Ковалев.
– Нет, – ответил я виновато и зачем-то добавил: – Его очень трудно купить.
Мой собеседник слегка улыбнулся.
– Мне кажется, – продолжал он вкрадчиво и не спуская с меня внимательного, испытующего взгляда, – что вас несколько смущает направление нашего журнала. Но не торопитесь с выводами. Мы уже давно отошли от огульного атеизма и стремимся к тому, чтобы наш журнал читался людьми верующими. Мы улаживаем их недоразумения с властями, разъясняем им их права, заступаемся за них, так что ничего предосудительного в нашей работе нет.
Боже мой, как мне было сладко слушать этого человека! Я устал на своей работе от теток, которые объездили полмира, обарахлились и рядились в тогу интеллигентности, но постоянно говорили мне «ты», не стеснялись обсуждать при мне такие вещи, о которых, даже закончив женский факультет, я прежде понятия не имел. Они меня в грош не ставили, посылали за пряниками и сигаретами, а я платил им за это халтурной работой, прогулами. Я был сам, конечно, во всем виноват, вел себя как школяр, но я не мог с собой ничего поделать. Недаром так корила меня моя тетушка.
– Ты, мой милый, недоросль, – говорила она. – У тебя болезнь века – недорослизм.
– Мне не нравится это слово, – слабо возражал я в ответ. – Оно плохо состыковано: корень русский, а суффикс иностранный.
Тетушка, главной своей заслугой считавшая знание русского языка и народной жизни – она была этнолингвистом и ездила в экспедиции записывать старинные обряды и предания, – разражалась бранью и говорила, что такие, как я, горе-филологи драконят язык, ставят всюду запреты и регламентации, указывают, как можно говорить и как нельзя. Сама же она стыдилась своего нерусского имени и себя называла Аленой Юрьевной (а я в пику громко декламировал – Алина, сжальтесь надо мною), уснащала свою речь словечками типа «давеча», «нынче», «батюшки», «ой лихо мне» и была очень невысокого мнения о моей лингвистической компетентности. Представляю, что бы она сказала, узнай, что я хочу написать роман.
– Я бы мог вам, конечно, дать задание, – продолжал Сергей Сергеевич, выводя меня из грезы, – но видите ли, будет лучше, если вы сами найдете для себя какую-нибудь тему и мы выпишем вам командировку. Полистайте пока наш журнал, подумайте, а когда выберете тему, приходите.
Я пошел в библиотеку и затребовал для себя годовой комплект ковалевского журнала. Это был действительно очень любопытный журнал, он печатал всех без разбору: митрополитов, пропагандистов, партийных работников, мулл, шаманов, какую-то экзотику в набедренных повязках, там была превосходная статья о Туринской плащанице, математически доказывающая, что истина с Христом не расходится, была там даже статья профессора Грушева, называвшаяся, между прочим, «Беседы о нравственном значении атеизма», не было только в этом журнале места для меня с моей сумятицей в голове. В конце концов, промаявшись две недели, я позвонил Ковалеву и сказал, что буду писать про Оптину пустынь, о которой я помнил из курса по истории русской литературы.
Сергей Сергеевич велел мне приехать и мягко поинтересовался, как мне видится этот материал и что я знаю вообще о знаменитом монастыре. Оказалось, что знаю я о нем еще меньше, чем о нравственном значении атеизма. Сергей Сергеевич поцокал языком, назвал десятка полтора почтеннейших известных и неизвестных мне имен и сказал:
– Я, конечно, могу послать вас в Оптину, но дело в том, что ее скоро отдадут церкви, о чем, правда, – он понизил голос и со значением посмотрел на меня, – иерархи еще не знают. Так что давайте пока эту тему не трогать. А я вам предложу нечто другое. Мы получаем очень много писем от верующих, просьб им помочь и, как можем, помогаем. По всякому письму корреспондента не пошлешь, но вот у меня письмо, в котором есть что-то настораживающее. Действительно, надо разобраться.
Впоследствии оказалось, что и на старуху бывает проруха, в этот раз чутье моему собеседнику изменило, но это было впоследствии, а пока я читал письмо.
«Уважаемые товарищи! Пишет вам учитель Ювашинской средней школы из Чувашской АССР. У нас в селе живет старушка Мария Пахомовна Сырова, солдатская вдова. Старушка попала в беду, а помочь ей никто не хочет, местные власти ее запугивают. Уверен, необходимо вмешательство вашего журнала. Всех обстоятельств в письме изложить не могу, пришлите вашего корреспондента, пусть он на месте разберется. Сделайте доброе дело, и люди вам спасибо скажут.
Член КПСС с 1956 года А. П. Кулаков».
– Вот такое загадочное письмо, – заметил Сергей Сергеевич, – и знаете, думаю, там действительно какая-то нехорошая случилась история. Да и по письму чувствуется, что писал его совестливый человек. В деревне это часто бывает, что учитель – человек честный и один за правду выступает. Так что вы поезжайте, у вас будут самые широкие полномочия, разговаривайте с кем считаете нужным – райком партии, исполком, все что угодно. В случае необходимости езжайте в Чебоксары в Совет по делам религии. Словом, главное – разберитесь на месте, помогите. А потом очерк напишите. Получится у вас материал – будем с вами работать.
Он выписал мне командировку, и я ушел от него в странном возбужденном состоянии и стал разглядывать свое удостоверение внештатного корреспондента, но чувство у меня было такое, будто я не корреспондент, а какой-то самозванец и ничего хорошего из моей поездки не выйдет.
С грехом пополам, не зная, у кого и как спросить, где находится школа, и, вероятно, безмерно удивляя жителей Ювашина, я дошел наконец до школы и спросил у какой-то испуганной ученицы, как мне найти учителя истории. По дороге я много думал об этом человеке, пытался представить, как он выглядит и что за таинственная история, о которой нельзя написать в письме, могла здесь случиться, я даже помышлял о своей удаче, о том, что сумею написать потрясающий очерк, – и вот из класса вышел невысокого роста человек в поношенном костюме и очках с сильными линзами, и мы оба обомлели. Он – вероятно, оттого, что ожидал увидеть кого-нибудь посолиднее (в свои двадцать два года я был похож на десятиклассника, это меня убивало и служило источником всяческих моих огорчений и недоразумений, пробовал я было отращивать бороду, но она росла клочками, и я был вынужден от бороды отказаться), а я – оттого, что учитель был как две капли воды похож на того самого профессора атеизма Грушева и еще, почему-то пришло мне в голову, на великого обманщика Гудвина – волшебника Изумрудного города.
Однако выбирать ни ему, ни мне не приходилось.
Первый все же начал я.
– Вы написали, что не можете изложить всех обстоятельств в письме. Я вас слушаю.
– Да, да, – спохватился мой Гудвин, – у нас тут действительно сложная ситуация. Очень сложная.
– В чем же сложность?
– Сложность? – Он все как бы раздумывал, стоило ли ему посвящать меня в это дело, и с сомнением разглядывал мои напряженное лицо и руки, застывшие над специально купленным в Москве красивым блокнотом для записей.
– А вы не могли бы рассказать немного о себе? – прервал я его раздумья.
– Хорошо, хорошо, – закивал он и стал, запинаясь, точно на иностранном языке, хотя сам был русский, говорить: – Я сам не местный. В войну меня вывезли из Ленинграда, родителей я потерял, воспитывался в детском доме. Потом вот институт закончил, сюда попал по распределению и работаю в школе двенадцатый год.
Тут я к нему потеплел, и у меня прямо перед глазами возник текст будущей статьи – а может быть, и не статьи – о судьбе ребенка-блокадника, о прекрасном, забытом нами слове «милосердие», о сострадании и помощи чужим людям, которые моему герою совсем не чужие, потому что обогрели его в войну, и теперь он возвращает им долг.
– Ну так что же у вас случилось со старушкой? – спросил я участливо.
– Со старушкой, ага, – забормотал он. – Да, старушка, конечно. Дело ведь не только в конкретной Марии Пахомовне или в ком-то другом, – заговорил учитель наконец обстоятельно, – дело в общем. У нас в селе сложилась очень неблагоприятная атеистическая обстановка. Несколько лет назад одна наша жительница стала собирать подписи с требованием открыть церковь. И местные власти этому поначалу попустительствовали. Я со своей стороны стал делать все, что мог, написал в обком партии, приехала комиссия, мы тут разобрались, уладили. Но ведь покоя не жди. Чувствуется, затихли они и ждут своего часа. И очень в селе нехорошо, а власти опять бездействуют. Боятся они чего-то, понимаешь? Поэтому я и написал в ваш журнал, чтобы вы сделали хороший, квалифицированный анализ того, что здесь происходит. Ты пойми, у нас тут не Москва, нам очень трудно, религия здесь по домам прячется, но только дай слабину – вылезут. На коровник денег нет – а на церковь свою соберут, попа найдут. Детей крестят, покойников отпевают, председатель сельсовета и та внука крестила, а в районе молчок – у нас все благополучно.
– Ну хорошо, – сказал я, сбитый с толку и изрядно обескураженный всем услышанным, – а при чем тут старушка Сырова?
– Мария Пахомовна? А при том, что есть у нас в селе хорошая такая бабушка, а ее невестка из дома выгнала, и живет солдатская вдова третий месяц в бане. И никому, кроме меня, до этого нет дела.
– А она что, тоже подписи собирала?
– Нет, она бабка хорошая, правильная. Но боюсь, вдарится наша Марья Пахомовна в религию, если мы ей не поможем. Человек-то слаб, – философски заключил учитель.
– Ну и что я могу сделать? – Я чертил для видимости слова в блокноте, какие-то фразы, но совсем не понимал, чего хотел от меня учитель, чего он вообще хотел, посылая это письмо.
– Ты? – Он бросил на меня свой изучающий взгляд, и мне опять стало досадно от этого «тыканья». – Пойдем-ка ко мне домой, поговорим.
Мария Пахомовна Сырова действительно была вдовой солдата. Жила она в семье своего сына, но сам сын бывал дома не часто – большей частью он сидел за хулиганство и драки. Причем, как объяснил мне мой словоохотливый Гудвин, виновата была невестка, провоцировавшая мужа на эти драки. Не любила его, изменяла с кем попало, вот и сажала в тюрьму. А теперь, когда удалось ей посадить его на пять лет, решила и свекровь выгнать. Выставила ее на улицу, и семидесятилетней старухе пришлось поселиться в бане у сестры. Никакого отношения ни к науке, ни к религии эта история не имела, но коль скоро я приехал, я должен был во всем разобраться, хотя все более неясной и сложной казалась мне эта задача.
Вечером мы пошли с учителем к старухе по извилистой улице над речкой, где дома стояли только с одной стороны, а с другой были сараи и баньки. У одной баньки учитель остановился, мы подошли ближе и увидели на двери замок.
– Черт, уехала, старая, – пробормотал он вполголоса, – как некстати-то, а? Подожди, я пойду у сестры ее спрошу.
Он зашел в соседний дом, а я остался на улице и принялся смотреть по сторонам. Вокруг было удивительно хорошо, смеркалось, зыбкие и нежные краски недолгих зимних сумерек лежали на деревьях, заборах и на снегу, над домами поднимался сизый дым, лениво и сыто брехали собаки, мимо, смеясь, прошли две девушки в шубках, и я почувствовал такую прелесть в этом вечере, что снова мне вспомнилась моя тетушка, страдавшая оттого, что живет она в городе, и элегически вздыхавшая:
– Вот брошу все и уеду жить в деревню. Стану ходить обвязанная платком, свинью заведу, а ты ко мне будешь в гости приезжать.
– Буду, – восторженно поддакивал я.
И в самом деле, подумал я, что мы так цепляемся за наше убогое городское существование, лестничные клетки и мусоропроводы в блочных корпусах, когда только сизый дымок над крышей дает человеку ощущение тепла и дома.
– Уехала, говорят, с утра, – вдруг раздалось откуда-то сбоку, и я увидел учителя: он шел в расстегнутой шубе без шапки на голове и глаза его блестели. – Но к ночи будет.
В тот вечер учитель еще два раза посылал своего сына спросить, не приехала ли старуха, но мальчик возвращался ни с чем. Беседа наша с Гудвином не клеилась, он говорил какие-то многозначительные вещи, жаловался на скуку деревенской жизни, я отмалчивался и все время боролся со сном. Однако, когда наконец я простился с хозяином и отправился в уготовленную мне светелку на втором этаже, где меня ждала обширная кровать со взбитыми подушками, чистым, вкусно пахнущим бельем, сон оставил меня. Я пробовал было почитать что-нибудь из библиотеки, но потом уставился в окно и задумался. В этот момент моя поездка показалась мне чем-то ненужным, блажью какой-то, мне было непривычно в этом большом спящем доме, от тихой снежной уличной тишины, я боялся завтрашнего дня, неожиданных встреч, и желание стать журналистом исчезло так же внезапно, как появилось, и мне захотелось очутиться дома, в городской квартире, пойти на кухню и поставить чайник, принять ванную, кому-нибудь позвонить, но тихо было кругом, и я с тревогой лег спать.
В Ювашинском сельсовете, в центре села, было чисто и тепло, за столом сидела широколицая женщина лет пятидесяти и настороженно смотрела на меня. Мне, разумеется, и в голову не приходило, что уже все село знает о моем приезде и, пока я в грусти совершал променаж по деревенским улочкам, за мной смотрело десятка два таких же настороженных глаз и силилось понять, что я выискиваю и какой от меня ожидать каверзы.
– Здравствуйте, – сказал я. – Я корреспондент из Москвы, приехал к вам разбираться по письму учителя Кулакова.
– А документ у вас есть? – спросила женщина осторожно.
– Разумеется.
Я протянул ей свою ксиву, она достала очки, нахмурилась и стала разглядывать ее, как рассматривает милиция паспорта подозрительных личностей.
– Учитель просит помочь жительнице вашего села Сыровой, – заговорил я. – Насколько мне понятно, ее выгнала из дома невестка и солдатская вдова живет в очень плохих условиях. Вы пытались ей помочь?
Женщина поджала губы.
– Пытались.
– И что же?
– Не наше это дело, – сказала она сердито. – Я старухе так и сказала: в суд надо подавать. Что тебе по суду положено, то они тебе и дадут. А она не верит.
– Отчего же не верит?
– А вы подите разберите их там в суде. У невестки-то на книжке шесть тысяч лежит, это то, что они со старухиным сыном нажили, и старуха требует свою долю и долю сына из этих денег. А невестка не дает. И имущество свое продает, чтоб старухе не досталось. Она с мужиком-то развестись надумала да второй раз замуж выйти, вот ей и деньги нужны, – говорила она, торопясь, точно боялась, что я помешаю ей досказать.
– Ну а суд?
– Подкупила она судью, – сказала женщина убежденно, – взятку ему дала. Ему да судебному исполнителю, есть там такой Фролов, вот они ее и покрывают. Понятно?
– Понятно, – пробормотал я, сбитый с толку, но втайне обрадованный таким поворотом дела. Вероятно, именно в этот момент во мне проснулось знакомое каждому журналисту чувство гончей собаки, напавшей на след.
– Только вы уж не говорите никому, что это я вам сказала, – попросила женщина, – а то ведь вы ж уедете, а мне тут жить. Засудят они меня.
– Конечно, конечно, – закивал я. – Я их по-другому прижму. А суд-то ваш где находится?
– В районе, – сказала женщина, и в голосе ее мне почувствовалась какая-то напряженность. – Разберитесь, помогите нам, Христа ради. А то ведь сил больше терпеть нет.
– Разберемся, – уверенно сказал я, подымаясь, и уже в дверях вспомнил. – Да, а с религией как у вас дела обстоят?
– С религией-то? – пробормотала она испуганно. – Хорошо все, хорошо. Хот ели у нас тут церковь открыть, стали подписи собирать, так мы тех, которые подписались, на зиму без дров оставили. Вы уж за религию-то не волнуйтесь.
– Однако, – пробормотал я и вышел на улицу.
От Ювашина до райцентра было километров сорок по прекрасной зимней дороге, изредка встречались деревни, тянулись заснеженные поля, замерзшие реки, но вот начались дома побольше, улицы, каменные двухэтажные здания, и автобус остановился. На центральной площади поселка стояли в каре райком партии, военкомат, райисполком и нарсуд. Я поднялся по ступенькам хорошо протопленного деревянного крепкого дома и пошел искать судебного исполнителя Фролова. Два дня самостоятельной работы уже произвели во мне известные перемены, я понял наконец, кто я таков и каковы мои полномочия, и держался деловито, не переживая больше из-за своей моложавости.
Молодой белобрысый бледнолицый человек явно занервничал, узнав, с кем имеет дело, и я ощутил всю сладкую силу своего столичного могущества.
– Жалуются на вас в селе, – сказал я холодно, – законы не исполняете.
– Кто жалуется?
– Люди жалуются. – Я выдержал паузу и продолжил: – Вот, например, Мария Пахомовна Сырова, солдатская вдова. Она к вам обращалась?
– Обращалась, – ответил он с неподдельной тоской.
– И что же вы для нее сделали?
– Я ничего не делаю, – стал объяснять он. – Я только слежу за исполнением закона. Истице было разъяснено, что по закону при разделе имущества, на котором она настаивает, ответчица обязана выделить ей шестую часть в соответствии с количеством членов семьи. В случае, если у ответчицы нет денег, суд накладывает арест на ее имущество и истица получает право на шестую часть. Но истица от имущества отказалась. Требует денег.
– А почему же она отказалась?
– Потому что, – он слегка замялся, – ей же деньги нужны, а при продаже своей части недвижимости она много не выручит.
– Ну вот видите, вы же сами признаете, что Сырову обманули. А вы знаете, сколько у невестки денег на книжке?
– Нет.
– То есть как это нет? А почему вы не проверили?
– Тайна вклада: не имеем права проверять по закону.
Я не верил ему, я был убежден, что этот бледнолицый крючкотвор, пользуясь моей неопытностью, меня хочет облапошить, но он достал откуда-то пухлый юридический том, пояснение к законам, где мудреным языком было написано то же самое, что он только что мне изложил.
– Значит, сделать ничего нельзя?
– Ничего. Мы и так сделали все, что могли, заставили, например, ответчицу продать корову.
– Хорошо, – ответил я после некоторого раздумья, – я хочу переговорить с судьей.
– Пожалуйста, – он облегченно вздохнул, – направо по коридору, третья комната.
В обширной комнате с высокими потолками и печью сидел крупный седоволосый мужчина в костюме, похожий на сановника екатерининских времен, и читал какие-то бумаги или делал вид, что читает – настолько рассеянным показалось мне его мясистое лицо с бородавкой у носа и густыми, истинно судейскими бровями.
– Я…
– Подождите, я занят, – оборвал он меня.
– Я из Москвы, – сказал я, полагая, что это магическое слово откроет мне все двери.
– Я же сказал, занят.
– Хорошо, когда я смогу с вами поговорить? – я постарался произнести эту фразу как можно достойнее.
– После обеда.
– Отлично, значит, после обеда.
Последнее слово осталось за мной, и я отправился гулять по райцентру, прошелся вдоль замерзшего озера, зашел в книжный магазин, купил там Трифонова и все представлял, представлял, как буду писать очерк, где раздам всем сестрам по серьгам.
Судья не утратил своей сановности, но то ли изменилось освещение, то ли его настроение, только теперь он казался мне похожим не на графа Орлова или же князя Потемкина, а на несчастного, отовсюду изгнанного, доживающего свой век в Званке поэта Гавриила Романовича Державина.
– Из Москвы, значит, приехали? – вздохнул он устало.
– Да. По письму учителя Кулакова.
– Знаю я этого учителя. И что он пишет?
– Вот. Прочтите сами.
Судья быстро пробежал глазами письмо, грузно покачиваясь на крепко сбитом стуле.
– Так. Ну и что вы будете, молодой человек, писать?
– Посмотрим, я еще не закончил своей работы, но, думаю, старушку надо поддержать.
– А к нам зачем пожаловали?
– А вот узнать, что вы думаете об этой истории.
– Знаете, – тон у судьи неуловимо изменился, – я бы мог просто вас выгнать, потому что нет у меня никакого желания эту кляузу разбирать. Но ведь вы сейчас налетите, нахватаете черт-те чего, напишете, а потом самому стыдно станет, если только стыд у вас есть. Учитель-то этот… Вы думаете, вы тут первый? О бабушке он печется! О себе он печется, интриган хренов. И пишет, и пишет, и в Чебоксары, и в Москву, и в одну газету, и в другую, в прошлом году уже приезжали к нам из «Сельской жизни», – теперь вас вот прислали. И что он вам говорит?
– Что атеистическая работа у вас плохо ведется.
– Плохо ведется, – горько усмехнулся судья. – Да лучше бы она вообще не велась. Верующий человек – он и работник лучший, и не сворует, не прогуляет, до скотства не напьется. Чего вы своим атеизмом добились? Развалили все? Вы вот в магазин тут не заходили?
– В книжный.
– В книжный! – зло сказал судья. – Вы в простой магазин зайдите, куда люди каждый день ходят, и посмотрите, что там есть. А он туда же – атеизму ему мало! Вот заставить бы этого учителя хоть командировку вашу оплатить. От дела вас оторвали, и зачем?
Я покраснел.
– Но ведь старуха действительно живет черт-те как.
– Милай, – сказал судья тоном моей тетушки, – они с этой невесткой по три раза в год сойдутся, разойдутся, а все равно старухе одной не жить. Старая она и, кроме этой невестки, никому не нужна. И коли он учитель, так он помирил бы их, а он вместо этого что? – страсти только разжигает. А теперь корреспондент из Москвы приехал, теперь скажет: все, бабка, держись – Москва за тебя! Она бы не сегодня-завтра вернулась бы, примирились бы они, а теперь что делать? Вы вот помочь вроде приехали, дело доброе сделать, а лучше б не приезжали.
– А правду говорят, что у невестки шесть тысяч на книжке?
– Чего? – вскинулся он.
– Шесть тысяч, и старуха требует свою часть, а вы не имеете права заставить невестку эти деньги с книжки снять.
– Шесть тысяч! Вы у невестки-то дома были? Знаете, кем она работает?
– Нет.
– А вы бы узнали, если справедливый такой. Она конюхом работает. Да на эту работу никогда раньше женщины не шли. А платят ей за все про все сто тридцать – сто сорок рублей в месяц. И это еще много считается! У них в Ювашине люди больше чем сорок-пятьдесят рублей не зарабатывают. А у нее на руках четверо детей, и всех кормить надо. Шесть тысяч! Это кто ж слухи такие распускает? Чуваева в сельсовете? Да можете не говорить, я и так знаю. Они с невесткой поругались прошлым летом, вот та ей и мстит. Да смотрел я ее книжку, – он махнул рукой, – семьдесят рублей там, и все.
– Значит, зря я приехал? – сказал я упавшим голосом.
– Да что ж зря? Хоть на жизнь на другую посмотрите. А еще лучше возьмите да напишите про этого учителя, про склочника, чтоб отбить у него охоту пакостить, на горе чужом наживаться.
– Да у нас в журнале тематика несколько иная, – пробормотал я.
– А что тематика? Одна вся тематика, – махнул он рукой.
Я вышел от судьи и пошел по темным улицам райцентра на остановку автобуса, однако было уже поздно – последний автобус ушел и нужно было искать пристанище в гостинице. Там я и переночевал в угрюмом двухместном номере, но все же, вероятно, самом ухоженном – для заезжих знаменитостей. Ночью мне приснилась тетушка, она смотрела на меня с разочарованием и усмешкой и качала головой:
– Эх ты, недоросль!
После того, что я узнал, у меня было одно-единственное желание как можно скорее уехать в Москву и не писать больше никаких очерков, не ездить в командировки, а сидеть на своей кафедре и бегать за пряниками для холеных моих начальниц. Но в учительском доме осталась моя сумка, и я поехал.
Старухи Сыровой дома по-прежнему не было, учитель был на уроках, и, потоптавшись вокруг запертого дома, я пошел к невестке. Зачем я к ней пошел? До сих пор я не могу этого понять, в этом наверняка никакой необходимости не было, но, может быть, тянуло меня в ее дом простое любопытство, может быть, желание расставить все окончательно по местам в этой истории.
Я увидел бедный дом, стены с пожелтевшими обоями, железные кровати, телевизор, над ним бумажные иконы, низкие потолки, было холодно, убого, и на печи жалось несколько испуганных ребятишек. Встретила меня старшая дочка, удивительно красивая, с темными глазами, темными волосами и смуглым лицом. Вслед за нею вышла мать, и, переводя глаза с дочери на мать, я вдруг вспомнил, как тетушка, обычно считавшая меня ниже своих рассказов об экспедициях и деревенской жизни, как-то раз в минуту откровенности, когда мы шли с нею из университета в сторону Черемушкинского рынка, сказала:
– Вот езжу я, сравниваю городских девочек и деревенских и честно тебе скажу: деревенские всем лучше, и милее, и мягче, и скромнее, и трудолюбивее, но ты бы посмотрел, как их жизнь ломает. В тридцать лет городские хоть куда, а эти – смотреть жалко.
Они смотрели на меня все молча и испуганно, как смотрели, наверное, много лет назад их предки на барина или его управляющего-немца, как смотрели потом на уполномоченного, на милиционера, на всякого власть имущего человека, несущего в дом тревогу и раздор.
– Вы простите меня, что я вмешиваюсь в ваши дела, – заговорил я, – но вот получили мы письмо от учителя, просит он помочь вашей бабушке, старая она, и какая б ни была, а заслужила покоя.
– Так кто ж ее гонит? – сказала женщина с горечью. – Кто? Сын с нее денег требует, вот и подбивает, чтоб она со мной судилась. Я уж и корову продала, чтоб только деньги ей эти отдать.
– Ну а помочь я вам чем-нибудь могу? Женщина молчала.
– Я, видите, так получилось… Марию Пахомовну не застал, а то бы я попытался ей объяснить… – Я мял в руках шапку и не знал, что сказать, и женщина вдруг спросила:
– Скажите, а что вы про нас будете писать?
– Да я не знаю, у нас такая специфика… – забормотал я.
– А учитель дочке моей сказал, что вы будете про нас писать, какие мы жадные и как старуху на улицу выгнали.
– Что вы?!
– Мне уже все равно, – заговорила она, – про меня что только в селе не говорят, но дочка у меня в городе, в институте, если там узнают – она же стыда не оберется. И дети в школе – как же они-то?
– Не буду я про вас писать, не буду.
– Да ведь учитель-то не успокоится, ненавидит он нас, а вы не будете – другой кто приедет, напишет. Вы скажите там в Москве, чтоб не писали так про нас, очень вас прошу, скажите.
– Хорошо, хорошо, – говорил я виновато и пряча глаза и, не оглядываясь, ушел из этого дома.
Теперь мне оставался только учитель, и я мог уехать в Москву, хорошо ли, плохо ли сделав то, что мне было поручено.
– А, это ты? – сказал мне учитель, смешавшись. – Я думал, ты уже уехал.
Он смотрел на меня с очень кислым лицом, вероятно уже зная, что я был в суде, и мне вдруг захотелось сказать ему все, что я про него думаю, но тут из комнаты выглянули его жена, двое детей, и я почувствовал, как устал за эти три дня и как мне ничего не хочется – ни грозить ему, ни осуждать и ни вносить раздор в этот дом, пусть он мерзавец, но чем же дети его виноваты?
– Я проверил факты, изложенные в вашем письме, – сказал я сухо, – и в данном случае не вижу никакой возможности что-либо сделать. Может быть, другой человек поступил бы на моем месте иначе…
Я чувствовал, что говорю что-то не то, и учитель, утерявший ко мне всякий интерес, думал, казалось, о своем.
– В общем, я уезжаю. И еще, Александр Николаевич, хочу вам сказать, что церковь у вас скоро обязательно откроют. Вот увидите. И не сможете вы ничем помешать. Прощайте.
Когда я вышел на дорогу, уже смеркалось, в домах зажглись огни, я шел очень быстро, не оглядываясь и ни о чем не думая, поднялся легкий ветер, по полю за селом помела поземка, как вдруг из этой поземки показались две женские фигуры. Сердце у меня сжалось – я хотел пройти мимо, отвернувшись, и они меня миновали, но потом та, что была покрупнее, обернулась и вцепилась в мой рукав.
Это была старуха Сырова и ее сестра, поехавшая за ней в город. По-русски обе не говорили ни слова, они лопотали на своем языке, тыкали мне какую-то бумагу, что-то выкрикивали, а я пятился и не знал, что сказать.
Моя героиня, с которой судьба свела меня под занавес этой истории на пустынной дороге, была ровно такой, какой рисуют в сказках Бабу-ягу, маленькая, сморщенная, с острыми черными глазками и лицом, похожим на печеное яблоко. Старухи схватили меня за руки и потащили в ближайший дом. Мы ворвались в этот добротный каменный дом с коврами, хрусталем и цветным телевизором, старухи провели меня в комнату и стали кричать, обращаясь к изумленной молодой женщине в байковом халате.
– Вы можете перевести, что они говорят? – спросил я.
– Она спрашивает, она говорит, что она та женщина, которой должны заплатить деньги.
– Скажите ей, что это дело решает суд. Женщина перевела, старуха что-то залопотала, женщина ответила ей по-чувашски, а потом снова обратилась ко мне.
– Она говорит, что она вдова, что она знает свои права, а невестку надо посадить в тюрьму. Что вы должны сделать так, чтобы невестка была в тюрьме.
– Я этого не сделаю.
Они опять начали говорить по-чувашски, старуха на чем-то настаивала, показывала на меня пальцем, грозила своим маленьким кулачком, сестра ей поддакивала – сцена выходила глупейшая и совершенно ненужная. Наконец старуха с ненавистью посмотрела на меня, плюнула мне под ноги, что-то прошипела и сгинула в ночи.
– Что она сказала? – спросил я.
– Она, – замялась женщина, – она сказала, пусть вам будет плохо, пусть вас черт возьмет.
– И все?
– Больше ничего.
Я вышел из дому и усмехнулся – все было исполнено, я встретился со всеми участниками этой драмы, и, право, странная то была драма – сирота-блокадник оказался демагогом и мерзавцем, солдатская вдова – несчастным, озлобленным существом, сановный судия – честным человеком, а я – таким же ненужным довеском, как у себя на кафедре, как во всей этой жизни. И теперь я шел и думал о том, что никогда больше не увижу этой деревни, этих людей, никогда с ними не столкнусь, и все здесь будет идти как прежде, и старуха Сырова вернется к невестке, а потом выйдет из тюрьмы ее сын и все наладится, а потом снова начнется раздор и лихо, и вряд ли кто будет помнить о молодом столичном щелкопере, которого они по ошибке приняли за важное лицо, способное что-либо рассудить в их жизни.
На следующий день по приезде в Москву я пошел к Ковалеву и коротко изложил суть конфликта. Я не знал редакционных порядков, должен ли я что-либо написать, но про себя решил, что лучше я верну деньги за командировку, чем напишу хоть слово.
– Да не надо никаких денег. Что вы? – замахал руками добрейший Сергей Сергеевич. – Садитесь и пишите, что по письму такого-то написание очерка нецелесообразно. Роспись. Точка.
– А может, про судью написали бы? – спросил он вдруг.
– Так про судью у меня и материала-то нет, – ответил я обескураженно.
– Да, – сказал он с улыбкой, – этим и отличается настоящий журналист, что он всегда найдет материал. Но да вы не расстраивайтесь, еще обучитесь. Будет желание еще поработать, звоните. А учитель-то, чует мое сердце, не успокоится, – закончил он уже в дверях.
Но я так и не позвонил ему, и никогда больше не возникало у меня желания стать журналистом и наводить страх в провинции, сверкая своим столичным мандатом. Я вернулся на кафедру и пошел ставить чайник и в магазин за пряниками, и очень скоро мне стало казаться, что я не ездил ни в какую командировку, не был важным столичным лицом в Богом забытой деревне.
Это было на излете эпохи, названной впоследствии застойной, а еще через несколько лет, когда загремела иная уже эпоха, революционная и судьбоносная, в одной газете я случайно прочитал статью об учителе Ювашинской средней школы, который в тяжкие годы застоя один на один схлестнулся с судейской мафией. В этой статье говорилось о всех знакомых мне людях: о нечистом на руку судебном исполнителе, о солдатской вдове, о забытом нами слове «милосердие», о хапуге невестке, все было написано, как хотел того мой Гудвин, единственное новое, что я узнал, – что именно к нему в нелегкое время шли старые женщины и просили защитить их и помочь открыть храм.
Статья была написана хорошо, с чувством, прошибала слезу, я брезгливо отпихнул ее и, почти забывший эту историю, вспомнил несчастную мать четверых детей, ее молящие глаза, ее красавицу дочь и попытался представить некоего «тряпичкина», как быстро он все смекнул.
Дня через три позвонила мне моя тетушка и между прочим стала с упоением хвалить вышеупомянутую статью.
– Вот есть же нынче такие люди в деревне, есть.
– Они везде есть, – отвечал я угрюмо.
По словам А. П. Чехова, «человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек». Как тут не вспомнить и крылатую фразу Тертуллиана о том, что «душа человека по природе своей христианка»! Русская литература с ее вниманием к человеческой душе, к «проклятым вопросам» бытия, пронизана поиском веры, стремлением «дойти до самой сути». Именно такие произведения – рассказывающие о силе духа, поднимающие вопросы об истинном смысле жизни, о Боге и человеке – представлены в серии «Классика русской духовной прозы».
Эта серия объединила книги, которые при других обстоятельствах едва ли могли бы оказаться на одной полке. Наряду с хрестоматийными «Повестями Белкина» и «Тарасом Бульбой» вы встретите здесь и менее популярные произведения русских классиков, а также сможете познакомиться с творчеством авторов не так хорошо известных современному читателю, например, с художественной прозой протоиерея Валентина Свенцицкого. Некоторые произведения, такие, как повесть «Архиерей» иеромонаха Тихона (Барсукова), для многих станут открытием. В серию также вошла яркая проза современных писателей, продолжающих традиции классической литературы.
1. Александр Сергеевич Пушкин. Повести
2. Николай Васильевич Гоголь. Повести
3. Антон Павлович Чехов. Повести и рассказы
4. Федор Михайлович Достоевский. Повести и рассказы
5. Иван Алексеевич Бунин. Рассказы
6. Л. Пантелеев. Повести и рассказы
7. Константин Николаевич Леонтьев. Дитя души (повесть). Мемуары
8. Валентин Павлович Свенцицкий. Избранное
9. Василий Акимович Никифоров-Волгин. Дорожный посох (повесть). Рассказы
10. Иван Сергеевич Шмелев. Няня из Москвы
11. Алексей Константинович Толстой. Князь Серебряный
12. Священник Николай Агафонов. Повести и рассказы
13. Борис Николаевич Ширяев. Неугасимая лампада
14. Александр Иванович Куприн. Повести и рассказы
15. Владимир Галактионович Короленко. Повести и рассказы
16. Борис Константинович Зайцев. Избранное
17. Иеромонах Тихон (Барсуков). Архиерей
18. Иван Сергеевич Шмелев. Повести и рассказы
19. Николай Семенович Лесков. Повести и рассказы
Следите за новинками серии!